Асия Яновна Эсалнек Теория литературы
Введение
Теория литературы – это ведущая область науки о литературе и вместе с тем научная дисциплина, важнейший компонент в обучении студентов-филологов. Теория литературы входит в процесс обучения уже на первом курсе большей частью под названием «Введение в литературоведение». Но в полном объеме, с привлечением первоисточников, т. е. основополагающих работ русских и зарубежных ученых различных периодов, читается на третьем-четвертом годах обучения, потому что к этому времени студенты приобретают тот минимум знаний, который позволяет полноценно воспринимать теоретические идеи и использовать их на практике, в процессе написания курсовых и дипломных работ. Знание теории литературы означает владение определенными принципами и инструментами исследования, в качестве которых в науке о литературе выступают термины и понятия, а из них, в свою очередь, складываются обобщающие суждения и определения конкретных литературных явлений.
Современная наука располагает огромным количеством понятий, предназначаемых для использования в процессах исследования и обучения. Многие из них представлены в литературоведческих словарях энциклопедического типа (ЛЭС, 1987; Литературная энциклопедия терминов и понятий, 2001). Помогает в пользовании терминами восприятие их как определенной системы. В нашем учебном пособии они и представлены таким образом и в такой последовательности, чтобы у воспринимающего сложилось системное видение о взаимосвязи понятий и терминов. Система понятий может быть предельно широкой, всеобъемлющей, а может быть более узкой, в зависимости от ракурса и задачи исследования. Возможность определения такой системы зависит от ряда факторов объективного и субъективного характера.
К объективным факторам можно отнести потенциальное наличие некой организованности и закономерности в существовании и развитии самой литературы. Пытаясь обнаружить и выявить такие закономерности, целесообразно иметь в виду, что литература предстает перед исследователем в разных ипостасях: в ней легко различимы три основных грани или сферы, обусловливающие три ракурса рассмотрения.
Любой читатель прежде всего имеет дело с конкретным произведением. Художественное произведение, являясь продуктом творческой деятельности художника, подчас неизвестного, принадлежит той или иной национальной литературе. Национальная литература представляет собой явление развивающееся, динамичное, образующее литературный процесс. Литературный процесс может быть разной длительности (греческая литература известна с VIII в. до н. э., русская – с Х в. н. э.)
В пределах литературного процесса всегда намечаются какие-то этапы и периоды, в определенное время называемые течениями и направлениями, поэтому изучение процесса требует постановки вопроса о принципах его периодизации. При изучении европейской литературы давно сложилась периодизация, согласно которой выделяются следующие эпохи: Античность, включая период Древней Греции и Рима, Средневековье, Возрождение (Ренессанс), ХVII век, ХVIII век, включая Просвещение и Сентиментализм, ХIX век, включая Романтизм и Реализм, ХХ век с многочисленными течениями и направлениями.
В последние десятилетия учеными был предложен вариант глобальной периодизации мирового искусства, согласно которому выделяются три эпохи: эпоха синкретизма, или дорефлективного традиционализма, начиная с каменного века до VII–VI вв. до н. э.; риторическая или эпоха рефлективного традиционализма (VI–V вв. до н. э. – XVIII в.); эпоха индивидуального типа творчества с ХVIII в. по настоящее время (Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994).
Национальные литературы, соприкасаясь географически, исторически или идеологически, образуют так называемые региональные литературы. А все национальные литературы в сумме составляют всемирную, или мировую литературу. Совокупность произведений, образующих мировую литературу, представляет литературу как один из видов искусства или духовной культуры.
Каждая из этих сфер – литературное произведение, литературный процесс, литература как вид искусства – специфична и требует особого подхода, хотя все они связаны между собой. Исходя из этого в курсе «Теории литературы», как правило, выделяются три раздела. Один из них посвящен осмыслению принципов анализа отдельного литературного произведения; другой – освоению принципов изучения литературного процесса; третий – определению литературы как явления в духовно-исторической деятельности людей.
В какой последовательности целесообразно рассматривать обозначенные сферы, т. е. как идти – от частного (произведение) к общему (литература вообще) или наоборот? Возможны, конечно, любые варианты. Однако вся предшествующая история развития научной мысли в области литературоведения и поисков научных принципов убеждает, что целесообразнее начинать освоение теории с обсуждения вопроса о сущности литературы как вида искусства. На то есть ряд причин.
Во-первых, при решении именно таких вопросов вырабатываются общетеоретические, методологические принципы, знакомство с которыми составляет важнейшую задачу курса «Теории литературы» при обучении студентов-филологов. Например, постановка и решение вопроса о специфике произведения и разных его особенностях, таких как жанр, род, метод, стиль, невозможны без учета общих методологических принципов, вырабатываемых и осознаваемых в процессе осмысления сущности литературы как вида искусства. Такой логике и подчинено изложение материала в данном пособии, которое начинается с погружения в историю науки о литературе и рассмотрения ведущих концепций в трактовке литературы как вида искусства.
Знакомство с концепциями разных периодов, а также рассмотрение и обоснование теоретических понятий и категорий предполагает обращение к оригинальным работам европейских и русских ученых. Список этих работ приведен в конце пособия.
Глава первая Основные этапы в развитии науки о литературе
Со времени возникновения науки о литературе, особенно в период ее становления, вопрос о сущности литературы, о ее месте, как говорил Шеллинг, в универсуме и в системе других форм мышления был основополагающим. Как уже указывалось, от решения этого вопроса зависит по существу понимание всех видов и форм литературного творчества, а также истоков и причин движения литературного процесса.
Как известно, начало развития научной мысли в данной области связано с Античностью, и важнейшее место в этом процессе принадлежит Аристотелю (384–322 гг. до н. э.), а отчасти и Платону (428–347 гг. до н. э.). Наследие Аристотеля включает огромное количество трудов разного плана, из которых непреходящую ценность представляют «Поэтика» и «Риторика», особенно первая. Примечательна судьба этого небольшого сочинения, которое было обнаружено в IХ в. на сирийском языке, в Х – на арабском, в ХII – на латинском (опубликовано в ХV в.) и только в ХVI в. (1508) был опубликован греческий текст. Первый перевод на русский язык осуществлен в 1854 г. Б.И. Ордынским. Наиболее известен перевод В.Г. Аппельрота (1893). Этот памятник пользовался особым вниманием во все времена.
Будучи своеобразным руководством к пониманию современной Аристотелю драмы, «Поэтика» содержит описание сущности трагедии и комедии. Слово драматический тогда употреблялось только по отношению к роду (драма как жанр возникла в ХVIII в.). В «Поэтике» впервые поднимается вопрос о характере, а главное, о подражании как основном качестве и законе искусства. «Эстетика» подражания, или мимесиса, является предметом дискуссии до сих пор. К постановке вопроса о сущности литературы обращались в поздней Античности (Плотин), в эпоху Возрождения (Кампанелла), внося в теорию подражания ряд дополнений, в частности, подчеркивая важность не только подражания, но и фантазии, вымысла, вдохновения художника.
Принципиально важную роль в решении вопроса о сущности искусства сыграла европейская наука ХVIII – начала XIX в., получившая название эстетики. Как заметил известный современный ученый М.С. Каган, «на первом этапе своего развития, который продлился до середины ХVIII в., эстетика не была самостоятельной научной дисциплиной и не имела даже собственного названия» (КЛЭ, Т. 8, 517). Название «Эстетика» появилось в двухтомном труде немецкого философа А.Г. Баумгартена, вышедшем в середине ХVIII в. (1750–1758) на латинском языке. Эстетикой он назвал одну из частей гносеологии, т. е. теории познания, а именно теорию чувственного познания, которая существует наряду с логикой (теорией научного познания) и этикой (теорией нравственности).
Однако, как объяснил современный философ А.Ф. Лосев, корни данного термина можно найти уже в Античности. У древних существовал термин айстезис (aistesis), который обозначал один из принципов познания, а именно принцип чувственно-материального познания, и «относился по преимуществу к чувственно-материальному познанию вообще, а не только к художественному» (Лосев, 1992, 441). Предметом такого познания был «универсальный чувственно-материальный комплекс как живое существо». Чувственному познанию подлежит то, что конкретно, зримо, осязаемо, внешне видимо или ощутимо, но таит и скрывает в себе что-то внутреннее. «Под эстетикой, если отбросить все детали и сосредоточиться на главном, и понимается такое внутреннее, которое ощущается внешним образом, и такое внешнее, которое позволяет ощутить внутреннюю жизнь объективного предмета» (Там же, 442). Иными словами, эстетическое – это нечто выраженное или выразительное, а эстетика – наука о типах выражения внутреннего через внешнее. Предметом выражения может быть многое, в том числе прекрасное. Таким образом, термины «эстетическое» и «эстетика», начиная с Античности и включая ХVIII век, имели два значения: гносеологическое, подразумевающее под эстетическим любой предмет и принцип чувственного познания; и собственно эстетическое, предполагающее в качестве предмета и его изучения прекрасное в жизни и в искусстве.
Европейская наука XVIII – 1-й половины XIX в.
В ХVIII – начале XIX в. эстетика была представлена работами английских (Хатчесон, Шефтсбери), французских (Дидро, Руссо) и особенно немецких ученых, среди которых, кроме Баумгартена (1714–1762), – Винкельман (1717–1768), Кант (1724–1804), Лессинг (1729–1781), Гете (1749–1832), Гердер (1744–1803), Шиллер (1759–1805), Гегель (1770–1831), Шеллинг (1775–1854), Август и Фридрих Шлегели (1767–1845, 1772–1829) и др. Все они были поразительно разносторонни в своих научных занятиях, но центральное место в их работах занимала философия, воспринимаемая как такая сфера мышления, которая способна объяснить сущность природы (натурфилософия), вселенной (космогония), человека, истории, религии, морали и искусства.
Опора на философию и была первой предпосылкой развития эстетики. Другой предпосылкой стали конкретные знания в области искусства, накопившиеся к середине ХVIII в. Среди них особое место занимали сведения об искусстве Древнего мира, точнее Древней Греции. Эти сведения в более или менее систематизированном виде были собраны и изложены И.И. Винкельманом в его книге «История искусств древности» (1763). Винкельман собирал материалы, еще учась в Галле, затем работая в Дрездене, но главным образом – живя в Италии и находясь на службе в Ватикане в качестве помощника библиотекаря. Эта книга стала своеобразным бестселлером ХVIII в. и оказалась весьма ценной и для исследователей, и для читателей.
Упомянутые ученые составили плеяду выдающихся мыслителей, деятельность которых вошла в науку под названием «Немецкая классическая философия и эстетика на рубеже ХVIII–XIX вв.». Кто из них особенно значим для науки о литературе? Практически все. Как сказал видный русский ученый нашего времени Я.Э. Голосовкер, «Откуда и куда бы ни шел мыслитель по философской дороге, он должен пройти через мост, название которому Кант». Это суждение актуально не только для философов, но и для всех ученых гуманитарного плана.
Иммануил Кант родился в 1724 г. в Кенигсберге, в Пруссии. Учился в гимназии, затем в университете того же города. После окончания (1747) несколько лет работал домашним учителем. В 1755 г. получил в университете должность приват-доцента, которая не предполагала жалованья. С 1756 г. работал помощником библиотекаря в королевском замке и только в 1770 г., в возрасте 46 лет, стал ординарным профессором в Кёнигсбергском университете. В 1786 г. избран членом Берлинской Академии наук, в 1794 – Петербургской Академии. В 1801 г. расстался с университетом, в 1804 – ушел из жизни.
Кант менее других занимался проблемами искусства, но его философские и эстетические идеи подготовили почву для последующих исследований. Написав огромное количество работ на разные темы и прочитав 268 курсов лекций, Кант осознал задачу, которая, по его мнению, была главной для ученых того времени. Он видел эту задачу в том, чтобы исследовать познавательные способности не отдельного человека, а сознания вообще, понять истоки, структуру и возможности процесса познания. Этому посвящены три основные работы, называемые «Критиками»: «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического разума» (1788), «Критика способности суждения» (1790). Слово «критика» здесь обозначает исследование.
В первой «Критике» непосредственно исследуются разные аспекты сознания, во второй – соотношение познания и морали, в третьей – соотношение познания, морали и эстетики. Все они пронизаны внутренней полемикой с предшествующей философией, которую он называет догматической. При изучении сознания прежде всего обсуждается мысль о соотношении чувственного и рассудочного знания, опытного и доопытного, эмпирического и априорного. Чувственное познание – это способность получать представления или созерцания, которые называются явлениями, но не физического, а умственного плана. При этом для ученого важно, не откуда черпаются представления, а как они формируются и становятся формами чувственности.
Вслед за тем анализируется понятие рассудка. Рассудок – это способность осмыслять результаты чувственного познания, способность составлять суждения, вырабатывать категории (пространство, время, качество, количество – всего 12). Суждения и категории не врожденны, но априорны, так как они обусловлены не опытом, а деятельностью сознания. Доказательством могут служить результаты познания природы, согласно которым природа – не хаос, в ней есть закономерность, но эту закономерность вносит рассудок, который становится законодателем природы. Таким образом, суждения и категории можно считать инструментами исследования, и без них, по Канту, познание невозможно. «В опыте мы только тогда находим искомое, когда знаем, что искать… В чисто эмпирическом блуждании без руководящего принципа нельзя найти что-либо руководящее», – писал Кант. В этих словах признается активная роль рассудка, но затушевывается роль опыта.
Еще более значимая роль приписывается Разуму, который синтезирует рассудочные знания. Специфическая сфера Разума – учение о душе, о мире, о Боге. Разум образует суждения, которые могут быть одинаково логичными по структуре, но противоречивыми по содержанию: мир имеет начало во времени и пространстве – мир безграничен во времени и пространстве. Возможность таких суждений является результатом процесса познания, в ходе которого возникают противоречивые суждения-антиномии, которые не всегда следует считать ошибками или заблуждениями. В числе антиномий – разные доказательства бытия Бога. Отсюда возникает вопрос и о границах познания: познание не только противоречиво, но в ряде случаев бессильно, хотя и беспредельно. С этим связано введение понятий «вещь в себе» (ноумен) и «любая вещь» (феномен или явление). Человек как феномен – реальный субъект, живущий в обществе, зависящий от общества, не обладающий абсолютной свободой; человек как ноумен – сверхчувственное существо, характер которого зависит не от окружения, а от внутренней сущности.
Это положение чрезвычайно важно для понимания и оценки поведения человека и присущих ему нравственных принципов, о чем подробно говорится в «Критике практического разума». Главная задача так называемого практического разума – поиски и обоснование нравственного закона, способного регулировать поведение людей в условиях «порчи нравов» и приспособленчества к обстоятельствам. «Поступай так, – формулировал Кант, – как если бы максима твоего поступка посредством твоей воли должна была стать всеобщим законом природы». Источником таких поступков должны быть «добрая воля», повеление, долг, – то, что Кант называет категорическим императивом. Здесь слышна мечта о высокой морали, которая, однако, доступна только человеку-ноумену, и одновременно сожаление о существующих противоречиях между этикой и реальной жизнью, между свободой и необходимостью.
Все эти суждения не только отражают анализ современной Канту нравственности, но и предугадывают разнообразные ситуации, которые станут предметом изображения и осмысления в творчестве многих европейских писателей. Так, Достоевский постоянно рассматривал героев, будь то Раскольников, Ставрогин или Иван Карамазов, с точки зрения соотношения их реальных поступков и морали, рассудочных теорий и нравственности. Именно немецкий философ поставил вопрос о существовании и взаимосвязи двух сфер умственно-психической деятельности – познавательной и нравственной, что остается предметом раздумий и современных ученых.
Попытка разграничения и анализа разных областей психики содержится и в «Критике способности суждения», где термин «эстетика» употребляется в собственном смысле слова, т. е. в размышлениях о прекрасном. Одним из насущных аспектов этой работы является стремление выделить и определить эстетику как еще одну сферу познания, сопоставив ее с предшествующими, т. е. теорией познания (гносеологией) и теорией нравственности (этикой). Эстетику Кант считал связующим звеном между двумя первыми на основании их связи с разными способностями души.
В «Критике чистого разума» рассматривалась способность познания, в «Критике практического разума» – способность желания, веления, исполнения долга. Здесь поднимается вопрос о третьей способности, обусловленной чувством удовольствия – неудовольствия, в основе которого лежит не стремление к познанию или благу и добру, а нечто близкое к представлению о целесообразности, что Кант называет эстетическим суждением, или суждением вкуса (чистым суждением вкуса). Такое суждение не предполагает интереса и понятия о сущности предмета, а значит, направлено на форму. В качестве примера Кант приводит суждение о цветке, которое не предусматривает его познания и вроде бы не подчиняется правилам, значит, оно субъективно. Но вместе с тем такое суждение может иметь всеобщее значение, т. е. являться значимым для многих, значит, оно таит в себе долю объективности. Суждение вкуса возможно не только при восприятии прекрасных явлений природы, но и человека, способного определять себе цели, апеллируя к Разуму. В сфере восприятия и изображения человека и рождаются эстетические идеи, которые ассоциируются с искусством как творческой деятельностью одаренных людей-гениев.
Кантовские размышления о разных сферах умственной и практической деятельности во многом послужили фундаментом и в то же время материалом для дальнейшего развития науки. Среди мыслителей конца ХVIII – 1-й половины XIX в., занимавшихся разными дисциплинами и считавших необходимым опираться при этом на философию, особое место принадлежит Гегелю и Шеллингу. Гегель был несколько старше Шеллинга, но в разработке эстетических проблем первым оказался именно Ф.В.И. Шеллинг.
Шеллинг родился в 1775 г. вблизи Штутгарта. В 1790 г. поступил в Тюбингенский университет, где учился Гегель. После окончания несколько лет работал домашним учителем и писал научные статьи. В 1798 г. в возрасте 23-х лет стал профессором Иенского университета. В 1799 г. читал курс философии искусства, над которой работал и далее, живя в Вюрцбурге. С 1806 г., с перерывами, находится на службе в Мюнхене (Бавария) в роли члена, затем секретаря Баварской Академии наук. В этот период знакомится с П.В. и И.В. Киреевскими, П.Я. Чаадаевым, В.Ф. Одоевским, Ф.И. Тютчевым. С 1841 по 1846 г. работает в Берлинском университете; затем отходит от педагогической деятельности. Умирает в 1854 г.
Эстетические воззрения Шеллинга складываются из мыслей, наиболее полно представленных в следующих работах: «Система трансцендентального идеализма» (1802), «Об отношении изобразительных искусств к природе» (речь, произнесенная при вступлении в должность в Баварской академии), цикл лекций «Философия искусства», которые Шеллинг читал в Иенском университете и которые были опубликованы посмертно в собрании сочинений, но были известны и ранее благодаря записям его слушателей. По их сведениям, Шеллинг был блестящим лектором, но в изложении мыслей нередко был эссеистичен и будто бы непоследователен. Однако его эстетические воззрения представляют определенную систему и могут быть осознаны в контексте размышлений о других предметах, в первую очередь, о природе.
Будучи хорошо знакомым с современными ему знаниями в области естествознания (он имел диплом врача), Шеллинг старался проникнуть в тайны природы, что стало предметом его натурфилософии. Он констатирует, что в природе обнаруживается «след организации», т. е. целесообразность. В поисках истоков целесообразности он прибегает к понятию продуктивности, а понятие продуктивности связывает с субъективным началом. «В вещах вне нас есть продуктивная сила. Но такая сила может быть только силой духа. Вещи могут быть только продуктами духа». Шеллинг различает понятия «продукт» и «продуктивность». «Природу только как продукт мы называем в качестве объекта (эмпирия этим ограничивается). Природу как продуктивность мы называем в качестве субъекта (этим занимается теория)».
Даже из этого краткого суждения можно заключить, что природа как бы двойственна, но едина: в ней есть объективное и субъективное начала, идеальное и реальное, но ни то, ни другое нельзя рассматривать в качестве первоосновы, а необходимо признать их тождество. Размышления о философии тождества на примере природы позволяют подойти к объяснению истории, а затем искусства. «Только с помощью философии мы можем надеяться достигнуть настоящей науки об искусстве (Шеллинг, 59), а как она выражает в идеях то, что истинный художественный вкус созерцает в конкретном».
При определении искусства используется понятие конструирования: «Конструировать искусство – значит понять его место в универсуме» (Там же, 72), что, по-видимому, означает распознать его сущность. Если природа продуктивна в смысле наличия в ней творческого начала, которым она обязана Духу, то тем более это относится к искусству и другим сферам прекрасного. Прекрасное рождается не без участия Духа, Абсолюта, хотя постоянно напоминается, что красота – это совпадение идеального и реального, объективного и субъективного. В искусстве огромную роль играют творческое начало, интуиция, бессознательное, связь с мифологией, осмыслению которой посвящено большое количество лекций, читавшихся Шеллингом в разные годы.
Современником Шеллинга, оставившим неизгладимый след в эстетике и философии, был Г.В.Ф. Гегель.
Гегель родился в 1770 г. в Штутгарте, учился в Тюбингенском университете. После окончания несколько лет работал домашним учителем, затем в 1801–1803 гг. в Иене, с 1805 г. – редактором газеты в Бамберге, с 1808 г. – ректором гимназии в Нюрнберге, в 1816–1818 гг. – в Гейдельбергском университете, а с 1818 по 1831 г. – в Берлинском университете, был в отдельные годы членом Сената университета и его Ректором. Умер в 1831 г.
Первоосновой занятий Гегеля была философия: «Задача философии – постигнуть то, что есть, ибо то, что есть – Разум. Что касается индивида, то каждый сын своей эпохи. И философия поэтому также есть современная эпоха, постигнутая в мыслях». Из этого суждения следует, что для Гегеля философия связана с действительностью, обусловлена потребностью изучения жизни, но изучение жизни возможно лишь при участии Разума, который трактуется как законодатель Бытия. Наряду с понятием Разума используются понятия Мировой дух, Абсолютная идея. Дух – творящее начало, не в смысле все сотворившего Бога, а в смысле источника закономерности в природе, человеческой жизни, истории, искусстве.
Логику мысли ученого легче всего представить на примере отношения к истории. Историю делают индивиды, но их жизнь как процесс оказывается следствием и средством осуществления некоего высшего, надындивидуального, разумного начала. В этом процессе соперничают случайность и необходимость, и победа необходимости – знак присутствия Разума. Причем движение истории оценивается как прогресс, а критерием прогресса служит реализация разумного начала, которое связывается с идеей свободы. Исходя из этого, намечаются четыре ступени в развитии человеческого общества: младенчество, которое ассоциируется с Востоком, юность – с Греческим миром, зрелость – с Римом, мудрая старость – с Германией, которая воспринимается, по-видимому, не как реальная страна, а как мыслимая. Таким образом, исторический процесс рассматривается в качестве реального движения и изменения жизни человеческого общества, но трактуется как смена ступеней в развитии и становлении Духа, т. е. отвлеченного мышления, которое фиксирует свое движение в понятиях и категориях. Как сказал позже Б. Брехт, «у Гегеля понятия спорят, враждуют», как бы живут своей жизнью. Здесь логическое и историческое совпадают, что и называют гегелевским логицизмом. Таким же образом толкуется сущность религии, права, морали, закономерность и системность в развитии которых свидетельствуют об участии Духа.
При анализе Гегелем искусства первоочередная задача состояла для него в познании сущности искусства как такового, в выработке инструментов исследования, т. е. терминов и понятий, обозначающих те или иные формы и аспекты искусства. Такие понятия Гегель формулировал и излагал в циклах лекций, которые он читал в 1817–1818 гг. в Гейдельбергском, в 20-е годы в Берлинском университетах. Позднее лекции были собраны и опубликованы под общим названием «Эстетика». Понятие «эстетика» употребляется в значении теории искусства. При определении сущности искусства и принципов его развития исходными становятся понятия Абсолютная идея или Дух. Жизнь искусства – это проявление и реализация Духа в его движении и самопознании. Движение мирового искусства включает три стадии: символическую (восточные страны), классическую (Греция и Рим) и романтическую (Европа, начиная со Средних веков).
Конкретное произведение словесного или изобразительного искусства – тоже одна из граней Духа, для обозначения которой используется понятие идея. При этом неоднократно подчеркивается, что под идеей понимается не чистая мысль, не абстрактная сущность, а проявление какой-то сущности, следовательно, что-то конкретное. Значит, если речь идет об изображении человека в живописи, то подразумевается конкретный индивид, воспроизведенный на портрете, хотя в применении к нему может звучать слово идея или идеал как синоним понятия прекрасное, так как предполагает наиболее полное проявление идеи.
Прекрасное становится ключевым понятием эстетики Гегеля, обозначая предмет искусства и его содержание. Обосновывая понятие прекрасного, философ сопоставляет искусство с природой и замечает, что красота в природе тоже обязана Духу, но Духу трудно проявить себя в природе, ибо невозможно вложить нечто живое и духовное в камень, растение или даже животное («у животного смутная видимость души»). Поэтому красота в природе несовершенна, но она недостаточно совершенна и в жизни людей. Поэтому истинная сфера прекрасного – только искусство.
Уточняя мысль о прекрасном в искусстве и его отличии от действительности, Гегель выдвигает три аргумента и указывает на три обстоятельства. Первое заключается в том, что в искусстве все проникнуто живым началом, и это объясняется выбором в качестве предмета изображения именно человека. Второй предпосылкой прекрасного в искусстве является присутствие в нем не просто живого, но чего-то возвышенного, облагораживающего, общезначимого. Доказательством этой мысли служат для Гегеля многочисленные примеры картин, на которых изображены Мадонны с младенцем на руках или даже неказистые на вид мальчишки на полотнах Мурильо, которые вызывают чувство радости и умиления. Третье условие прекрасного в искусстве заключается в том, что здесь устраняется все случайное и выявляется главное. Так при воспроизведении Мадонны как бы подчеркивается и акцентируется ощущение красоты и благородства материнства, что не всегда происходит в жизни, когда видишь женщину с ребенком (Гегель, т. 1, ч. 1).
В этих суждениях объективно присутствует мысль о творческом характере искусства, об отборе наиболее важного и характерного с точки зрения художника. Художник, по Гегелю, предстает неким медиумом и «исполнителем» воли Духа, творящего Разума, а его произведение именуется идеей, в которой та или иная сущность являет себя в конкретно-чувственной форме. Таким образом, реальное, конкретное, историческое подается как логическое, как следствие и результат «работы» высшего начала, из чего и вытекает впечатление умозрительности в подходе Гегеля к искусству и к жизни вообще. В 40-е годы XIX в. этот подход подвергнется критике, но в 20-е и 30-е годы идеи Канта, Гегеля и Шеллинга были известны и востребованы в разных странах Европы, в том числе в России.
Как уже упоминалось, в 1794 г. Кант был избран членом Российской академии наук, его имя было хорошо знакомо русским интеллигентам. В 1812 г. краткое изложение «Критики способности суждения» было помещено в журнале «Улей», полный перевод появился в 1898 г. Экземпляр «Критики чистого разума» был привезен в Россию в 1819 г. А.А. Елагиным. Однако гениальные идеи Канта из первых двух критик не нашли тогда русского интерпретатора и последователя. Вероятно, русская научная мысль была не готова к их восприятию.
По мнению крупнейшего философа ХХ в. В.Ф. Асмуса, «заметного непосредственного влияния на русскую эстетическую мысль и художественную критику Кант не оказал» (КЛЭ, т. 3, ст. 370). Что касается Гегеля и Шеллинга, их влияние в России весьма заметно. Идеи Шеллинга проникли раньше и попали на благодатную почву. Они получили известность благодаря слушателям его лекций (А. Галич, И. Киреевский), участникам переписки и встреч (А. Тургенев, П. Чаадаев, Ф. Тютчев).
Идеи Шеллинга обсуждались на заседаниях общества любомудров. Непосредственное отражение они нашли в работах преподавателя Царскосельского лицея и Петербургского университета А.И. Галича («Опыт науки изящного», 1825); писателя, философа, музыковеда В.Ф. Одоевского («Опыт теории изящных искусств», 1825), который считал необходимым «познакомить с трансцендентальным идеализмом» русскую публику; профессора Н.И. Надеждина («О современном направлении изящных искусств», 1836); профессора С.П. Шевырева («О возможности найти единый закон изящного»), И.В. Киреевского, опубликовавшего в 1845 г. обзорную статью под названием «Речь Шеллинга».
Были в России приверженцы и гегелевской философии, в числе которых Н.В. Станкевич, А.И. Герцен и их единомышленники. Эстетические идеи немецкого мыслителя в первую очередь оставили след в работах русского мыслителя и критика В.Г. Белинского.
Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848) окончил Чембарское уездное училище, затем Пензенскую гимназию. В 1829–1832 гг. учился в Московском университете. С 1833 г. работал в журналах «Телескоп», «Московский наблюдатель», «Отечественные записки», в 40-е годы – в журнале «Современник». Первое собрание сочинений (ч. 1 – 12) вышло в 1859–1862 гг.; второе – в 1911–1917 гг.
Даже из такой краткой информации ясно, что Белинский остался в сознании современников и потомков в качестве критика. Но анализируя произведения литературы, он считал необходимым опираться на определенные теоретические принципы, в связи с чем и задумал «Теоретический курс русской литературы», частично им осуществленный. По его убеждению, теоретико-литературные принципы должны были опираться на философские воззрения. О знакомстве Белинского с предшествующей и современной ему философией свидетельствуют многочисленные упоминания имен философов. Судя по публикациям, в 30-е годы Белинскому ближе других был Гегель с его идеей системности и закономерности в объяснении процесса развития искусства и толкования отдельного произведения. В этом плане чрезвычайно интересны статья «Идея искусства», задуманная как введение к названному курсу, а также теоретические мысли, содержащиеся в статьях «Полное собр. соч.
Д.И. Фонвизина» (1838) и ««Горе от ума»… соч. А.С. Грибоедова» (1840). В первой из них воспроизводится логика гегелевской «Эстетики», согласно которой «Все сущее, все, что есть, что мы называем природою, жизнью, человеческой историей, – все это есть мышление, которое само себя мыслит… Все бесконечное разнообразие явлений и фактов мировой жизни есть не что иное, как формы и факты мышления… Дух есть причина и жизнь всего сущего. Природа – первый момент духа, человек – высший момент духа. В истории – внутренняя необходимость. А источник этого – мышление… Искусство – мышление в образах» (Белинский, т. 1, 197).
В двух других статьях обосновывается мысль о важности законов «изящной критики», рожденной «последней философией века», т. е. немецкой. «Немецкая философия смотрит на художественное произведение как на нечто безусловное, в самом себе носящее свою причину, свое оправдание по мере того, как оно выражает собою общие законы духа, явления разума» (Там же, 181). Источником для рассуждений послужила опубликованная в 1838 г. в журнале «Московский наблюдатель» статья Г.Т. Ретшера «О философской критике художественного произведения». В рассуждениях русского критика, в частности, читаем: «Всякое художественное произведение есть конкретная идея, конкретно выраженная в конкретной форме и представляющая особый, в самом себе замкнутый мир» (Там же, 109). Хотя здесь же говорится о действительности, о типических характерах. С указанных позиций рассматриваются пьесы «Ревизор» и «Горе от ума», в результате чего комедия Грибоедова в отличие от комедии Гоголя характеризуется как «уродливое здание, ничтожное по назначению, как например, сарай, но здание, построенное из драгоценного паросского мрамора с золотыми украшениями».
К 1841 г. философская позиция критика, по его словам, станет диаметрально противоположной. С середины 40-х годов мысль о закономерности и необходимости мотивируется не деятельностью Мышления или Абсолютной идеи, а состоянием самой жизни и сознанием художника. И теперь теоретическому обсуждению подлежит искусство не в связи с развитием Духа, а в соотношении с действительностью и наукой. «Философ говорит силлогизмами, поэт образами и картинами, а говорят одно и то же. Один доказывает, другой показывает, оба убеждают. Вместе с тем одно не может заменить другое» (Там же, 337). Акцентирование близости искусства и науки имеет целью подчеркнуть познавательную значимость искусства, особенно литературы. Все эти обобщения, высказанные в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», реализовались в анализе произведений и современных (Герцен, Гончаров, Тургенев, Даль, Дружинин, Достоевский), и более ранних авторов (Жуковский, Пушкин и др.). При этом «Горе от ума» теперь оценивается как гениальное творение Грибоедова.
Помимо Белинского активно выступали в журналах и другие критики – А.В. Дружинин, П.В. Анненков, В.П. Боткин, А.А. Григорьев, – но его работы выделялись склонностью к синтезу, концептуальностью. Это было отмечено в высказываниях и публикациях писателей и критиков 40—50-х годов, хотя и оценивалось по-разному. Наиболее глубокий анализ деятельности Белинского был дан в работе Н.Г. Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литературы», напечатанной в 1855–1856 гг. в журнале «Современник». Здесь отмечалось, сколь плодотворно было обращение к философии Гегеля («исполина немецкой философии»), покорившего молодого Белинского «глубиной и стройностью философской системы», как произошло преодоление односторонности гегелевских принципов, как «Белинский и главнейшие из его подвижников стали вполне самостоятельными в умственном отношении» и вместе с тем «шли наряду с мыслителями Европы».
Высокая оценка деятельности Белинского Чернышевским вызвала полемическую реакцию А.В. Дружинина, который дал свою интерпретацию и мыслей Белинского, и русской литературы того периода в статье «Критика гоголевского периода русской литературы», опубликованной в 1856 г. в журнале «Библиотека для чтения». Отметив продуктивность ориентации на гегелевские идеи, высказав ироническое отношение к невозможности полного их восприятия и понимания в силу незнания Белинским оригинальных текстов Гегеля, критик заметил, что отход от гегелевских идей не стал плодотворным, потому что породил дидактизм как тип мышления и подход к литературе «не с художественной, а с резко дидактической точки зрения». Под дидактикой понимались ложные идеи, согласно которым «поэзия превращается в служительницу непоэтических целей», т. е. оценивается с точки зрения ее отношений с действительностью и современными воззрениями. Дидактическому подходу к искусству противопоставляется артистический, призванный учитывать вечные, непреходящие истины и не считать художника связанным обстоятельствами времени.
Обращение к критической деятельности разных авторов заставляет задуматься, почему именно критика сыграла такую важную роль в развитии не только литературы, но и науки о литературе, в чем причина ее продуктивности именно в теоретическом плане. Скорее всего в том, что критика ранее всего соприкасалась с текущей литературой, а русская литература 40—50-х годов оказалась поразительно богатой: в середине 40-х были опубликованы ранние, но замечательные произведения практически всех классиков XIX столетия – стихи Некрасова, «Кто виноват?» Герцена, «Записки охотника» Тургенева, «Бедные люди» Достоевского, «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина, «Обыкновенная история» Гончарова, «Свои люди – сочтемся» Островского, «Детство», «Отрочество», «Юность» Толстого и др. При этом литература удивительно мобильно реагировала на современность и настолько глубоко и реалистично воспроизводила действительность, что поневоле приводила к теоретическим обобщениям.
Особое место среди мыслителей середины XIX в. принадлежало Н.Г. Чернышевскому.
Николай Гаврилович Чернышевский (1828–1889) родился в Саратове, там же окончил духовную семинарию. В 1846–1850 гг. учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета. После этого работал учителем в саратовской гимназии, печатался в журналах «Отечественные записки» и «Современник». В 1855 г. в Петербургском университете защитил диссертацию на тему «Эстетические отношения искусства к действительности». 7 июля 1862 г. был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, где написал роман «Что делать». 19 мая 1964 г. над Чернышевским была произведена гражданская казнь на Мытнинской площади Петербурга, после чего он был отправлен на 7 лет на каторжные работы, а затем на поселение в Сибирь, в г. Вилюйск (Якутия), где пробыл до 1883 г., когда был возвращен в Астрахань. В 1889 г. получил разрешение переселиться в Саратов, к семье, где и умер.
Чернышевский вынужден был работать в качестве критика в литературных журналах, но по складу мышления он был ученым, теоретиком, озабоченным философскими, экономическими, социальными проблемами. В числе его теоретико-литературных работ, помимо диссертации («Эстетические отношения искусства к действительности»), – статьи о Лессинге, Аристотеле, о критике 40-х годов. Уже заглавие диссертации Чернышевского определяет ее ключевой вопрос – о сущности искусства, а ход мысли обусловлен необходимостью обосновать свою позицию и определить свое место в современной эстетике.
По убеждению Чернышевского, эстетическая позиция и понимание искусства невозможны без опоры на философские воззрения, при обозначении которых используются такие слова, как «общие основания», «общие начала», «общая система понятий о природе искусства». При обосновании этих «общих начал» он опирается на «новые воззрения», под которыми подразумеваются мысли немецкого философа Л. Фейербаха, и критически воспринимаются ранее сложившиеся, но еще популярные идеи Гегеля. При этом ссылки даются на работу Ф.Т. Фишера «Эстетика или наука прекрасного», ибо имя Гегеля, по словам самого Чернышевского, в то время было «неудобно».
Употребляя перифрастические обороты речи, Чернышевский говорит, что у Гегеля и Фишера преобладали «стремления мнимые, фантастические, праздные, основанные на воображении», и противопоставляет им новые – «действительные, серьезные, истинные». Речь идет о философских представлениях. Согласно первым, искусство определяется с помощью понятий: идея, идеал, прекрасное. По утверждению Чернышевского, источником прекрасного, а значит, и искусства являются не идея, не абсолют, а действительность, в частности природа. В полемике с Гегелем высказывается мысль, что природа выше искусства, и это доказывается апелляцией к реальному пейзажу, красоте человеческого лица или голоса.
Что касается искусства, то в итоге формулируются три задачи искусства: воспроизведение жизни; объяснение жизни; вынесение приговора. Такие понятия, как объяснение и приговор, конечно, звучат очень сурово и дидактически, но их использование обосновывается ссылкой на то, что художник – человек умственно активный, заинтересованный в познании и толковании тех или иных явлений жизни и желающий выразить свое отношение к изображаемому в искусстве, в первую очередь, к человеческим характерам, что является для него предметом искусства и определяется понятием «общеинтересное в жизни».
Данная работа Чернышевского была научным трактатом, как бы продолжившим традиции Аристотеля, автора теории подражания, и вместе с тем наметившим те принципы понимания искусства, которые получат свое развитие во многих работах отечественных и зарубежных ученых. Это сочинение, как и статьи Белинского, свидетельствовало о том, что русская наука 1-й половины и середины XIX в. развивалась весьма активно и отнюдь не изолированно от западноевропейской. Такая тенденция сохранится и в дальнейшем, с той лишь разницей, что во 2-й половине XIX в. историко-литературные и теоретические идеи чаще будут рождаться и разрабатываться уже не в критике, а в рамках академического литературоведения, т. е. в центрах университетской науки. Этими центрами были Московский, Петербургский, Харьковский, Новороссийский университеты. Здесь трудилось много ученых, но теоретически значимые идеи ассоциируются прежде всего с трудами и именами А.Н. Пыпина, Н.С. Тихонравова и А.Н. Веселовского.
Формирование культурно-исторического подхода в западноевропейской и русской науке середины и конца XIX в.
С работами А. Пыпина и Н. Тихонравова связано научное направление, получившее название культурно-исторической школы. Близостью к этому направлению отмечены работы таких западноевропейских ученых того же времени, как Г. Брандес, Г. Гетнер, Г. Лансон, П. Лакомб, Де Санктис и др. Родоначальником теоретических основ этого направления считают французского ученого И.А. Тэна.
Ипполит Адольф Тэн (1828–1893) родился в г. Вузье. Окончил Высшую нормальную школу в Париже. В 1851–1853 гг. работал преподавателем лицея и занимался научной деятельностью. С 1864 г. – профессор Школы изящных искусств. С 1878 г. – член Французской Академии наук.
Его научное наследие включает огромное количество работ, из которых теоретически значимыми в эстетической сфере являются «История французской философии» (1857), «История английской литературы» (1864), содержащая теоретическое введение, а, главное, – книга, составленная из лекций, читавшихся Тэном на протяжении 60-х годов XIX в., и названная «Философия искусства». Издавалась с 1865 по 1870 гг. В России до 1917 г. было выпущено пять изданий, в 1933 г. – еще одно. Новая публикация была осуществлена издательством «Республика» в 1996 г.
Как известно из биографических источников, И. Тэн хорошо знал и ценил «Эстетику» Гегеля. Очевидно, и этого ученого привлекала логика, философичность и скрытый за внешне отвлеченными рассуждениями исторический принцип в понимании искусства. Но время требовало иных подходов, обусловленных развитием исторических и естественных наук. Философское обоснование новые подходы получили в работах французского ученого Огюста Конта (1798–1837), создавшего шеститомный «Курс позитивной философии», публиковавшийся в 30—40-х годах. Русский перевод был осуществлен в 1899–1900 гг.
Позитивная философия противопоставляла себя умозрительному, спекулятивному, «метафизическому», по словам Конта, типу мышления и признавала научным исключительно эмпирический подход, видя главную задачу науки в собирании и описании фактов, призывая ориентироваться на естественные науки. В «Философии искусства» Тэна этот принцип проявляется в особо внимательном отношении к фактам («Мое дело изложить вам факты и показать, как они произошли» (Тэн, 13)) и напоминании о близости нравственных наук к наукам естественным, о чем свидетельствует уподобление художественных музеев гербариям, апелляция к естественным явлениям и использование таких понятий, как моральный климат, моральная температура.
Но главное в этой работе – умение построить и подать историю искусств Италии, Нидерландов и Греции, систематизировать материал, исходя из принятых им принципов. А формулируя принципы, которые определяют развитие и изучение искусства, Тэн выделяет три фактора, которые обозначаются понятиями раса, среда и момент. Под расой понимаются национальные особенности, которые отличают, скажем, греков от фламандцев и итальянцев, французов от германцев; под моментом – тот или иной исторический период. Наиболее существенным фактором, заслуживающим внимания и анализа, выступает так называемая среда. Данное понятие трактуется широко и неоднозначно. Под средой подразумевается природная среда, в частности, почва, растительность, в особенности климат – суровый в Нидерландах и мягкий в Греции. Но чаще среда толкуется как состояние умов и нравов, как потребности, наклонности, чувства, моральная температура, складывающаяся в определенное время в определенной стране.
Среда (и естественная, и общественная) формирует характеры. «Характер есть именно то, что философ называет сущностью вещей; вот почему они говорят, что искусство имеет целью обнаружить эту сущность» (Тэн, 23). Особое значение придается так называемому господствующему, существенному характеру, свидетельствующему о наиболее существенных особенностях народа в тот или иной период. Это доказывается ссылками на факты самой жизни и на литературные произведения, в которых можно обнаружить господствующие характеры. «Лесаж написал двенадцать томов романов и аббат Прево – двадцать томов трагических или трогательных новелл; их ищет теперь иной разве только из любопытства, тогда как весь свет прочел /К иль Блаза и Манон Леск о… Дефо написал двести томов, а
Сервантес – не знаю, сколько драм и новелл… от одного уцелел Р о б и н з о н К р у з о, от другого – Д о н К и х о т» (Там же, 281–282). На этих и многих других примерах демонстрируется умение художника выбирать и обобщать, а основой такого умения служит знание тем же художником умов и нравов, т. е. среды.
Виднейшие представители русской культурно-исторической школы – профессор Петербургского университета, академик Александр Николаевич Пыпин (1833–1904) и профессор Московского университета, академик Николай Саввич Тихонравов (1832–1893). Эти ученые не предлагали сколько-нибудь развернутых теоретических суждений. Их идеи и принципы проявлялись в конкретных историко-литературных исследованиях, определяя их подход к истории литературы, а точнее, к истории культуры, поскольку создаваемые лекционные курсы и книги этих ученых включали самый разнородный материал из истории общественной мысли, культуры, а литература сама по себе не получила тщательного освещения и анализа как специфический вид искусства.
В этом и сказывался культурно-исторический подход, который объясним объективными задачами науки того времени и ее возможностями. Насущной задачей истории литературы было собирание фактов, приобщение к изучению произведений писателей любого ранга, а также вовлечение в сферу исследований произведений не только словесного искусства и не только высокохудожественных. Но собирание предполагало анализ и систематизацию материала на основе тех принципов, которые представлялись научными. Изучение таких принципов не дает возможности выделить четко обозначенные факторы, как это было в работах Тэна, но обнаруживает несомненное тяготение к ориентации на действительность, констатации связи литературы и жизни, литературы и идейно-умственной атмосферы времени, признанию значимости историзма и рассмотрению литературы как историко-литературного процесса.
Среди огромного количества работ академика Пыпина – четырехтомная «История русской литературы» (1902–1903), которая включает сведения из области просвещения, науки, религии, публицистики и, конечно же, литературы. В многочисленных трудах Тихонравова нужно отметить подготовку и издание целого ряда памятников, начиная с древности и включая современность, а также статей, в которых осмыслялся литературный процесс в России. Известны также имена ученых, которые ассоциируются с культурно-исторической школой в России, – И.И. Стороженко (1836–1906), А.И. Кирпичников (1855–1920), С.А. Венгеров (1845–1903) и др. Принципы этой школы, точнее этого научного направления, можно обнаружить в работах почти любого исследователя. Иначе говоря, с такими принципами соприкасались многие ученые, тяготевшие к другим научным направлениям в середине XIX в., в частности, биографическому, психологическому и мифологическому.
Особое место среди русских ученых 2-ой половины века, кроме названных выше, принадлежит А.Н. Веселовскому, который стал родоначальником сравнительно-исторического метода.
Александр Николаевич Веселовский (1838–1906) в 1858 г. окончил Московский университет, затем несколько лет провел за границей, при этом четыре (1864–1867) в научной командировке в Италии, где работал с известными специалистами и собирал материалы по итальянской литературе, в частности обнаружил рукопись неизвестного романа ХV в., опубликованного под именем «Вилла Альберти». В 1870 г. в Московском университете защитил магистерскую диссертацию, посвященную исследованию данного романа. В том же году был приглашен в Санкт-Петербургский университет, где в 1870 г. возглавил кафедру всеобщей литературы, а в 1872 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине». Вскоре был привлечен к работе в Академии наук и в 1881 г. избран академиком.
Научное наследие Веселовского огромно. Задуманное собрание сочинений должно было составить 26 томов, из которых издано было восемь (1—6-й, 8-й, 16-й). Наиболее репрезентативными в процессе уяснения его методологических позиций являются: вступительная лекция в курс истории всеобщей литературы, прочитанная 5 октября 1870 г. в Петербургском университете «О методе и задачах истории литературы как науки»; научные сочинения «Из введения в историческую поэтику»; «Три главы из исторической поэтики».
По теоретическим взглядам Веселовский близок приверженцам культурно-исторической школы глубоким убеждением в связи литературы с общественной жизнью, в продуктивности исторического подхода к рассмотрению искусства: «История литературы в широком смысле этого слова – это история общественной мысли, насколько она выразилась в движении философском, религиозном и поэтическом и закреплена словом» (Веселовский, 1989, 41). Кроме того, история литературы – это исторический процесс, который подчиняется определенным законам: «Изучая ряды фактов, мы замечаем их последовательность, отношение между ними последующего и предыдущего; если это отношение повторяется, мы начинаем подозревать в нем известную законность» (Там же, 37). Выявлению тех или иных закономерностей может и должно помочь сопоставительное изучение ряда литератур, которые существуют и развиваются по-разному, но между которыми возможны разного рода сближения, вследствие чего они образуют как бы всемирную (термин Гёте) литературу и поэтому их нецелесообразно воспринимать как нечто изолированное: «Историю всеобщей литературы не следует понимать как аггломерат отдельных литератур».
Наличие совпадений было замечено и раньше, в связи с чем родилась теория заимствования, автором которой считают индианиста Т. Бенфея, усмотревшего в индийских рассказах «Панчатантра» один из источников европейской словесности. Критикуя изъяны данной теории, Веселовский считал необходимым исследовать те элементы сходства, которые можно обнаружить в разных литературах. Сам он собрал и во многом систематизировал огромное количество фактов, свидетельствующих о сходстве в сфере ситуаций, образов, мотивов, сюжетов, стилистических особенностей, к числу которых можно отнести разного типа параллелизм, своеобразие эпитетов и других «поэтических формул», нередко обозначаемых им понятием «схематизм». «Сюжеты – это сложные схемы, в образности которых обобщились известные акты человеческой жизни и психики в чередующихся формах бытовой действительности… Мотивы – тоже схемы, но одночленные» (Там же, 312). При этом ученый опирался на знание множества произведений западных, славянских, византийской и восточных литератур, а также на материалы фольклора, этнографии, антропологии. Статьи и лекции на эту тему составили его «Историческую поэтику», основные главы которой были опубликованы в собрании сочинений (т. 1, 1913), в сборнике статей под названием «Историческая поэтика» (Л., 1940; М., 1989).
Многочисленные наблюдения убеждали Веселовского в значимости сравнительно-исторического принципа исследования, результаты которого приводили к мысли о разных истоках сходства, и среди них – общность происхождения, взаимное влияние, самозарождение. О конкретных обобщениях и результатах использования сравнительно-исторического метода, особенно при изучении родов и жанров, будет сказано в главе третьей.
Появление и обоснование социологических и имманентных принципов в изучении литературы
На рубеже XIX – ХХ вв. и особенно в начале ХХ в. в развитии филологической мысли более или менее четко обнаружились две тенденции, которые во многом оказались новаторскими и просматривались в разных научных течениях. Источником и причиной такого новаторства стала неудовлетворенность не только предшествующим умозрительным, метафизическим подходом к искусству, который ассоциировался с именами немецких ученых начала XIX в., но и активным использованием культурно-исторического принципа изучения литературы. Причем одних ученых это побуждало к углублению историзма, к попыткам доказать более глубокую связь искусства и жизни и обусловленность искусства социально-историческими обстоятельствами; других – к применению имманентного подхода, т. е. к поискам и обоснованию внутренних законов развития искусства.
На почве углубления исторического подхода вырастали разные типы социологизма. Примером ученого-критика, ориентировавшегося на социологические идеи французского философа О. Конта и русского мыслителя П. Лаврова, был Н.К. Михайловский. Первооткрывателем социологического подхода в теории искусства, а по существу и автором данного термина был Г.В. Плеханов, чья личность заслуживает особого внимания.
Георгий Валентинович Плеханов (1856–1918) родился в Тамбовской губернии. Окончил Воронежскую военную гимназию. Учился в Петербургском Горном институте. Принимал участие в народнических организациях. В 1880 г. эмигрировал в Европу, где оставался в течение 37 лет. Вернулся в Россию весной 1917 г. Умер в 1918 г. Всю жизнь занимался научно-публицистической деятельностью.
Сфера интересов Плеханова весьма многообразна. Литературоведам важны его философские и собственно эстетические работы, среди них – статьи о Белинском и Чернышевском, «Письма без адреса» (1899–1900), «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (1895), «Французская драматическая литература и французская живопись ХVIII в. с точки зрения социологии» (1905).
Осознавая значение преемственности в развитии науки, Плеханов неоднократно обращался к работам И. Тэна, выделяя и подчеркивая его тезис о «состоянии духа и нравов», но при этом замечал, что у Тэна «психика людей определяется их положением, а положение – психикой», и в результате получается замкнутый круг. По убеждению Плеханова, необходимо выявить корни и истоки настроений, духа, нравов, а для этого – понять механизм организации и существования общества. Это и составляет задачу нового типа социологизма.
О структуре общества и его отношениях с искусством говорится во многих работах, но предельно четко в «Очерках по истории материализма», где предлагается модель организации общественной жизни, названная позднее «пятичленкой» Плеханова. Эта модель подразумевает условное выделение пяти ступеней, или аспектов, в структуре общества. На верхней ступени располагаются искусство, религия, философия, которые называются формами общественного сознания или видами идеологии. Их особенности соответствуют определенному состоянию духа и нравов, т. е. общественной психологии на том или ином этапе развития общества в той или иной стране. Состояние духа и нравов зависит от формы общества, которая складывается в тот или иной период и отражает отношения между людьми, точнее, между теми или иными социальными группами. А такие отношения определяются экономической структурой, в частности состоянием производства на данном этапе развития общества. Очевидно, что все эти сферы жизни взаимосвязаны и взаимообусловлены. Такое толкование структуры общества является свидетельством и доказательством монистического подхода к его объяснению.
Что здесь важно для исследователей искусства? Тезис о том, что дух и нравы, т. е. склонности, симпатии, антипатии, словом, настроения тех или иных общественных групп составляют основу и почву тех идей и настроений, которые обнаруживаются в художественных произведениях, являющихся составной частью общественного сознания или идеологии. В последней из названных статей Плеханова («Французская драматическая литература…») данный подход убедительно демонстрируется и реализуется на материале анализа французской драматургии и живописи ХVIII в.
В начале ХХ в. в России ряд мыслителей называли себя социологами, в числе которых – В.М. Фриче, В.Ф. Переверзев, П.Н. Сакулин. Особое внимание следует уделить трудам В.Ф. Переверзева.
Валерьян Федорович Переверзев (1882–1968) учился в Харьковском университете. В 1905 г. включился в революционную деятельность, в 1907–1910 гг. находился в заключении. В 1912 г. опубликовал книгу «Творчество Достоевского», в 1914 – «Творчество Гоголя». В начале 20-х годов работал в Высшем литературно-художественном институте под руководством В.Я. Брюсова (ВЛХИ), а затем в Институте языка и литературы РАНИОН (Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук) и в Московском государственном университете. Его педагогическая деятельность прекратилась в 1938 г. в связи с арестом.
Научная позиция Переверзева определялась ориентацией на работы Плеханова и на монистический, т. е. историко-материалистический подход к искусству, основная задача которого заключалась в объяснении связи искусства с общественной жизнью, в стремлении найти главный фактор, определяющий сущность искусства. Одна из статей ученого так и называется: «К вопросу о монистическом понимании творчества Гончарова». Если для Плеханова определяющим фактором была социальная психология, настроения, зависящие от состояния общества и той или иной общественной среды, то для Переверзева таким фактором стало бытие той или иной социальной среды, которое зависело от экономического положения данной среды или группы. Социальные группы выделялись по их экономическому положению в обществе, в результате чего появлялись такие обозначения, как аристократическое дворянство, мелкопоместное дворянство, крупная буржуазная среда, мещанская среда и некоторые другие. Утверждалось, что именно бытие рождает и формирует характеры, в том числе авторский (автогенный) характер, которые способны функционировать в пределах своей среды. Они и есть основной предмет изображения и основа образной системы произведения. Субъективным факторам, т. е. мироощущению художника, не придавалось серьезного значения.
Теоретическая позиция Переверзева определяла подход к рассмотрению творчества Гоголя, Достоевского, Гончарова и обнаруживалась не только в трактовке характеров, но и способов изображения, в понимании источников стиля, который толковался как порождение условий жизни социальной среды. В применении к Гоголю очень часто этот тезис выглядит живым и убедительным, потому что речь и героев, и повествователя, бытовые детали, композиция, различные стилистические приемы, характерные для ряда повестей Гоголя, во многом объясняются особенностями изображенного мира, т. е. поместного быта таких персонажей, как «старосветские помещики», Иван Иванович, Иван Никифорович и им подобные (Переверзев, 65—118). Однако ограничение характеров пределами породившей их среды, или детерминированность только бытием, при полном исключении субъективных факторов, т. е. позиции художника, представляется мало убедительным и не соответствующим ни теории Плеханова, ни даже теории марксизма, ради которого создавалась и обосновывалась данная концепция.
Однако эта концепция была определенной вехой в становлении русской науки послеоктябрьского периода и попыткой обосновать социологический подход, который вскоре получил название «вульгарного социологизма». Уже в начале 30-х годов ХХ в. он был подвергнут резкой критике, в основе которой были отнюдь не чисто научные мотивы, а ее автор был обвинен в политических преступлениях и репрессирован. При всем том работы Переверзева, посвященные разным периодам русской литературы, вызывают немалый интерес, а что касается теории и методологии его исследований, то при всех недостатках и изъянах его концепция объяснима потребностью не просто констатировать те или иные художественные особенности литературных произведений, но объяснить их содержательную природу, осуществив тем самым каузальный, или генетический подход, сыгравший свою роль в дальнейшем развитии науки о литературе.
Одновременно и параллельно с социологическим направлением в русском литературоведении формировалось другое, представители которого стремились преодолеть недостатки культурно-исторического принципа исследования путем апелляции к специфике искусства и противопоставили социально-историческому (социологическому) подходу – имманентный подход, который предполагает ориентацию на постижение внутренних законов искусства и отрицает значимость внелитературных факторов. Этот принцип отразился в работах и зарубежных исследователей того времени, в частности художников и искусствоведов – А. Гильдебрандта, В. Воррингера, В. Дибелиуса, Г. Вельфлина – автора переведенной на русский язык работы «Основные принципы истории искусств», О. Вальцеля – автора работы «Проблема формы в поэзии» (Вальцель, 1919; Вельфлин, 1915).
В российских условиях такое направление получило название формальной школы. Его приверженцами были участники Московского лингвистического кружка Р.О. Якобсон, Г.О. Винокур, П.Г. Богатырев и петроградские лингвисты и литературоведы Л.П. Якубинский, Е.Д. Поливанов, О.М. Брик, Б.В. Томашевский, Б.М. Эйхенбаум, Ю.Н. Тынянов. Научным лидером школы был В.Б. Шкловский (1893–1984). Все они в разной степени были связаны с работой в Петроградском государственном институте истории искусств и считали себя участниками Общества по изучению поэтического языка (ОПОЯЗ). В жизни общества были разные периоды, но наиболее репрезентативны работы раннего периода – «Воскрешение слова» (1914), «Искусство как прием» (1917) Шкловского, вскоре вошедшие в сборник «О теории прозы»; «Как сделана «Шинель»», «Некрасов» (1922), «Анна Ахматова» (1923), «Вокруг вопроса о формалистах» Эйхенбаума; «Теория литературы» Томашевского; сборники по теории поэтического языка, вып. 1–2 (1916–1917), вып. 3 (1919).
Сторонники школы называли свой метод морфологическим, а себя – спецификаторами, т. е. исследователями специфики искусства как таковой. В центре внимания было художественное произведение, которое воспринималось как вещь, а специфика искусства, в первую очередь литературы, виделась в умении создать произведение путем комбинации приемов. «Если наука о литературе хочет стать наукой, она принуждена признать «прием» основным своим «героем»», – писал Якобсон. Содержательно-эмоциональные аспекты произведения во внимание не принимались. Традиционная терминологическая оппозиция содержание – форма была заменена оппозицией материал – прием. При этом понятие «материал» понималось достаточно широко и неточно.
Иллюстрацией применения данных понятий может служить трактовка повествовательной структуры произведения, согласно которой художник имеет дело с основными событиями (они же – фабула) и способами обработки материала, т. е. способом подачи событий, что составляет сюжет. При этом главное – преодолеть якобы возникающий автоматизм в восприятии произведения и вызвать у читателя ощущение новизны, необычности, странности (отсюда термин «остранение», предложенный Шкловским, правда, по мнению специалистов, встречавшийся и ранее), что и достигается различными комбинациями и вариациями стилистических и композиционных приемов. В числе таких приемов разные способы создания затрудненной формы, игры с сюжетом, использование приемов торможения действия, смещения времени, нанизывания эпизодов, деформации материала, подчеркивания разного рода контрастов, пародирование, введение новой лексики (особенно в лирике), создание дисгармонии по отношению к предшествующему типу стиха путем ритмико-синтаксической организации речи, а также обращения к скороговорке, сказу, балаганному или, наоборот, проповедническому тону и т. п.
В результате такого подхода к произведению исчезает потребность в ориентации на любые «внешние» факторы и возникают суждения наподобие следующих: «никакой причинной связи ни с жизнью, ни с темпераментом, ни с психологией художника искусство не имеет …лирика Ахматовой – результат поэтического сдвига и свидетельствует не о душе, а об особом методе» (Эйхенбаум); или: «главная особенность повести (речь идет о «Выстреле» Пушкина) – ее походка, поступь, установка на сюжетное строение… характер Сильвио играет второстепенную роль» (Шкловский).
Как можно представить, во многих высказываниях и декларациях формалистов было немало бравады, излишней заостренности и того, что сейчас называют пиаром. Но современники воспринимали это как материал для полемики, а скорее критики, порой очень резкой и даже жестокой. В качестве критиков выступали такие лица, как Луначарский, Бухарин, Троцкий, Бахтин, участвовавший в создании работы «Формальный метод в литературоведении», опубликованной в 1928 г. под именем П. Медведева, а также написавший в 1924 г. большую статью «Проблемы содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве» (опубликована в 1975 г. в сб. «Вопросы литературы и эстетики»). В числе активных критиков были также представители социологической школы, в том числе Переверзев.
Интереснейшие наблюдения над формой, т. е. принципами словесной и композиционной организации текста, не смогли заслонить очевидных изъянов теории. Поэтому выход из имманентности был признан объективной необходимостью даже одной из участниц этой школы, известным литературоведом ХХ в. – Л.Я. Гинзбург, которая позднее писала: «Сейчас несостоятельность имманентного развития литературы лежит на ладони, ее нельзя не заметить» (Гинзбург, 2002, 37). «Оказалось, что без социальных и идеологических предпосылок можно только указать на потребность обновления (приемов), но невозможно объяснить: почему побеждает эта новизна, а не любая другая» (Там же, 450).
Вместе с тем «выход из имманентности» осуществлялся по-разному и подчас весьма болезненно. Б.М. Эйхенбаум потерял возможность работать, как прежде; тяжело было и его ученице Л.Я. Гинзбург. В.Б. Шкловский вынужден был опубликовать статью «Памятник научной ошибке». Собственно научный выход еще в период расцвета школы наметил Ю.Н. Тынянов, который верил в плодотворность историзма и необходимость апелляции к смыслу как источнику приема. С этим связана его мысль о функциональности приемов и их принадлежности к системе, которая обусловлена семантикой и содержит в себе смысловую и формальную доминанту, например, тяготение разных лирических жанров к определенному типу речи (ода – ораторский жанр). По словам Л.Я. Гинзбург, «Тынянов принес с собой два неотъемлемых свойства своего мышления – чрезвычайный интерес к смыслу, к значению эстетических явлений и обостренный историзм. Именно эти свойства и должны были разрушить изнутри первоначальную доктрину формальной школы» (Там же, 451). Формальное направление как школа перестало существовать в конце 20-х годов, но оставило свой след в науке, который был осознан гораздо позднее.
Некоторые особенности развития науки о литературе в 30—40-е годы ХХ в
Отход ряда ученых от активной научной жизни, исчезновение дискуссий, а вместе с тем и идей, которые с середины 10-х до конца 20-х годов активно обсуждались в стенах высших учебных заведений и на страницах научных и научно-публицистических журналов, не могло не отразиться на состоянии науки о литературе. Ее последующее развитие было обусловлено, с одной стороны, отказом от имманентности, отстаивавшейся сторонниками формальной школы, и от социологизма, каким он предстал в интерпретации Переверзева, а с другой – опорой на те философские представления, которые можно было обнаружить в арсенале русской общественной мысли начала и середины 30-х годов, когда активно изучались работы Маркса, Энгельса, Ленина (труды Плеханова были изданы, но практически забыты).
В этих работах одной из ведущих была мысль о литературе как форме общественного сознания и как идеологии, о ее связи с общественной жизнью, о роли мировоззрения художника и о соотношении мировоззрения и творчества. Эти мысли пронизывали русскую науку о литературе на протяжении нескольких последующих десятилетий. В 30-е годы они вылились в два тезиса. Согласно одному из них, в произведении правдиво и верно отражается жизнь только благодаря наличию у писателя «верного», прогрессивного мировоззрения, согласно другому – писатель может правдиво воспроизводить действительность и вопреки своим «ложным» взглядам. При этом ссылались на высказывания Энгельса о Бальзаке, который, будучи сторонником легитимной монархии, сумел реально и критически представить атмосферу жизни французской аристократии, а также на высказывание Ленина о Толстом, чьи взгляды и творчество были полны противоречий.
У каждого из этих тезисов были свои идеологи, чьи имена сейчас уже не столь значимы, хотя прямо или косвенно их мысли просматривались в исследованиях и более позднего времени, т. е. в 50—60-е годы, когда огромное место в дискуссиях о литературе занимали споры о сущности метода, в том числе о реализме, романтизме, нормативизме и т. п. Как заметил один из современных исследователей, позиция «вопрекистов» иногда помогала художникам с «чуждым» мировоззрением писать и выживать в атмосфере тех лет (Голубков, 2008).
Однако наличие «правильных» взглядов, т. е. соответствующего мировоззрения, начиная с 30-х годов, было основным критерием в оценке творчества писателя, а сущность литературы как вида искусства и формы творческой деятельности усматривалась в ее идеологической специфике, о чем свидетельствовали сотни книг и статей на эту тему, выходившие вплоть до середины 80-х годов. Этим было обусловлено и признание социалистического реализма, который определялся как метод, который «требует правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии; правда и конкретность должны сочетаться с идеей воспитания трудящихся в духе социализма». Как следует из этого краткого суждения (подобных вариаций было множество), в определение сущности искусства входило настойчивое подчеркивание его познавательной функции, но выполнение такой функции с неизбежностью требовало наличия соответствующего мировоззрения.
В 40-е, «роковые», и послевоенные годы мысль об идеологичности как базовом признаке литературы оставалась основополагающей и определяла жизнь самой литературы и отношение к ней ученых и критиков. Такое положение считалось аксиоматичным и как будто бы не требовало обсуждения.
Новые тенденции в русском литературоведении середины и конца ХХ в
В середине 50-х – начале 60-х годов в связи с общим изменением идейно-нравственной атмосферы в стране после знаменитого ХХ съезда КПСС в среде теоретиков и историков общественной мысли возникла потребность вернуться к обсуждению некоторых радикальных вопросов, среди которых важнейшим представлялся вопрос о сущности искусства, о его истоках, предмете, содержании, соотношении с действительностью и с мировоззрением художника. В полемику включились теоретики и историки литературы, искусствоведы, философы. Воспринимая и оценивая этот процесс в широком масштабе, можно заметить, что здесь наметились две тенденции, различавшиеся степенью критицизма по отношению к господствующим представлениям о литературе и разной мерой радикализма в выработке подходов к пониманию искусства.
Представители одной тенденции стремились творчески отнестись к существующим подходам, осознать их очевидные изъяны и перекосы в оценке литературы и откорректировать базовые положения науки о литературе, по-новому поставив вопрос о сущности мировоззрения и его месте в художественном творчестве. К таким ученым относился профессор Московского университета Г.Н. Поспелов.
Геннадий Николаевич Поспелов (1899–1994) в 1918 г. окончил тульскую гимназию и музыкальное училище, несколько лет работал на разных должностях, в том числе один год в школе. В 1922 г. поступил в Московский университет на факультет общественных наук, затем в аспирантуру научно-исследовательского института языка и литературы в составе РАНИОН, где работал под руководством В.Ф. Переверзева. Принадлежность к школе Переверзева повлияла и на его судьбу, которая оказалась не столь драматичной, как у его руководителя, но достаточно сложной. Поспелов работал в разных учебных заведениях, а последние 50 лет (с 1944 по 1994) преподавал на филологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, возглавив в 1960 г. первую в стране кафедру теории литературы.
В 1940 г. вышло учебное пособие Г.Н. Поспелова «Теория литературы», но основные теоретические работы, отражающие его новейшие взгляды на искусство, были опубликованы лишь в 60—80-е годы ХХ в., в том числе монографии: «О природе искусства» (1960), «Эстетическое и художественное» (1965), «Проблемы литературного стиля» (1970), «Лирика среди литературных родов» (1976), «Стадиальное развитие европейских литератур» (1988) и др., а также учебники: «Введение в литературоведение», в котором Поспелов был ведущим автором и редактором, и его же «Теория литературы» (1978).
Главная особенность мышления Поспелова как представителя одной из обозначенных тенденций заключается в разработке и создании системы литературоведческих понятий, которые обозначали разные грани и стороны отдельного произведения и литературного процесса и были взаимосвязаны между собой, как связаны разные грани и аспекты литературных явлений. Основой системы стало понимание литературы как явления идеологического, представляющего собой одну из областей общественного сознания. Но «если такие виды идеологии, как философские обобщения, моральные правила, правовые нормы, политические программы представляют собой теоретическое мышление о жизни, то искусство по своей природе не теоретично, оно наглядно по мышлению о жизни, образно по ее воспроизведению» (Поспелов, 1965, 191).
Идеология, по убеждению Поспелова, не сводится к теоретическому мышлению: «Идеологические взгляды людей существуют не только в форме теорий. Они возникают в процессе социальной практики людей и живут в их личном сознании в форме обобщающих представлений и суждений об отдельных людях в их существенных социальных особенностях» (Там же). Ученый назвал их идеологическим миросозерцанием или непосредственным идеологическим познанием. По его мнению, идеологические взгляды являются основой художественного творчества, а без идеологической активности в восприятии жизни и умении эмоционально откликаться на нее, исходя из определенных общественных интересов, не может быть творчества.
Само собой разумеется, что творчество невозможно без художественной одаренности, способности воспроизводить осознаваемую жизнь в образах. «Образность искусства необходимо обусловлена особенностями его предмета», а предметом является характерность социальной жизни, т. е. индивидуальные ее особенности, в которых проявляется общее, существенное. В силу этого «воспроизведение характерности неизбежно представляет собой воссоздание теми или иными средствами отдельных явлений действительности в их индивидуальных свойствах; иначе говоря, изображение отдельных людей и явлений природы, отношений и событий, мыслительных и эмоциональных переживаний».
Таким образом, оставаясь убежденным сторонником признания идеологической специфики искусства и роли мировоззрения в художественном творчестве, Поспелов настаивал на несводимости мировоззрения к теоретическим установкам и тем самым к официальной идеологии (если речь шла об искусстве советского периода). Он называл идеологическим миросозерцанием активное эмоционально-заинтересованное отношение к жизни, без которого нет искусства, хотя в творчестве художника могут проявляться и теоретические взгляды, нередко противоречащие его миросозерцанию. Таким путем ученый стремился освободить литературоведение от устоявшейся догматики, сохранив за ним статус науки, призванной изучать искусство как явление идеологическое.
Это не значит, что данной концепции было чуждо понятие эстетического. «Эстетическое достоинство явлений – это всегда лишь превосходное целостное проявление их сущности… В каждой области жизни есть свои объективные эстетические свойства и возможности, вытекающие из ее сущности и отличные от тех, что есть в других областях» (Поспелов, 1965, 155, 159). Кроме того, «художественные произведения в том случае обладают эстетическим достоинством, если они превосходны в своем роде, в своем художественном роде» (Там же, 337). А это возможно, если произведения искусства обладают «экспрессивно-эстетической законченностью и значительностью своей образности, воспроизводящей типическое в определенном ракурсе» (Там же, 347). Иначе говоря, «произведение искусства как бы смотрит на нас выразительными взорами всех деталей своей образности в их законченном и замкнутом в себе единстве. Это своеобразие и есть ни с чем не сравнимое эстетическое достоинство художественных произведений» (Там же, 348). Или: «Основной эстетический закон, действующий в произведениях искусства, – это закон соответствия принципов экспрессивно-творческой типизации жизни тому идеологическому содержанию, которое находит в них свою систематизацию» (Там же, 352).
Другая тенденция из обозначенных выше была обусловлена глубоко критическим подходом к существующим воззрениям и поисками принципиально новых путей в изучении искусства. Она привела к формированию нового научного направления, получившего позже название структурно-семиотического. По свидетельству его приверженцев, это направление не было единым ни теоретически, ни методологически. Среди его участников преобладали лингвисты, однако научным лидером был литературовед Ю.М. Лотман.
Юрий Михайлович Лотман (1922–1993) прошел Великую Отечественную войну, в 1950 г. окончил Ленинградский государственный университет и с тех пор работал в г. Тарту (Эстония), сначала в Педагогическом институте, а с 1963 г. в Тартуском государственном университете. Ушел из жизни в 1993 г.
Предпосылкой и мотивацией творчества Ю.М. Лотмана была потребность осознать и предложить новые подходы к пониманию и объяснению литературных явлений, а главной задачей – обосновать и внедрить для наиболее точного анализа художественных явлений структуральный метод, в связи с чем ввести в обиход понятия системы, структуры и модели. Существенной опорой при создании метода послужили: теория знаковых систем (семиотика), теория информации и коммуникации, теория моделирования, а также философия, которая осваивала к тому времени понятия системы и структуры.
Понятие художественной модели, по-видимому, позволяло несколько иначе, чем в традиционной теории, объяснить взаимоотношение произведения и действительности, произведения и сознания автора. «Подлинное изучение художественного произведения возможно лишь при подходе к произведению как к единой, многоплановой, функциональной структуре… Структура модели (художественной) воспринимается как тождественная структуре объекта, но вместе с тем является отражением структуры сознания автора, его мировоззрения. Рассматривая произведение искусства, мы получаем представление о структуре объекта. Но одновременно перед нами раскрывается и структура сознания автора. Произведение искусства является одновременно моделью двух объектов – явления действительности и личности автора» (Лотман, 1994, 50). В данном суждении присутствуют привычные для литературоведов того времени мысли о связи произведения с объективными (действительность) и субъективными (личность художника) факторами. Но они дополняются мыслью о произведении как структуре, знаковой системе, способной хранить и передавать информацию. «Искусство как средство передачи информации подчиняется законам семиотических систем», поэтому искусство есть моделирующая и вместе с тем знаковая система.
Такие представления делали необходимой разработку и обоснование понятия текста как семиотического явления. Общеизвестно, что в течение многих веков понятие «текст» воспринималось в его первоначальном значении, восходя к временам античности, когда под этим словом подразумевали «письменную или печатную фиксацию речевого высказывания или сообщения в противоположность устной реализации» (ЛЭС, 1987, 436). Долгое время само понятие не требовало специального разъяснения, в связи с чем в КЛЭ 1970-х годов отсутствовала и соответствующая статья, впервые она появилась в ЛЭС в 1987 г.
В то время Ю.М. Лотман сетовал на неразработанность понятия текста (к настоящему времени накопилось огромное количество работ на эту тему). Текст, по его мнению, формируют внутритекстовые связи, т. е. отношения между элементами, характер которых он демонстрирует в ходе анализа поэтических стихотворных произведений, подчеркнув, что основным принципом в поэзии является принцип сопротивопоставления. «Мы будем понимать под текстом всю сумму структурных отношений, нашедших лингвистическое выражение» (Лотман, 1972, 32). При этом ученый не отказывается от понятия внетекстовых, т. е. историко-культурных связей, порождаемых историческим контекстом. Но основным объектом его внимания являются внутритекстовые связи и отношения. В связи с этим основополагающим понятием оказывается именно текст, как аналог произведения. Тем самым значение слова текст как бы сужается и уподобляется понятию произведения.
Вместе с тем коммуникативно-семиотическое использование понятия «текст» приводит к его расширению, им начинают обозначать любые культурные явления как «универсальный объект семиотики», в том числе такие, как обряд, обычай, ритуал, дуэль, свадьба, бал, а также чин, награда, форма одежды, вид оружия, тип поведения.
Теоретические идеи Ю.М. Лотмана излагались в его лекциях по структуральной поэтике, в многочисленных выступлениях на симпозиумах и встречах, проходивших в Эстонии с 1963 г. (к началу 90-х годов их состоялось около 25), а также публиковались в Ученых записках Тартуского университета, в монографиях «Структура художественного текста» (М., 1970), «Анализ поэтического текста. Структура стиха» (Л., 1972) и других работах, в частности в замечательной книге «Беседы о русской культуре» (СПБ., 1994).
В 60-е годы эти идеи были мало известны широкой литературной общественности, а становясь известными, часто воспринимались критически. Но как бы ни оценивались они в то время, это была попытка расширить методологические и теоретические границы науки о литературе и нарушить тот монологизм, который господствовал в литературоведении на протяжении нескольких десятилетий. Позднее было признано, что поиски и суждения Ю.М. Лотмана и его единомышленников были закономерным этапом в развитии литературоведческой мысли в России, хотя данное направление как определенная научная школа перестало существовать.
Середина 70-х годов ознаменовалась появлением серии теоретических работ М.М. Бахтина, важнейшими из которых стали два сборника: «Вопросы литературы и эстетики» (М., 1975) и «Эстетика словесного творчества» (М., 1979). Историко-литературные монографии, посвященные исследованию творчества Достоевского («Проблемы поэтики Достоевского») и Рабле («Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса»), опубликованные в 1963 и 1965 гг., не давали достаточно полного представления о теоретических взглядах ученого.
Михаил Михайлович Бахтин (1895–1975) родился в Орле. Учился в Новороссийском, затем Петербургском университетах. Преподавал в учебных заведениях Невеля, Витебска. В 1924 г. переехал в Ленинград и числился внештатным сотрудником Института истории искусств. В 1929 г. опубликовал монографию «Проблемы творчества Достоевского» и в том же году был арестован, осужден и сослан в Кустанай, где пробыл 6 лет. После нескольких лет работы в разных местах, в 1945 г. поселился в Саранске, где работал в Государственном педагогическом институте (затем – университете) до переезда в Подмосковье, а затем в Москву (1969). В 1946 г. в ИМЛИ им. Горького защитил кандидатскую диссертацию, посвященную проблемам народной культуры Средневековья и Ренессанса и творчеству Франсуа Рабле.
По словам самого Бахтина, он осознавал себя философом, но из-за невозможности непосредственно развивать и публиковать философские мысли он пытался высказать и реализовать их в работах эстетического плана. Ключевой, основополагающей идеей, пронизывающей все работы ученого, начиная с 20-х годов, была идея диалогизма. Диалогизм для Бахтина – в первую очередь философская категория, необходимая для понимания и объяснения человека, его сущности и бытия в целом. Каждый человек, по Бахтину, есть субъект – самостоятельный, обладающий особым голосом, кругозором, своими представлениями. Вместе с тем человек существует только в общении – с людьми, с собой, с миром. «Жизнь по природе своей диалогична… Жить – значит участвовать в диалоге: вопрошать, внимать, ответствовать, соглашаться и т. п.» (Бахтин, 1979, 318). Это значит, что человек видит себя через других, а других воспринимает как самостоятельных, равнозначных, равноправных. Следовательно, каждый человек – «другой», а значит, он – субъект, а не объект. В этом контексте возникает понятие «другость», которое становится важным термином в системе воззрений Бахтина.
Как участник диалога человек находится в постоянном развитии, становлении, иначе говоря, пребывает в состоянии неготовности и незавершенности. Отсюда вывод: «Правда о последних жизненных устоях не может быть выяснена в рамках бытия отдельной личности. Правда может быть приоткрыта. Конец диалога был бы равнозначен гибели человечества». Но это не исключает ответственности и «причастного» отношения человека к жизни, к другим. Такая позиция определяется понятием «не-алиби в бытии», а противоположная – понятием «алиби в бытии». Бахтину очевидно была близка первая.
Идея диалогизма в приложении к искусству обнаруживается по-разному. Она проявляется прежде всего в соотношении голосов героев, голосов автора и героев, автора и повествователя, отсюда проистекает «стилистическая трехмерность» романа, а по существу любого повествовательного произведения. Рассуждая о взаимоотношении голосов автора и героев уже в ранней работе о Достоевском, Бахтин говорит о самостоятельности, независимости, неслиянности этих голосов, что приводит к тезису о полифоничности романов Достоевского в отличие от монологичности романов Тургенева и Толстого (подробнее о бахтинской концепции романа – в разделе о жанрах, гл. 3).
Более обобщающий, концептуальный характер эти мысли приобретают в трактате «Автор и герой в эстетической деятельности», вошедшем в книгу «Эстетика словесного творчества», где развивается мысль о соотношении позиции автора и героев в разных жанрах – повести, романе, исповеди, автобиографии, житии и т. д. Ядро этой мысли заключается в том, что позиция автора предполагает восприятие другого как другого. Условием этого является вненаходимость, что не означает индифферентности, а, наоборот, требует причастности и художественной заинтересованности. «Эта вненаходимость позволяет художественной активности извне объединять, оформлять и завершать событие»; «Автор должен находиться на границе создаваемого им мира, ибо вторжение в этот мир разрушает его эстетическую устойчивость (Бахтин, 1979, 166). «Оба они – герой и автор – другие и принадлежат одному и тому же авторитетно ценностному миру других» (Там же, 143).
Здесь как бы сходятся две мысли: о самостоятельности героев, относительной дистанцированности их от автора (все они – другие) и в то же время о завершающей функции автора. «Сознание героя, его чувства и желания мира со всех сторон, как кольцом, охвачены завершающим сознанием автора о нем и о мире» (Там же, 14). Завершение есть свидетельство эстетической деятельности, создающей эстетический продукт.
Эстетический продукт включает в себя ценностный смысл, т. е. прежде всего познавательные и этические аспекты позиции героя: «Для эстетической объективности ценностным центром является целое героя и относящегося к нему события, которому должны быть подчинены все этические и познавательные ценности; эстетическая объективность включает в себя познавательно-этическую» (Там же, 15). Конечно, автор – творец, но «видит свое творение только в предмете, который он оформляет… он весь в созданном продукте». «Найти существенный подход извне – вот задача художника» (Там же, 166).
Подобных суждений в работах Бахтина очень много, они свидетельствуют о стремлении осознать отношения автора и героя и тем самым определить наиболее существенные особенности художественного произведения и искусства в целом. А все эти особенности проистекают из диалогизма, который Бахтин считал неотъемлемым принципом жизни вообще и искусства в частности.
Настойчивое утверждение диалогизма было обусловлено оценкой состояния человеческого общества на разных этапах его существования, но особенно в современную эпоху, которую, опираясь на терминологию Бахтина, стали называть монологической вследствие преобладания разного рода авторитаризма и отсутствия в достаточной мере личностной свободы. «Монологизм в пределе отрицает вне себя другого и ответно-равноправного сознания, другого равноправного я (ты). При монологическом подходе (в предельном или чистом виде) другой всецело остается только объектом сознания, а не другим сознанием. От него не ждут такого ответа, который мог бы все изменить в мире моего сознания. Монолог завершен и глух к чужому ответу и не ждет его и не признает за ним решающей силы. Монолог обходится без другого. Монолог претендует быть последним словом» (Там же, 318). Отсюда постоянное привлечение внимания к диалогизму и апелляция к нему при объяснении не только жизни, но и искусства. А при определении и обозначении художественной деятельности и ее «продукта», как уже было отмечено, активнейшим образом используется понятие эстетическое в разных его вариациях и ракурсах: эстетическая деятельность, эстетическая реакция, эстетический объект, эстетическая любовь, эстетическая индивидуальность, эстетическое видение и т. п. Тем самым термин «эстетическое» как бы вновь стал обретать свои права в науке о литературе, хотя понятия «идеолог» и «идеологическое» отнюдь не были чужды и Бахтину.
Что касается термина, обозначающего объект художественно-эстетического анализа, то М.М. Бахтин активно пользовался понятием «произведение». Он обратил внимание на трансформацию понятия текст, по поводу чего в своих рабочих записях 50—60-х годов отмечал: «Если понимать текст широко – как всякий знаковый комплекс, то и искусствоведение (музыковедение, теория и история изобразительных искусств) имеет дело с текстами (произведениями искусства)» (Бахтин, 1996, 306). Значит и ему не был чужд семиотический подход к литературе.
Начиная с 70-х годов теоретические знания в нашей стране стали расширяться и за счет появления реферативных изданий, содержавших изложение, хотя и сугубо критическое, тех или иных зарубежных концепций в области литературоведения. В их числе четыре выпуска труда «Теории, школы, концепции. Критические анализы» (М., 1975–1977); сборники статей: «Зарубежное литературоведение 70-х гг.» (М., 1977); «Структурализм: ЗА и ПРОТИВ» (М., 1975); «Семиотика» (М., 1983); «Зарубежная эстетика и теория литературы. XIX – ХХ вв.» (М., 1987). В 1978 г. Была переведена «Теория литературы» Р. Уэллека и О. Уоррена, впервые опубликованная в США в 1949 г.
С конца 80-х годов начали публиковаться переводы оригинальных работ зарубежных авторов, в числе которых были работы Р. Барта (Барт, 1994), К. Леви-Стросса (Леви-Стросс, 1994) и др. В последние 20 лет в научном обиходе российских литературоведов появилось немалое количество зарубежных исследований теоретического характера, в числе которых, помимо трудов Барта, работы Ц. Тодорова (Тодоров, 1999, 2001), Ю. Кристевой (Кристева, 2004), Ж. Женетта (Женетт, 1998), Я. Мукаржовского (Мукаржовский, 1994, 1996), Ж. Деррида (Деррида, 2000), А. Компаньона (Компаньон, 2001), Н. Пьеге-Гро (Пьеге-Гро, 2008). Кроме того, следует отметить книгу «Западное литературоведение XX в. Энциклопедия» (М., 2004. Гл. ред. Е.А. Цурганова).
Стало известно о существовании немалого количества научных течений и направлений в литературоведении разных стран. Методически убедительный обзор таких направлений можно найти в статье Е.А. Цургановой, помещенной в учебном пособии «Введение в литературоведение. Хрестоматия» (М.: Высшая школа, 2007). В числе ведущих научных направлений автор выделяет американскую «новую критику», функционировавшую в разных вариациях, германскую феноменологию, герменевтику и рецептивную эстетику, французскую «новую критику», объединившую несколько течений.
В русских условиях наиболее востребованными оказались исследования структуралистской, а затем постструктуралистской ориентации. Многие зарубежные исследователи этой ориентации связывают свою родословную с русским формализмом 20-х годов, а также со славянским (чешским) структурализмом 30-х годов, представленным в свое время трудами чешских ученых Я. Мукаржовского, Б. Гавранека, Ф. Трнки, Р. Уэллека, а также работавших в то время в Праге Р. Якобсона, П. Богатырева, Н. Трубецкого и некоторых других. В рамках этих течений сформировались понятия литературности, структуралистское понятие Текста, затем постструктуралистское, деконструктивистское понимание текста, интертекста и ряда других.
Серьезное освещение и научное осмысление данных концепций и подходов, их формирования и функционирования на русской почве получило в работах Г.К. Косикова «От структурализма к постструктурализму» (1998), И.П. Ильина «Постмодернизм» (1998), М.Н. Липовецкого «Русский постмодернизм» (1997), И.С. Скоропановой «Русская постмодернистская литература»(1999)и др.
Современные подходы к изучению литературы в русской науке
Расширение горизонтов научной мысли не освободило российских ученых от дальнейших поисков методологических подходов и осмысления теоретических понятий, необходимых исследователям, студентам и преподавателям. Наиболее продуктивны в этом плане собственно научные (Борев, 2003) и учебно-методические работы высокой научной значимости. Автор одной из них, В.Е. Хализев, подчеркивает важность того, «чтобы теоретическое мышление впитало в себя как можно больше живого и ценного из разных научных школ… сейчас не надо отдавать себя в плен иного рода монистическим построениям, будь то культ чистой формы либо безликой структуры, или «постфрейдистский сексуализм», или абсолютизация мифопоэтики и юнговских архетипов, или, наконец, сведение литературы и ее достижений (в духе постмодернизма) к ироническим играм, разрушающим все и вся» (Хализев, 2002, 10).
Обращаясь непосредственно к определению искусства, ученый называет в качестве «бесспорного момента – своего рода аксиомы» творческий (созидательный) характер искусства и выделяет «три важнейших и органически взаимосвязанных аспекта художественного творчества: эстетический, познавательный и миросозерцательный (точнее аспект творческой субъективности)», которые предопределяют научный подход к изучению разных сторон и граней художественного творчества (Там же, 16). Размышлениям об эстетическом посвящена первая глава «Теории литературы»: «Главным предназначением произведений искусства является их восприятие как ценности эстетической… Из эстетической предназначенности искусства органически вытекают как познавательные возможности, так и присущие ему миросозерцательные начала» (Там же, 41, 42).
Другой автор ряда работ научно-методического и теоретического характера, размышляя о сущности искусства, апеллирует к семиотической, эстетической и коммуникативной функциям искусства и, обращаясь к анализу художественного произведения, пишет: «Анализ, подвергающий научному описанию семиотическую данность текста, чтобы идентифицировать его как манифестацию смысловой архитектоники эстетического объекта, точнее было бы именовать семиоэстетическим» (Тюпа, 2006, 32). Семиоэстетический анализ, по мнению автора, учитывает как эстетическую специфику художественной целостности, так и семиотическую природу ее текстовой манифестации (т. е. проявление чего-то внутреннего в чем-то внешнем). Н.Д. Тамарченко обосновывает свой подход к отдельному произведению и литературе вообще в рамках теоретической поэтики (Тамарченко, 2004).
В самом обобщенном виде наиболее характерными для современного этапа в развитии теории литературы и науки о литературе в целом являются два обстоятельства:
• сохранение интереса к познавательным и ценностным (этическим, миросозерцательным) моментам, присущим произведениям искусства;
• привлечение внимания к эстетическим аспектам, которые долгое время были оттеснены и заслонены убеждением в идеологической специфике искусства как его главного специфического признака.
Подводя итог размышлениям о путях развития теоретико-литературной мысли на протяжении последних двух веков, нельзя не отметить, что здесь были зафиксированы и кратко охарактеризованы только главные вехи в этом процессе (полный его обзор является задачей научных исследований широкого плана). Но это позволит составить представление о закономерностях развития науки о литературе и убедиться, что и современный период является определенным этапом, связанным с предшествующими. На этом этапе делаются попытки преодолеть известные изъяны и впитать из прошлого то, что сохраняет научную ценность до настоящего времени.
Знание общих положений необходимо литературоведу любого уровня, в том числе студенту-филологу. На них опирается любой исследователь в анализе отдельного произведения и важнейших аспектов литературного процесса. Поэтому следующая задача заключается в выяснении специфики произведения и литературного процесса и в овладении системой понятий, необходимых для их анализа. Обоснованию и изложению такой системы посвящены следующие разделы данного учебного пособия.
Глава вторая Художественное произведение
Возникновение и становление подходов к изучению произведения
Рассмотрение ведущих концепций, возникавших на протяжении XIX – ХХ вв., позволяет увидеть закономерности в развитии науки о литературе, которые во многом предопределяют и обусловливают подход к анализу и восприятию отдельных литературных произведений. Размышления о произведениях как таковых занимали разное место в упоминавшихся работах. Более или менее заметное внимание уделено этому вопросу в «Философии искусства» И. Тэна, очень небольшое – в работах русских представителей культурно-исторической школы. Перенесение акцента с общих вопросов теории искусства на изучение отдельного произведения состоялось в 10—20-е годы ХХ в., в частности в работах формальной школы. Это актуализировало вопрос о принципах анализа произведения, о механизме его рассмотрения, о терминологии, используемой при обозначении произведения и разных его аспектов.
В поисках принципов, которые активно обсуждались в начале ХХ в. и продолжают обсуждаться до сих пор, исследователи опирались, конечно, с разной степенью осознанности, на те подходы, которые стали складываться уже в Древней Греции, когда обозначилась необходимость в исследовании и толковании поэм Гомера и других авторов, а в Средние века и позже – в осмыслении Священного Писания и иных древних памятников.
Немалое значение приобрели Александрийская вв.) и Антиохийская (III в.) богословские школы, различавшиеся своим подходом к толкованию Священного Писания, а именно тяготением к так называемому аллегорическому истолкованию текстов, при котором обнаруживали разное количество смыслов, или «дословному», историческому. Тогда-то и стали использовать слова понимание и толкование, позднее превратившиеся в термины. Среди богословов, обратившихся к проблеме интерпретации текстов, особенно известны Иоанн Златоуст (III в.), Аврелий Августин (IV в.) – автор труда «О христианской науке», Фома Аквинский (XIII в.), Ориген, Флаций (XVI в.) и др.
Особое место занимает в этом процессе эпоха романтизма, а ключевая роль в тот период принадлежит немецкому теологу, философу, филологу Фридриху Шлейермахеру (1768–1804), работавшему в университетах Галле и Берлина. Одна из его работ называется «Герменевтика» (1838). Этим термином стали обозначать ту сферу мышления, которая связана с выработкой и обоснованием принципов понимания и истолкования текстов – теологических, художественных, философских. Термин ассоциировался с именем бога Гермеса, который, согласно мифологии, должен был передавать вести и повеления олимпийских богов и истолковывать их смысл.
Шлейермахер, как и другие исследователи начала XIX в., вынужден был обращаться к разного рода текстам, созданным в далекие эпохи и принадлежащим к «чужой» культуре, а потому трудно доступным для понимания в силу образовавшихся наслоений и барьеров, которые, как он считал, требуют устранения. Главным, по его мнению, было проникновение в смысл памятника, что исследователь, опирающийся на рациональное мышление, якобы, может сделать лучше, чем автор. Это означало, что герменевтика, поддерживая диалог между автором и исследователем, главную задачу видит не в истолковании, а в понимании текста.
О соотношении понимания и истолкования немало писал В. Дильтей (1833–1911), автор работы «Происхождение герменевтики» и концепции о разделении наук на науки о природе и науки о духе. Согласно его суждениям, природные явления могут поддаваться объяснению, с гуманитарными дело обстоит иначе. Понимание, с его точки зрения, возможно при вживании внутрь исследуемого мира, при интуитивном самопостижении мира изучаемого человека или произведения.
В дальнейшем развитии герменевтики весьма значимыми оказались исследования П. Рикера, Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, а также его ученика и последователя Г. – Г. Гадамера (1900–2002). В работах последнего («Истина и метод», «Эстетика и герменевтика», «Семантика и герменевтика», «О круге понимания» и др.) содержится немало суждений, непосредственно касающихся рассмотрения художественного произведения: «Художественное произведение нам что-то говорит и как говорящее принадлежит совокупности того, что подлежит нашему пониманию. А тем самым оно – продукт герменевтики… Герменевтика строит мост между духом и духом и приоткрывает нам чуждость чужого духа» (Гадамер, 1991, 259, 262).
Описывая процесс восприятия и понимания произведения, Гадамер использует понятия «предпонимание (опережающая гипотеза)», «предрассудок», «горизонт понимания», «истолкование». Понимание предполагает проникновение в смысл текста самого по себе, но исследователь часто имеет дело с чьим-то предварительным пониманием, которое можно назвать предрассудком, что не всегда означает его ложность. Гадамер оперирует уже существовавшим у Шлейермахера понятием «герменевтический круг», которое обозначает «герменевтическое правило», т. е. такой механизм понимания, при котором «целое надлежит понимать на основании отдельного, а отдельное – на основании целого… Движение понимания постоянно переходит от целого к части и от части к целому. Взаимосогласие отдельного и целого – всякий раз критерий правильности понимания» (Там же, 72). Таким образом, подчеркивается важность ориентации на традицию и контакта с нею, способность, как говорит Гадамер, к разговору, т. е. умению слышать другого.
Весомое место в ряду названных ученых принадлежит Г.Г. Шпету (1879–1940) и М.М. Бахтину (1895–1975). В 1918 г. Шпетом была подготовлена монография «Герменевтика и ее проблемы», которая содержит сведения по истории герменевтики и изложение важнейших принципов этой дисциплины. Рассуждая о понимании и интерпретации, ученый ставит вопрос о степени однозначности и многозначности истолкования текста и склоняется к необходимости однозначного толкования и постижения его исторического смысла. Роль Бахтина в этом процессе несомненна благодаря постановке вопроса о диалогизме, о значении культурного опыта, о связи «большого» и «малого времени».
В русском литературоведении середины ХХ в. при обращении к данной теме наиболее употребительным было понятие анализ. Большинство книг, посвященных размышлениям о способах рассмотрения произведения, выходили и продолжают выходить под названием «Анализ художественного произведения» или «Анализ художественного текста». Долгое время это понятие включало в себя все операции, производимые умом исследователя в ходе логического рассмотрения произведения. В последние десятилетия благодаря развитию гуманитарных наук и вхождению в научный обиход герменевтических идей видоизменился и самый подход к произведению, и терминология. Наряду с термином «анализ» и в целях уточнения его, вошли в обиход такие понятия, как «научное описание, анализ, интерпретация, внутритекстовое (имманентное) и контекстуальное рассмотрение» (Хализев, 2002, 321). В иных случаях совокупность понятий, применяемых в подобных случаях, оказывается еще более разветвленной и включает следующие обозначения ступеней научного познания: «фиксация (констатация) фактов, систематизация, идентификация, объяснение, интерпретация» (Тюпа, 2006, 9—13).
Новая терминология очень часто стала использоваться, как упоминалось, и для обозначения самого произведения, понятие текст стало синонимом понятия произведение, поскольку произведение стало осознаваться как знаковая система, структурно организованная, способная хранить и передавать информацию и тем самым выполнять коммуникативные функции. При этом надо иметь в виду, что понятие текста в данном толковании не аналогично понятию Текста в интерпретации Деррида, Кристевой и позднего Р. Барта.
Давно возникший вопрос о соотношении понимания и истолкования, а затем о необходимости различения описания, анализа, интерпретации и т. д. снова подводит к мысли о том, что любое произведение всегда воспринималось как нечто сложное, в котором традиционно выделяли две грани – содержание и форму, постоянно подчеркивая, что они взаимосвязаны. В реальном бытии произведения содержание и форма не существуют отдельно друг от друга, составляя единство. Это означает, что каждый элемент представляет собой двустороннюю сущность: будучи компонентом формы, т. е. той или иной деталью произведения, он несет смысловую нагрузку. Почти каждая портретная деталь («бархатные глаза княжны Мери» или «лучистые глаза княжны Марьи»), указывая на внешние качества героинь, свидетельствуют о каких-то особенностях их внутреннего облика. Примеров такого рода множество.
Стремясь узаконить неразрывность и слитность содержания и формы, ученые стали употреблять термин «содержательность формы» или «содержательная форма». Толчком к такому пониманию и словоупотреблению послужили мысли М.М. Бахтина, мало известные даже в 50—60-е годы, но получившие известность благодаря работам Г.Д. Гачева и В.В. Кожинова, в частности их статьям во втором томе «Теории литературы» (1964), одна из которых называлась «Содержательность литературных форм».
Прежде чем обратиться к характеристике структуры произведения, надо сказать, что художественная организация каждого отдельного произведения уникальна и неповторима, но имеются такие структурные признаки, которые, составляя основу художественной системы, просматриваются в разных произведениях и в первую очередь зависят от принадлежности произведения к одному из трех литературных родов – эпосу, лирике или драме. Поэтому описание и анализ художественных произведений необходимо предварить размышлениями о том, чем отличаются роды литературы.
Родовые качества литературных произведений
Вопрос о специфике и отличии родов друг от друга возникал еще у Платона и Аристотеля, но не получил тогда подробного освещения. Весьма основательное его обсуждение началось на рубеже ХVIII – ХIХ вв., прежде всего в работах Шеллинга и Гегеля, каждый из которых трактовал специфику эпоса, лирики и драмы, опираясь на свои представления о сущности искусства как порождении Духа, Абсолюта, Идеи. В своих работах Шеллинг использовал привычное для него понятие тождества как единства объекта и субъекта, а также понятия свободы и необходимости, утверждая, что «эпос – наиболее объективный и общий вид поэзии… эпос изображает действие в тождестве свободы и необходимости» (Шеллинг, 360, 352); «лирическая поэзия – самый субъективный род поэзии, в ней по необходимости преобладает свобода… в лирике передаются чувства, возникающие вместе с пробуждающимся сознанием и изливаются свободно, непринужденно, как в музыке» (Там же, 346).
Гегель тоже апеллировал к понятиям объекта и субъекта и называл эпос объективным родом поэзии, лирику – субъективным, а драму – синтезом объективного и субъективного. Объективность эпоса, с его точки зрения, обусловлена как предметом изображения, так и позицией автора. Предметом изображения в эпосе являются, как правило, ситуации субстанционального характера, т. е. такие, в которых герой выступает в роли борца за некие общие, народные, национальные интересы, а «поэт как субъект должен отступать на задний план перед своим предметом и растворяться в нем». Поэтому в героическом эпосе, на который ориентировался Гегель, изображаемые события имеют «всемирно-историческое оправдание, побуждающее один народ выступать против другого», герои выполняют волю судьбы, а позиция певца, аэда, сказителя, рапсода реально совпадает с позицией героев («поэт чувствует себя в своем мире совершенно как дома»), в силу чего и возникает иллюзия отсутствия субъективного начала: «Представляющий и чувствующий субъект исчезает в своей поэтической деятельности перед лицом объективности всего того, что он извлек из себя» (Гегель, Т.3, 492).
В лирическом произведении «содержанием является отдельный субъект… подлинным содержанием становится сама душа, субъективность как таковая… мимолетнейшее настроение момента, восторженное ликование сердца, мелькающие блестки веселости и шуток, тоска и меланхолия, жалоба, короче говоря, вся гамма чувств удерживается здесь, увековечиваясь благодаря своему высказыванию» (Там же, 496). При этом чувства могут быть очень разными: вызванными отзвуком на события и обстоятельства субстанционального характера, а также реакцией на предельно личные состояния и отношения, но во всех случаях должны быть достойными внимания.
Драма, по словам Гегеля, «совмещает в себе начала эпоса и лирики». В драме, как и в эпосе, представлено действие. «Драма должна показать, как ситуации и их настроенность определяются индивидуальным характером… собственно лирическое начало в драматической поэзии и состоит в этой постоянной соотнесенности всей действительности с внутренним миром индивида… происходящее является проистекающим не из внешних обстоятельств, а из внутренней воли и характера». Иными словами, действие возникает не в силу выполнения героем воли судьбы, а как результат его «внутренних намерений и целей» (Там же, 550). Таким образом, при характеристике эпоса как рода под субъективностью чаще понимается позиция автора, хотя и не обходится вниманием позиция героев, чьи действия объясняются не личными мотивами, а волею высших сил, в драме же под субъективностью подразумевается прежде всего позиция героев, исходящих в своих действиях из личных мотивов и устремлений.
Рассмотрение родов в указанном порядке (эпос, лирика, драма) диктовалось историческим принципом, т. е. убеждением в том, что они возникали именно в такой последовательности. По словам А.Н. Веселовского, «воззрения Гегеля надолго определили схематическое построение и чередование поэтических родов в последующих эстетиках» (Веселовский, 1989, 191). Гегелевский ход мысли в общем и целом воспроизводился в статье В.Г. Белинского «Разделение поэзии на роды и виды». «Эпическая поэзия есть по преимуществу поэзия объективная, внешняя, как в отношении к самой себе, так и к поэту и его читателю. В эпической поэзии выражается созерцание мира и жизни, как сущих по себе и пребывающих в совершенном равнодушии к самим себе и созерцающему их поэту или его читателю. Лирическая поэзия есть, напротив, по преимуществу поэзия субъективная, внутренняя, выражение самого поэта. Эти два рода совокупляются в неразрывное целое. Здесь действие, событие представляется нам не вдруг, не уже совсем готовое, вышедшее из сокрытых от нас производительных сил, – нет, здесь мы видим самый процесс начала и возникновения этого действия из индивидуальных воль и характеров… В «Илиаде» действует судьба, она управляет действием не только людей, но и богов…. В эпопее событие подавляет собою человека, заслоняет личность человеческую… «Гамлет» есть драматическое произведение, ибо сущность содержания и развития этой трагедии заключается во внутренней борьбе ее героя с самим собою» (Белинский, 231). Говоря о соотношении родов, Белинский обращает внимание на их «смешанность», имея в виду не родовые качества, а эмоционально-содержательные, которые у него, как и у Гегеля, ассоциировались с эмоциональной направленностью, т. е. с пафосом.
Обращаясь к собственным размышлениям о своеобразии родов, Веселовский поднимает вопрос о генезисе поэтических родов, т. е. о времени и последовательности появления произведений того или иного рода и определяет специфику эпоса, лирики и драмы на основании того, что все три рода произошли из одного источника, а именно, из древних синкретических обрядовых форм. «Представим себе организацию хора: запевала-солист ведет главную партию. Ему принадлежит песня-сказ, речитатив, хор мимирует ее содержание молча, либо поддерживает корифея повторяющимся лирическим припевом, вступая с ним в диалог… Итак, песня-речитатив, мимическое действо, припев и диалог… Эпос и лирика представились нам следствиями разложения древнего обрядового хора; драма в первых своих художественных проявлениях, сохранила весь его синкретизм, моменты действа, сказа, диалога, но в формах, упроченных культом» (Веселовский, 230). Об этом подробно говорится в первой главе «Исторической поэтики» («Синкретизм древнейшей поэзии и начала дифференциации поэтических родов»).
В ХХ в., особенно в среде зарубежных ученых, рождались разные концепции, характеризующиеся стремлением выявить и обозначить те или иные содержательные начала, лежащие в основе родов и тем самым продолжающие тенденцию, наметившуюся в работах Гегеля и Шеллинга. Предложенная Гегелем и Белинским классификация родов на основании принципа объективности и субъективности стала характерной для многих русских исследований. При этом в одних случаях она принималась как несомненная и просто воспроизводилась в монографиях и учебных пособиях, в других – подвергалась уточнению и коррекции.
В этом контексте заслуживает внимания позиция Г.Н. Поспелова, который обратил внимание на то, что у Гегеля не соблюдается единый принцип в делении на роды, т. е. отсутствует единое основание их классификации. Эпос и лирика различаются по гносеологическому принципу, т. е. по степени присутствия и проявления субъективного начала, исходящего от автора; драма – по наличию субъективного начала, исходящего от героев, от их мыслей и намерений, обусловливающих их действия и поступки.
Уточняя и корректируя сложившиеся представления, Поспелов предлагает принять во внимание онтологический, т. е. бытийный аспект, замечая, что в самом существовании человека есть объективная и субъективная стороны, для обозначения которых ученый считает возможным использовать понятия «общественное бытие» и «общественное сознание», которые, конечно же, связаны между собой: «Люди не могут жить и действовать, не сознавая свою жизнь и свои действия. А с другой стороны, сознание людей порождается их бытием, направлено на него и отражает его в себе. Не существует сознания, ничего не осознающего в бытии людей и во всем окружающем их материальном мире» (Поспелов, 1976, 32). В связи с этим ставится вопрос, какая из этих сторон человеческого существования может быть и часто становится основным, ведущим предметом познания в лирическом и эпическом произведениях?
В эпосе таким предметом является «характерность социального бытия людей, через которую раскрывается также и характерность их социального сознания». Драма по данному признаку практически не отличается от эпоса: «Наличие персонажей, их действий и отношений, развертывающихся в определенных условиях пространства и времени и создающих обычно конфликтное происшествие, роднит эпос и драматургию». Отличают же их не родовые качества, а отсутствие или наличие связей с пантомимой и другими особенностями сценического изобразительного искусства. Что касается лирики, то она принципиально отличается от эпоса и драмы тем, что в ней воспроизводится «характерность социального сознания», но это «сознание всегда на что-то направлено – или в глубь самого себя, на свои эмоционально-мыслительные состояния и стремления, или на явления внешнего мира, на социальные и личные отношения бытия, на явления природы» (Там же, 63). Значит, специфику родов, по мнению Поспелова, и следует искать в предмете познания. Все эти тезисы подробно излагаются и обосновываются в книге Г.Н. Поспелова «Лирика среди литературных родов». Размышлениям о родах посвящены соответствующие разделы в третьем томе «Теории литературы», опубликованном в 2003 г. (Тамарченко, 2003).
Названные исследования начала и середины XIX в., а затем середины ХХ в. весьма ценны тем, что в них представлены разные, но вместе с тем соприкасающиеся концепции обобщенно-целостного характера, позволяющие увидеть и осознать совокупность литературных родов как некую систему, компоненты которой специфичны, но взаимосвязаны между собой. Однако осмысляя специфику родов, следует иметь в виду не только работы обобщенно систематизирующего характера, но и работы, посвященные изучению отдельных родов, содержащие достаточно ценные теоретические обобщения и тем самым вносящие свой вклад в общую теорию родов.
Если говорить о драматургии, то к числу работ, ей посвященных, можно отнести зарубежные и отечественные исследования Б. Шоу, Б. Брехта, К.С. Станиславского, А.А. Аникста, М.М. Кургинян, В.М. Волькенштейна, А.А. Карягина, М.С. Кагана, В.Е. Хализева, чья монография «Драма как род литературы» принадлежит нашему времени. В ней, помимо систематизации и анализа предшествующих исследований, представлена развернутая теория драмы, воскрешающая и продолжающая ту традицию, которая, по мнению ученого, наметилась у Платона и Аристотеля, присутствовала у Шиллера, Гёте, Веселовского, а затем оказалась «погребенной».
Суть этой традиции заключается в том, что в определении и классификации родов следует ориентироваться не только и не столько на типологические особенности содержания, как это было у Шеллинга, Гегеля, Белинского, Поспелова, а на «способы выражения художественного содержания», «на представления о типах организации словесно-художественных произведений» (Хализев, 1986, 2, 25). Говоря о «необходимости освобождения понятия рода от нежелательных крайностей», ученый отмечает: «Во-первых, нет оснований рассматривать эпос, драму и лирику как типы содержания, не соотнесенные с художественно-речевыми формами. Во-вторых, нецелесообразно пытаться охарактеризовать литературные роды исключительно на основании используемых в произведениях словесных средств (диалог, повествование, монолог, описание, медитации), различия между которыми не соответствуют границам между эпосом, драмой и лирикой. Каждый из литературных родов, на наш взгляд, характеризуется двумя взаимосвязанными качествами. Первое – это наличие или отсутствие сюжетности как организующего начала произведения. Второе – это принцип ведения речи, точнее, акцентирование ее сообщающих (дескриптивных), или действенно-коммуникативных, или же собственно экспрессивных начал» (Там же, 33).
Второй круг работ, весьма значимых при определении рода, составляют работы, посвященные лирике, среди которых труды В.М. Жирмунского, Л.И. Тимофеева, Л.Я. Гинзбург, С.Н. Бройтмана, В.Д. Скозникова и др. Останавливаясь на переломных моментах в развитии русской лирики и анализе отдельных произведений, Л.Я. Гинзбург писала: «Сквозь изменчивую судьбу произведения мы познаем эту объективно нам данную структуру в ее теоретических закономерностях» (Гинзбург, 1974, 18). А говоря о закономерностях, исследователь настойчиво подчеркивает необходимость учета обобщенности высказываний лирического субъекта: «Самый субъективный род литературы, лирика как никакой другой, устремлена к общему, к изображению душевной жизни как всеобщей… Искусство – это опыт одного, в котором многие должны найти и понять себя… Лирика создает характер не столько «частный», единичный, сколько эпохальный, исторический; тот типовой образ современника, который вырабатывают большие движения культуры». К этому добавляется: «По самой сути своей лирика – разговор о значительном, высоком, прекрасном (иногда в противоречивом, ироническом преломлении), своего рода экспозиция идеалов и жизненных ценностей человека» (Там же, 7).
Л.Я. Гинзбург напоминает, что термин «лирический герой» был предложен Ю.Н. Тыняновым применительно к поэзии Блока: «Возникал он тогда, когда читатель, воспринимая лирическую личность, одновременно постулировал в самой жизни бытие ее двойника. Притом этот лирический двойник, эта живая личность поэта отнюдь не является эмпирической, биографической личностью, взятой во всей противоречивой полноте и хаотичности ее проявлений. Реальная личность является в то же время «идеальной» личностью, идеальным содержанием, отвлеченным от пестрого и смутного многообразия житейского опыта. Это демонический лик Лермонтова, это таинственный Блок 1907 года» (Там же, 160). Поэтому лирический герой как бы двупланен, а само словосочетание «лирический герой» вполне правомерно и может быть использовано в качестве термина.
Следует обратить внимание на теоретические суждения В.Д. Скозникова относительно лирики («Теория литературы», 1964). Стараясь найти ответ на вопрос, «каковы родовые особенности, отличающие лирическую поэзию», ученый неоднократно высказывает мысль о соотношении объективного и субъективного. «Вопросы связи личного и общего, субъективного и объективированного, выражения характера поэта и отражения в нем объективного мира не допускают никакого упрощения» (Сквозников, 174). В связи с этим затрагивается вопрос о понятии «лирический герой»: «Сторонников лирического героя немало… Но скажем сразу, что мы не разделяем больших надежд, на это понятие возлагаемых» (Там же, 180). Причина, по-видимому, в том, что ориентация на это понятие, как это происходит в ряде работ, искажает истинное взаимоотношение субъективности и объективированности в лирическом произведении: «Лирическое переживание по самому своему происхождению всегда начало личное (или «личностное»), в этом смысле субъективное. Но по-своему реальному бытованию в поэтическом произведении оно всегда объективировано в соответствии с законом художественного пересоздания». Иными словами, «действительность, преломленная в мыслях и чувствах личности, субъекта, объективируется опять-таки в форме личного».
Отсюда ключевое понятие в определении лирики – лирическое переживание и связанное с ним понятие «образ переживания». «Основой лирической поэзии является эмоционально напряженная мысль, нашедшая себя в особом словесном образе – образе непосредственного переживания… Мы считаем образ переживания основой лирики в словесном искусстве. Исходное самочувствие души может быть очень смутным, неотчетливым, – оно становится лирическим переживанием, лишь когда оно выражено» Словом «понятие лирического переживания, само по себе достаточно богатое и сложное, легко приложимое к какому-нибудь одному, качественно единому состоянию, в особенности если оно мимолетно или встречается однократно, становится труднее применимым, когда это переживание не только неоднородно и противоречиво, но и непостоянно, текуче, многопланово. Поэтому речь может идти о цепи переживаний, о переменах развивающегося состояния души, о системе и единстве переживаний» (Там же, 182). Еще один авторитетный исследователь лирики, С.Н. Бройтман, решая вопрос о ее специфике и рассматривая лирику в аспекте исторической поэтики, предлагает в качестве ведущего термина использовать понятие лирический субъект (Бройтман, 2003).
Рассмотрение родовых особенностей произведений позволяет более осознанно подойти к конкретному описанию и анализу эпических, лирических и драматических произведений, каждое из которых обладает какими-то структурными признаками. При этом разумнее начать с осмысления структуры эпического и драматического произведений.
Своеобразие эпического и драматического произведений
Приступая непосредственно к размышлениям о специфике художественного произведения и помня, что оно представляет собой сложный организм системного типа, целесообразно воспользоваться еще одним понятием – научная модель, предложенным Ю.М. Лотманом. «Научная модель, как правило, создается тогда, когда путем анализа выработано уже определенное представление о структуре объекта или элементах, ее составляющих. Таким образом созданию научной модели предшествует аналитический акт» (Лотман, 1994, 48–50). Конечно, понятие модели существовало в науке и ранее. Основываясь на мысли о системности и структурности художественного текста, можно представить художественное произведение в виде схемы-модели, построенной с помощью слов-понятий, обозначающих разные грани и стороны литературного произведения.
Логическая модель эпического произведения
На схеме-модели с помощью понятий представлены основные компоненты структуры эпического произведения, они расположены в том порядке, который показывает, во-первых, как они соотносятся между собой, во-вторых, какой алгоритм анализа это предусматривает. Такой алгоритм предполагает осмысление, начиная с уровня тесно взаимосвязанных между собой понятий: персонаж, характер (тип), образ художественный. Предлагаемая последовательность рассмотрения структуры произведения соответствует логике восприятия текста читателем, которое предполагает знакомство с персонажами, а затем осмысление их как характеров-образов в соотношении друг с другом в конкретной жизненной ситуации, реализующейся в сюжете. Драматическое произведение по данным параметрам близко к эпическому. Поэтому, размышляя о плане содержания, вполне правомерно ориентироваться на оба типа произведения.
Персонаж, характер, образ
В процессе чтения эпического или драматического произведений, будь то повесть, рассказ, роман, очерк, комедия, драма, мы знакомимся с действующими лицами, или персонажами. Их может быть всего два, как в рассказе Чехова «Смерть чиновника», а может быть много, как в «Мертвых душах» Гоголя. Кроме того надо иметь в виду и тех персонажей, которые кем-то упоминаются или о которых говорится. Например, в «Евгении Онегине» вспоминают отца Татьяны Дмитрия Ларина, в первой главе упоминается как приятель Онегина Каверин, а в комедии «Горе от ума» в репликах героев всплывают имена многих, не присутствующих на сцене лиц. Уже при первом чтении действующие лица, или персонажи, очень часто ассоциируются в сознании читателя с определенными характерами, или типами. Эти понятия давно известны историкам и теоретикам литературы. Они встречались в работах исследователей разных эпох – Аристотеля, Дидро, Лессинга, Гегеля, Тэна, Белинского, Переверзева, Поспелова, Бочарова и других авторов, но толкование и употребление их не всегда однозначно, поэтому заслуживает специального объяснения.
Приступая к разговору о характере и характерном, напомним, что каждый человек неповторим и индивидуален. Но в его внешности, манере говорить, ходить, сидеть, смотреть, жестикулировать, как правило, проявляется нечто общее, постоянное, присущее ему и обнаруживающееся в разных ситуациях. О некоторых людях можно сказать: он не идет, а шествует, не говорит, а вещает, не сидит, а восседает. Подобного рода действия, жесты, позы, мимика и являются характерными, т. е. обнаруживающими в конкретном, неповторимом – общее и повторяющееся. Еще Гегель говорил, что «художественный закон характерного» требует, «чтобы все частное и особенное в способе выражения служило определенному выявлению его содержания и составляло необходимое звено в выражении этого содержания… Согласно требованию характерности в произведение искусства должно входить лишь то, что относится к проявлению и выражению именно данного, определенного содержания, ибо ничто не должно быть лишним» (Гегель, Т. 1, 24).
Такого рода качества могут быть обусловлены возрастными особенностями (старый человек ходит иначе, чем юноша), природными данными (есть люди от рождения темпераментные, активные, а есть флегматичные), а главное – действием обстоятельств, определенным положением человека в структуре социального организма и особым складом мышления. Особенно важны последние два момента. В течение нескольких десятилетий в советской науке господствовало убеждение, что человек есть существо социальное («продукт определенных общественных отношений»), а биологические факторы практически не участвуют в формировании личности, характера человека. Такую позицию разделяли не только социологи, но и психологи, в том числе генетики, в числе которых был известный ученый, который говорил, что суждения «о якобы генетической обусловленности духовных и социальных черт личности человека» являются идеологической опасностью (Дубинин, 1989, 419).
Феномен личности получил возможность более объективного исследования после того, как в эту сферу включилась аналитическая психология, которая привлекла внимание к проблемам психики, в том числе к ее бессознательным аспектам. В лоне этой психологии, в первую очередь в работах швейцарского ученого К.Г. Юнга, родилось понятие архетипа, обозначающего разные грани и формы бессознательного, т. е. находящиеся априори в основе индивидуальной психики инстинктивные формы, которые обнаруживаются тогда, когда входят в сознание и проступают в нем как образы, картины, фантазии, как сигналы разного рода – сновидения, ошибочные действия, лишние движения, оговорки, обмолвки, остроты, догадки, озарения, и, конечно же, всякого рода тревожные состояния. По мнению одного из современных психологов, «тревога в значительной степени связана с неосознаваемыми потребностями и элементами ситуации» (Березин, 1994, 195). Среди них выделенные и описанные Юнгом архетипы: анима, анимус, тень, самость, мудрый старик, мудрая старуха, мать, дитя, к которым прибавились и другие, выявленные современными учеными (см.: Эсалнек, 1999, 2006).
Известные русские психологи, обратившиеся к данной проблеме в последние десятилетия, утверждают, что бессознательное не изолируется от социального: «Надсознательные явления представляют собой усвоенные субъектом образцы типичного для данной общности поведения и познания, влияние которых не осознается субъектом и не контролируется им. Эти образцы (например, этнические стереотипы) определяют особенности поведения субъекта как именно представителя данной социальной общности» (Асмолов, 1994, 52). Согласно рассуждениям еще одного ученого, «неосознанные явления обладают мотивационным действием, связаны с необходимостью выработки внутренних ценностей-ориентиров в определенном социальном пространстве» (Файвишевский, 1994, 131). Эти суждения свидетельствуют, что в формировании характера человека участвуют разные факторы, а сам характер как проявление и показатель внутренней сущности становится предметом внимания и исследования психологов, художников и искусствоведов.
Понятия тип и типичность, по-видимому, очень близки по значению к понятиям «характер» и «характерность», но подчеркивают большую степень обобщенности, концентрированности того или иного качества в человеке или персонаже. Например, флегматичных, пассивных, не инициативных людей вокруг нас предостаточно, но в поведении таких, как Илья Ильич Обломов, эти качества проступают с такой обнаженностью, что о присущем ему складе жизни сам автор романа «Обломов» И.А. Гончаров говорит как об обломовщине, придавая этому слову и соответствующему явлению обобщающий смысл. В том же духе можно говорить о Чичикове и чичиковщине, Хлестакове и хлестаковщине.
От слова «тип» образовано понятие типизация, которое означает процесс создания отдельного героя или целой картины, которые, будучи неповторимыми, являются в то же время обобщенными. Признавая типизацию внутренней потребностью и законом искусства, и писатели, и ученые утверждают, что типическое само по себе редко присутствует в жизни в том виде, в каком оно нужно искусству. «В жизни редко встречаешь чистые, беспримесные типы», – замечал И.С. Тургенев. «Писатели большей частью стараются брать типы общества и представлять их образно и художественно – типы, чрезвычайно редко встречающиеся в действительности целиком… в действительности типичность лиц как бы разбавлена водой», – считал Ф.М. Достоевский. Поэтому писатели – люди весьма наблюдательные и способные к анализу окружающих лиц и обобщению того, что они увидели в разных индивидах. Но еще важнее, что они люди творческие, т. е. умеющие творить новый мир, воссоздавать ситуации, в которых действуют вымышленные герои, созданные фантазией художника, демонстрирующие своим поведением и складом мысли общие и существенные тенденции в жизни той или иной среды или отдельных субъектов. К ним относится и понятие образа.
Данное понятие тоже имеет свою историю, правда, не столь длительную, как тип и характер. Понятие характера присутствует и обосновывается уже в «Поэтике» Аристотеля, там же неоднократно используется слово «изображение», но еще нет обоснования понятия образа. Серьезное научное объяснение понятие образ получает у Гегеля в связи с постановкой вопроса о сущности искусства и его отличии от природы и от научной деятельности. Отметив, что «всеобщая потребность в искусстве проистекает из разумного стремления духовно осознать внутренний и внешний мир, представив его как предмет, в котором он узнает свое собственное «Я» и стремясь показать различие научного и художественного познания жизни, Гегель пишет: «Интеллект направлен на отыскание всеобщего, закона, мысли и понятия предмета. Покидая предмет в его непосредственной единичности, интеллект преобразует, превращает его из чувственно-конкретного объекта в нечто существенно иное, абстрактное, мыслимое. Этого не делает искусство, и тем оно отличается от науки. Художественное произведение остается внешним объектом, непосредственно определенным и чувственно единичным со стороны своего цвета, формы, звука… В отличие от непосредственного существования предметов природы чувственное в художественном произведении возводится созерцанием в чистую видимость… Эта видимость чувственности выступает как образ… Чувственные образы и звуки выступают в искусстве не только ради своего непосредственного выявления, а с тем, чтобы в этой форме удовлетворить высшие духовные интересы. Таким образом чувственное в искусстве одухотворяется, т. к. духовное получает в нем чувственную форму» (Гегель, т. 1, 38, 44–45). В данном суждении по существу впервые высказана мысль о том, что наука имеет дело с законами и понятиями, а искусство – с чувственно воспринимаемыми явлениями, т. е. образами. Эта мысль будет выражена и у большинства последующих исследователей (Гачев Г.Д., Гей Н.К.).
В данном контексте понятие образа возникает в связи с размышлениями о структуре эпического и драматического произведения и ассоциируется прежде всего с персонажем, а в качестве образов-персонажей выступают как бы реальные лица, хотя и вымышленные художником. Если в роли персонажей оказываются животные, птицы, растения, то они олицетворяют собой людей или отдельные их свойства. Поэтому в баснях и сказках при изображении повадок животных (хитрость лисиц, любопытство и глупость мартышек, жадность волков, трусость зайцев и т. п.) передаются привычки и особенности поведения, характерные для мира человеческих отношений и тем самым создается образно-иносказательная картина людских слабостей, вызывающих ироническое отношение.
Когда говорят о собирательных образах: образ России, образ народа, образ города, образ войны, то надо иметь в виду, что представление о городе или стране (в «Войне и мире», «Ревизоре», «Грозе») складывается из впечатлений, которые рождаются при восприятии отдельных персонажей, составляющих население города или страны, а также атмосферы, которая создается теми же персонажами, а затем эти впечатления суммируются и обобщаются читателями. При этом образ часто отождествляется с характером и заменяет его, например, в тех случаях, когда говорят: образ Базарова, имея в виду характер Базарова, или образ Безухова, подразумевая характер его. Такая замена возможна и допустима, потому что говоря об образах Базарова или Безухова, имеют в виду конкретность изображенного героя и в то же время обобщенность, присущие поведению и облику и того, и другого героя. Однако подобная замена понятий в ходе литературоведческого анализа не всегда оправдана, поскольку помимо обобщенности, присущей любому герою истинно художественного произведения, образ является созданием художника, изображен им с помощью художественных средств. Для живописца такими средствами являются карандаш, акварель, гуашь, масло, холст, бумага, картон, для скульптора – гипс, камень, мрамор, дерево, для писателя – слово, с помощью которого воссоздаются поступки героев, их внешний облик, окружающая среда и сами высказывания. Об этом пойдет речь в следующих параграфах.
Понятие образа подчас употребляется для обозначения отдельной детали, присутствующей в тексте, – портретной, пейзажной, словесной. Такие детали («верхняя губка» княгини Болконской; картины природы в разные времена года у Пушкина или кавказский пейзаж у Лермонтова) заслуживают названия образных, потому что они составляют неотъемлемый компонент в структуре произведения и, значит, «работают» на создание образной системы в целом, будучи при этом сами по себе необыкновенно выразительными. Понятие образности употребляют и для обозначения собственно словесных особенностей, таких как троп, эпитет, метафора и т. п.
Кратко резюмируя размышления о соотношении понятий персонаж, характер, образ, можно сказать, что они обозначают три стороны одного и того же явления и потому составляют некую целостность. При этом персонаж со всеми своими особенностями непосредственно воспринимается при чтении произведения и, как правило, возникает в воображении с той или иной долей конкретности. Характер-образ складывается в сознании читателей в результате осмысления ими поведения, внешности персонажа, а также обстановки, которая его окружает или которую он сам создает. Говоря о персонажах-характерах, мы как бы находимся в сфере плана содержания, который, однако, требует дальнейшего уточнения и разъяснения.
Проблемно-тематические аспекты художественного текста. Типы модальности
Естественно, что персонажи предстают в той или иной жизненной ситуации, в создании которой любой художник, в том числе фантаст, живущий и творящий в любую эпоху, близкую или далекую от нас, так или иначе ориентируется на объективные жизненные обстоятельства общественно-исторического, культурного, психологического характера, но воссоздает их так, как он себе представляет, исходя из своего мировоззрения.
Говоря о мировоззрении, следует подчеркнуть, что наиболее продуктивна трактовка данной категории как эмоционально-заинтересованного познания и восприятия жизни, для обозначения которых выше было предложено понятие миросозерцание. В последнее время в разговоре о позиции художника часто функционируют понятия «ценностный подход», «ценностная ориентация», что, по-видимому, включает миросозерцательные и этические (нравственные) аспекты сознания писателя.
Мировоззренческий, или ценностный подход, большей частью осознаваемый, а иногда не осознаваемый самим художником, отражается на трактовке и изображении жизненной ситуации и отдельных характеров. Это проявляется в присутствии в содержании произведения как бы двух планов, которые издавна обозначаются понятиями тема, проблема, или тематика и проблематика. Темой, по давней, древнегреческой традиции, называют то, что «положено в основу», т. е. сам жизненный материал; проблемой – то, что «выдвинуто вперед», говоря метафорически, то, что выделено или подчеркнуто автором. Конечно, в реальном тексте произведения они сплавлены и неразделимы, как вообще неразделимы форма и содержание, но в процессе анализа или интерпретации эти понятия, как правило, выделяются и разграничиваются логически. Решение аналитических задач способствовало появлению (задолго до нашего времени) понятий «понимание», «толкование» и т. п. Целесообразнее начать с осмысления проблематики. При этом, как и в размышлениях о персонажах и характерах, целесообразнее ориентироваться на эпические и драматические произведения.
Проблематикой очень часто называют совокупность вопросов, якобы поставленных в произведении. На деле писатель не формулирует вопросы, не декларирует мысли, но воспроизводит жизнь, исходя из своего видения и понимания, лишь намекая на то, что его волнует, путем привлечения внимания к тем или иным особенностям в характерах героев или целой среды. Если подумать, то и в нашей обыденной жизни проблемой мы называем то, что волнует, занимает наше внимание по той или иной причине. Скорее всего, подобным образом мыслят и художники. Правда, слова «мыслят», «размышляют» чаще всего следует брать в кавычки, ибо писатель про себя, безусловно, размышляет, но в произведении показывает поведение тех или иных героев и предлагает читателям принять его с одобрением или нет. Например, изображая быт семьи Ростовых, Л.Н. Толстой обращает внимание на простоту, естественность, доброжелательность отношений членов этой семьи друг к другу, к гостям и даже к совсем чужим людям. Иное дело в Петербурге, в доме Анны Шерер или Элен Безуховой, где все подчинено ритуалу, где принимают людей только высшего света, где слова и улыбки строго дозируются, а мнения меняются в зависимости от политической конъюнктуры и суждений при царском дворе.
Значит, проблема – это не вопрос, а та или иная особенность жизни отдельного человека, целой среды или даже народа, наводящая на какие-то обобщающие мысли. При этом проблема и тема очень близки между собой, но в понятии «проблема» в большей степени запечатлены авторские акценты и авторское истолкование воссоздаваемых особенностей жизни, будь то быт дворянской семьи или атмосфера общества, а в понятии тема – выбор определенных областей жизни, в частности времени и среды.
Наряду с понятиями «тематика» и «проблематика» при анализе произведения используется термин идея, под которым чаще имеется в виду ответ на вопрос, якобы поставленный автором. Однако, повторим еще раз, писатель не ставит собственно вопросов и не дает ответов, а «призывает» нас думать о важных, с его точки зрения, обстоятельствах жизни. Например, о впавших в нищету семьях, таких как семья Мармеладовых и даже Раскольниковых, или о сложных поисках выхода из той или иной ситуации такими персонажами, как Родион Раскольников или Иван Карамазов.
Своеобразным ответом на вопрос, внутренне возникающий у читателя, можно считать эмоциональное отношение автора к характерам изображаемых героев и к типу их поведения. Писатель приоткрывает свои симпатии или антипатии относительно того или иного героя, а по существу, того или иного типа личности, при этом далеко не всегда оценивая ее однозначно. Так, Ф.М. Достоевский, осуждая Раскольникова за его идею, вместе с тем и сочувствует ему, так как герой не только одержим идеей о «праве на кровь», но и жаждой помощи таким, как Дунечка и Сонечка. И.С. Тургенев подвергает сомнению многие мысли Базарова, заставляя его отвечать на коварные вопросы Павла Петровича Кирсанова, но одновременно и ценит его, подчеркивая его ум, сильный характер и волю, вкладывая в уста Николая Петровича слова: «Базаров умен и знающ». Итак, писатель говорит с читателем не рациональным языком, а представляет картину жизни и тем самым наталкивает на мысли, которые исследователи называют идеями или проблемами. Сколько проблем может быть в произведении? Столько, сколько важных и существенных сторон и граней жизни изображено в нем и обратило на себя наше внимание.
Совпадают ли наше восприятие и оценка с авторской – это извечный вопрос, который волновал исследователей с давних пор, в связи с чем и возникла герменевтика как специальная дисциплина о понимании и толковании текстов. На этот вопрос всегда трудно ответить однозначно. Но внимательное чтение текста, умение эмоционально вникнуть в него и более или менее объективно отнестись к изображенному, без нарочитого желания привнести в него свою трактовку, способно приблизить наше понимание к авторскому и достичь восприятия смысла изображенного. При этом полезно помнить, что полноты понимания ни при каких условиях достичь невозможно в силу того, что любое произведение, даже небольшое по объему, таит в себе столько смысловых и эмоциональных граней и нюансов, что уловить и тем более перевести их на рациональный язык практически невозможно. Но это не исключает возможности научного подхода к литературному произведению, т. е. интерпретации и погружения в смысл изображенного.
Для того чтобы «подобраться» к тому, что условно можно назвать проблематикой, следует иметь в виду, что писателей, как и любых мыслящих людей, волнуют такие моменты в жизни героев и разных групп, в которых обнаруживаются неблагополучие, дисгармония, т. е. противоречия разного плана и разной силы. Иногда противоречия бывают острыми, выливающимися в прямую борьбу и столкновения героев за какие-то права или интересы (тогда их называют конфликтами), а могут быть внешне не очень заметными, но порождающими ощущение неустроенности, дискомфорта – социального, бытового или духовного. Конфликтность последнего типа пронизывает и окрашивает жизнь большинства героев русской и зарубежной литературы XIX в. При этом противоречия бывают самого разного содержания. От сути содержания зависит эмоциональная окрашенность, или тональность изображаемого мира, для обозначения которой Гегель предложил понятие пафос, не утратившее значимости до сих пор (Руднева, 1977). В настоящее время в этом контексте чаще употребляются понятия модус и модальность (Тюпа, 2001, 153). При обозначении типов модальности, или эмоциональной направленности используют ряд давно принятых в науке понятий – драматизм, трагизм, героика, романтика, ирония, юмор, сатира и некоторые другие.
Если рассматривать их исторически, учитывая время возникновения произведений соответствующей эмоциональной направленности, то следует начать с героики. О веке героев писал Гегель применительно к ранним стадиям развития общества, об этом идет речь в работах А.Ф. Лосева, посвященных античной культуре, и многих исследователей, занимавшихся изучением героического эпоса. Героика возникает и ощущается в те моменты, когда люди предпринимают или совершают активные действия во имя блага других, во имя защиты интересов племени, рода, государства или просто группы людей, нуждающихся в помощи, что требует особых усилий и чревато опасностью. Подобные ситуации складывались в период становления народностей, государств и их борьбы, как говорил Гегель, за национальную целостность территории, а также в периоды национально-освободительных войн или движений. Такие ситуации отражены в героическом эпосе разных народов, в том числе в «Илиаде», в русских былинах, во французских «песнях о деяниях». Подобную ситуацию переживала Россия в 1812 году, о чем мы узнаем из исторических источников и из романа Толстого «Война и мир», а затем в 1941–1945 гг., что породило соответствующие характеры и ситуации в произведениях русских и зарубежных писателей 2-й половины ХХ в., таких как В. Быков, Б. Васильев, Г. Бакланов, Ю. Бондарев, В. Гроссман, К. Симонов, Л. Арагон, Ж.П. Сартр, Г. Белль, Г. Грасс и др.
Одновременно с героикой обозначилась тональность, которая получила название трагизма. Это понятие, естественно, ассоциируется с жанром трагедии, который родился в Древней Греции и дал материал для размышлений о трагическом. Первым на эту тему рассуждал Аристотель, подчеркнув, что действие, показанное в трагедии, неизбежно вызывает чувство очищения, или катарсиса, поскольку изображенные события не могут не порождать соответствующей реакции.
Стремясь осознать сущность трагического, Гегель анализировал конфликты, присутствующие в разных трагедиях, заметив, что «из всего прекрасного, что есть в древнем и современном мире, «Антигона» кажется самым замечательным произведением, приносящим наибольшее удовлетворение» (Гегель, Т. 3, 596). Причина такой оценки в том, что в данной трагедии Софокла наиболее ясно вырисовывается тот конфликт, который дает основание судить о трагическом. «Основное противоречие, которое прекрасным образом разрабатывал после Эсхила Софокл, есть противоречие между государством, нравственной жизнью в ее духовной всеобщности и семьей как природной нравственностью… Антигона живет в государстве, где правит Креон; она сама дочь царя и невеста Гемона (сына Креона), так что она должна бы подчиняться приказам властителя. Креон, сам отец и супруг, должен был бы уважать святость крови и не приказывать того, что противоречит такому почитанию. Таким образом, оба заключают в самих себе все то, против чего восстают». (Как известно из сюжета, следуя кровнородственным представлениям, Антигона хоронит своего брата, нарушая запрет Креона, в конечном итоге все погибают.) Но трагическое заключается не столько в кровавой развязке, сколько в столкновении деяний и мыслей, одинаково нравственно значимых для участников коллизии. «Изначальный трагизм состоит именно в том, что в такой коллизии обе стороны противоположности, взятые в отдельности, оправданны, однако достигнуть истинного положительного смысла своих целей они могут, лишь отрицая другую столь же правомерную силу, а потому они оказываются виновными в силу своей нравственности» (Там же, 576). Это вызывает страдания героев, обнаруживающиеся в смятении и нравственных переживаниях, и, наконец, их гибель. Разные вариации подобной коллизии составляют трагическое содержание и других произведений Софокла, а также Эсхила и Эврипида.
В драматургии Нового времени признаком трагизма тоже очень часто становится внутренний конфликт, т. е. столкновение противоположных, но одинаково значимых для героев мотивов в их сознании и мироощущении, например, любви и долга («Ромео и Джульетта», «Гроза», «Анна Каренина»), любви и смерти («Фауст» Тургенева), потребности в деятельности и неизбежности смерти («Накануне»), духовно-интеллектуальных возможностей и отсутствия почвы для их реализации («Герой нашего времени»), жажды власти и самоутверждения и сознания содеянного греха («Макбет», «Борис Годунов») и т. п. Говоря о новой трагедии, Гегель замечал, что здесь герои уже сталкиваются с внешними для себя силами и способны если не победить, то вступить в борьбу и состязаться с ними.
Придавая важное значение подобным коллизиям, Г.Н. Поспелов утверждал, что трагический «герой или герои… испытывают глубокое противоречие между личными мотивами своих действий и переживаний и мотивами сверхличными для них самих или между сверхличными мотивами разного уровня «всеобщности» (Поспелов, 1972, 89). В.И. Тюпа, как бы подтверждая эту мысль, говорит: «К трагической личности боль приходит изнутри, рождаясь вместе с нею. Страдание – конститутивная черта трагического героя, как бы удостоверяющая его личностность» (Тюпа, 1987, 129).
В русской науке 20—80-х годов ХХ в. внимание к проблеме трагического было ослаблено, что объясняется идеологическими моментами – господством идеи исторического оптимизма, убеждением в победе социалистических начал и принципиальном отсутствии трагических конфликтов и ситуаций в самой действительности. В зарубежной науке и философии, начиная с конца XIX в., интерес к проблеме трагического активизировался. Особую роль в этом процессе сыграли идеи Шопенгауэра, Кьеркегора, Ницше, Шпенглера, Камю, Хайдеггера и др. Предпосылкой этого стала нравственная атмосфера европейского общества на рубеже XIX – ХХ вв., особенно в период между двумя войнами, по поводу чего современный исследователь сказал: «ХХ столетие войдет в историю как одно из самых драматических и кризисных за все время существования человечества: две мировые войны, установление тоталитарных режимов, кризис идей прогресса, рациональности и гуманизма» (Сидорина, 2003, 8).
В последние десятилетия ХХ в. понятие трагического все чаще возникает в работах русских ученых и их размышлениях о русской жизни. При этом в качестве источника трагического начала, которое всегда ассоциировалось с трагическим героем, испытывавшим чувство вины и греха, сфера трагического предельно расширяется. Трагическим персонажем часто становится не герой, страдающий от внутренних противоречий, а персонаж, который показан как «жертва губительных сил и власти необходимости, которые обрели чудовищные размеры… Отсюда – трагедия мучеников, которые сметаются как мусор» (Волкова 1998, 32). Эта мысль подтверждается фактами и самой жизни, и литературы, в частности произведениями М. Шолохова, В. Шаламова, В. Гроссмана, А. Солженицына. В качестве примера напомним небольшой рассказ В.Т. Шаламова «Ночью» из цикла «Колымские рассказы». Три эпизода, занимающие по времени один вечер и часть ночи, демонстрируют, до какого безумного состояния может быть доведен человек, находящийся в лагере, когда у него нет сил отвести глаза от того, как жалкие крошки хлеба исчезают во рту другого человека, и как бывший врач, ныне зэк, фиксирует, что то сознание, которое у него еще оставалось, уже не было человеческим сознанием, так как имело слишком мало граней, потому что оно реагировало только на ощущение голода. Это вариант трагического состояния личности в период ХХ в. И таких случаев много.
Однако, по мнению того же ученого, тема трагической вины не чужда и современной литературе. На примере повести К. Воробьева «Убиты под Москвой» Е.В. Волкова убедительно показывает, как советский человек, офицер, капитан роты Рюмин испытывает глубочайшее чувство вины за происходящее на фронте, в связи с чем кончает жизнь самоубийством, осознавая свою личную вину, «помноженную на вину государства, на вину самого главного в стране человека… Он был ослеплен иллюзиями, надеждой и собственной гордыней, но он берет на себя вину и ответственность за трагедию первых месяцев войны, становясь добровольным носителем вины, имеющей глубинные корни в истории отечества» (Там же, 37).
В связи с расширением сферы трагического видоизменяется и понятие трагизма, которое превращается в своеобразный пантрагизм. «Трагедия – не событие, а часть существования… Трагедия – состояние мира… Трагическое – универсальная категория миропонимания», – пишет современный ученый (Плеханова 2001, 14–15). В данном контексте можно напомнить одно из высказываний М. Бахтина, который как-то заметил: «Трагедия, чистая трагедия, как ее создала античность (Софокл, Эсхил, Эврипид), в сущности она наивна… Они мало видели и знали страшного… Трагики, несмотря на свою исключительную силу и высоту, в сущности дети, и отчасти в этом была сила их. А наша трагедия, она не может быть такой чистой трагедией» (Беседы Дувакина с Бахтиным, 97).
Очень близок к трагизму драматизм. Понятие драматизма ассоциируется с жанром драмы, но данный жанр был узаконен только в ХVIII в. в работах Лессинга и Дидро, а по существу драматическая тональность проявлялась и ранее, как правило, обнаруживаясь в драматургических произведениях, продолжавших называться трагедиями. Ее отличие от трагической пытались осмыслить многие ученые, начиная с Гегеля, который связывал своеобразие современной ему трагедии с тем, что «подлинным предметом и содержанием ее» становится субъективная внутренняя жизнь характера. «В современной трагедии индивиды действуют не ради субстанциональности своих целей, и не субстанциональность оказывается пружиной их страсти, но в них требует удовлетворения субъективность сердца и души или особенность их характера… Коллизия вращается не вокруг того обстоятельства, что сын в своем нравственном акте мести (речь идет о Гамлете) сам вынужден нарушить нравственность, но вокруг субъективного характера Гамлета» (Гегель, Т.3, 603).
Повод для нового типа конфликта, по мнению Гегеля, дают внешние предпосылки, и герои подчас смело вступают в противоборство с обстоятельствами, отстаивая свои права на честь, на любовь. Принимая во внимание эту мысль, современный ученый и объяснял отличие драматизма от трагизма тем, что драматический персонаж испытывает «столкновение с такими силами жизни, с такими ее принципами и традициями, которые извне противостоят характерам персонажей и которые не имеют для них сверхличного значения. С такими силами и принципами жизни персонажи могут вступать в противоборство» (Поспелов, 1972, 90).
Некая грань между трагическим и драматическим объективно существует, но как свидетельствуют другие исследователи, эта грань не всегда уловима и не всегда требует акцентирования, ибо во всех случаях и трагизм, и драматизм покоятся на противоречиях как внутреннего, так и внешнего порядка и порождают «переживания какой-то дисгармонии», «беспокойства и тревоги», связаны с «глубокими опасениями и страданиями, сильнойвзвол-нованностью и напряженностью» (Хализев, 1978, 56). Источником их являются неблагополучие, неустроенность, неудовлетворенность личности в душевной сфере, в личных отношениях, в общественном положении. А реализацией оказывается изображение несостоявшейся любви, нравственно-интеллектуальной неудовлетворенности, социальной униженности, безысходности отдельных героев или целых групп общества. Примером могут служить многочисленные произведения самых разных авторов, в числе которых практически все романы XIX в., воссоздающие судьбы личности в сложных отношениях с обществом. Для обозначения тональности, совмещающей в себе разные, но соприкасающиеся противоречия, В.И. Тюпа использует понятие драматический трагизм. Трагическое и драматическое могут сочетаться с героическим, ибо героические усилия и поступки человека всегда чреваты опасностью. Героика, в свою очередь, может сочетаться и с романтикой.
Романтикой называют восторженное состояние личности, вызванное стремлением к чему-то высокому, прекрасному, нравственно значимому и одухотворяющему человека. В начале XIX в. мы находим романтические произведения в эпическом роде (повести Р. Шатобриана, А. Бестужева-Марлинского), но чаще в лироэпическом, т. е. в жанре поэмы («Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Цыганы» А.С. Пушкина; «Корсар», «Гяур», «Каин» Д.Г. Байрона; «Мцыри», «Демон» М.Ю. Лермонтова и др.). Их герои романтичны, потому что исключительны, одержимы любовью (хан Гирей и Зарема), стремлением к свободе (Пленник, Мцыри, Алеко), наделены сильными страстями и способны на экстремальные поступки.
В середине XIX в. романтические герои уже включены в обычную жизнь и потому выделяются среди прочих персонажей умением чувствовать красоту природы, искусства, человеческих отношений и переживать ее эмоционально (Татьяна Ларина, Наташа Ростова, Лиза Калитина), а также потребностью откликаться на чужую боль и чужую радость, способностью совершать благородные поступки во имя добрых чувств и альтруизма.
Романтика возникает в героических ситуациях, когда героические действия сопровождаются высоким порывом личности и желанием, например, принять участие в обороне отечества, в борьбе с иноземным врагом и тем самым превращаются в подвиг. В качестве примера можно напомнить поведение четырнадцатилетнего Пети Ростова из «Войны и мира», который рвался сражаться с французами и погиб как герой; или молодогвардейцев из романа А. Фадеева «Молодая гвардия», искренне готовых отдать свои жизни в борьбе с фашистами. Подчеркивание романтических, драматических, трагических и героических моментов в жизни героев и их настроениях большей частью становится формой выражения сочувствия к героям, способом эмоциональной поддержки их автором (Руднева, 1982).
Однако бывает, что изображение романтических, драматических и даже трагических настроений оказывается способом развенчания или осуждения героев. Стоит вспомнить легкую иронию Пушкина по отношению к Ленскому, едкую насмешку Лермонтова в адрес Грушницкого, сложное отношение автора к трагической коллизии, в которой оказался умный, талантливый, но неправедно получивший престол Борис Годунов.
Однако в дискредитирующей функции чаще выступают юмор и сатира, представляющие еще один вариант модальности или эмоциональной направленности. Сложность в осмыслении этих типов модальности заключается в том, что при исследованиях юмора и сатиры функционируют несколько взаимосвязанных между собою понятий – комическое, ирония, сарказм, юмор и сатира.
Исходным, ключевым из них является понятие комического. Комическое, в первую очередь, ассоциируется со смешным. Но надо иметь в виду, что смех – явление сложное и отнюдь неоднозначное. Во многих случаях смех может быть непосредственной, неосознанной реакцией человека на что-то приятное для него – неожиданную встречу с другом или просто интересным человеком, на хорошую погоду, даже на пищу, в особенности на трапезу в хорошей компании. Такой смех становится радостным, оживляющим, благотворным для человека. Герои художественных произведений тоже могут смеяться или улыбаться, радуясь жизни в отдельные ее моменты. Стоит вспомнить князя Андрея Болконского, разговаривающего с Пьером после бала у Шерер, или Наташи и Николая Ростовых в эпизодах, посвященных описанию охоты и пребыванию в гостях у дядюшки. В таких случаях смех не является признаком негативного отношения кого-то к кому-то. Чаще же смех выступает в функции осмеяния и тем самым разной степени осуждения. Тогда смешное становится синонимом комического как одной из форм негативной реакции людей на какие-то явления жизни и признаком определенного типа модальности.
Суть комического, когда оно проявляется в самой жизни, состоит в том, что реальные возможности людей не совпадают с их представлениями о себе и претензиями, что и вызывает насмешливое, т. е. ироническое отношение окружающих. Например, если на роль общественного деятеля, руководителя какого-то движения или просто серьезного учреждения претендует человек, который не обладает ни умом, ни знаниями, ни способностями, то отношение к нему может породить иронию разного качества. Едкая, злая ирония именуется сарказмом. Ироническая реакция одного человека на другого, что иногда случается в жизни, не всегда бывает оправданной, так как может быть вызвана субъективной неприязнью, собственным раздражением и подобными эмоциями иронизирующего.
Однако ирония как один из видов комического вполне уместна и оправдана в литературе. Особенно заметно ее присутствие в произведениях романтического и близкого к нему периодов. Здесь в центре часто оказывается герой исключительный, гордый, независимый, скептически настроенный, погруженный в себя и демонстрирующий отчужденно-ироническое отношение к обществу, к миру и к самому себе. Такими предстают герои Шатобриана и Констана («Рене», «Адольф»), в которых А.С. Пушкин увидел современного человека «С его безнравственной душой, // Себялюбивой и сухой, // Мечтаньям преданной безмерно, // С его озлобленным умом, // Кипящим в действии пустом». Отдельные черты такого типа личности можно заметить и в Печорине, который критически воспринимает не только общество с его ограниченностью и отсутствием серьезных интересов, но и самого себя, во многом холодного и, как кажется ему самому, не имеющего веры. Философской почвой такой иронии стала гиперболизация субъективного начала, или, как сказал Гегель, «концентрация Я внутри себя… признание чем-то пустым и тщетным всего действительного, нравственного и в себе содержательного, признание ничтожным всего объективного и в себе и для себя значимого» (Гегель, Т. 3, 72).
В упомянутых произведениях носителями иронии являются изображенные автором герои. В иных случаях ирония проявляется в отдельных высказываниях автора-повествователя, который с помощью деталей и соответствующих слов дает ироническую характеристику героя или общества. В последней главе «Евгения Онегина» читаем: «Здесь был, однако, цвет столицы // И знать, и моды образцы, // Везде встречаемые лица, необходимые глупцы». А вот два маленьких фрагмента из романа Тургенева «Рудин»: «Прислонясь к печке и заложив руки за спину, стоял господин небольшого роста, взъерошенный и седой, с смуглым лицом и беглыми черными глазками – некто Африкан Семеныч Пигасов»; «Дарья Михайловна изъяснялась по-русски. Она щеголяла знанием родного языка, хотя галлицизмы, французские словечки попадались у ней частенько. Она с намерением употребляла простые народные обороты, но не всегда удачно». Еще пример из романа В. Набокова «Дар»: «Сын почтенного дурака-профессора и чиновничьей дочки, он вырос в чудных буржуазных условиях, между храмообразным буфетом и спинами спящих книг».
Ирония как тип модальности преобладает во многих произведениях постмодернистского направления, сформировавшегося в последние десятилетия ХХ в. Источником и материалом для такой тональности явилось в первую очередь мироощущение советской эпохи, которое стало предметом иронической трактовки в разных ее формах, в том числе в форме пародирования, переписывания, использования чужих текстов в целях субъективной интерпретации и привнесения в них совсем иного смысла, а предпосылкой – повсеместное отрицание предшествующих форм мышления, типа поведения и т. п.
Юмор и сатира представляют наиболее распространенный вид комического, поскольку юмористические и сатирические произведения возникают в результате воспроизведения комических характеров и ситуаций. Комическими характерами и, соответственно, героями, как уже отмечено, являются те, в чьем облике, поведении обнаруживается противоречие между тем, что герой собой представляет и чем он хочет казаться или на что претендует. Русский чиновник с давних времен мнит себя важным лицом, глупый барин – хозяином положения, ограниченный военный – способным командиром.
Юмористическими или сатирическими могут быть мимико-пантомимические представления, рисунки, скульптурные изображения, выступления цирковых клоунов, вызывающее добрый смех зрителей, а также литературные произведения разного масштаба. Различие между юмором и сатирой заключается в том, что противоречия, подмечаемые юмористами, не таят в себе социальной опасности и потому вызывают более или менее добродушный смех. Выявление серьезных противоречий в поведении героев, имеющих социальный смысл и порождающих явно отрицательное отношение к ним, становится отличительным признаком сатиры. Классические образцы сатиры дает творчество Д. Свифта, М.Е. Салтыкова-Щедрина, М.А. Булгакова и ряда писателей ХХ в.
В качестве примера напомним литературную сказку Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескарь», которая являет собой произведение аллегорически-сатирического типа. В облике пескаря, по-видимому, изображен не обычный обыватель, боящийся всего на свете, а «просвещенный, умеренно-либеральный» представитель общества, который мог бы быть писателем, публицистом, общественным деятелем, следовательно, гражданином в том смысле слова, как оно трактовалось в 80-е годы. Ему не чужды мысли вообще, в частности мысли об общественных контактах и деяниях, но он чувствовал, что всякая деятельность вне своей «норы» тревожна и опасна для жизни. Поэтому страх стал его основным состоянием (слово «дрожал» употребляется на четырех страницах десять раз), а сидение в норе, т. е. в полном отрыве от общественной жизни – основной формой жизни.
Можно ли такого субъекта воспринимать без иронии? Ирония выражена и эпитетом «премудрый», и в изображении всего поведения героя. Но эта ирония не кажется доброй, беззлобной, ибо путем изображения вполне просвещенного, но трусливого интеллигента Салтыков-Щедрин показывает свое эмоционально отрицательное, саркастическое отношение к тому типу интеллигенции, которая боится активно участвовать в общественных делах. Это и дает основание считать произведение сатирическим. Данная сказка, очевидно, и была воспринята как сатирическая, ибо по цензурным соображениям впервые была напечатана в зарубежном эмигрантском издании «Общее дело» и только через год (1884) опубликована в России в журнале «Отечественные записки».
Конечно, разграничение юмора и сатиры не безусловно. Очень часто они дополняют друг друга, поддерживая ироническую окраску изображаемого. Например, когда говоря о Манилове, Н.В. Гоголь обращает внимание на нелепое положение его дома, чудные имена его детишек (Алкид и Фемистоклюс), приторно вежливую форму общения с женой и гостем, это вызывает беззлобную улыбку читателей. Но когда сообщается, что ни Манилов, ни его управляющий не знают, сколько в имении умерло крестьян, или тот же Манилов, поразившись затее Чичикова, все же соглашается вступить с ним в сделку и продать «мертвых», юмор перерастает в сатиру. Юмор очень часто сочетается с драматизмом, примером чего являются многие произведения А.П. Чехова, начиная с таких, как «Смерть чиновника», и включая повести типа «Ионыч» и «Человек в футляре».
Осознав, какое значение имеют и как соотносятся между собой разные типы модальности – героика, романтика, трагическое, драматическое, комическое, ирония, сарказм, юмор, сатира (в последнее время к ним добавилось очень мало обобщающих понятий подобного типа), – можно заключить, что именно они во многом определяют проблемно-тематические аспекты художественного текста, т. е. его эмоционально-смысловое наполнение, условно обозначаемое как план содержания.
Предметная детализация, нарративная и словесная организация эпического текста
Систематизировав понятия (персонаж, герой, характер, тип, образ, тематика, проблематика, модальность), условно относимые к плану содержания, обратимся к понятиям, причастным к плану выражения, рассмотрев их сначала на примере эпического произведения.
Согласно предложенной таблице-модели эпического произведения, к плану выражения относятся: понятие предметной изобразительности (детали изображенного в эпическом произведении предметного мира – сюжетные, включая высказывания персонажей в виде диалогов и монологов; портретные, пейзажные, бытовые); понятия, обозначающие разные грани повествовательной структуры произведения, а также те, что используются при анализе словесной организации произведения. Более или менее глубокое представление о характерности изображенного мира складывается из восприятия всех перечисленных особенностей, но рассмотрение эпического произведения предпочтительнее всего начать с анализа сюжета и уяснения понятий, выработанных в ходе решения данного вопроса.
Сюжет и его типы в эпическом произведении. Сюжет представляет собой цепочку событий, которые неизбежно присутствуют в данном типе произведений. «События» по существу представляют собой действия и поступки героев. Понятие поступка включает, во-первых, внешне непосредственные действия (пришел, сел, встретил, направился и т. п.), в частности встречи, иногда приводящие к столкновению героев, а чаще приобретающие форму диалога двух или нескольких персонажей; во-вторых, внутренние намерения, раздумья, переживания, нередко составляющие содержание внутренних монологов. Из действий отдельных персонажей вырастают события крупного, в том числе, исторического плана. Так воссозданные Толстым войны 1805, 1807, 1812 годов представляют собой события, складывающиеся из тысяч поступков и действий солдат, офицеров, генералов и мирных жителей того региона, где идут военные действия, и эти действия входят в качестве составляющих в сюжет «Войны и мира».
Говоря о сюжете как о цепочке событий, надо учитывать условность данного обозначения, ибо в одних случаях имеет место так называемый однолинейный сюжет, который можно графически представить в виде последовательно связанных между собой звеньев одной цепи, в других – многолинейный, т. е. такой, который может быть изображен в виде сложной сети пересекающихся линий. Н.С. Выготский, разбирая новеллу И. Бунина «Легкое дыхание», сопроводил свой анализ своеобразным чертежом, на котором как бы появляется картина сюжета из множества пересекающихся линий, образующих сложную паутину (Выготский, 196). При этом сюжетные звенья могут быть разного плана и разного объема, с участием разного числа персонажей и разного времени протекания событий, в силу чего иногда различают эпизод и сцену, которая представляет более развернутый эпизод.
Поскольку сюжет образует «ход событий», «развитие действия», у него всегда есть начало и конец. Иногда начало можно называть завязкой, иногда – нет. Принцип развития действия внутри сюжета тоже бывает разным, что можно представить, обратившись к отдельным примерам. В качестве примеров целесообразно выбирать достаточно знакомые и небольшие по объему произведения, такие как повести, рассказы, новеллы, очерки, т. е. разновидности малых эпических форм.
Если вспомнить повесть А.С. Пушкина «Метель», то можно заметить, что организация сюжетного действия весьма традиционна, так как содержит в себе все привычные сюжетные компоненты – завязку, развитие действия, кульминацию и развязку. Основу сюжетного действия составляет конфликт, который становится источником движения действия и своего рода «двигателем» событий в произведении. Первоисточником конфликта стало стремление молодых людей соединить свои судьбы, нежелание родителей Маши отдать ее замуж за Владимира и отказ влюбленных подчиниться родительской воле. К этому добавилось «вмешательство» Бурмина, нечаянно ставшего мужем Марьи Гавриловны. Здесь эпизоды легко выстраиваются в одну цепочку, следуют друг за другом в хронологической последовательности и вместе с тем как бы вытекают один из другого. Таким образом, составляющие сюжет эпизоды связаны и временными, и причинно-следственными отношениями. Данный тип сюжета иногда называют концентрическим, или сюжетом с наличием сквозного действия.
В иных случаях принцип развития действия основан преимущественно на временной связи между эпизодами. Сюжетов такого типа немало в повестях и рассказах А.П. Чехова. Для доказательства высказанного тезиса обратимся к рассказу Чехова «О любви», который входит в так называемую маленькую трилогию. Здесь действие организовано иначе, чем в повести Пушкина. На первой странице сообщается, что учитель Буркин и доктор Чимша-Гималайский после охоты попали в дом помещика Алехина и между ними возник краткий разговор о странной любви прислуги Пелагеи и повара Никанора. Это был повод заговорить о любви вообще. Первые два абзаца – это слова безымянного повествователя, как бы передающие впечатления Буркина от рассказа хозяина дома. Затем весь рассказ, кроме последнего абзаца, ведется от лица Алехина, которому хочется поделиться своими мыслями и воспроизвести атмосферу своей жизни, а главное, историю своей любви.
Началом действия служит знакомство Алехина с Лугановичем, членом городского суда, которое трудно назвать завязкой. Кратко обрисована первая встреча в доме Лугановичей: как-то в начале весны. Следующая встреча Алехина с ними – поздней осенью, в театре, содержащая незначащий разговор и приглашение в гости. Затем редкие визиты Алехина в дом Лугановичей, куда он входил без доклада, играл с детьми, разговаривал с Анной Алексеевной, иногда ходил с нею в театр. Все это повторялось много раз, и никаких внешне заметных и тем более решительных событий в их жизни не было. Лишь однажды произошло из ряда вон выходящее событие, которое длилось около минуты: встреча в купе поезда, когда Алехин, провожая Анну Алексеевну в Крым, признался ей в любви, а она – ему. Вслед за этим они расстались навсегда и его жизнь потекла по-прежнему.
Преобладание такого типа действия говорит не о бессюжетности чеховских рассказов, а о том, что сюжет здесь построен по особому принципу. Он складывается не из внешне динамичных эпизодов, явно движущих действие вперед, а из таких, которые заполнены мыслями и размышлениями героя или ничем не приметными поступками. Напряжение, которое в повести Пушкина создавалось за счет явных противоречий между героями, возникает у Чехова за счет внутренней неудовлетворенности героя, которая объяснима тем, что после окончания университета он живет в имении, работает на земле, чтобы расплатиться с отцовскими долгами, отрешен от культурной жизни, а встретив симпатичную и очень близкую ему по духу женщину, не может переменить ни ее, ни свою жизнь и обрести хоть немного счастья. Ощущение безрадостности, пустоты жизни и является внутренним нервом, придающим драматизм повествованию и поддерживающим внимание читателя, демонстрируя тот тип сюжета, в котором нет ни завязки, в традиционном смысле, ни развязки.
Тип сюжета, в котором преобладает временной принцип развития действия и эпизоды присоединяются друг к другу, не будучи обусловлены ходом конфликта, присутствует в произведениях очеркового типа. В качестве примера напомним два очерка Тургенева («Бирюк», «Хорь и Калиныч») и «Темные аллеи» Бунина. В первом из них («Бирюк») есть несколько связанных между собой эпизодов, которые по существу составляют большую развернутую сцену, которая представляет образ жизни русского крестьянина в 40-е годы XIX в. и привлекает внимание к уникальной ситуации: два крестьянина – оба нищие, оба крепостные – вынуждены не просто ссориться, но ненавидеть друг друга и угрожать один другому, так как и тот, и другой абсолютно подневольны и зависимы каждый от своего барина. Сюжет здесь не преследует цели показать судьбу героя в ее развитии, а дать как бы краткую съемку развернутого эпизода, зафиксированного случайным наблюдателем-охотником. Подобный тип сюжета имеет место в «Хоре и Калиныче», где видимого движения действия тоже нет, а сюжетные эпизоды-встречи заполнены беседами охотника с Хорем и Калинычем и его наблюдениями над крестьянским бытом и соображениями по поводу увиденного. К аналогичному типу произведений можно отнести и такой, обычно называемый рассказом, текст И.А. Бунина, как «Темные аллеи». Здесь фактически воссоздана одна большая развернутая сцена, предваряемая кратким описанием почтовой станции, гостиничной комнаты и портрета проезжего военного. Содержание сюжета составляет развернутый диалог двух персонажей, из которого вырисовывается общий характер жизни того и другого, но не показано развитие взаимоотношений героев, что могло бы дать материал для увлекательного и драматичного сюжета.
Существует еще один тип сюжета, чрезвычайно распространенный в прозе ХХ в., который может быть обнаружен в произведениях и малой, и большой эпических форм. Характерными признаками такого типа являются взаимодействие причинно-временной и собственно временной связи между эпизодами, очень часто с преобладанием временной связи. Для доказательства и иллюстрации данного положения напомним рассказ И. Бунина «Холодная осень». Повествование в нем ведется от лица героини, которая на трех с половиной страницах излагает историю своей жизни более чем за тридцать лет. Первые две страницы демонстрируют привычный ход действия, который включает несколько эпизодов: находясь в имении, 16-го июня 1914 г. отец героини, прочитав газеты, сообщает семье о начале Первой мировой войны; в июле происходит помолвка героини с женихом; в сентябре – прощальный вечер перед отъездом жениха на фронт, а еще через месяц сообщение о его смерти.
Далее фактически на одной странице изложены события тридцати лет, среди которых отмечены: жизнь героини в Москве, в подвале, в районе Смоленского рынка, добывание средств торговлей старыми вещами; двухлетнее замужество, отъезд в Константинополь, смерть мужа, пропажа племянника с женой, взятие на попечение их маленькой дочки, скитания по Европе и одинокое «чем бог пошлет» пребывание в Ницце по существу в ожидании смерти и «встречи» с женихом, который в последний вечер сказал: «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне…». Чем примечательно изображенное? Оно предельно обнажает зависимость личной судьбы человека от исторических обстоятельств, которые действительно определяли жизненные пути массы людей того времени, перемалывая их судьбы самым трагическим образом. Отсюда фатально драматическая окраска повествования. Что касается характера сюжета, то здесь, особенно во второй части, явно преобладает временной (хроникальный) принцип в изложении событий и фактов.
Тяготение к хроникальности, т. е. к подчеркиванию преимущественно временной связи между эпизодами, обусловленной подчиненностью личной жизни ходу истории – это характерная особенность сюжетной организации многих произведений ХХ в. Этот принцип в организации действия активно сочетается с мотивным, который дает о себе знать в данном рассказе троекратным повторением мысли о смерти. Введенное в оборот А.Н. Веселовским понятие мотива, обозначавшее «простейшую повествовательную единицу», повторяющуюся в произведениях разных эпох и народов (кто-то похищает невесту, мачеха не любит падчерицу, старуха изводит красавицу и т. п.), в конце ХХ в. предельно расширилось и стало обозначать «любое смысловое «пятно» – событие, черту характера, элемент ландшафта, любой предмет, произнесенное слово, краску, звук и т. д.» (Гаспаров, 30), словом, все, что становится устойчивым компонентом произведения и может быть использовано в качестве связующего момента. По мнению специалистов, «в прозе ХХ в. мотивная структура повествования обрела особый размах, стала важнейшим конструктивным принципом организации текста». При этом возможны «случаи, когда сюжетные связи совсем замирают или отходят на второй план… мотивная и сюжетная структуры «накладываются» друг на друга» (Скороспелова, 76). Полное вытеснение сюжета из произведений эпического рода вряд ли возможно, но дополнение его мотивным принципом несомненно.
Наряду с понятием сюжета при анализе действия в эпическом произведении нередко используется понятие фабула, которое было введено еще Аристотелем в значении молвы, сказки, басни, а также для обозначения событийной основы драматических произведений, заимствованной из древних преданий и мифов. Подобный смысл оно получило и в сознании ряда писателей XIX в. Ф.М. Достоевский замечал, что в романе «Бесы» он «воспользовался фабулой известного нечаевского дела», а А.Н. Островский в одной из своих статей писал: «под сюжетом часто разумеется уж совсем готовое содержание… со всеми подробностями, а фабула есть краткий рассказ о каком-нибудь происшествии, лишенный всяких красок». В начале ХХ в. сторонники формальной школы фабулой называли материал, а сюжетом – приемы его обработки, иными словами, фабула – ход событий, сюжет – повествование о них. Впоследствии понятия фабулы и сюжета менялись и взаимозаменялись, в том числе и в работах представителей формальной школы, при этом наиболее устойчивым оказался термин сюжет. Итак, сюжет составляет событийную сторону произведения, но типы сюжета бывают разными.
Повествование и его виды. Продолжая размышления об эпическом произведении, следует сказать, что сюжет составляет основную часть так называемого повествования, в силу чего эпическое произведение и называют повествовательным. Однако понятие повествования многопланово и неоднозначно. Первоначальный смысл слова повествование – рассказ о том, что когда-то с кем-то нечто произошло. Сюжет и воспроизводит произошедшее, т. е. события из жизни тех или иных персонажей. В этом смысле сюжет и повествование практически совпадают или очень близки. Но повествование означает еще и рассказывание, которое всегда исходит от кого-то или принадлежит кому-то. Этот субъект и оказывается рассказчиком, или повествователем.
Как известно, в роли рассказчиков выступают разные лица – безымянный повествователь, главный герой, второстепенный герой, несколько персонажей, субъект, не участвующий в действии и т. д. Рассказчик (он же повествователь) прежде всего сообщает о поступках действующих лиц, т. е. о событиях, которые можно преподнести по-разному, не всегда начиная прямо с завязки (если она есть), помещая события, представляющие завязку, в середине текста, переставляя события во времени и т. п. Примеров такого типа повествования очень много в мировой литературе, а одним из первых образцов сложной организации повествования в русской литературе стала повесть А.С. Пушкина «Выстрел».
Реальный ход событий в данной повести свидетельствует о том, что в некоем полку произошла ссора графа и Сильвио, причиной которой было соперничество, а результатом стала дуэль, оказавшаяся незавершенной, поскольку Сильвио, недовольный поведением соперника, оставил право выстрела за собой. Озабоченный жаждой мести, Сильвио вышел в отставку и в течение шести лет ждал наступления случая наилучшим образом осуществить свою месть. Дождавшись такого момента (женитьбы графа) он приехал в его имение, но, увидев смятение графа и его жены, выстрелил в картину, висевшую на стене, и удалился.
А начинается повествование с описания жизни Сильвио в глухом местечке спустя шесть лет после дуэли в ожидания известия о судьбе графа. Информация о завершении отношений графа и Сильвио стала возможной еще через пять лет, после того, как друг Сильвио, бывший офицер, живший с ним в указанном местечке и знавший о получении рокового письма, вышел в отставку, поселился в своем имении, оказавшемся неподалеку от поместья графа, и посетив его, узнал о второй дуэли, о чем и поведал в повести, выступив в роли основного свидетеля и рассказчика. Этот тип повествования позволил показать, что главный герой был, конечно, неординарной личностью не только в силу своего бретерства, но ума, знаний (его комната полна книгами), силы воли, умения сохранить верность своим принципам, но не осознавшим сразу бессмысленности этих принципов и шесть лет ждавшим момента осуществления мести. В конце концов он оказался в отряде этеристов, т. е. борцов за национальную независимость Греции. Данная повествовательная модель просматривается уже в романе Лермонтова «Герой нашего времени», затем в романе Достоевского «Бесы», а еще чаще в литературе ХХ в., особенно зарубежной, например в романах Г. Бёлля («Глазами клоуна», «Бильярд в половине десятого» и др.).
Таким образом, повествователю принадлежит определяющая роль в расположении сюжетных эпизодов. Однако повествователь не только извещает о событиях, случившихся в жизни героев, но очень часто говорит об их внешности (портрет), обстановке (интерьер), природе (пейзаж). В этих случаях в рассказ вклинивается описание, и повествование приобретает более широкий смысл.
Кроме того, повествователь иногда делится своими личными соображениями, которые называют авторскими отступлениями. Они тоже входят в повествовательную структуру, но не входят в сюжет. Многообразные предметные детали, характеризующие внешность героев, интерьер или пейзаж, могут появляться, в ходе обмена репликами и впечатлениями самих персонажей. Например, интерьеры жилищ гоголевских героев в «Мертвых душах» нередко воспринимаются глазами Чичикова, портрет Ольги в «Евгении Онегине» – глазами Онегина, пейзаж в тургеневских повестях и романах передается словами самих персонажей. В таких случаях эти детали «включены» в речь персонажей, а их речь, будучи компонентом диалога или монолога, становится элементом сюжета. Значит, сферы описания и собственно повествования взаимодействуют и пересекаются, тем самым понятие повествования расширяется, поскольку включает и событийную и описательную сферы изображаемого.
Итак, повествователю принадлежит определяющая роль в расстановке разных компонентов художественного целого – сюжетных эпизодов, включающих диалогические и монологические высказывания персонажей, портретных, бытовых, пейзажных зарисовок, размышлений рассказчика. Он становится инициатором композиции эпического произведения, которая по существу задумывается автором, а в самом тексте определяется и мотивируется повествователем. В число композиционных особенностей, помимо «игры с сюжетом», введения разных деталей, включаются эпиграфы, хотя они не всегда присутствуют, вставные эпизоды, перерастающие в небольшие новеллы, рассказы притч, обрамляющие моменты – словом, все то, что в последнее время называют рамочными элементами текста (Введение в литературоведение, 2006, 103).
Сфера повествования столь богата различными нюансами и особенностями, что наблюдения над нею породили специальную область исследования, которая получила название нарратологии, или теории повествования. Истоки нарратологии связывают с появлением работы английского писателя Генри Джеймса «Теория романа» (1884). К числу наиболее известных зарубежных нарратологов относятся английский литературовед П. Лаббок, американский – Н. Фридман, немецкие ученые Ф. Штанцель, В. Шмид. Предпосылка активизации данной теории – в потребности осознать коммуникативный характер литературы, акцентировать внимание на взаимодействии писателя и читателя, подчеркнув, что в процессе чтения возникают диалогические отношения между ними.
Благодаря нарратологическим исследованиям в литературоведческий обиход вошла новая терминология, активно используемая в современных работах. Важнейшие понятия в этой области – коммуникативная цепь, которая включает автора (отправителя), текст (коммуникат), читателя (адресата), который может быть эксплицитным и имплицитным, подразумеваемым. Помимо этого, функционируют понятия: нарратор (повествователь), наррататор (внутренний адресат, явный или подразумеваемый собеседник, к которому обращена речь нарратора). К повествовательным инстанциям относят разные виды повествования: от первого лица, от третьего лица (разные авторы выделяют разное число типов повествования – от трех до семи).
С развитием нарратологии связана и постановка вопроса о точке зрения (Успенский, 1970), а также о возможности выявления единой, универсальной повествовательной модели, чему посвящены работы французских исследователей середины ХХ в. —
A. Греймаса, К. Бремона, уделявших много внимания проблемам сюжетосложения (см.: Косиков, 1984, 155–205). К числу нарратологов следует отнести М.М. Бахтина как родоначальника теории диалога и исследователя коммуникативных особенностей литературы. А одним из первых авторов такого подхода считают
B. Я. Проппа, автора работы «Морфология волшебной сказки», в которой впервые выявлена и описана структурная модель сказки (1928 г.).
Словесная организация повествовательного текста. Как было сказано выше, каждый художественный образ и образная структура произведения в целом создаются при помощи слов, в отличие от таковой в живописи, скульптуре и других видах искусства. При анализе словесной организации эпического произведения следует помнить, что она включает как бы два пласта, которые соотносятся между собой в разных пропорциях. Исходный и необходимый пласт речи в эпическом произведении представляет речь повествователя, который сообщает о происходящем в сюжете и часто предлагает описание их внешности, быта, природы. В этом случае возникает вопрос о соотношении слова повествователя и той или иной предметной детали (сюжетной, портретной, бытовой, пейзажной), а значит, и о том, что служит источником экспрессии – сама деталь или ее словесное обозначение. Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть хотя бы несколько примеров.
«Они дорогой самой краткой // Домой летят во весь опор. // Теперь послушаем украдкой // Героев наших разговор… //
«Почтенный замок был построен, // Как замки строиться должны: // Отменно прочен и спокоен // Во вкусе умной старины. // Везде высокие покои, // В гостиной штофные обои, // Царей портреты на стенах, // И печи в пестрых изразцах… Все было просто: пол дубовый, // Два шкафа, стол, диван пуховый, // Нигде ни пятнышка чернил».
«Покой был известного рода; ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленною комодом, где устраивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный».
«Николай Петрович посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе. Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, лежавшую в полверсте от сада: тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля… Солнечные лучи с своей стороны забирались в рощу и обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела и над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей».
Перед нами фиксация сюжетного момента (поездка Онегина и Ленского), двух интерьеров (описание кабинета дядюшки в романе Пушкина и гостиницы в «Мертвых душах») и краткая пейзажная зарисовка из романа Тургенева «Отцы и дети». Эти немногочисленные, но показательные примеры позволяют заключить: основную экспрессивную нагрузку в эпическом произведении несут сами предметные детали, позволяющие читателю представить или вообразить внешность героев, их поведение, интерьер, пейзаж. Однако экспрессивность самих деталей может усиливаться при употреблении эмоционально окрашенного слова, метафоры или сравнения. Такие слова выделены в приведенных текстах и их немного.
Другой неотъемлемый пласт словесной организации составляет речь персонажей, их диалоги, монологи и отдельные высказывания-реплики. Диалоги могут быть разными в зависимости от содержания, контекста, характера использованных словесных средств. В диалоге информационного типа речь бывает более нейтральной.
«Не помню, писал ли я тебе, – начал Николай Петрович, – твоя бывшая нянюшка, Егоровна, скончалась.
– Неужели? Бедная старуха! А Прокофьич жив?
– Жив и нисколько не изменился. Все так же брюзжит. Вообще больших перемен ты в Марьине не найдешь.
– Приказчик у тебя все тот же?
– Вот разве что приказчика сменил…
– Вот уж наши поля пошли, – проговорил он после долгого молчания.
– А это впереди, кажется, наш лес?
– Да, наш. Только я его продал. В нынешнем году его сводить будут.
– Зачем ты его продал?
– Деньги были нужны; притом же эта земля отходит к мужикам».
В диалоге-споре активнее раскрываются характеры собеседников и ярче проступают эмоциональные особенности речи персонажей.
«Что касается до меня, я немцев, грешный человек, не жалую. О русских немцах я уже не говорю: известно, что это за птицы. Но и немецкие немцы мне не по нутру. Еще прежние туда-сюда; тогда у них были – ну, там Шиллер, что ли Гетте… Брат вот им особенно благоприятствует… А теперь пошли все какие-то химики да материалисты…
– Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта.
– Вот как. Вы, стало быть, искусства не признаете?
– Искусство наживать деньги, или нет более геморроя!
– Так-с, так-с. Вот как вы изволите шутить. Это вы все, стало быть, отвергаете? Положим. Значит вы верите в одну науку?
– Я уже доложил вам, что ни во что не верю…»
Эмоциональный характер диалога может быть присущ героям и совсем другого умственного уровня.
«– Какой веселенький ситец!
– Да, очень веселенький. Прасковья Федоровна, однако же находит, что лучше, если бы клеточки были помельче, и чтобы не коричневые были крапинки, а голубые. Сестре ее прислали материйку: это такое очарованье, которого просто нельзя выразить словами; вообразите себе: полосочки узенькие, узенькие, какие только может себе представить воображение человеческое, фон голубой и через полоску все глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки… Словом, бесподобно!
– Милая, это пестро.
– Ах, нет, не пестро.
– Ах, пестро!..
– Да, поздравляю вас: оборок более не носят.
– Как не носят?
– На место их фестончики.
– Ах, это нехорошо, фестончики!..»
Нередко речь одного из участников диалога разрастается и напоминает монолог, цель которого, как правило, выразить его мысли или эмоции.
«Слушай, Разумихин, – начал он тихо и, по-видимому, совершенно спокойно, – неужель ты не видишь, что я не хочу твоих благодеяний? И что за охота благодетельствовать тем, которые… плюют на это? Тем, наконец, которым это серьезно тяжело выносить? Ну для чего ты отыскал меня в начале болезни? Я, может быть, очень рад был бы умереть? Ну, неужели я недостаточно выказал тебе сегодня, что ты меня мучаешь, что ты мне …надоел! Охота же в самом деле мучить людей! Уверяю же тебя, что все это мешает моему выздоровлению серьезно, потому что беспрерывно раздражает меня…. Отстань же ради бога, и ты! …Пусть я неблагодарен, пусть я низок, только отстаньте вы все, ради бога, отстаньте! Отстаньте! Отстаньте!».
В других случаях в речи героев возникает собственно монолог, произносимый про себя или вслух.
«Что, это исход! – думал он, тихо и вяло идя по набережной канавы. – Все-таки кончу, потому что хочу… Исход ли, однако? А все равно! Аршин пространства будет, – хе! Какой, однако же, конец! Неужели конец? Скажу я им или не скажу? Э… черт! Да и устал я: где-нибудь лечь или сесть бы поскорей! Всего стыднее, что очень уж глупо. Да наплевать и на это. Фу, какие глупости в голову приходят…»
Монологическая речь, как правило, эмоциональна. Даже князь Андрей Болконский, при всей своей сдержанности, может быть эмоционален.
«После Аустерлица! Нет, покорно благодарю, я дал себе слово, что служить в действующей русской армии я не буду. И не буду. Ежели бы Бонапарте стоял тут, у Смоленска, угрожая Лысым горам, и тогда я не стал бы служить в русской армии».
Речь персонажей бывает не только прямой, как в диалогах и монологах, но и косвенной. При этом косвенную речь того или иного героя может передавать повествователь или персонаж.
«Пьер думал о том, что князь Андрей несчастлив, что он заблуждается, что он не знает истинного света и что Пьер должен прийти на помощь ему, просветить и поднять его».
Кроме косвенной, существует несобственно-прямая речь, когда умственно-психологическое состояние героя передается словами повествователя. При этом разные типы речи могут совмещаться и переходить одна в другую.
«Болконский знал, что завтрашнее сражение должно быть самое страшное изо всех тех, в которых он участвовал, и возможность смерти в первый раз в его жизни … почти с достоверностью, просто и ужасно представилась ему (косвенная речь). И с высоты этого представления… вся жизнь его представилась волшебным фонарем, в который он долго смотрел сквозь стекло и при искусственном освещении. Теперь он увидел вдруг, без стекла, при ярком дневном свете, эти дурно намалеванные картины (несобственно-прямая речь). «Да, да, вот они волновавшие и восхищавшие меня ложные образы, – говорил он себе, перебирая в своем воображении главные картины своего волшебного фонаря жизни, глядя теперь на них при этом холодном белом свете дня – ясной мысли о смерти. Вот они, эти грубо намалеванные фигуры, которые представлялись чем-то прекрасным и таинственным. Слава, общественное благо, любовь к женщине, самое отечество… И все это так просто, бледно и грубо при холодном белом свете того утра, которое, я чувствую, поднимается для меня» (прямая речь).
Высказывания персонажей, их диалоги и монологи тоже вводятся повествователем, нередко сопровождаемые его комментариями и эмоциональной окраской. Иногда эта окраска проступает в самой речи героев в виде отдельных слов или интонации, а чаще в ходе введения и параллельных размышлений-комментариев, особенно при использовании косвенной и несобственно-прямой речи.
«Он (Раскольников) не знал, да и не думал о том, куда идти; он знал одно: «что все это надо кончить сегодня же, за один раз, сейчас же; что домой он иначе не воротится, потому что не хочет так жить». Как кончить? Чем кончить? Об этом он не имел и понятия, да и думать не хотел… Он только чувствовал и знал, что надо, чтобы все переменилось, так или этак, «хоть как бы то ни было», повторял он с отчаянною, неподвижною самоуверенностью и решимостью».
Здесь наглядно переплетаются слова и мысли героя и передающего их повествователя.
Сюжетно-композиционная и словесная организация драматического текста
Говоря о сущности драматического произведения, не будем пытаться представить его в виде логической модели, ибо она будет выглядеть как усеченная модель эпического произведения, поскольку эти два типа произведений во многом сходны, хотя имеют отличия друг от друга. Драматическое произведение, когда мы его читаем, представляет собой словесный текст, который составляет литературную основу сценария, предназначенного для создания спектакля, в осуществлении которого примут участие режиссер, актеры, гримеры, декораторы, звукооформители и т. п. Это значит, что литературный текст, состоящий из диалогов, монологов и реплик героев будет восполнен жестами и движениями актеров (мимика и пантомима), их костюмами, декорациями и т. д. Следовательно, анализ сценического представления – это область не только литературоведа, но и театроведа. Однако указанные особенности не препятствуют чтению, пониманию и анализу драматического произведения как литературного явления.
В отличие от эпического в драматическом произведении нет повествователя, который ведет рассказ о героях и событиях, случающихся с ними, временами предоставляя слово и самим героям. Иными словами, в драме нет явного посредника между автором и читателем. Здесь персонажи действуют как бы самостоятельно, вступая в словесное общение друг с другом. Поэтому драматический текст представляет собой сплошную цепь диалогов, монологов и реплик действующих лиц. Из высказываний героев, вступающих в общение или находящихся в какой-то момент в одиночестве, и складывается действие. Именно из реплик героев зритель-читатель узнает о приезде Раневской, а из слов Лопахина – об окончательной судьбе сада. В этих случаях персонаж как бы заменяет повествователя. Это одна из функций героев пьесы. Что касается интерьера, пейзажа, портрета, то и такие детали могут возникать в высказываниях персонажей. Так, Чацкий неоднократно говорит, как выглядит Софья, обращая внимание на ее красоту; Кулигин много раз повторяет, какие мрачные дома и заборы в городе Калинове и как хороши виды на Волгу. В доме Турбиных нередко звучит мысль о красоте Елены и уюте, создаваемом кремовыми шторами, роялем, музыкой, даже в грустные моменты жизни. Словом, предметно-описательные детали очень часто обнаруживаются в ходе общения персонажей и обмена впечатлениями.
Драматург, выполняя роль повествователя, иногда сообщает перед началом акта или сцены о месте действия: на берегу Волги («Гроза»), в гостиной или у парадной лестницы («Горе от ума»), в гостинице или в доме городничего («Ревизор»). Автор может набросать портрет персонажа, но Городничие и Фамусовы в разных спектаклях бывали и толстыми, и худыми, и высокими, и низкорослыми – это зависит от внешности актера, исполняющего роль. Такие заметки автора называются ремарками и составляют один из компонентов рамочного текста, наряду с заглавием, подзаголовком, прологом и т. п. (Введение в литературоведение, 2006, 103). Но и они не всегда присутствуют в тексте, а главное, очень часто игнорируются режиссерами-постановщиками.
Основной чертой, сближающей структуру драматического и эпического произведений является наличие сюжета. При этом типы сюжета или принципы организации действия в драматических и эпических произведениях имеют немало общего, однако драматический сюжет обладает некоторыми особенностями.
1. Сюжетное действие в драматическом произведении ограничено рамками трех – пяти актов или действий, и, следовательно, не может быть чрезмерно растянутым. На заре становления драмы, особенно в ХVIII в. это обстоятельство породило теорию трех единств – места, времени, действия. С развитием драматургии это правило отпало, т. е. перестало соблюдаться. Воссоздаваемые события могут отстоять друг от друга во времени и пространстве (уже в «Ревизоре», а затем в «Грозе» и «Бесприданнице» встречи персонажей происходят в разных местах города, хотя не очень разнесены во времени; в «Чайке» между встречами героев в третьем и четвертом действиях проходит два года), но само сценическое действие всегда должно укладываться во время, отведенное спектаклю.
2. Драматическое действие, будучи компактным и рассчитанным на кратковременное восприятие зрителя, требует особого напряжения, а напряжение создается за счет конфликта.
3. Конфликты могут быть разными и не всегда очевидными. Поэтому принцип организации действия, степень его напряженности тоже не всегда одинаковы. С этим, в частности, связано наличие или отсутствие завязки и развязки в сюжете драматического произведения. Но главная функция конфликта – стимулировать развитие действия, поскольку в нем реализуются противоречия между героями, в жизни одного героя или какого-то круга людей.
В одних случаях толчком к развитию действия являются противоречия между героями, обнаруживающиеся в лично-семейной, служебной, общественной сферах жизни. Так, Шекспировский Гамлет, узнав о причине смерти отца, решает отомстить виновным, но у него возникают сомнения и размышления, благодаря чему внешний конфликт и вытекающие отсюда действия сочетаются с внутренним конфликтом в его сознании, а все это подогревается мыслями о неблагополучии в окружающем мире, «Датском государстве». Разные мотивы образуют цепочку событий, скрепленных причинно-временными отношениями и завершающихся вполне очевидной развязкой.
Подобный тип сюжета присутствует во многих произведениях XIX в., в том числе в драмах А.Н. Островского. Конфликт в драме «Гроза» основан на противоречиях в семье Кабановых: это нелюбовь Катерины к Тихону неприязнь хозяйки дома Марфы Игнатьевны ко всему новому, ее деспотичное поведение, а также незаконная любовь Катерины к Борису, заранее обреченная и потому порождающая внутренние метания героини. Все это разворачивается на фоне общей атмосферы в городе, которую Кулигин определяет как удушающую и не допускающую никакой свободы в поведении людей, что и приводит к трагической развязке. Такой тип сюжета характерен для произведений собственно драматического и трагического плана.
В жанрах комедийного типа в ходе развития действия тоже нередко преобладает причинно-временная последовательность, но она мотивируется противоречиями другого рода, например, противоречиями в состоянии общественной среды, которые обнаруживаются благодаря неожиданному стечению обстоятельств, образуя клубок событий с завязкой и развязкой. Пример тому – «Ревизор» Гоголя, в основе действия которого лежит ошибка, порожденная страхом чиновников при получении известия о возможном приезде ревизора. На почве общего самообмана происходит нагромождение нелепых поступков, завершающихся столь же нелепой концовкой. В такого рода пьесах доминирует причинно-временной принцип организации действия.
Со временем этот принцип начинает уступать место собственно временному или хроникальному принципу организации действия, в результате чего рождается новый тип драматургических произведений, которые связаны с именами Ибсена, Шоу, Чехова, а затем ряда драматургов ХХ в.
Весьма репрезентативный пример – пьеса Чехова «Вишневый сад». В нем нет концентрации внимания на двух-трех героях: Раневская и Лопахин весьма условно могут быть названы главными героями. Между ними не идет борьба за судьбу сада. Поэтому здесь нет явной завязки, как и развязки. Преобладает временная связь между эпизодами: они не вытекают один из другого, а как бы примыкают один к другому на основе хронологической последовательности. Причиной такого строения сюжета оказывается иной тип конфликта, чем в названных выше произведениях, и иное соотношение действующих лиц. В действии участвуют несколько фактически равнозначных персонажей, в судьбе которых, как правило, не происходит заметных изменений. В пьесе преобладают локальные противоречия. Например, Варя ждет предложения от Лопахина и не дожидается. Симеонов-Пищик мучается отсутствием денег и у всех просит в долг, подозревая, что никто не даст ему их. Бедная Шарлотта чувствует себя одинокой, ненужной, заброшенной в чужой мир. Неглупый Петя по существу не находит себе места, за что получает прозвание «недотепа». О забытом Фирсе и говорить нечего. Даже Гаев и Аня присутствуют лишь как родственники Любови Андреевны и не оказывают влияния на ход действия. Словом, все персонажи – одинокие люди, чуждые друг другу, лишенные надежд на будущее. Противоречия, питающие дисгармонию их внутренней жизни, не лежат на поверхности, но их наличие создает общую драматическую атмосферу, в которую порой врываются редкие комические, сентиментальные, иногда и романтические ноты.
Подспудность этих противоречий рождает так называемый подтекст, или «подводное течение», которое поддерживает эмоциональное напряжение, как бы «заменяющее» энергетику столкновений и открытых противоречий между персонажами. Особенности такого типа сюжета и конфликта проявляются также в речи героев, особенно диалогах. В них не всегда присутствует единая мысль или тема: каждый персонаж думает и говорит о своем. Из общей атмосферы рождается ощущение, что никто из действующих лиц не способен стать спасителем «Вишневого сада». Сад же – это не только усадьба, продающаяся за долги, но и символ русской культуры, создававшейся веками при участии разных слоев общества. Не случайно этот сад, по словам Гаева, упоминается в энциклопедическом словаре. Некоторые из таких усадеб сохранились до наших дней, и мы подчас любуемся ими и радуемся тому, что создано предками, но в свое время их некому было сберечь и сохранить как культурную ценность.
Сходный тип сюжетно-композиционной организации просматривается в пьесе М. Горького «На дне» с семнадцатью персонажами. Четверо из них (хозяева ночлежки, Наталья и Пепел) связаны сложными отношениями, которые приводят их к трагическому финалу; остальные (Клещ, Анна, Настя, Квашня, Бубнов, Барон, Сатин, Актер) просто пребывают на территории ночлежки. И каждый, сознательно или неосознанно, переживает собственную драму, не зависящую от других, она заключается в полной неустроенности судьбы и завершается для Анны и Актера смертью. Появление Луки заставляет многих на время задуматься о своей жизни, но его приход, а потом и уход мало что меняют в их жизни. Сам же Лука, наделенный горьким опытом, наблюдательностью, некоторым запасом мыслей и сентенций, – в общем-то добрый, но далекий всем человек, не связанный с миром ночлежки.
Таким образом, и в этой пьесе нет единого конфликта, а есть совокупность противоречий, окрашивающих жизнь каждого персонажа и создающих напряженную атмосферу неустроенности, почти трагизма. Поэтому и сюжет, кроме нескольких эпизодов, связанных с ситуацией в семье Костылевых, состоит из сцен, внешне статичных, заполненных привычными беседами и стычками обитателей ночлежки, в сознании которых, возможно, временами ощущается какое-то брожение, но сколько-нибудь серьезных изменений не происходит. Конечно и здесь есть начало и конец действия, но они не адекватны понятиям и завязки, и развязки.
В драматических сочинениях ХХ в. существует еще один, очень характерный тип сюжета. Это, например, «Дни Турбиных» М. Булгакова. Драма, заключающаяся в отношениях Елены и ее мужа, не исчерпывает всего конфликта, потому что связана также и с атмосферой в городе Киеве. Атмосфера политических потрясений и катаклизмов определяла как судьбу отдельных лиц, так и судьбу этого города и этой страны. Участь героев пьесы (смерть старшего Турбина, ранение младшего, отказ Шервинского от чина адъютанта и поручика, исчезновение Тальберга, переживания Мышлаевского и Студзинского по поводу своего будущего) определена тем, что все они живут в период борьбы за власть разных политических сил на Украине, которая связана с общей революционной ситуацией в России в 1917–1919 гг. Таким образом, конфликты, определяющие движение событий и конкретные перемены в жизни Турбиных и их близких, таятся не только в личных отношениях, а в исторических событиях, породивших их страдания, переживания и драмы. Этим обусловлен и характер сюжета, который складывается из многочисленных эпизодов, большая часть которых демонстрируют состояние общества, а вместе с тем и личных судеб. Эпизоды следуют друг за другом в порядке временной последовательности, скрепленные конфликтом человека и мира. Мира, взбаламученного сначала Первой мировой войной, а затем Революцией и Гражданской войной.
В драме, как и в эпосе, может использоваться мотивный принцип композиции или организации действия. Он заключается в наличии разного рода повторов, способствующих сохранению и усилению эмоционального настроения и тем самым созданию целостного впечатления от происходящего. Особенно заметен этот принцип в пьесах Чехова, где он обнаруживается, например, в повторяющихся репликах сестер («Три сестры»), очень значимых паузах, обозначенных автором, и других моментах.
При том, что каждое драматическое произведение конкретно и неповторимо, можно отметить некоторые общие особенности, присущие структуре драматического произведения вообще.
Лирическое произведение
Лирическое произведение принципиально отличается от эпического и драматического по своей структурной организации. Дело в том, что лирика воссоздает внутренний мир личности, т. е. мысли, чувства, эмоции, настроения, переживания, размышления, раздумья и другие формы субъективного мира человека. Иначе говоря, истинная природа лирики и ее своеобразие заключаются в передаче эмоционально-мыслительного состояния личности. Это качество можно назвать лирическим началом, или медитативностью. Но оно может проявляться и передаваться по-разному: непосредственно, в лирическом монологе или с включением в монолог, т. е. в лирическое высказывание предметно-изобразительных деталей, а порой с помощью самих деталей, призванных передать внутренне состояние конкретной личности. Такой личностью в первую очередь является сам поэт со своими мыслями и переживаниями, возникшими в связи с какими-то обстоятельствами его жизни. Не случайно исследователи творчества какого-то поэта стремятся выяснить, какие именно факты и обстоятельства его жизни (встречи, увлечения, путешествия) послужили поводом для создания того или иного произведения. Но даже переживание, родившееся на почве перипетий личной жизни, очень часто оказывается близким и понятным и другим людям. Это осознавали многие поэты, в том числе А.А. Ахматова, которая озаглавила одно из стихотворений «Многим», желая подчеркнуть свойственность своих мыслей и переживаний разным людям:
Я – голос ваш, жар вашего дыханья, Я – отраженье вашего лица. Напрасных крыл напрасны трепетанья, — Ведь все равно я с вами до конца.Обобщенность лирических высказываний нередко подчеркивается использованием местоимения «мы»: «И ненавидим мы, и любим мы случайно…» или: «Мы ждем с томленьем упованья минуты вольности святой…». Это значит, что и в поэтических переживаниях есть характерность. Только, в отличие от эпоса и драмы, в лирике характерность обнаруживается не в действиях и поступках персонажей, а в мыслях, настроениях, размышлениях, переживаниях субъекта, которого называют лирическим героем, или лирическим субъектом. (О терминологических разногласиях по этому поводу см. в разделе «Родовые качества литературных произведений».) Как правило, настроения лирического субъекта часто близки автору. Но в лирическом произведении может передаваться настроение любой личности, в том числе не похожей на поэта и не тождественной ему, например:
Муж хлестал меня узорчатым, Вдвое сложенным ремнем. Для тебя в окошке створчатом Я всю ночь сижу с огнем…Или:
Подошла. Я волненья не выдал, Равнодушно глядя в окно. Села, словно фарфоровый идол, В позе, выбранной ею давно. А. АхматоваСтруктуру лирического произведения тоже можно представить в виде логической модели, которая помогает воспроизвести разные грани лирического текста и их соотношение между собой.
Логическая модель лирического произведения
В центре схемы указаны, условно говоря, три типа лирики. Под первым типом подразумевается тот тип лирических произведений, в которых лирическое (медитативное) начало предельно обнажено. Это значит, что без упоминания и изображения фактов, обстоятельств и прочих предметных деталей непосредственно передается эмоционально окрашенное размышление или состояние лирического героя:
Я жить хочу! Хочу печали Любви и счастию назло; Они мой ум избаловали И слишком сгладили чело… М. ЛермонтовДругой вариант, условно названный вторым типом лирики, включает подавляющее большинство лирических произведений, в которых эмоциональные раздумья и переживания сочетаются с какими-то фактами, ставшими источником размышлений или эмоций. При этом разного рода факты и обстоятельства не излагаются подробно, а только называются, иногда подразумеваются, порождая мысли и эмоции лирического героя. В стихотворении «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтова упоминаются многие обстоятельства, сопровождавшие гибель Пушкина (сплетни, злоба, недоброжелательство определенной части светского общества, одиночество поэта, его ревность, хладнокровие убийцы, его презрение к России, реакция света на стихи Лермонтова), но все они не развернуты в целостную картину и связаны не сюжетно, а лирически, т. е. объединены ходом мысли лирического субъекта. Нередко в стихотворении только одна строфа или даже строчка («Когда волнуется желтеющая нива») обнаруживают лирическое начало. Бывает, что и такая строчка отсутствует – остается как бы изображение события, пейзажа, поступка и т. п. Тогда перед нами третий тип лирики, где изобразительные детали как бы заслоняют эмоциональные впечатления и высказывания.
Одной из вариаций третьего типа является пейзажная лирика. Когда пейзажная зарисовка пронизана иносказательностью и символикой, лирическое начало ощущается довольно четко:
Что ты клонишь над водами, Ива, макушку свою? И дрожащими листами, Словно жадными устами, Ловишь беглую струю?.. Хоть томится, хоть трепещет Каждый лист твой под струей… Но струя бежит и плещет, И, на солнце нежась, блещет, И смеется над тобой. Ф.И. ТютчевОписание и олицетворение дерева (ивы) помогает передать настроение живого существа, скорее всего, девушки, ждущей отзвука или ответа на свои чувства, но встречающей холод, равнодушие и даже иронию.
В тех случаях, когда пейзажные или бытовые картины не имеют символического смысла, они сохраняют статус лирического текста в силу того, что настраивают читателя на восприятие не самих этих деталей и картин, а настроения, которое может быть выражено только одной строчкой или словесно никак не выражено. Показательно стихотворение Фета («Это утро, радость эта, // Эта мощь и дня, и света»), которое содержит 18 строк, фиксирующих внешне видимые признаки весенней природы (птицы, воды, березы, мошки, пчелы), и завершается словами: «Это все – весна!», которые относятся к реальному состоянию природы, а еще больше – к настроению лирического героя.
Встречаются тексты, в которых нет указаний на эмоциональное состояние лирического героя, но за всем сказанным ощущается предельное умственное и духовное напряжение говорящего, т. е. поэта, передающего путем описания каких-то предметов и явлений свое мироощущение, что и свидетельствует о присутствии лирического начала, или медитативности:
Это – выжимки бессонниц, Это – свеч кривых нагар, Это – сотен белых звонниц Первый утренний удар… Это – теплый подоконник Под черниговской луной, Это – пчелы, это – донник, Это – пыль, и мрак, и зной. А. АхматоваО различных вариантах предметно-изобразительной лирики легко судить по стихотворениям Н.А. Некрасова, в которых очень часто содержатся мини-сюжетные зарисовки, не сопровождающиеся прямыми эмоциональными высказываниями лирического героя. Напомним стихотворение «Забытая деревня», в котором голос лирического героя и его эмоции заключены в самих фактах из жизни крестьян, сообщаемых данным героем, идентичным автору. При определении таких типов лирических произведений используют понятия «ролевая» или «персонажная лирика». Разграничение указанных типов лирики, вероятно, несколько условно, но оно заставляет всматриваться в текст и понимать, как проявляется в том или ином случае лирическое начало и насколько оно определяет смысл лирического произведения.
Насколько возможно аналитическое отношение к содержанию лирического произведения? Воссоздаваемое в лирике духовно-мыслительное состояние всегда чем-то порождено, спровоцировано или обусловлено. Источником раздумий-переживаний могут быть факты биографии самого поэта или его умственно-нравственное состояние, встречи, воспоминания о людях и своих отношениях с ними, обстоятельства социальной и политической жизни, природа и т. д. Все эти факты и мысли целесообразно называть лирическими темами, или мотивами. Они, как правило, только указываются или подразумеваются, сопровождаясь эмоциональными высказываниями лирического субъекта.
Смуглый отрок бродил по аллеям, У озерных грустил берегов. И столетие мы лелеем Еле слышный шелест шагов. Иглы сосен густо и колко Устилают низкие пни… Здесь лежала его треуголка И растрепанный том Парни.В восьми строчках находим несколько деталей, по которым можно судить о мотивах, вызвавших эмоционально теплое и нежное воспоминание Ахматовой о Пушкине, учившемся в Царском Селе, и боготворимом ею.
Что касается сущности тем и мотивов, то они отражают самые разные мысли и стороны жизни людей, природы, общества в целом. Например, исторические события («Бородино» Лермонтова), состояние страны («Родина» Лермонтова, «Россия» Блока, «Любви, надежды, тихой славы» Пушкина), судьбы поэзии («Пророк» Пушкина, «Пророк» Лермонтова, «Поэт и гражданин» Некрасова, «Муза» Ахматовой), ушедшую или настоящую любовь («Я вас любил», «Я помню чудное мгновенье» Пушкина, «Мне грустно потому, что я тебя люблю» Лермонтова, «О доблестях, о подвигах, о славе» Блока), дружбу («Мой первый друг, мой друг бесценный», «Во глубине сибирских руд» Пушкина, «Памяти А.И. Одоевского» Лермонтова), жизнь природы («Осень» Пушкина, «Осень» Есенина) и др.
Среди литературных мотивов, труднее осознаваемых и сложнее воспринимаемых, особое место занимают те, которые принято называть философскими. Такого рода мотивы присутствуют в лирике Жуковского («Невыразимое»), Тютчева («О чем ты воешь, ветр ночной?», «Два голоса» и др.) и, конечно же, Пушкина («Вновь я посетил», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Памятник», «Осень»), свидетельствуя о внимании поэтов к основополагающим проблемам бытия и их необычайной мудрости в восприятии человека как части мироздания и одновременно члена общества. Философские мотивы характерны не только для таких «умудренных» художников, как Пушкин и Тютчев, но и для таких эмоционально воспринимающих жизнь, как Есенин, у которого можно встретить шедевры философского звучания, например: «Мы теперь уходим понемногу // В ту страну, где тишь и благодать //». Мысль о неизбежности ухода человека из этой жизни сопровождается размышлениями о том, как великолепно бытие и пребывание на грешной, «угрюмой» земле, как глубока связь между миром природы и человеческой жизнью и, наконец, как спокойно и мудро следует воспринимать закономерность смены бытия небытием, хотя это означает расставание с самым дорогим, что может быть у людей – с природой, с друзьями, с «братьями нашими меньшими».
Следовательно, лирическое содержание представляет собой сплав мотивов с порожденным ими эмоциональным раздумьем или настроением, которое может быть сложным и неоднозначным. В стихотворении Лермонтова, посвященном гибели Пушкина, ощущаются восхищение, гордость за поэта и вместе с тем боль, горечь, негодование, сарказм, вызванные реакцией части светского общества. При этом следует заметить, что в лирике, как в эпосе и драме, воспроизводимые поэтом настроения могут осмысляться и оцениваться по-разному, в одних случаях приобретая явно романтическую окраску («Я помню чудное мгновенье»), в других – элегическую («Я вас любил»), в-третьих – драматическую или трагическую тональность («Нет, не тебя так пылко я люблю», «О как убийственно мы любим»), а иногда и ироническую («Клен ты мой опавший», «По вечерам над ресторанами»). «Поэтическое слово непрерывно оценивает все, к чему прикасается, – это слово с проявленной ценностью», – утверждает тончайший исследователь лирики Л.Я. Гинзбург (Гинзбург, 1974, 8).
В чем специфика собственно художественной структурылирического текста, относимой к плану выражения? Осмысление содержания лирического произведения подводит к вопросу о художественном образе в лирике. Поскольку в лирическом произведении присутствует индивидуализированное высказывание лирического героя, как правило, содержащее в себе обобщенность, то и здесь есть образ, который большей частью ассоциируется с образом лирического героя, или лирического субъекта. Такой образ, как сказано в разделе «Родовые качества литературных произведений», называют образом-переживанием.
Конечно, в лирике, как и в эпосе, понятие образа применимо не только к субъекту речи, но и к тем явлениям, которые стали источником и предметом рефлексии и медитации, в частности к пейзажным картинам, будь то сельский или городской пейзаж, или к бытовым зарисовкам. Но следует подчеркнуть, что никакие картины бытового и пейзажного плана, а также описанные исторические события и другие факты не могут иметь в лирике самодовлеющего значения – они «вынуждены» так или иначе выполнять медитативную функцию, т. е. способствовать созданию образа-переживания, образа лирического героя.
Отсюда можно заключить, что в лирических произведениях редко обнаруживается развернутый сюжет, составляющий основу композиции эпического и драматического произведений. Не стоит искать имени лирического героя, времени и места возникновения раздумья-переживания. Однако при восприятии и анализе лирического текста, равно как эпического и драматического, неизбежно возникает вопрос о его композиционной организации.
Особенности композиции зависят в первую очередь от типа лирики. В первом из названных типов лирических произведений композиция предполагает словесную организацию лирического монолога, т. е. эмоционально окрашенного размышления или переживания. Здесь, как правило, возникает поток высказываний, которые прихотливо сменяют друг друга, демонстрируя движение и динамику мыслей и настроений. Такие высказывания логически не всегда следуют одно из другого, но подчиняются доминирующей мысли или настроению.
В произведениях, условно относимых ко второму типу лирики (эмоционально-изобразительной), композиция весьма разнообразна. Основная особенность ее состоит в чередовании фактов, размышлений и эмоциональных впечатлений лирического героя. Иногда такое чередование явно упорядочено, как в «Парусе» Лермонтова, где первые две строчки каждого четверостишия изобразительны, а вторые две эмоционально выразительны.
В других случаях такой упорядоченности и симметрии не наблюдается. При этом, факты и впечатления, уместившиеся в небольшом количестве строк и объединенные мыслью или настроением, могут быть очень разнородными по своей пространственной и временной принадлежности, что принципиально отличает лирику от эпоса. Например, в стихотворении Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива» рядом оказываются желтеющая нива и малиновая слива (знак осени), ландыш серебристый (признак весны), студеный ключ, ассоциирующийся с горным потоком. В пушкинском стихотворении «19 октября» (1825) упоминаются лицеисты, которые находятся в самых разных местах и те, кого уже нет в живых. Обращение к конкретному имени – Корсакова, Матюшкина, Пущина, Горчакова, Дельвига, Кюхельбекера – мотивируется ходом мысли, воспоминаниями о совместной учебе и последующих нечаянных встречах, а также желанием излить свои эмоции и переживания в очередную годовщину открытия Лицея – 19 октября. Композиция и представляет сочетание и смену воспоминаний, мыслей, фактов, сиюминутных настроений лирического героя, которым в данном случае является, конечно, сам поэт.
В произведениях третьего типа (собственно изобразительной, или повествовательной лирике) эмоционально-мыслительное начало в самом тексте словесно может быть никак не обозначено. Поэтому их текст иногда представляет собой как бы развернутую сцену или мини-сюжет.
Сжала руки под темной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?» Оттого, что я терпкой печалью Напоила его допьяна. Как забуду? Он вышел шатаясь, Искривился мучительно рот… Я сбежала, перил не касаясь, Я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула: «Шутка Всё, что было. Уйдешь, я умру». Улыбнулся спокойно и жутко И сказал мне: «Не стой на ветру».Воспроизведение такой сцены передает драматически напряженное состояние лирической героини, страдающей от непонимания и, очевидно, от разрыва с любимым человеком.
Пейзажная или бытовая лирика тоже очень часто ограничивается воспроизведением картин, без специальных комментариев лирического характера, так как подразумевается, что лирическое, т. е. эмоциональное начало заложено в самом изображаемом мире. Напомним стихотворение Есенина «Пахнет рыхлыми драчонами, // На пороге в дежке квас…».
Характеризуя композиционные особенности лирического текста, нельзя не заметить важную роль речевых факторов. Именно они нередко выполняют композиционно организующую, цементирующую функцию, которая в эпических произведениях возложена на сюжет. В данной функции могут выступать любые словесные средства, однако особое место здесь принадлежит ритмике и синтаксису.
Ритм каждой строки (в силлабике, тонике, силлаботонике и даже в дольнике), как правило, повторяется и создает единство всего текста, становясь одним из композиционных приемов. Ритм часто дополняется рифмой и соответствующей рифмовкой (смежной, перекрестной или опоясывающей), что подчеркивает принцип повторяемости, но не отрицает и не уничтожает своеобразия каждой строки.
Подобную функцию весьма активно выполняют синтаксические особенности разного рода, в первую очередь повторы:
«Гляжу на прошлое с тоской, // Гляжу на будущность с боязнью»;
«О чем ты воешь, ветр ночной? // О чем так сетуешь безумно?»;
«Не жаль мне лет, растраченных напрасно, // Не жаль души сиреневую цветь»;
«Мне нравится, что вы больны не мной, // Мне нравится, что я больна не вами»;
«Давайте восклицать, друг другом восхищаться – // Высокопарных слов не надо опасаться. // Давайте говорить друг другу комплименты – // ведь это всё любви счастливые моменты» //
В той же роли может выступать синтаксический параллелизм, т. е. частичное или полное повторение тех или иных синтаксических конструкций. Напомним один весьма показательный пример – фрагмент из стихотворения Пушкина:
Брожу ли я вдоль улиц шумных, Вхожу ль во многолюдный храм, Сижу ль меж юношей безумных, Я предаюсь моим мечтам. Я говорю: промчатся годы, И сколько здесь ни видно нас, Мы все сойдем под вечны своды — И чей-нибудь уж близок час. Гляжу ль на дуб уединенный, Я мыслю: патриарх лесов Переживет мой век забвенный, Как пережил он век отцов. Младенца ль милого ласкаю, Уже я думаю: прости! Тебе я место уступаю, Мне время тлеть, тебе цвести…В этих начальных строфах стихотворения есть два варианта синтаксического параллелизма. Один четко обозначается в первой строфе и проявляется в троекратном повторении конструкции: «Брожу ли», «Вхожу ль», «Сижу ль». Другой просматривается во все четырех строфах и обнаруживается в появлении конструкций: «Я предаюсь», «Я говорю», «Я мыслю», «Уже я думаю», которые расположены не так симметрично, как в первой строфе, подчеркивая неповторимость и своеобразие синтаксической организации каждой строки и в то же время тенденцию к единообразию, что способствует ощущению целостности лирического текста.
Подобную роль могут выполнять и другие синтаксические приемы: повторяющиеся инверсии, риторические восклицания, обращения, вопросы, например: «Буря мглою небо кроет, // Вихри снежные крутя; // То, как зверь она завоет, // То заплачет, как дитя // …Выпьем, добрая подружка // Бедной юности моей, // Выпьем с горя; где же кружка? // Сердцу будет веселей». Эти строчки, содержащие внутри себя два сравнения и два обращения, повторяются в первом, третьем и четвертом восьмистишии.
Не менее значима в композиционном отношении строфическая организация (если она имеет место), потому что общий рисунок строфы, повторяясь, тоже, усиливает ощущение единства и целостности. Особенно примечательны терцины, которые очень прочно связаны друг с другом благодаря установившейся рифмовке: абабвбвгв и т. д. В роли композиционных средств могут оказаться и звуковые явления: аллитерации, ассонансы и другие созвучия.
Завершая рассуждения о специфике лирического произведения, попробуем представить, как может выглядеть целостный анализ лирического текста на примере стихотворения Пастернака «Зимняя ночь».
Мело, мело по всей земле Во все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела. Как летом роем мошкара Летит на пламя, Слетались хлопья со двора К оконной раме. Метель лепила на стекле Кружки и стрелы. Свеча горела на столе, Свеча горела. На озаренный потолок Ложились тени, Скрещенья рук, скрещенья ног, Судьбы скрещенья. И падали два башмачка Со стуком на пол. И воск слезами с ночничка На платье капал. И все терялось в снежной мгле Седой и белой. Свеча горела на столе, Свеча горела. На свечку дуло из угла, И жар соблазна Вздымал, как ангел, два крыла Крестообразно. Мело весь месяц в феврале, И то и дело Свеча горела на столе, Свеча горела.В этом стихотворении лирический герой как бы воссоздает ситуацию: зима, февраль, свеча, задуваемая ветром, но освещающая жилище, где происходит встреча двух близких людей. В тексте преобладают предметные детали: хлопья снега на оконной раме, морозный рисунок на стекле («кружки и стрелы»), лежащее платье, скинутые туфли, объятья влюбленных («скрещенья рук, скрещенья ног»). Однако радость встречи сопровождается внешним холодом, который является и знаком зимы («мело весь месяц в феврале»), и отголоском метели, которая бушует вокруг («мело, мело по всей земле, во все пределы»), тем самым окрашивая в драматические тона все происходящее. Несмотря на внешнюю описательность, на присутствие немалого количества предметно-изобразительных деталей, здесь передается внутреннее состояние и настроение лирического героя, не выражающего прямо своих чувств. Настроение радостное и в то же время тревожное, рассчитанное на понимание тех, кто переживал душевные бури на фоне природных и социальных потрясений.
По характеру выразительных средств словесного плана стихотворение кажется весьма скупым. В нем почти нет эмоциональной лексики, за исключением указания на «два башмачка», правда, есть три олицетворения («метель лепила», «жар соблазна», «воск… слезами капал»), два сравнения («как… мошкара летит на пламя», «жар соблазна вздымал, как ангел, два крыла»). Основную тональность создают синтаксические приемы – инверсии и повторы: «слетались хлопья», «ложились тени», «в снежной мгле, седой и белой», «свеча горела на столе».
Весьма примечательна в этом стихотворении композиционная организация. Здесь нельзя не увидеть совокупность некоторых фактов, о которых сообщается лирическим героем. Но целостность текста держится не столько на взаимосвязи фактов, сколько на характере речи, который определяется, кроме указанных особенностей, строфической организацией (здесь восемь четверостиший), ямбическим размером и синтаксическим параллелизмом, который заключается в повторах общих или сходных словесно-синтаксических конструкций. Подобные повторы («свеча горела на столе, свеча горела»), кроме первой и последней строф, повторяются еще два раза – в третьей и шестой строфах, а всего четыре раза на восемь четверостиший. Повторы разного рода, усиливая эмоциональность речи, выполняют композиционную функцию – они скрепляют текст. Первая и последняя строфы подчеркивают кольцевую композицию, создавая ощущение завершенности.
Предложенный краткий анализ подтверждает, что в лирике художественная речь со всеми ее особенностями выполняет смысловую, эмоциональную и композиционно организующую функцию.
Пространственно-временная организация художественного произведения
В числе параметров, или показателей художественного произведения любого литературного рода очень важное место принадлежит пространственно-временной организации. Пространство и время являются основными формами существования мира и вместе с тем фундаментальными понятиями человеческого сознания. Они вошли в обиход уже в глубокой древности, глубокую философскую разработку получили в работах И. Канта. Но если для Канта пространство и время были априорными категориями, возникающими до опыта, то для современных ученых они являются «определяющими параметрами существования мира и основополагающими формами человеческого опыта» (Гуревич, 43). Рассмотрение произведений в таком аспекте активизировалось в 70-е годы после публикации работ М. Бахтина (1975), где было употреблено понятие «хронотоп», обозначающее тот или иной тип взаимосвязи пространства и времени.
В приведенных ранее схемах, графически представляющих логическую модель эпического и лирического произведений, такого понятия нет, потому что обозначаемые им пространство и время существуют не наряду с другими особенностями, а наполняют и проникают все детали произведения, делая их хронотопичными. Особенно значимо обращение к хронотопу при рассмотрении повествовательных произведений, которые бывают в разной степени репрезентативными с указанной точки зрения. Реально представить функционирование и значимость данного аспекта можно только на конкретном материале. Попробуем сделать это на трех примерах – романе Пушкина «Евгений Онегин», «маленькой трилогии» Чехова и романе Достоевского «Бесы».
1. Определение Белинским «Евгения Онегина» как энциклопедии русской жизни можно признать ключевым и всеобъемлющим. Читатель оказывается в провинции, Москве и Петербурге разных периодов. Однако изображение этих топосов не становится самодовлеющим, оно подчинено главному замыслу – изображению судеб главных героев: Онегина, Татьяны и Ленского. Эти герои представлены не только во взаимоотношениях друг с другом и в замкнутом мире, как было принято в современных «Евгению Онегину» сентиментальных и романтических сочинениях европейских писателей (были они и в библиотеке Лариных и Онегина); пером Пушкина вписаны в мир, точнее, каждый – в свою среду. Для Онегина это Петербург, по-разному выглядевший и неодинаково его встречавший в первой и последней главах романа; для Татьяны – поместье, соседствовавшее с другими поместьями, окруженное полями и лесами, во многом чуждое Онегину и даже Ленскому.
Путь Татьяны из провинции с неизбежностью лежал через Москву, где можно было остановиться у тетушек, с их помощью попасть в свет, на «ярманку» невест, встретить там и князя Вяземского, и будущего мужа. В конце концов такой путь привел ее в Петербург, куда вернулся и Онегин, уставший от путешествий. Там они встретились вновь, на ином этапе жизни и обнаружили друг в друге большие перемены. Таким образом, центральной задачей и проблемой романа было исследование внутреннего мира героев, который складывался и раскрывался постепенно.
В изображении судьбы главных героев время приобретает особый смысл. Пушкиноведы по-разному исчисляют время действия. Но как бы то ни было, его отсчет следует начинать с момента, о котором сообщается в начале первой главы: Онегин едет в деревню на похороны дядюшки. Приехав в деревню и застав дядю «на столе, как дань готовую земле», Онегин остается там до зимы. В январе, «убив на поединке друга», он покидает деревню. Ларины продолжают жить в своем поместье, через некоторое время выдают замуж Ольгу, безнадежно пытаются выдать Татьяну и, наконец, следующей зимой отправляются в Москву. После замужества Татьяна переезжает в Петербург, поселяясь в одном из аристократических домов столицы. Когда Онегин появляется в этом доме как приятель мужа Татьяны, оказывается, что она замужем уже около двух лет. После их новой встречи проходит примерно еще полгода. Таким образом, со времени первой встречи Онегина и Татьяны прошло более четырех лет.
Этого времени было достаточно, чтобы от природы умная, эмоционально отзывчивая девушка, всегда любившая читать, познакомившаяся с новейшей литературой, оставленной Онегиным в его деревенском доме, абсолютно одинокая в своей семье и в среде их знакомых, после приезда в Петербург смогла обрести вполне признанное положение в высшем свете. Следовательно, это произошло не только благодаря заслугам мужа, но и ее собственному уму, такту, чувству личного достоинства. Очевидно, что при встрече в Петербурге Онегина поразило не новое положение Татьяны, а ее новый облик, который проявился в умении освоить законы светского общества, достаточно высоко ценимые Пушкиным. Естественность поведения в свете была доступна «чужим» только при наличии у них внутренней уверенности, нравственной позиции и духовного богатства.
Что касается отношения ко времени большинства обитателей столиц и провинции, то они как бы не чувствуют его хода, не замечают его, а если замечают, то настороженно относятся к любым переменам в жизни. Им представляется, что время остановилось и жизнь законсервировалась. Появление Онегина в Петербурге после долгого отсутствия вызывает настороженность («Все тот же ль он иль усмирился?»), что обнаруживает консервативные настроения в обществе. Та же атмосфера и в Москве: «Но в них не видно перемены: // Все в них на старый образец… // …Не вспыхнет мысли в целы сутки // Хоть невзначай, хоть наобум; // Не улыбнется томный ум; // Не дрогнет сердце, хоть для шутки». О провинции нечего и говорить: там все привычно и неизменно, а ритм жизни большей частью подчинен природному календарю.
Четырехлетнее наблюдение за судьбой героев побуждает тщательно и подробно изобразить окружающий их мир, который, по убеждению автора, определяет многое в судьбах их. Отсюда весьма широкие пространственные рамки повествования, включающие детализированное изображение провинции, Москвы и Петербурга.
Поместный образ жизни обозначен многочисленными деталями, но особенно подробно при описании именин Татьяны, когда собирается вся окрестная публика, включая Пустяковых, Петушковых, Буяновых с их чадами, няньками и моськами. Показателем хронотопичности поместной жизни становятся и многочисленные картины природы, которые включены в роман не потому, что Пушкин любил природу (хотя, конечно, и любил, и умел любоваться ею), а потому, что сам образ жизни Лариных и их окружения во многом определялся наличием пашен, лугов, лесов, садов, служивших источником существования, так что разговор «о сенокосе, о вине…» был органичен для обитателей усадеб.
Разноликая Москва вырисовывается уже в момент въезда в нее семейства Лариных и предстает взгляду Татьяны, смотрящей из окна возка на утренний город: «Уж белокаменной Москвы, // Как жар, крестами золотыми // Горят старинные главы… Вот, окружен своей дубравой, // Петровский замок…» «Вот уж по Тверской // Возок несется чрез ухабы. // Мелькают мимо будки, бабы, // Мальчишки, лавки, фонари, // Дворцы, сады, монастыри, // …Аптеки, магазины, моды, // Балконы, львы на воротах, // И стаи галок на крестах.//» Затем будут гостиные тетушек и картина московского бала в Дворянском «Собранье», где «теснота, волненье, жар, // Музыки грохот, свеч блистанье, // Мельканье, вихорь быстрых пар, // Красавиц легкие уборы, // Людьми пестреющие хоры // …Шум, хохот, беготня, поклоны, // Галоп, мазурка, вальс… //»
Петербург представлен в первой главе, при этом для воссоздания быта, привычного и характерного для Онегина и его круга, потребовался практически один день; а затем в последней, восьмой главе, где основные впечатления от столичного уклада жизни возникают при описании светского раута в доме Татьяны и ее мужа.
Таким образом, время и пространство оказываются существенным фактором в жизни героев, а значит, и в структуре повествования. При этом в «Евгении Онегине», во-первых, обозначается время действия, т. е. время взаимоотношений героев; историческое время, которое «входит» в роман с помощью целого ряда деталей. Это, например, сообщение о том, какие актеры играют в петербургском театре, с какими историческими лицами мог встречаться Онегин в Петербурге (Каверин), а Татьяна – в Москве (князь Вяземский, «архивны юноши»), упоминание имен или фактов современной жизни в лирических высказываниях автора-повествователя (Баратынский, Языков, Светлана из баллады Жуковского, Чацкий из комедии Грибоедова; Молдавия, Кавказ в память о своей ссылке).
Относительно времени повествования можно сказать, что перед нами рассказ о прошедшем, когда повествователь якобы встречался с Онегиным, получил письмо Татьяны к Онегину и т. п. Из сказанного можно сделать вывод, что пространственно-временная организация (хронотоп) обусловлена богатой и многообразной проблематикой, но определяющее значение имеет изображение личности в ее отношениях с обществом.
2. Обращаясь к трилогии Чехова, напомним, что входящие в нее произведения («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») объединены в трилогию-цикл прежде всего присутствием трех знакомых между собой персонажей – учителя Буркина, ветеринарного врача Чимши-Гималайского и Алехина, выступающих в роли рассказчиков. В первой повести («Человек в футляре») Буркин делится воспоминаниями о жизни Беликова и гимназии в целом, а Иван Иванович Чимша-Гималайский сопровождает своими мыслями рассказ о Беликове. В повести «Крыжовник» Чимша-Гималайский изливает свои наблюдения и мысли Буркину и Алехину, в доме которого они в данный момент оказались. В третьей («О любви») Буркин и Чимша-Гималайский становятся слушателями личной истории Алехина.
Все эти встречи происходят в течение примерно трех дней. В первый день учитель и доктор отдыхают после охоты в сарае старосты Прокофия, и шаги некоей Мавры наталкивают Буркина на мысль о странных людях, прячущихся от жизни, одним из которых и оказывается Беликов; на следующий день они во время охоты укрываются от дождя в имении Алехина, где вечером Иван Иванович рассказывает о судьбе своего брата; затем остаются ночевать и наутро оказываются собеседниками и слушателями рассказа Алехина об истории его отношений с Анной Алексеевной.
Что касается места встреч этих трех лиц и места действия описываемых событий, то и рассказчики, и присутствующие в их рассказах персонажи обитают, очевидно, в одной губернии: Иван Иванович живет на конном заводе, недалеко от города, Буркин служит в городской гимназии, находящейся в городе, Алехин, живя в своем имении, бывает в городе по разным делам, в том числе в качестве мирового судьи. Кроме того, основные участники событий и их слушатели прямо или косвенно знакомы друг с другом.
События, о которых рассказывается в трех случаях, не очень удалены во времени одно от другого. Буркин говорит, что похороны Беликова состоялись два месяца назад. Иван Иванович замечает, что он посетил брата в прошлом году. Судя по всему, роман Алехина с Анной Алексеевной имел место не так давно, если и Буркин, и Иван Иванович «ее знали».
Продолжительность действия в каждом из рассказов разная, но во всех случаях она четко не обозначена. Очевидно, дело в том, что замысел автора заключается не в показе неординарных событий и ситуаций, случившихся в жизни Беликова, Николая Ивановича Чимши-Гималайского или Алехина с Анной Алексеевной, а в воспроизведении общей атмосферы жизни в губернии, а по существу и не только в ней.
Особенно это заметно в первом рассказе, где воспоминания Буркина начинаются с характеристики привычек своего товарища, учителя греческого языка Беликова, «испытывавшего постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний». На деле же стремление уединиться оборачивалось весьма активным давлением на окружающих, которые его боялись, потому что он «угнетал» всех своей осторожностью, мнительностью, а главное, соображениями о том, что начальству может не понравиться поведение учеников, учителей или даже духовных лиц, устраивающих спектакли, помогающих бедным, читающих книги, не исполняющих постов и позволяющих себе в воскресенье отправиться на пикник. Буркин недвусмысленно говорит, что поведение Беликова было не только источником постоянного страха окружающих его учителей, но и проявлением той удушливой атмосферы, которая наполняла и пропитывала жизнь всего города и которая не исчезла со смертью Беликова. О наличии такой атмосферы на более широком пространстве свидетельствует реакция Ивана Ивановича, который готов был не только поддержать, но и развить мысль своего товарища, утверждая, что «футлярность» проявляется повсюду.
На другой день он продолжает рассуждать в этом направлении, излагая историю жизни своего брата, который всегда удивлял его мечтой есть свои щи и выращивать крыжовник. При последней встрече их Иван Иванович был поражен, какое невыразимое удовольствие испытывал брат от того, что стал барином, помещиком, мужики называли его «ваше высокоблагородие», а он в течение одного дня способен был раз двадцать повторить: «мы, дворяне», «я как дворянин», при том что его дед был мужик, а отец – солдат.
История отношений Алехина и Анны Алексеевны, история без начала и конца, – свидетельство той же общей атмосферы, при которой Алехин, любя Анну Алексеевну и зная о ее любви к нему, ничего не мог изменить в их жизни из-за своего положения. Это было положение человека, кончившего университет, по своим наклонностям кабинетного ученого, который был вынужден спасать доставшееся ему имение от долгов, ради чего «сам пахал, сеял, косил и при этом скучал и брезгливо морщился», думая же о своей любви к Анне Алексеевне, он задавал себе вопрос: «Куда бы я мог увести ее?» Причина такой безнадежности была не только в его относительной бедности и погруженности в дела имения, а в бесперспективности, в нереальности обрести возможность иной, культурной, чего-то обещающей жизни, о которой мечтают многие герои Чехова. Это безысходность общая, что осознает сам герой. Такие пессимистические ощущения, особенно остро переживаемые мыслящими людьми, по-видимому, были признаком исторического времени, которое здесь прямо не обозначено, но воспринимается как современное автору. Или весьма характерное по крайней мере для русского провинциального города, с которым связаны судьбы Буркина, Беликова, Ивана Ивановича, Алехина, семьи Лугановичей.
Итак, соединение трех разных историй работает на общую мысль. Выявлению этой мысли активно способствует пространственно-временная организация текста трех произведений, действие которых протекает в условиях сходного типа пространства при совмещении трех типов времени. Это время общения рассказчиков, время развертывания каждой из трех ситуаций и так называемое историческое время, атмосфера которого окрашивает и пропитывает общественную жизнь в целом, личные судьбы отдельных героев и мысли рассказчиков.
3. Обратимся к роману Достоевского «Бесы», в котором особенно заметно, сколь вдумчиво и изысканно использует писатель пространственные и временные возможности повествования.
В центре повествования группа персонажей, рассматриваемых и оцениваемых с точки зрения содержательности и значимости их умственно-нравственного мира, что является ключевой проблемой данного романа. Особенность этого, как и других романов Достоевского, в том, что число главных героев здесь несколько больше, чем в романах Пушкина, Лермонтова, Тургенева и даже Толстого. В «Бесах» это Ставрогин, отец и сын Верховенские, Шатов, Кириллов, господин Г-в, Варвара Петровна – «женщина-классик», даже жена губернатора Юлия Михайловна, воображающая себя «вольнодумкой» и пригревшая у себя компанию Петра Верховенского.
Все главные герои находятся в каких-то отношениях с жителями города, среди которых представители тамошнего светского общества, простые обыватели, члены кружка «наших» и такие господа, как Федька Каторжный и капитан Лебядкин. Кроме того, те же герои периодически оказываются то в Петербурге, то в Париже, то в Швейцарии, то в Америке. Все это вместе взятое предопределяет общий объем изображаемого в романе пространства и его топографию.
Но воссоздание широты и многообразия мира не является главной целью повествования в «Бесах». В фокусе изображения – жизнь небольшого губернского города (по свидетельству исследователей, это, скорее всего, Тверь), где начинаются и где завершаются судьбы большинства героев. Поэтому изображение одного из уголков Российской империи, составляя ядро авторского замысла, обусловливает пространственные параметры повествования. А авторский замысел заключается в необходимости выявления и разоблачения идеологической крамолы, которая вышла за пределы столицы.
Источником идеологического неблагополучия в данном городе становится сплетение идей и настроений местных и приезжающих «мыслителей», большинство из которых действительно люди думающие, ищущие, но при этом идущие по ложному пути, заблуждающиеся. Задачей писателя становится обнажение этих заблуждений, анализ их истоков и результатов. По той же причине здесь, как и в других романах, Достоевский воспроизводит процесс не столько поиска и становления, сколько проверки и критики идей, уже сложившихся в сознании героев.
В ходе анализа идей особо важную роль играет фиксация разного рода временных моментов. Одним из таких моментов является рассказ о прошлом героев, в результате чего расширяются пространственные и временные границы повествования, но «путешествия» героев начинаются и заканчиваются в данном городе.
Ради этого вводится подробная предыстория Степана Трофимовича, напоминается, как двадцать лет назад он приехал в город, где с восьми до шестнадцати лет воспитывал Николая Ставрогина, а с восьми до одиннадцати – Лизу Дроздову и все эти двадцать лет (сейчас ему 53 года) жил под крылышком Варвары Петровны Ставрогиной, согреваясь ее дружбой и любовью и собирая вокруг себя молодых людей, жаждущих умных разговоров и приобщения к современным идеям. И хотя его друг Антон Лаврентьевич Г-в говорит, что их разговоры были весьма безобидными, отвлеченно либеральными, очевидно, в этих беседах формировались определенные настроения, которые впоследствии послужили благоприятной почвой для восприятия идей Николая Ставрогина и Петра Верховенского.
Тщательно описана и жизнь Варвары Петровны на протяжении последних двух десятилетий, в частности сообщается, как в пятьдесят пятом году она получила известие о смерти мужа, генерала Ставрогина, с которым уже четыре года жила «в совершенной разлуке», как ездила в Петербург, а вернувшись, имела немалое влияние в губернском обществе, особенно в последние семь лет. Уделено внимание и предыстории ее сына, Николая Ставрогина, который в шестнадцать лет уехал в Петербург для поступления в лицей, дважды на короткое время приезжал на вакансии, в двадцать пять лет появился в родном городе, пробыв здесь более полугода, из которых два месяца проболел, затем вновь уехал в Петербург, потом за границу, где прожил около четырех лет, общаясь с Верховенским, Кирилловым, Шатовым, поражая всех своим неординарным обликом, бросая какие-то смутные идеи, но судя по всему, не имея при этом ни прочных мыслей, ни нравственных устоев. Что касается Петра Верховенского, то говорится, что все свои двадцать семь лет он провел вне общения с родителем (тот видел его два раза), в метаниях и скитаниях, обосновывая идею смуты, якобы благотворную для России.
Таким образом, длительность описанной на страницах романа жизни героев до того момента, который повествователь обозначит как начало подготовки «странных» событий, случившихся в городе, составляет для Степана Трофимовича и Варвары Петровны более двадцати лет, для Николая Ставрогина – около семнадцати лет. К тому периоду его жизни относятся встречи в Европе с Лизой, Дашей, Петром Верховенским, Кирилловым, Шатовым и его женой. Все это время он удивляет безнравственностью своего поведения, о чем говорят его кутежи в Петербурге, женитьба на Марье Тимофеевне, связь с женой Шатова, сомнительные отношения с Дашей и Лизой. А вместе с тем он явно претендует на роль учителя, мэтра и, как скажет Петр Верховенский, Ивана-царевича, именуемого еще князем, идолом.
Само «начало» тоже отделено от «событий» точно указанным периодом, поскольку имело место через четыре года после последнего приезда Ставрогина и за четыре года до «катастрофы».
Наконец, третий этап жизни героев начинается осенью того года, когда все главные лица возвращаются в город и оказываются связанными в один роковой узел, наличием которого воспользуется Петр Верховенский для осуществления бредовой идеи, а автор романа – для демонстрации гибельности и разрушительности идейных заблуждений современной ему молодежи.
Итак, жизнь города с его главными и неглавными героями протекала на страницах романа примерно двадцать лет и три месяца. При этом шестнадцать лет это течение было более или менее традиционным, не считая каких-то значимых эпизодов в судьбе каждого из героев, четыре года – в ожидании некоторых событий, а несколько дней – в безумном темпе.
В этот последний период время сжимается до предела, счет идет на дни и часы, события наплывают друг на друга. Все чаще появляются указания на точное время того или иного эпизода. Так, «через восемь дней в понедельник», в семь часов вечера происходит встреча Верховенского и Ставрогина, в тот же вечер в девять тридцать – свидание Ставрогина с Кирилловым по поводу дуэли, затем встреча Ставрогина и Шатова. Той же ночью Ставрогин посещает Лебядкиных и два раза сталкивается с Федькой Каторжным. Параллельно сообщается о том, что «Петр Степанович перезнакомился со всем городом», Варвара Петровна виделась с Юлией Михайловной и многое другое. На другой день после ночных визитов Ставрогина происходит его дуэль с Гагановым, на пятый день – встреча с Верховенским и Лизой. Одновременно идет суетливая подготовка к празднику в пользу гувернанток, хлопоты Петра Степановича в связи с подготовкой его замысла. Наконец, в восемь вечера определенного дня он собирает «наших» под видом именин у Виргинского, где присутствует много «сочувствующих», проводит долгое заседание, после чего еще раз посещает Кириллова, куда приходит и Ставрогин.
После этого действие занимает всего четыре дня, в один из которых происходит обыск у Степана Трофимовича и его отъезд в деревню, бунт в городе, собрание у Юлии Михайловны по поводу праздника, признание Ставрогина в женитьбе и др. Во второй день – очень подробно описанный праздник, рассчитанный на целый день, после чего наступившей ночью случается пожар, утром погибает Лиза, днем Варвара Петровна уезжает в деревню за Степаном Трофимовичем. В третий день в восемь вечера – встреча у Эркеля, где разрабатывается зловещий план устранения Шатова, на следующий день – его убийство, а параллельно рождение ребенка у жены Шатова и их гибель. В шесть часов утра на пятый день – бегство Петра Верховенского из города, что и становится окончательной развязкой трагедии.
Ощущение напряженности, а затем и катастрофичности происходящего создается не только концентрацией событий и наполненностью времени, но и постоянной фиксацией дат, сроков, а в конце – дней и часов. В первых главах романа это служит как бы знаком точности, достоверности происходящего, например, в следующих фрагментах: «Это было в пятьдесят пятом году, весной, в мае месяце» (речь идет об известии о смерти генерала Ставрогина); «Великий день девятнадцатого февраля мы встретили восторженно»; «Воротилась она в июле» (Варвара Петровна из-за границы); «В самом конце августа возвратились и Дроздовы» и т. д. и т. п. В конце романа упоминание временных моментов звучит как сигнал тревоги, опасности, приближения финала. Например, в «Заключении» на одной странице текст пестрит словами: «Липутин в тот же день исчез»; «Узналось только на другой день»; «Закрылся на всю ночь»; «К утру сделал попытку самоубийства»; «Просидел до полудня».
Кроме того, воспроизводя тот или иной эпизод, хроникер-повествователь г-н Г-в не преминет заметить: «в эти десять секунд произошло ужасно много» или: «в последние две-три минуты Лизаветой Николаевной овладело какое-то новое движение». Нередко прибегает он к метонимическим приемам, употребляя такие слова, как чрезвычайная минута, миг, мгновение, стремясь подчеркнуть емкость и значимость той или иной сцены.
Смысл и причина нагнетания событий и ускорения времени в следующем. Во-первых, начиная с приезда Верховенского и Ставрогина, периодически возникает мотив тайны, связанной с женитьбой Ставрогина, которую и подозревают, и боятся узнать его близкие, а вызванное этим психологическое состояние не может продолжаться долго. Во-вторых, в тот же отрезок времени Петр Верховенский осуществляет свой план, всячески подчеркивая его необычайность, таинственность, требуя соблюдения намеченных им сроков и надеясь на помощь обстоятельств.
Такие обстоятельства складываются в городе вследствие глупости и некомпетентности губернатора Лембке, недовольства рабочих на шпигулинской фабрике, жажды наживы и готовности к преступлению личностей типа Федьки Каторжного и капитана Лебядкина, а также реального драматизма в жизни Лизы и Даши, усиленного появлением Ставрогина. Всем этим пользуется Петр Верховенский – смутьян, мошенник, провокатор, словом, сущий бес, играющий на чувствах и мыслях местных любителей прогрессивных идей, вовлекающий их в настоящий заговор и связывающий воедино участием в убийстве Шатова. Все это приводит к ужасным последствиям – пожар в городе, убийство Лизы, Лебядкиных, Федьки, гибель Кириллова, расправа над Шатовым.
Эти-то события и обозначают крах идей, бродивших в умах членов кружка Верховенского, мечтавших об общественном служении и светлых идеалах. Однако вместо наступления «светлого будущего» двое из них погибли, несколько оказались на скамье подсудимых, Степан Трофимович ушел в мир иной, Варвара Петровна оказалась в полном одиночестве. Уцелел один только Петр Верховенский за счет предательства и тайного бегства за границу. Все это и воспринимается как итог того пути, по которому шли герои. Три месяца, прошедшие до эпилога, даны городу на осмысление случившегося, а Ставрогину – на понимание невозможности его воскресения, раскаяния и морального оправдания перед собой и перед Богом, в результате чего он принимает решение уйти из жизни.
Очевидно, соотношение указанных временных пластов и другие метаморфозы с категорией времени служат очень важным моментом в раскрытии романного замысла. Этому способствует также внимание к пространственным факторам. С приближением финала ситуации пространство, на котором происходят события, сужается до пределов города и ближайших окрестностей. Все герои собираются в городе и очень часто оказываются рядом, в буквальном смысле слова заполняя пространство того или иного дома, площади, церкви. Особенно знаменательно первое в те дни «собрание» у Варвары Петровны, где присутствуют Лиза, Марья Тимофеевна, Лебядкин, Шатов, Г-в, затем неожиданно появляется Петр Верховенский, а вслед за ним – Николай Ставрогин, который здесь же получает пощечину от Шатова, а Лиза при всех падает в обморок, чем дает обильную пищу для городских сплетников и серьезный повод для переживаний Варвары Петровны.
Подобный тип пространственно-временной организации требует особой формы повествования, а именно присутствия рассказчика, отделенного от автора. Об одном он сообщает как об увиденном, о другом – как об услышанном, а о третьем – как о вероятном и предполагаемом. Именно он, а не всезнающий автор, имеет право сначала о чем-то умолчать, потом вспомнить, подчас сослаться на чужие мнения, иногда домыслить и т. п. Разнообразию возможностей подачи материала способствует и то обстоятельство, что рассказчик в данном романе – не только создатель хроники, о чем он постоянно напоминает, но и реальный участник событий, человек эмоциональный, доискивающийся истины. Свою оценку он выражает не только выбором фактов и их расположением, но и их словесным обозначением, подчеркиванием их экспрессивного характера. Например, он очень часто использует глагол бегать для обозначения формы движения героев. Больше всего бегает Петр Верховенский, кроме того говорится, что он «влетел», «подлетел», «пробормотал», «сыпал бисером» и т. п. Речь рассказчика полна эмоционально окрашенных эпитетов («Лиза была бледненькая», «помещение состояло из двух гаденьких небольших комнаток», «на ней было старенькое платье» и т. п.).
Итак, сущность хронотопа проявляется в повествовательной структуре, а ее анализ дает богатый материал для суждений о специфике романа Достоевского и значении времени в его организации.
Пространство и время в драматических произведениях во многом определяются их потенциальной сценичностью. Время действия совпадает со временем пребывания героев на сцене, а зрителей в театре. Оно должно быть сжато и сконцентрировано. Не случайно с момента возникновения драмы начались размышления о путях концентрации времени, которые вылились в мысль о единстве места, времени, действия. Эта мысль долго занимала умы авторов и исследователей. Первая настоящая русская комедия «Горе от ума» демонстрирует именно такой тип организации пространства и времени. Однако, как показывает опыт российских и зарубежных авторов, уже в то время оказалось возможным менять место действия, перенося его из одного помещения в другое или на улицу, а также удлинять время жизни героев в пределах сюжета, допустив разрывы в изображаемых событиях, о чем зритель узнает из слов героев.
В лирических произведениях редко обозначается, где находится лирический субъект в момент его раздумий и переживаний. Почти исключительный случай – стихотворение Пушкина «19 октября», по тексту которого видно, что Пушкин живет в сельской глуши вне общения с кем бы то ни было («Я пью один, со мною друга нет…»). Гораздо важнее представлять, как выглядит пространственно-временная организация самого лирического высказывания. Во-первых, если это высказывание-монолог, оно всегда протекает во времени, т. е. обладает динамикой. Во-вторых, если перед нами медитативно изобразительная лирика, то, как уже отмечалось в разделе, посвященном лирике, упоминаемые факты и обстоятельства самого разного плана, как правило, подчинены ходу мысли или настроению лирического субъекта. Они могут быть внешне не связаны между собой и подчас весьма разнородны. В элегии «Брожу ли я вдоль улиц шумных» мысль поэта обращается то к дубу, долгожителю природы, то к младенцу, приходящему на смену старшим поколениям, то к возможному месту смерти самого поэта и т. д. Отсюда свободное обращение с пространством и временем, перенесение внимания с одного факта на другой и «несоблюдение» единства времени. Данные соображения относятся к разным лирическим текстам, так как указанные и другие подобные особенности обусловлены самой природой лирики.
Глава третья Литературный процесс
Осмысление литературного процесса в теоретическом ракурсе представлено рядом работ научно-методического (Черноиваненко, 1997; Хализев, 2002) и собственно научного характера (Борев и др., 2001). Как отмечено во введении, осознание литературного процесса прежде всего предполагает обоснование его периодизации. Там же приведены варианты периодизации искусства в европейском и глобальном масштабе. В национальных литературах литературный процесс, как правило, протекает по-своему. Но на определенных этапах исторического развития в разных национальных литературах обнаруживаются явления, содержащие элементы сходства и дающие основание и материал для сопоставления и типологических обобщений. Типологическая общность более всего проявляется в возникновении и развитии жанров, методов, стилей, литературных течений и направлений. Поэтому рассмотрение данных явлений и обоснование их сущности наиболее продуктивно в связи с постановкой вопроса о литературном процессе. При этом логичнее начать с размышлений о природе и специфике жанра.
Литературные жанры
Принадлежа к тому или иному литературному роду, художественное произведение всегда обладает жанровыми признаками. О жанре определенного произведения читатели, как правило, судят по тем обозначениям, которые дают писатели на основе своих знаний, опыта, чутья, интуиции. Исследователи, учитывая авторские представления, стремятся определить жанровую специфику произведения, исходя из научных критериев. Выработка таких критериев являет собой длительный процесс, не завершившийся до сих пор, но дающий материал для научных суждений и выводов. Нахождение критериев и определение жанровых признаков требует, во-первых, конкретных знаний о путях развития жанров в мировой литературе, во-вторых, учета теоретических обобщений, которые накопились в ходе их изучения. При этом одни ученые считают правомерным исключительно исторический подход, думая, что в пределах того или иного периода в той или иной национальной литературе и даже в творчестве отдельного писателя жанры своеобразны и неповторимы, а потому не следует искать в них общих признаков. Другие ученые (их большинство) убеждены в наличии общих жанровых качеств, хотя эти качества не всеми трактуются одинаково, а их выявление требует тщательной исследовательской работы. Все это становится возможным при использовании того подхода, который в 60-е годы ХХ в. получил название историко-типологического, но начал складываться гораздо раньше и позволял исследователям выявлять типологические признаки разного рода.
Основной предпосылкой становления историко-типологического подхода явилось возникновение сравнительно-исторического принципа исследования, который, несомненно, функционировал уже в начале XIX в., не получив тогда научного осмысления и тем более обозначения. Осознание этого принципа началось в середине XIX в. с появлением работ, посвященных сопоставительному изучению разных национальных литератур. К их числу можно отнести работы Г. Брандеса «Главные течения в европейской литературе»; Т. Бенфея, опубликовавшего в 1859 г. знаменитый памятник индийского искусства «Панчатантра» и изложившего в предисловии свои взгляды на теорию заимствования; Ф. Брюнетьера «Эволюция жанров в истории литературы» (1890); Ф.Шаля «Исследования по сравнительному литературоведению»; X. Познетта «Сравнительное литературоведение» и др.
Немалое значение имело открытие центров по изучению данной проблематики: «Журнала сравнительной истории литературы» в Германии, журнала «Геликон», который позже стал называться «Новый Геликон» во Франции, кафедр сравнительного литературоведения в Лионе, в Сорбонне, на которых работали
Жозеф Текст, Фернан Бальдансперже, Поль Азар и Поль ван Тигем, автор ряда теоретических работ и первого учебного пособия по сравнительному литературоведению. Подобные журналы и центры возникали в Италии, США, Японии. В 1955 г. в Париже образовалась Международная ассоциация сравнительного литературоведения (АИЛК), ставшая организатором симпозиумов и конгрессов по проблемам сравнительного литературоведения, которое чаще называлось компаративистикой. К концу ХХ в. прошло более двадцати конгрессов, в том числе в 1967 г. – в Белграде, в 1970 – в Бордо, в 1973 – в Монреале, в 1976 г. – в Будапеште.
Для развития русской науки особое значение имели труды А.Н. Веселовского, возглавившего в 1870 г. кафедру всеобщей литературы в Петербургском университете и посвятившего себя разработке и обоснованию сравнительно-исторического метода исследования художественных явлений. Веселовский был великолепно осведомлен о состоянии западноевропейской науки, в которой, по мнению специалистов, в то время наметились три течения, декларировавшие сравнительный метод как принцип изучения: 1) мифологическая школа, представленная работами братьев Гримм и их последователей; 2) этнографическая школа, связанная с именами Э. Тэйлора, Д. Фрэзера, А. Лэнга; 3) школа приверженцев теории влияний и заимствований, ассоциировавшаяся с именем Т. Бенфея. Веселовский был убежден в существовании закономерностей развития искусства и возможности найти их, опираясь на литературные факты из разных национальных литератур и обращая особое внимание на наличие сходства в мотивах, сюжетах, стилистических формулах. Объяснение сходства, по его мнению, может дать ключ к пониманию и отдельных жанров, и протекающих в мировой литературе жанровых процессов.
В ходе анализа и систематизации фактов, обнаруживших потрясающую эрудицию ученого, но подчас вызывавших упреки в его адрес из-за преобладания индуктивного принципа в подходе к материалу, были сформулированы следующие идеи. Весьма заметные элементы сходства в сюжетах и мотивах объяснимы двумя группами факторов: во-первых, наличием и следствием контактов и связей между представителями разных стран и регионов, а отсюда возможностью влияний одних текстов на другие; во-вторых, результатом того, что сходные явления (аналогии) могли возникать у разных народов на почве сходных бытовых, этнографических обстоятельств. При этом влияние одного памятника на другой возможно только при наличии соответствующих условий, или так называемых встречных течений, создававших благоприятную почву для усвоения внешнего воздействия, т. е. заимствования. Конкретные результаты своих изысканий Веселовский изложил в докторской диссертации «Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине», а также в ряде работ, непосредственно посвященных изучению жанров: «История или теория романа?», «Греческий роман», «Из истории развития личности», «Тристан и Изольда» и др. (Веселовский, 1939).
Продолжением исканий А.Н. Веселовского стали исследования В.М. Жирмунского (1891–1971), публиковавшиеся с двадцатых годов ХХ в., в числе которых статьи и монографии: «Байрон и Пушкин» (1924), «Сравнительное литературоведение и проблема влияний» (1935), «Гёте и русская литература» (1937), «А.Н. Веселовский и сравнительное литературоведение» (1940), «К вопросу о литературных отношениях Востока и Запада» (1946) и многие другие. Своеобразной кульминацией в развитии сравнительно-исторического метода стал доклад Жирмунского «Литературные течения как явление международное» на 5-м конгрессе Международной ассоциации по сравнительному литературоведению в Белграде в 1967 г. Взяв на вооружение наиболее продуктивные идеи Веселовского, учитывая состояние современной ему компаративистики, ученый констатировал: «Сходство между литературными фактами, рассматриваемыми в их международных взаимоотношениях, может быть основано, с одной стороны на сходстве в литературном и общественном развитии народов, с другой стороны, на культурном и литературном контакте между ними. Соответственно этому необходимо проводить различие между типологическими аналогиями литературного процесса и так называемыми литературными влияниями. Обычно те и другие взаимодействуют: литературное влияние становится возможным при наличии внутренних аналогий литературного и общественного процесса» (Жирмунский, 1979, 138).
Введение в научный обиход понятий типологические аналогии и схождения и утверждение типологического принципа оказалось сильнейшим стимулом для изучения ряда типологических явлений и построения их теории, в первую очередь, жанровой. Поиск научных обобщений в области жанров в русской науке середины ХХ в. отразился в монографиях, посвященных исследованию одного произведения (А.А. Сабуров, 1959 и С.Г. Бочаров, 1963), процесса становления и развития романа (В.В. Кожинов, 1963; М.М. Кузнецов, 1963; А.В. Чичерин, 1958), героического эпоса (В.М. Жирмунский, 1962; Е.М. Мелетинский, 1963; В.Я. Пропп, 1958; П.А. Гринцер, 1971), поэмы (А.Н. Соколов, 1955), а также в работах обобщенно систематизирующего характера, к которым следует отнести созданный коллективом ИМЛИ труд «Теория литературы. Роды и жанры» (1964), монографию Г.Н. Поспелова «Проблемы исторического развития литературы» (1972) и серию статей М.М. Бахтина в сборнике его работ «Вопросы эстетики и теории литературы» (1975). Серьезную роль в этом процессе сыграли работы, появившиеся в 70—80-е годы и посвященные изучению разных жанров в ракурсе собственной типологии (см.: Эсалнек, 1985).
Жанры эпического рода
Наибольшая продуктивность типологического подхода обнаружилась в изучении повествовательных жанров, поэтому целесообразно начать с их рассмотрения. В выделении и классификации жанров наиболее результативным оказалось обращение к содержательным признакам, благодаря чему удалось определить специфику двух основных жанров мировой словесности – героического эпоса и романа.
Данный принцип по существу впервые был применен и обоснован Гегелем, который предложил в изучении жанров ориентироваться на тип ситуации и принцип взаимодействия героя и общества. По пути сопоставления древнего эпоса и романа шли фактически все последующие исследователи, включая современников Гегеля – Шеллинга, Белинского, а затем Веселовского и многих ученых XX в. В итоге было установлено, что исторически первым типом повествовательных жанров явился героический эпос, который сам по себе неоднороден, ибо включает произведения, сходные по типу ситуации, но разные «по возрасту» и типу персонажей.
Наиболее ранней формой героического эпоса можно считать некоторые варианты мифологического эпоса, в которых главным героем оказывается так называемый первопредок, культурный герой, выполняющий функции устроителя мира: он добывает огонь, изобретает ремесла, защищает род от демонических сил, борется с чудовищами, устанавливает обряды и обычаи.
Другой вариант героического эпоса, называемый архаическим, отличается тем, что герой сочетает в себе черты культурного героя-первопредка и храброго война, рыцаря, богатыря, воюющего за территорию и независимость этноса. К числу таких героев относят, например, Вяйнемяйнена, персонажа карело-финского эпоса «Калевала», или Манаса, героя одноименного киргизского эпоса.
К наиболее зрелым формам героического эпоса, называемого классическим, принадлежат «Илиада», «Песнь о Сиде», «Песнь о Роланде», сербские юнацкие песни, русские былины. Они рождались в разное время («Илиада» датируется VIII в. до н. э., французские песни о деяниях – XI, а русские былины и героические повести – XI–XV вв. н. э.), получали разные наименования (эпопеи, былины, думы, песни о деяниях, саги, руны, олонхо), различались объемом, типом сюжетно-композиционной и стилистической организации, но содержали в себе общие типологические качества, дающее основание причислять их к жанру героического эпоса. В числе важнейших из этих качеств: 1) выделение одного или двух главных героев; 2) подчеркивание их силы, отваги и смелости; 3) акцентирование цели и смысла их действий, направленных на общее благо, будь то устроение мира или борьба с врагами. Иначе говоря, герой был носителем не индивидуально-личного мироощущения, отличающего его от других, а наилучшим выразителем общего духа, общезначимых ценностей, которые Гегель называл субстанциональными.
Объективные предпосылки для возникновения жанров героического типа Гегель связывал с «героическим состоянием мира», т. е. того периода, когда требуется защита коренных, судьбоносных интересов, например, сохранение целостности территории того или другого народа. Династическая борьба, по тонкому замечанию философа, не входит в сферу героических действий.
Изучением героического эпоса, как упоминалось, в 50– 60-е годы в XX в. занимались В.М. Жирмунский, Е.М. Мелетинский, В.Я. Пропп, Б.Н. Путилов, П.А. Гринцер. Обнародованные в 70-е годы суждения М.М. Бахтина по поводу древнего эпоса привлекли особое вимание, но по существу продемонстрировали тот же ход мысли, который давно утвердился в науке о жанрах. Эпопея рассматривается им как наиболее ранний тип повествования и характеризуется тремя конститутивными чертами: «1) предметом эпопеи служит национальное эпическое прошлое;
2) источником эпопеи служит национальное предание (а не личный опыт и вырастающий на его основе свободный вымысел);
3) эпический мир отделен от современности, то есть от времени певца, абсолютной эпической дистанцией» (Бахтин, 1975, 456). Характеризуя это прошлое, Бахтин употребляет такие понятия, как «мир начал и вершин национальной истории, мир первых и лучших, отцов и родоначальников». Значит, время становится ценностной категорией, и позиция певца совпадает с позицией героев, поэтому, говоря словами Гегеля, здесь мало ощущается субъективность, а по логике Бахтина, отсутствует диалогизм. Бахтин настаивал на отнесении эпоса в далекое прошлое, отказывая ему в праве на существование в более поздние эпохи, и конечно же, в современности. Между тем, потребность в воспроизведении героических ситуаций во взаимодействии с трагическими и драматическими сохранилась и в XIX и в ХХ вв., о чем свидетельствуют произведения о национально-освободительной борьбе, в частности о борьбе русских с Наполеоном в 1812 г., а также о борьбе разных народов Европы с фашизмом в 40-е годы ХХ в.
Другим жанром, насчитывающим около десяти веков существования, является роман, возникновение которого большинство ученых связывают с распространением типа мироощущения, получившего название гуманизма и которое было обусловлено условиями Нового времени, т. е. времени активизации личности в разных сферах жизни. В западноевропейской литературе XI–XII вв. это реализовалось в изображении героев, чаще всего рыцарей, боровшихся за свою личную честь, совершавших подвиги для завоевания признания своей возлюбленной. При этом демонстрировалась храбрость, смелость, отвага и дерзость, но не во имя отстаивания интересов общества, а во имя самоутверждения, прежде всего в сфере любовных отношений. И хотя такое самоутверждение было связано прежде всего с общепризнанным куртуазно-рыцарским кодексом поведения, в нем уже проявлялось личностное начало. Это отмечено практически всеми историками зарубежной литературы, занимавшимися изучением литературы позднего Средневековья и Возрождения. Сложившийся в то время тип романа получил название авантюрно-рыцарского, в качестве примера и даже образца такого романа специалисты называют романы Кретьена де Труа, хотя известны, конечно, и другие авторы (Михайлов, 1976; Андреев, 1993).
В XVI–XVII вв. сложился так называемый авантюрно-плутовской роман, представленный безымянным автором сочинения «Жизнь Лазарильо с Тормеса», а затем П. Скарроном, А. Фюретьером и другими писателями, представлявшими разные европейские литературы. Завершается эта линия известным французским романом «История Жиль Блаза из Сантильяны» (автор А. Лесаж). Имя его героя стало нарицательным, о чем, в частности, говорит тот факт, что в русской литературе 10– 30-х годов XIX в. появилось несколько «Жиль Блазов», в числе которых «Российский Жиль-Блаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» В.Т. Нарежного (1814). Такой тип романа в западноевропейской литературе культивировал героя свободного, независимого, порой весьма умного, талантливого, добивающегося жизненного благополучия и социального статуса не родовитостью, а собственным умом, смекалкой, хитростью и даже плутовством.
Следующий этап в развитии романа совпадает с XVIII в. и свидетельствует о новой стадии в его становлении. Наиболее значительными произведениями этого этапа признаны романы А. Прево, С. Ричардсона, Ж. – Ж. Руссо, И.В. Гёте, хотя этими именами не исчерпывается романистика указанного периода. Писатели того времени интересуются не похождениями героев и борьбой за место в жизни, а их умственной, нравственной, психологической жизнью, сложностью отношений с обществом и друг с другом. Начало XIX в. ознаменовалось появлением романов Д.Г. Байрона, В. Скотта, Р. Шатобриана, Э.Э. Сенанкура, А. Мюссе, В. Гюго, Б. Констана, а в России – А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.
В XIX в. роман продолжал свое развитие в европейской литературе, занимая особо значимые позиции в русской литературе, что неоднократно отмечали западноевропейские художники разных периодов. «К России я отношусь почти с религиозным чувством. Оно пришло через чтение русских романов XIX в. и связано прежде всего с Толстым и Достоевским. Литературные круги Англии просто помешаны на них. Конечно, есть еще Лермонтов, Тургенев… Но эти двое короли. Я думаю, что они величайшие романисты всех времен и народов. Более великие, чем Диккенс, чем даже Пруст», – отмечала английская писательница Айрис Мердок в интервью «Литературной газете» 02.12. 1992 г.
Начиная с 30-х годов XX в. развитие жанра в западной Европе и России шло по-разному. Это обнаружилось в активном развитии европейского романа и затухании советского романа в связи с переключением внимания с личности, ищущей, думающей, критически относящейся к обществу, на героизируемую, озабоченную проблемами жизни государства и склонную к авторитарному мышлению, характерному для советского общества того периода. Место романа заняли произведения, часто именовавшиеся героическим эпосом.
В процессе изучения романа сложилось несколько концепций, во многом соприкасающихся между собой и ориентирующихся на гегелевскую концепцию жанров (Косиков, 1994). В 70-е годы была обнародована и вызвала активный интерес концепция М. Бахтина, которая сочетала в себе черты традиционности и новаторства. Традиционность заключалась в сопоставлении древнего эпоса и романа, новаторство – в оценке романа с позиции диалогизма. Опираясь на идею диалогизма, Бахтин предложил трактовку романа, которая предполагает, что предпосылки возникновения романа сложились не в эпоху Ренессанса, а еще в античности, когда появилось разноречие и возникли такие жанры, как сократический диалог и мениппова сатира. Предметом воспроизведения в них оказывается современная действительность, как нечто «текучее и преходящее», воспринимаемая в комическом плане. Благодаря этому исчезает «эпическая дистанция», «автор оказывается в новых взаимоотношениях с изображаемым миром: они находятся теперь в одних и тех же ценностно-временных измерениях, изображающее авторское слово лежит в одной плоскости с изображенным словом героя и может вступить с ним в диалогические отношения». Вследствие этого специфическими особенностями романа как жанра оказываются: «1) стилистическая трехмерность, связанная с многоязычным сознанием; 2) коренное изменение временных координат литературного образа; 3) новая зона построения образа, именно зона максимального контакта с настоящим (современностью) в его незавершенности… Через контакт с настоящим предмет (изображения) вовлекается в незавершенный процесс становления мира, и на него накладывается печать незавершенности» (Бахтин, 1975, 454). Таким образом, явление незавершенности, неготовности, присущее реальной действительности, переносится на романный мир и его героя, становясь ведущим конститутивным признаком романного жанра.
Идея диалогизма породила мысль о наличии двух линий в развитии романа, представленных, с одной стороны, софистическим, одноязычным, с другой, – двуголосым, двуязычным романом, преобразовавшимися позднее в монологический и полифонический типы романа. Своеобразие и превосходство полифонического романа заключается в том, что в нем изображается чужое сознание как чужое, самостоятельное, а герой показан как свободный, независимый от чужой воли и недоступный «завершению» со стороны автора. Иными словами, герой предстает как «незавершенный», «неготовый», до конца не познавший себя и не стремящийся к познанию и обретению той жизненной позиции, которая может быть признана неоспоримой, авторитетной и в то же время не догматичной. Всякое обретенное героем «внутренне убедительное слово» (мнение, убеждение) не является окончательным, ведь «последнее слово о мире еще не сказано». Таким образом, авторитетность отождествляется Бахтиным с авторитарностью, неоспоримость с догматизмом, а завершенность – с подавлением личностного начала.
Существовавшие до этого концепции, как уже сказано, в первую очередь связывали роман с акцентированием внимания на герое как личности и его сложных отношениях с миром. Очевидным изъяном этих концепций была чрезмерная обобщенность в понимании как личности, так и общества. Поэтому дальнейшее уточнение и выявление специфики романа требовало более глубокого обоснования понятий общества и личности. Современное состояние психологии, философии, этики, культурологии позволило внести большую ясность в понимание личности, разграничив понятия «человек», «индивид», «личность» и подчеркнув, что личность – это индивид, обладающий определенным уровнем сознания и самосознания. Исследования социологов подтвердили, что категория «общество» тоже чрезмерно широка и целесообразно использовать при его изучении понятия «макросреда», «среда», «микросреда», «среда личности», помогающие более конкретно объяснить взаимоотношения индивида и общества.
Опираясь на достижения смежных наук и рассматривая роман как разновидность содержательной жанровой формы, можно утверждать, что определяющим типологическим качеством романа как жанра является наличие такой ситуации, в центре которой оказывается романная микросреда, представленная, как правило, одной, двумя или тремя героями-личностями. Судьба таких героев разворачивается на фоне и в соприкосновении со средой, представленной разным числом персонажей. Вследствие этого в романе всегда имеет место дифференциация персонажей, сказывающаяся в первую очередь в выдвижении на передний план героев, составляющих микросреду, которым отдается большая часть воспроизводимого в романе пространства и времени. В связи с этим романный сюжет, стремясь к широте и масштабности, как правило, ограничен в пространстве и времени тем периодом жизни героев, который необходим для проявления или становления их мироощущения, для обретения ими наиболее внятной, с точки зрения героя и автора, жизненной позиции. Этот период может быть относительно кратким, как в романах Тургенева, более длительным, как в романах Констана, Пушкина, Лермонтова, и весьма продолжительным, как в романах О. Бальзака, Л. Толстого, Т. Манна, Дж. Голсуорси и др. Словом, пространственно-временная организация, или романный хронотоп, определяется центральным звеном романной ситуации, т. е. судьбами героев, составляющих так называемую романную микросреду.
Дифференциация персонажей, отражая соотношение микросреды и среды, фиксирует конфликтность романной ситуации («разлад между поэзией сердца и противостоящей ей прозой отношений», как писал Гегель). Правда, конфликтность может проявляться по-разному. В одних случаях она возникает в результате борьбы героев за свое место под солнцем, за положение в обществе, как это было в авантюрно-плутовских романах, а отчасти в романах Стендаля («Красное и черное») и Бальзака («Утраченные иллюзии»). В большинстве случаев конфликтность обнаруживается в драматизме, который окрашивает настроения героев и их жизнь. Примеров тому великое множество.
Пристальное внимание к внутреннему миру личности рождает психологизм, который может быть прямым (в диалогах, монологах и репликах), косвенным (в поступках, жестах, портретах), тайным, как говорил Тургенев, и явным, обнаженным, «наглядным», как это показал Достоевский. Он может проявляться в психологически окрашенных поступках, высказываниях, психологически насыщенных портретных и иного рода деталях.
Стремление к анализу и оценке внутреннего мира героев неизбежно порождает желание продемонстрировать и оценить значимость этого мира, степень его авторитетности и истинности. Очевиднее всего это качество обнаруживается в кульминационных моментах сюжета и его развязке, как отражение результата жизненного и духовного пути героя на том этапе его жизни, который изображен в романе. Ощущение итоговости является показателем завершенности романной ситуации, или монологизма (Эсалнек, 2004).
Идея монологизма и завершенности, как уже сказано, полемически воспринималась Бахтиным и представлялась неорганичной для романа. Вероятно, одним из стимулов для такого восприятия служила атмосфера современной жизни и русская литература советского периода, которая нередко культивировала героя, для которого авторитарное слово, т. е. мысль о необходимости самоотречения, гражданского долга, отдачи себя общему делу казалась вполне убедительной. Внутренне полемизируя с Бахтиным, венгерский ученый Д. Кираи писал: «Разрешение романной ситуации не может обойтись без разрешения ситуации завершенностью судьбы… завершенность насыщена нравственными выводами для самих героев и для читателя, это и становится главной задачей завершения» (Кираи, 1974).
На абсолютизацию Бахтиным мысли о самостоятельности героев, о независимости их позиции от автора, а главное, об отсутствии в романе «убедительного слова» обращали внимание и другие исследователи. «По самому существу своему роман имеет дело не с множеством равнозначных правд-мировоззрений, а с одной единственной правдой – правдой героя. Являясь полноправным носителем «романной» правды, герой неизбежно находится в привилегированном положении» (Косиков, 1976). Не находя в советской литературе романа, изображающего свободную, независимую личность, не отягощенную авторитарными представлениями своей эпохи, Бахтин, конечно, был прав. Но приписывая подобные качества любому роману, вряд ли был справедлив и «впадал в преувеличение от увлечения». Отсюда можно сделать вывод, что и монологизм является органическим качеством романа, объяснимым романной ситуацией.
Сопоставительное изучение двух основных жанров мировой литературы, характерное для многих работ генологического профиля, по-видимому, не случайно, потому что ориентация на эти жанры позволяет представить специфику многих других соприкасающихся с ними жанров. «Соприкосновение» дает разные вариации. Во-первых, хорошо известно, что в истории литературы появляются жанровые образования, порожденные совмещением двух жанровых тенденций, одна из которых оказывается романической, а другая ассоциируется с произведениями героической ориентации. В их числе роман-эпопея, к которому законно причисляются «Война и мир» Толстого и «Тихий Дон» Шолохова. Другим жанром, в котором романное начало внутренне сплетается с мифологическим, является роман-миф. Примером могут служить романы Т. Манна («Иосиф и его братья»), русско-киргизского писателя Ч. Айтматова («И дольше века длится день») и др.
Кроме того, под именем романа нередко выступают произведения, которые не получили иного обозначения, но все же отличаются от героического и романного эпоса, так как основное их содержание составляет не изображение общества в момент его становления, как в героическом эпосе, не изображение общества во взаимоотношениях с личностью, противостоящей ему своим духовными возможностями, как в романе, а воспроизведение жизни и быта той или иной социальной среды без ее дифференциации, с акцентом на ее стабильности, неизменности и очень часто консервативности. Этот тип произведений ведет свою родословную с древнеримской литературы, находит себе место в литературе Средневековья, Возрождения и в последующие эпохи.
В 20—30-е годы XIX в. в русской критике появилось словосочетание «нравоописательный роман». Современные ученые использовали понятие нравоописание для терминологического обозначения жанровых особенностей подобного типа произведений. Подробно и основательно об этом типе жанров, еще называемом этологическим, говорится в работах Г.Н. Поспелова (Проблемы исторического развития литературы, 1972), Л.В. Чернец (Литературные жанры, 1982) и ряде статей других авторов. В русской литературе к подобному жанровому типу можно отнести названное поэмой повествование Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», а в XX в. – многие произведения так называемой деревенской прозы, в которых преобладает тяготение к воспроизведению устоявшегося быта, показанного в аспекте разной эмоциональной тональности. Сочинения этологического плана могут быть разного объема: развернутые, как названная поэма Некрасова, среднего масштаба, к которым относятся повести В. Белова, В. Распутина, В. Астафьева, и совсем небольшие, к числу которых принадлежат многочисленные очерки, появившиеся в русской и западноевропейских литературах в 40-е годы XIX в. и продолжавшие жить в XX в. (Местергази, 2006).
Обращаясь к определению так называемых средних жанров, т. е. повестей, нельзя не заметить, что слово «повесть» означает повествование, а по содержательным качествам (отсюда и по сюжетно-композиционным) повести могут быть разными. Например, повести И.С. Тургенева («Ася», «Вешние воды», «Первая любовь», «Фауст»), Л.Н. Толстого («Смерть Ивана Ильича»), А.П. Чехова («Дама с собачкой», «О любви», «Невеста», «Дом с мезонином»), а также многие повести И.А. Бунина,
A. Куприна, Л. Андреева, Ю. Казакова, Ю. Трифонова акцентируют внимание на драматической судьбе не совсем ординарной личности, т. е. по существу содержат в себе романное начало. В многочисленных повестях разного масштаба, возникавших в русской литературе еще в XI–XVII вв., а затем и в XX в. («Альпийская баллада», «Сотников», «Волчья стая», «В тумане»
B. Быкова, «А зори здесь тихие» Б. Васильева) просматривается ситуация героического плана, как правило, осложненная трагизмом.
Как показывает творчество самых разных художников, понятие повесть нередко пересекается с понятием рассказ, и оба они могут заменять и реально заменяют друг друга. Что касается новеллы, то ее корни и истоки находятся в эпохе Возрождения. При этом у испанцев термин «novela» при возникновении обозначал произведения любой продолжительности; у французов новелла – очень часто маленький роман, у итальянцев – нечто, противоположное старому роману и близкое новому, складывавшемуся в XVII–XVIII вв. По мнению наиболее авторитетного исследователя новеллы Е.М. Мелетинского, «в ряде случаев граница между новеллой и романом становится чрезвычайно зыбкой, что получает отражение и в терминологии… приблизительного теоретического определения новеллы не существует, поскольку она предстает в виде разнообразных вариантов, обусловленных культурно-историческими различиями» (Мелетинский, 1990). В русской литературе термин «новелла» мало употребителен, а по существу этот тип произведений нередко пересекается с рассказом и повестью. К новеллам можно было бы отнести «Повести Белкина».
В обозначении жанров в последнее время нередко преобладают индивидуально авторские номинации, которые нельзя не принимать во внимание (напомним такие обозначения, как «затеси» Астафьева, «мгновения» Бондарева, «крохотки» Солженицына), но они большей частью подразумевают не собственно жанровые особенности и признаки. Что касается романа, то здесь встречаются самые причудливые наименования: роман-музей, роман-странствие, роман-конспект, мета-роман, роман-фрагмент, главы из романа с газетой, ненаписанный роман, роман-версия, роман-диссертация и т. п. То же относится и к повести: повесть-эссе, испанская сюита, сказка-быль для новых взрослых, повествовательная партитура, дорожная фантазия и многие другие. Использование подобных обозначений свидетельствует о стремлении подчеркнуть индивидуально-стилевые тенденции в произведении или становится примером своеобразной игры с текстом, характерной для постмодернизма. Признавая открытость и незавершенность жанровых процессов в современной литературе, не следует игнорировать существования сложившихся жанровых структур, несмотря на то, что они существуют в самых разных модификациях.
Жанры драматического рода
Основные драматические жанры также прошли долгий путь развития, сохраняя базовые жанрообразующие признаки и образуя многочисленные конкретно-исторические вариации. Поэтому постижение их сущности тоже возможно только при опоре на историко-типологический принцип исследования.
Изучение жанров драматического рода началось практически одновременно с появлением первых драматических произведений, а родоначальником этого процесса стал Аристотель, выделивший трагедию и комедию и разграничивший их по содержанию и способу развития действия, т. е. по своеобразию фабулы, подразумевая в данном случае под фабулой внутреннюю цельность и взаимную связь частей. При этом наибольшее внимание было уделено трагедии, в связи с размышлениями о которой и возникли понятия трагической вины героя, катарсиса, вызываемого эмоциональным воздействием происходящего на сцене и порождающего страх и сострадание у самих героев и зрителей трагедии. Комедия ассоциируется с комическим, с осмеянием несоответствия, диспропорции тех или иных черт в характере и поведении человека.
В настоящее время высказанные Аристотелем суждения представляются вполне очевидными и общеизвестными, однако на протяжении нескольких столетий они оставались предметом осмысления и обсуждения как художников, так и исследователей драмы. Одним из первых, кто задумался над теми же проблемами, был римский поэт Квинт Гораций Флакк, изложивший свои взгляды в «Послании к пизонам», или «Искусстве поэзии». Активные дебаты, предметом которых становились особенности самих жанров и их трактовка в «Поэтике» Аристотеля, шли в эпоху Возрождения.
В период Барокко возникают понятия пасторальная драма и трагикомедия. XVII век во Франции и Англии выдвинул выдающихся драматургов и теоретиков драмы, в их числе – Д'Обиньяк, автор работы «Практика театра»; Шаплен – один из авторов «Мнений Французской Академии по поводу трагикомедии «Сид»»; Драйден, автор «Опыта о драматической поэзии»; Мильтон, предпославший своей драме «Самсон-борец» предисловие «О том роде драматической поэзии, который именуется трагедией». В роли теоретиков выступали и драматурги Корнель, Мольер и Расин. В качестве наиболее известных драматических жанров оказываются трагедия, комедия, трагикомедия, пастораль как разновидность трагикомедии, героическая пьеса как разновидность трагедии.
XVIII век не менее богат драматическими произведениями, среди которых есть сочинения и русских драматургов. Еще более богата теория, которая питается идеологией Просветительства и, по словам специалистов, идет впереди практики. К основным теоретикам относятся Д. Дидро («О драматической поэзии», «Парадокс об актере», «Беседы о Побочном сыне»), Г. Лессинг («Гамбургская драматургия» и др.), а также Вольтер и С. Джонсон, высказывавшиеся о современных жанрах в связи с размышлениями о творчестве Шекспира.
Главная особенность жанровой теории XVIII в. – обоснование нового типа жанра, который именовался то мещанской или бытовой трагедией, то слезливой комедией, а в результате стал называться буржуазной драмой, а затем просто драмой. Таким образом, третий, средний, как тогда говорили, жанр драматического рода был осознан только в XVIII в., хотя примеры подобного типа произведений, вероятнее всего, появлялись и раньше, в том числе у Шекспира.
Существенный вклад в теорию драмы внесли Шеллинг и Гегель, особенно последний. Для Гегеля жанр трагедии ассоциировался с трагическим пафосом, обнаружившим себя в классической форме в античной трагедии. Произведения романтического периода, в частности Шиллера, он тоже называл трагедиями, обращая при этом внимание на их отличие от античных трагедий вследствие преобладания субъективно значимых целей и намерений в действиях героев. О драме рассуждали Ф. Шлегель и его старший брат А. Шлегель в «Чтениях о драматическом искусстве». Теоретические обобщения строились им на материале античной трагедии и романтической драмы, к которой принадлежали, по его мнению, произведения Шекспира и Лопе де Вега, а также его современников Гёте и Шиллера. Среди новых драматических жанров фигурируют семейные картины и трогательные драмы.
Во Франции проблемы драмы в разных аспектах, в том числе в жанровом, обсуждались в работах Стендаля, Гюго, де Сталь; в Англии – Байрона, Шелли; в России – Грибоедова, Пушкина и др. Во 2-ой половине XIX – начале XX в. вопросы специфики драматических типов произведений вставали в связи творчеством Вагнера, Ибсена, Метерлинка, Шоу, а в России – Гоголя, Островского, А. Толстого, Л. Толстого, Чехова. В качестве теоретиков часто выступали и сами писатели. Об исследователях драмы в русской науке 2-й половины XX в. сказано в разделе, посвященном проблеме родов. Теория и история драмы весьма основательно рассмотрена в серии работ А.А. Аникста (1967, 1972, 1980, 1983, 1988).
Итак, драматические произведения, создаваемые в течение многих веков, эволюционировали, наполнялись разным конкретным содержанием в зависимости от времени и места их создания, но сохраняли тяготение к типологическим свойствам, главными из которых являлись конфликт и модальность, подчас весьма неоднозначная, т. е. включающая в себя разные эмоциональные тенденции. Терминология, используемая для наименования драматических произведений обогатилась в ХХ в. понятиями, очень часто нейтральными по отношению к собственно жанровым признакам (пьесы, сцены и т. п.), или свидетельствующими об авторских представлениях.
Жанры лирического и лироэпического рода
Многие лирические жанры в европейской литературе известны со времен Античности. Это оды, гимны, сатиры, элегии, эпиграммы, эпитафии, послания, мадригалы, эпиталамы, эклоги и др. Названия закреплялись за произведениями определенной содержательной направленности. Позднее, в эпоху Ренессанса появились сонеты, стансы, баллады. Почти все они функционировали и в дальнейшем, в том числе в XIX в., о чем свидетельствует творчество русских и западноевропейских поэтов того времени. Наиболее привычными стали ода, элегия, сатира.
Поскольку в лирике основную содержательную нагрузку несет на себе раздумье-переживание, характер его зависит от объекта раздумий и от эмоционального восприятия его лирическим героем. С этим связаны и жанровые обозначения. О д а всегда откликается на материал, достойный героизации и воспевания. Таким «материалом» могут быть отдельные личности, совершившие нечто значительное и высоко ценимое обществом («Ода на восшествие на престол Елизаветы Петровны» М.В. Ломоносова), исторические события национального масштаба («Ода на взятие Хотина» того же автора), даже какие-то качества людей или особенности их мироощущения – храбрость, мужество, достоинство, свобода, стремление к соблюдению законов («Вольность» А.Н. Радищева и «Вольность» А.С. Пушкина).
Сатира, как показывает ее название, рождается в результате критического осмысления тех или иных сторон жизни, выливающегося в эмоциональное размышление по поводу каких-то конкретных недостатков в жизни общества или отдельных его членов. Сатиры писали в XVIII в. А. Кантемир, А. Сумароков, В. Капнист и др.
В элегии преобладает драматическая тональность, которая появляется в ходе эмоционального переживания каких-то противоречий, дисгармонии, неустроенности в жизни личности, в состоянии общества, в отношениях человека и мира и т. д. Иногда поэт прямо называет свое произведение элегией, как, например, А.С. Пушкин («Безумных лет угасшее веселье») или Н.А. Некрасов («Пускай нам говорит изменчивая мода»). Но большей частью принадлежность стихотворения к жанру элегии, так же как к жанру оды или сатиры, осознается при анализе их содержания.
Однако не всегда легко установить границы между лирическими жанрами. Еще в XVIII в., когда такие «границы» считались достаточно твердыми, известный в то время русский поэт М. Xемницер писал стихотворения, в которых преобладала не торжественная, а грустно-ироническая тональность («Богатство», «Злато», «Знатная порода»), но называл их нравственными одами. В XIX веке в лирических произведениях особенно часто сочетаются разные типы настроений, в XX в. эта тенденция усиливается. К объективным особенностям, обусловленным смешением и сплетением разных эмоциональных тенденций и ориентацией на разные формы, добавляется потребность внести авторское начало в обозначение жанровой специфики лирического произведения. Отсюда, наряду с традиционными названиями лирических текстов, встречаем такие, как «Колыбельная вполголоса» (Самойлов), «Колыбельная Трескового мыса» (Бродский), «Колыбельная для Лены Борисовой» (Кибиров), «Диалог» (Винокуров), «Мой стих» (Ваншенкин) и т. п. (См.: Абишева, 2008). Все это означает, что определение жанровых особенностей при чтении и даже анализе лирических произведений достаточно трудно, но возможно, если ориентироваться на содержательные особенности, т. е. модальность.
Длительные споры о сущности и взаимодействии жанровых и родовых начал в художественном творчестве, не завершившиеся и по сей день, не стали серьезным препятствием для выделения и обозначения тех типов произведений, которые существуют под именем лироэпических. К ним прежде всего относятся поэмы. Поэмы различаются по степени проявления или присутствия эпического или лирического начал, а также по жанровой направленности. Эпическое начало обусловливается в них тем, что здесь есть персонажи, правда, не очень многочисленные и не очень подробно показанные в действии, но обладающие внешними приметами. Они предстают на фоне природы или быта и принимают какое-то участие в действии, в силу чего в поэмах достаточное внимание уделяется характерам изображаемых героев, но много места отводится также описаниям природы, местности, и кроме того, мыслям автора, которые традиционно называются «лирическими отступлениями». В поэмах они весьма органичны.
Поэмы тяготеют к двум типам: в одном довольно четко и активно обнаруживается эпическое начало; в другом – лирическое. Например, «Медного всадника» сам автор не случайно назвал «Петербургской повестью» на основании того, что в центре оказывается рассказ о судьбе Евгения, начиная с момента наводнения и кончая смертью героя на острове, около бывшего домика его невесты, примерно через год после гибели Параши: наводнение произошло в ноябре 1824 г., «роковая» встреча Евгения с Петром-памятником – в начале осени следующего года («Раз он спал // У невской пристани. Дни лета // Клонились к осени…»), вскоре после чего он и погиб. Рассказ сопровождается описаниями разных мест Петербурга, картин наводнения, а главное, лирическими высказываниями автора и по поводу несчастья, постигшего Евгения и других горожан, и по поводу красоты и величия Петербурга, а также мыслями о роли Петра, основавшего город в устье Невы, которая периодически «бунтовала» и грозила городу разрушением.
Поэма Лермонтова «Мцыри» явно тяготеет к лирическому типу. Она включает 26 глав, из которых 25 представляют собой монолог Мцыри, во время которого он рассказывает о трех днях, проведенных на воле после побега из монастыря, но значительную часть его монолога занимают эмоционально окрашенные описания природы, а главное, переживания, которыми он делится с монахом перед смертью. Эти переживания полны горечи, страданий от ощущения несостоявшейся жизни. Такой, в высшей степени эмоциональный монолог дает основание назвать поэму лироэпической, но с преобладанием лирического начала, что выражается в свободной композиции, характерной для лирических произведений.
К числу поэм лирического плана может быть отнесен «Реквием» Ахматовой. Его сложная композиция объясняется и содержанием, и условиями создания произведения, которое рождалось в течение нескольких лет (с 1935-го по 1940-й год), при этом отдельные части ее долго хранились лишь в памяти Ахматовой. Поэма содержит прозаическое вступление («Вместо предисловия»), объясняющее обращение к данному замыслу; посвящение; вступление; затем шесть маленьких глав, продолжающих вступление; седьмую («Приговор»); восьмую и девятую главы («К смерти»), десятую главу («Распятие») и эпилог в двух частях.
Напоминание фактов, которые послужили материалом для поэмы (арест всех близких, смерть мужа, одиночество, ожидание приговора сыну, стояние в очередях в тюрьму, встречи с подобными себе женщинами), сочетается с трагическими размышлениями о своей судьбе и судьбе страны, с мыслями о смерти, которая иногда кажется легче жизни, с молитвами обо всех убиенных и страдающих в условиях тогдашней ситуации в стране. Все это мотивирует сложную композицию лирического типа и эмоционально экспрессивный тип речи.
Что касается собственно жанровых признаков, то термин поэма, с одной стороны, представляется правомерным и емким, с другой – недостаточно точным, так как под этим названием существуют лироэпические произведения героического («Василий Теркин»), романического («Мцыри», «Цыганы»), нравоописательного («Кому на Руси жить хорошо») плана и, конечно же, разной модальности. К лироэпическим жанрам можно отнести и балладу, если в ней более или менее явно проступает повествовательное начало.
Xудожественный метод
Размышления о содержании произведения, о типах модальности и о характере интерпретации действительности, воспроизводимой в художественном тексте, подводят к вопросу о степени адекватности, достоверности, правдивости воссоздаваемой художником картины мира и о соотношении жизненного материала с сознанием художника. Этот вопрос так или иначе возникал в разные периоды, но активизировался в 30—40-е годы XIX в. Одним из первых на эту проблему обратил внимание А.С. Пушкин еще в середине 20-х годов, высказав в романе «Евгений Онегин» свои мысли о предшествующей сентиментальной и романтической литературе, которую читали его современники и в которой либо преобладал морализм, подавлявший реальные драматические коллизии в отношениях между героями, либо обнаруживалось стремление показать исключительную личность, существующую словно вне реального мира и независимую от него.
Подобные мысли через некоторое время были поддержаны Белинским, отстаивавшим права «реальной поэзии», получившей пренебрежительное обозначение «натуральной». Данный вопрос был вновь поднят через 100 лет в работах русских критиков 20-х годов XX в., обратившихся к оценке познавательных возможностей литературы и степени ее объективности в изображении действительности. На эту мысль литературоведов натолкнуло сопоставление литературы с философией, в которой как бы существовало два основных метода или принципа познания жизни – идеалистический и материалистический. Заимствованное из философии понятие «метод» стало очень распространенным литературоведческим термином и предметом раздумий. Начиная с 20-х и включая 80-е годы XX в. на эту тему были написаны десятки книг и сотни статей. А сущностью размышлений и дискуссий стал вопрос о том, какую именно грань или сферу художественного произведения обозначает термин «метод», насколько он зависит от мировоззрения писателя и сколько методов можно насчитать в мировой литературе. Почти сразу же после возникновения данного вопроса (тоже по аналогии с философией) литературоведы заговорили о двух методах, сначала предложив для их обозначения понятия «материалистический – идеалистический», но вскоре заменив их понятиями: «реалистический – антиреалистический», «реалистический – нереалистический», а затем «реалистический – романтический». После дискуссии, прошедшей в 1957 г., в качестве второго члена указанной оппозиции вошел в обиход термин «нормативный», который был принят многими учеными и дожил до настоящего времени.
Из данного дихотомического подхода следовала необходимость определения реализма и нормативизма как сосуществующих, пересекающихся и в то же время различных принципов воспроизведения жизни. Преобладающее внимание было, конечно, уделено реализму, немалое – романтизму. Конкретных определений реализма было множество, но всех их объединяло стремление подчеркнуть, что реализм подразумевает такое изображение героев, при котором «они действуют (думают, чувствуют, говорят) в соответствии с особенностями их социальных характеров, с их внутренними закономерностями, создаваемыми общественными отношениями их страны и эпохи – типическими обстоятельствами» (Поспелов, 1972, 52). Согласно определению другого исследователя, «метод обнаруживается в том, как относится внутренняя логика развития образов к объективной закономерности развития человеческой жизни в данных национальных и исторических условиях» (Сквозников, ЛЭС, 218). Значит, в реалистических произведениях поведение героев и их мысли диктуются, обусловливаются, обосновываются обстоятельствами. А что происходит в произведениях нормативистского плана?
Попытки найти ответ на этот вопрос содержатся в ряде исследований, среди которых особого внимания заслуживают работы И.Ф. Волкова, много лет посвятившего исследованию метода и изложившего свои мысли в нескольких книгах, но предельно ясно и убедительно – в учебном пособии «Теория литературы», вышедшем в 1995 г. Напоминая, что понятие метода возникало в искусствознании всегда, когда решался вопрос об отношении произведений художественного творчества к реальной действительности, ученый стремился подчеркнуть, что воспроизведение действительности – это сложнейший акт творческого характера, а метод – «это тот или иной тип духовно-практического опыта людей, творчески освоенный писателем в качестве основы художественно-творческого воспроизведения жизни» (Волков, 156).
Исследователь рассмотрел все «дореалистические» эпохи, начиная с Античности и включая романтизм, а затем и некоторые этапы постреалистического периода (экспрессионизм, экзистенциализм) в аспекте творческого метода. Волков показал, что все они своеобразны, но для всех характерен тот тип художественного творчества, который он назвал универсализмом. В основе любого типа универсализма – особый характер связей индивида и общества и особый тип духовно-практического освоения мира в данную эпоху. В античную эпоху художники осваивали современную им жизнь в ее характерных особенностях как заданную в своей сущности богами и героями или как отклонение от нее и претворяли ее в образах, заимствованных из мифологии – отсюда античный мифологический универсализм.
В Средние века в рамках христианского представления о сущности мира реальная жизнь осваивалась как проявление божественной сущности или как происки дьявола, как проявление греховного начала в человеке. В этом своеобразие христианского универсализма. Гуманистические принципы эпохи Возрождения предусматривали воспроизведение реальной жизни и человеческих характеров как заданных всеобщей родовой естественной природой человека. И хотя основу произведений нередко составляли характеры людей эпохи Возрождения, они выступали как всеобщие, универсальные по своей сущности, всегда и везде неизменные и вечные, безразличные к конкретно-исторической реальности. Ученый называет этот период ренессансным универсализмом.
Эстетика классицизма базировалась на рационалистическом понимании характера человека. Xудожник должен был руководствоваться извечными законами разума, независимого от природы, но устанавливающего все ее существенные особенности. Это проявлялось в выборе конфликтов, решение которых приходит только извне, со стороны законов разума, за которыми стоят отвлеченные политические нормы или отвлеченно идеальные нравственные нормы, а также в закреплении тех или иных человеческих свойств за определенными группами (мещанин – скуп, монах – ханжа, слуга – плут, аристократ – герой). Это и было признаком рационалистического универсализма.
В искусстве Просвещения на поверхности конкретно-исторические формы жизни и изображение бытовых ситуаций, но характеры современников, как и в эпоху Возрождения, воспринимаются как изначально заданные в своей подлинной сущности естественной природой человека или как чуждые ей. При этом в разных течениях просветительской литературы универсализм проявлялся по-разному. Для одних (Свифт, Дидро, Лессинг) критерием истины человеческого бытия и средством избавления от пороков являются разум и интеллект; для других (Стерн, Руссо) источником смысла жизни и надежным средством утверждения гармонии является чувство. Поэтому просветительское искусство тоже преимущественно относится к универсальному, а не конкретно-историческому типу творчества – просветительскому универсализму.
Романтизм как метод тоже может быть определим по изображению и трактовке особого характера отношений личности и общества. Общественно-исторические обстоятельства европейской жизни на рубеже XVIII–XIX вв., в частности разрыв старых, локальных связей между людьми, сказался в романтическом типе сознания и признании самоценности и полной независимости человека от условий его жизни. Отсюда воспроизведение характеров абсолютно независимых от окружающих их жизненных обстоятельств, одиноких, ищущих идеалов – в иллюзиях прошлого, в экзотических условиях, в мечтах, в фантазиях и грезах. В этом случае можно говорить о романтическом типе универсализма. Еще один вариант универсализма, обусловленный предельной абсолютизацией отчуждения человека, ощущением всеобщего хаоса мира и страха человеческой личности перед миром, просматривается в экспрессионизме и некоторых других течениях литературы XX в. (Волков, 165–226).
Все эти кратко охарактеризованные типы изображения человека в литературных и живописных произведениях крупнейших европейских художников составили сокровищницу мирового искусства, обогатили человечество духовными ценностями, доставляли и продолжают доставлять удовольствие читателям разных стран. Однако аналитический, научный подход заставил ученых задуматься над источниками и предпосылками тех или иных типов изображения героев, что привело и к постановке вопроса о методе как принципе воспроизведения жизни, и к разработке классификации методов по характеру универсальности или нормативности.
Появление метода, который был назван реализмом, относят к 40-м годам XIX в. и связывают с развитием самого европейского общества и прежде всего с возникновением историзма как принципа мышления, позволившего рассмотреть и уяснить структуру самого общества, место индивида в его структуре, а тем самым характер взаимосвязей человека и социума. Способность объяснить, конечно, не логически, а художественно внутренний склад и поведение героев и окружающего их мира конкретно-историческими обстоятельствами бытового, психологического, социального характера, сложившимися в определенную эпоху, и означает присутствие реализма.
Однако выявление и опознание этого качества, по признанию даже специалистов в данной области, достаточно трудно и проблематично ввиду того, что метод – это все же отвлеченный, хотя и очень важный аспект литературного произведения. Поэтому при попытках выявить и определить реализм исследователи нередко обращались к жанрам, особенно к роману, мотивируя это общностью или близостью их структуры. «Роман – это высшая форма реализма, его синоним», – писал в свое время известный литературовед М.Н. Пархоменко. «Несомненна внутренняя структурная связь реализма XIX в. и жанра романа, поэтому типология реализма неотделима от типологии романа и может быть охарактеризована на основе рассмотрения этого жанра», – таково мнение ряда авторов солидной работы по типологии реализма (Развитие реализма в русской литературе. Т. 1, 1972, 10).
Настойчивое обращение к роману при изучении и осмыслении реализма имеет определенные основания и чаще всего находит следующее объяснение: роман и реализм соприкасаются в «умении» воссоздать широкую, всестороннюю, исчерпывающую картину действительности. В ответ на это можно сказать, что такая картина может присутствовать не только в романе, но и в жанрах этологического, нравоописательного типа. Более убедительным представляется иное доказательство. Роман близок реализму присущей ему от природы потребностью и способностью вглядываться в сущность индивида, наделенного сознанием и самосознанием, необходимостью рассматривать его как бы под микроскопом и принимать во внимание различные факторы, обусловливающие его мысли, настроение, поведение. С этим связаны широта и масштабность в изображении мира. При этом напомним, что роман как жанр появился в европейской литературе гораздо раньше реализма и, не будучи способным к реальному пониманию и объяснению поведения героев, «готовил» почву для реализма путем накопления наблюдений над структурой личности. В 40—50-е годы XIX в. состоялось сближение поисков в области понимания и достоверного воспроизведения человеческих характеров и ситуаций, осуществляемых в романе и других жанрах реалистического направления.
Конечно реализм, как и универсализм, выступает в разных модификациях. Поэтому в науке возник вопрос о типах реализма, который породил много работ, в том числе заслуживающий внимания трехтомный труд «Развитие реализма в русской литературе» (1972–1974). Одним из типов реализма был признан социалистический реализм, который получил это название «в передовой статье «Литературной газеты»» от 23 мая 1932 года (автор – И.М. Гронский). Сталин повторил его на встрече с писателями у М. Горького 26 октября того же года» (Ревякина, 157). Данный метод стал ядром, сущностью и знаком нового литературного направления, которое тоже стали называть социалистическим реализмом. Это направление нашло почву в литературах разных стран мира. Социалистический реализм воспринимался как продолжение и развитие реализма критического. Его новизна усматривалась в новом, социалистическом миропонимании писателей, которое позволяло верно понять противоречия настоящего и предвидеть пути развития в будущем, изобразить жизнь «в ее революционном развитии».
Однако уже в 70-е годы обнаружилась потребность в уточнении и корректировке понятия социалистического реализма как метода. Такая потребность диктовалась изменениями в характере самой литературы, особенно заметными начиная с конца 50-х – начала 60-х годов. Корректировка проявилась прежде всего в том, что социалистический реализм был признан рядом ученых (инициатива принадлежала Д.Ф. Маркову), «открытой эстетической системой», допускавшей отступления от принципа полного правдоподобия в изображении жизни, использование условности, фантастики, стилевого разнообразия. Принципиально изменилась трактовка этого метода в 90-е годы: в нем стали подчеркивать нормативность, проявлявшуюся в ложной картине действительности. Впервые эта мысль прозвучала еще в 50-е годы в статье А. Синявского «Что такое социалистический реализм», опубликованной за рубежом и ставшей известной в конце 80-х годов (Литературное обозрение, 1989, № 1).
При всем том, что литература XIX и XX вв. развивалась преимущественно под знаком реализма, уже в конце XIX и особенно в начале XX в. складывались более или менее крупные течения модернистского плана, что свидетельствовало о потребности искусства в поисках и обновлении принципов понимания человеческих характеров и обстоятельств. Некоторые из этих течений тяготели к авангардизму, другие к тому, что одним из ученых было названо неотрадиционализмом (Тюпа, 1998).
В конце XX в. появился постмодернизм. Предпосылками его возникновения стали отрицательное отношение к рациональному объяснению мира, полное разочарование в гуманистических ценностях, общепризнанных авторитетах, неприятие идеи целостности мира. Для постмодернизма – и на Западе и в России – характерно восприятие «мира как хаоса, лишенного причинно-следственных связей и ценностных ориентиров, «мира децентрированного», предстающего сознанию лишь в виде иерархически неупорядоченных фрагментов» (Ильин, 157). Отсюда тяготение к изображению бессознательного, случайного в поведении героев, преобладание безобразного над нормальным и благообразным, обилие иронии и пародийности в восприятии любых явлений жизни, утверждение пустоты, фиктивности, что и называют сейчас модным словом «симулякр». Тексты постмодернистских сочинений очень часто состоят из чужих слов, ситуаций, как правило, пародийно поданных.
Возникли и разные точки зрения на пути развития современного искусства, стала звучать мысль об исчезновении реализма. Однако, как убедительно пишет В.Е. Xализев, значительный массив литературы XX в. дает основание говорить о существовании реализма даже в том случае, когда он приобретает новые вариации и обозначения: «Реализм в предлагаемом нами понимании, по праву именуемый классическим, является достоянием не только XIX, но и недавно истекшего столетия». Высказанные суждения ученый дополняет мыслью о том, что ведущими стратегиями XXI в. являются умеренный модернизм и неореализм (Хализев, 2005, 41). С этим тезисом нельзя не согласиться.
Литературный стиль
Рассмотрением понятия литературный стиль целесообразно завершить анализ типологических категорий, потому что именно в стиле концентрируются, отпечатываются, выступают на поверхность самые разные особенности художественного произведения. Описанию и осмыслению этого понятия посвящено неисчислимое количество работ разного плана. Общеизвестно, что оно возникло в Античности в рамках риторики и с тех пор не переставало занимать сознание и художников, и исследователей. Систематизация исследований, связанных с трактовкой этой категории, содержится во многих работах, из числа которых особо внимательного отношения заслуживают: монография А.Н. Соколова «Теория стилей» (1968) и посмертно опубликованная работа А.Ф. Лосева «Проблема художественного стиля» (1994).
Всех тех, кто занимался этой проблемой, в первую очередь волновал вопрос, к какой сфере произведения наиболее применимо данное понятие? Подавляющее большинство исследователей пришли к выводу, что понятие стиля ассоциируется со способом изображения и выражения, иначе говоря, с формой. Гёте, используя термины простое подражание, манера, стиль, замечал, что стиль распознается в зримых, осязаемых образах и помогает раскрыть существо вещей. Гегель, различая манеру, оригинальность и стиль, подчеркивал, что стиль проявляется в способе изображения, вытекает из понимания предмета и соответствует требованиям определенного вида искусства. Тэн тоже связывал стиль с внешним выражением. Традиция соотнесения стиля со способом выражения была поддержана большинством теоретиков стиля и в последующие эпохи. К числу таких теоретиков следует отнести русских ученых П.Н. Сакулина, В.В. Виноградова, В.М. Жирмунского, А.В. Чичерина, Я.Е. Эльсберга, Г.Н. Поспелова, А.Н. Соколова и др.
Естественно, что стиль воспринимался и воспринимается как содержательно обусловленные особенности и способы выражения. В связи с этим возник вопрос о предпосылках и источниках стиля, которые были названы факторами стиля (Поспелов, 1970). К факторам стиля можно отнести проблемно-тематические моменты, тип модальности, жанровую принадлежность произведения, особенности метода и другие аспекты плана содержания. Параллельно с понятием факторы стиля сформировалось понятие носители стиля, к которым, очевидно, и могут быть причислены самые разные аспекты плана выражения, различающиеся в зависимости от того, к какому роду принадлежит произведение – эпическому, лирическому или драматическому.
Однако все эти особенности формы и способа выражения только тогда приобретают статус и значение стиля, когда в их подборе, сочетании, организации просматривается системность, закономерность, необходимость, обусловленные содержанием. В стремлении обозначить это базовое качество стиля ученые предлагали разные определения: порядок в выражении мысли (Бюффон), уравновешенность и симметрия (Винкельман), соразмерность (Шлегель), координация элементов художественного произведения (Тэн), упорядоченность (Вальцель), единство (Сакулин), структурность (Лосев), цельность, согласованность, системность (Поспелов), взаимодействие компонентов, ощущение закономерности в их соотношении (Соколов).
Вопрос о классификации, или типологии стилей в начале ХХ в. был поставлен в работах, посвященных живописи, скульптуре и архитектуре, в частности в книге Г. Вельфлина «Основные понятия истории искусств», где была рассмотрена эволюция стиля в произведениях эпохи Возрождения – Барокко и выделены пять принципов организации формы. Этот вопрос возникал в исследованиях и русских искусствоведов. Применительно к литературе подобный аспект привлек внимание и подвергся тщательному обсуждению в серии работ по теории и типологии литературных стилей, созданных в Институте мировой литературы РАН в 70—80-е годы (Теория литературных стилей, 1976, 1977, 1982.) В ходе обсуждения были выделены и охарактеризованы классический стиль (на материале творчества Петрарки, Гёте, Лопе де Вега, Шекспира, французских классицистов, Пушкина); стиль, характеризующийся определенным соотношением гармонии и дисгармонии; стиль, сочетающий в себе аналитизм и полифонизм, и стили, не получившие специального определения, но ассоциирующиеся с творчеством крупнейших художников слова – Толстого, Достоевского, Чехова, Горького, Шолохова.
Обнаружить ту или иную закономерность, позволяющую констатировать наличие стиля и его специфику, можно, по-видимому, только путем анализа и внимательного изучения текста произведения. Этому способствует использование таких понятий, как стилевая доминанта, или система стилевых доминант (Есин 1998). Конечно, при выявлении доминант возможны разные пути и разные результаты. Приведем одно из суждений чуткого и внимательного исследователя, работавшего в данной области: «Стилевая структура произведений Л. Толстого, насквозь организованная «диалектикой души» с ее нравственным императивом, стилевая структура романов Достоевского, «диалогическая», вызванная к жизни «диалектикой идей» и имеющая своим императивом предел человеческих возможностей… По отношению к пушкинской стилевой структуре такая структура кажется намного запутаннее… Стилевая структура «Жизни Клима Самгина» выглядит алогичной, бесследственной, беспричинной: одни события в ней сыплются за другими. И это результат сознательного авторского принципа показа бесконечно усложнившихся форм связей явлений и событий» (Киселева, 311–312). Попробуем показать на одном примере, каким может быть путь анализа стиля. А в качестве примера позволим себе взять такое сложное творение, как «Война и мир» Л.Н. Толстого.
Целесообразно начать с самого общего взгляда на произведение, что прежде всего подразумевает восприятие его как целого, а это, в свою очередь, ассоциируется с жанровыми качествами. Как известно, Толстой серьезно размышлял по поводу жанра своего сочинения: «Что такое «Война и мир»? Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника. «Война и мир» есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось» (Толстой 1981, Т. 7, 356). Общеизвестно, что в итоге это великое творение получило название: роман-эпопея. Уточняя вопрос о жанре «Войны и мира», следует сказать, что сочинение Толстого несомненно связано с романной традицией. Роман, как отмечено в разделе «Литературные жанры», предполагает изображение такой ситуации, где в центре судьба личности. Об этом свидетельствуют известные в то время произведения Констана, Стендаля, Бальзака, Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гончарова, Достоевского и самого Толстого, автора трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Конечно, в большинстве произведений названных писателей романная ситуация, т. е. сосредоточенность на неординарных героях и их личностных качествах, вырисовывалась весьма четко, хотя герои подчас были показаны в многообразных и подчас широких отношениях с той или иной средой. Но столь масштабного изображения русского общества в период войны и мира, какое было задумано Толстым на этот раз, еще не встречалось. Вероятно, это обстоятельство и заставило писателя усомниться в принадлежности своего сочинения к романной традиции.
На деле и здесь в центре внимания, а значит, и в центре сюжета судьба пятерых героев – Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой, Марьи Болконской и Николая Ростова. А всего в «Войне и мире» более 500 персонажей, которые с разной степенью полноты и скрупулезности обрисованы автором. Общее время действия составляет около 15 лет. Первая встреча с героями происходит в июле 1805 г. Роман открывается сценой вечера у фрейлины Шерер в Петербурге, где присутствуют Болконский и Безухов; в седьмой главе первого тома читатель попадает в дом Ростовых в Москве, где отмечают семейный праздник – именины Наташи и графини Ростовой; встреча с княжной Марьей произойдет в 22-й главе, где рассказывается, как она живет вместе с отцом в родовом имении Лысые Горы. Расставание наступает спустя семь лет после окончания Отечественной войны.
Что касается князя Андрея, то можно заметить, что его жизнь со всеми ее сложностями и перипетиями протекала на глазах у читателей с 1805 по 1812 г., когда он получил смертельное ранение, будучи командиром полка во время Бородинского сражения. Говоря о судьбе Пьера, надо сказать, что ему было особенно трудно в этой жизни: у него не было семьи, он ощущал себя незаконнорожденным сыном, князь Василий толкал его в среду золотой молодежи, затем в объятия своей холодной, расчетливой дочери Элен, что и привело к нелепой женитьбе. Кроме того, на долю Пьера выпали особые испытания: он ощутил дыхание смерти на Ново-Девичьем поле, пережил плен, когда голодный и босой вынужден был идти по мерзлой земле, видел смерть и французов, и русских, и своего друга Каратаева, а в конце – юного Пети Ростова. Ко всему этому, несомненно, прибавились наблюдения над поведением высших слоев русского общества после войны 1812 г., что укрепило его в мысли о неотвратимости перемен в стране и необходимости своего участия в их осуществлении. Поэтому через семь лет после окончания войны мы застаем его приехавшим из Петербурга в имение Ростовых Лысые Горы, очевидно, после встречи с единомышленниками, озабоченным судьбами России. Таким образом, для осознания своей роли и своего назначения, по замыслу Толстого, ему потребовалось немало времени. Наташа Ростова тоже пережила достаточно много – обретение и потерю Болконского, смерть отца, младшего брата, лишения военного времени, разорение семьи. Поэтому встреча с Пьером после войны, возможность счастливой семейной жизни и наличие духовного понимания их друг другом – это награда за перенесенные ею страдания. Немало пережила и княжна Марья. Николай Ростов, будучи боевым офицером, к счастью, остался жив, обрел жизненный и нравственный опыт, хотя интеллектуально мало изменился.
Что касается массы героев, включая Анну Павловну Шерер, Элен Курагину-Безухову, князя Василия, даже таких симпатичных писателю героев, как старшие Ростовы и их родственница Марья Дмитриевна Ахросимова, то весьма очевидно, что в их бытовом укладе и тем более внутреннем мире, т. е. сознании, из года в год принципиально ничего не меняется. Значит, временные границы повествования, составляющие около 15 лет, определяются временем, которое обусловливается романным замыслом, т. е. толстовским замыслом показать личность в процессе интеллектуальных и нравственных поисков, в ходе становления и осознанного обретения ею своего «я» и своего места в жизни.
Место действия тоже свидетельствует о романном начале как определяющем, ибо место действия – это в первую очередь место пребывания князя Андрея и Николая Ростова в разных точках Европы и России, Пьера – в поездках по России, в Можайске, Бородине; Ростовых и Болконских в Москве, Петербурге, имениях, а также в Мытищах, Посаде, Ярославле, Воронеже.
Конечно, их жизнь протекает в соприкосновении со многими людьми, но ближайшее окружение – это семья. Принадлежность к определенному типу семьи и укорененность в ней – очень важный фактор в формировании индивида как личности. Наиболее благоприятные в этом плане условия сложились для князя Андрея и княжны Марьи. Суровая атмосфера быта в Лысых горах и привычка к делам любого рода заложили в Андрее стремление к серьезным занятиям, а в княжне Марье потребность в духовно насыщенной и нравственной жизни. Столь же глубоко связана Наташа с семьей Ростовых, что благоприятно для нее и для ее родных, поскольку мир этой семьи – это мир любви, искренности, простоты, естественности. Помимо семьи, те же лица связаны с более широким кругом людей – с военной средой, с массой москвичей и петербуржцев, с провинциальными кругами, с поместным миром. Благодаря этому русское общество 1805–1812 гг. обрисовано с предельной полнотой и обстоятельностью, и понятие «энциклопедия русской жизни», введенное Белинским, в не меньшей мере относится и к «Войне и миру». Однако полнота и размах в изображении общества не мешают постоянному вниманию к судьбам главных героев и тем самым развитию и сохранению романного замысла, организующего текст.
Вовлечение в сферу внимания событий и обстоятельств 1812 года необыкновенно расширяет пространственные рамки повествования за счет изображения огромного количества событий – горящей Москвы, оставленной русскими и заполненной французами, военных баталий и связанных с этим передвижений войск, перемещения штаба Кутузова, действий партизанских отрядов и т. п. При этом и здесь, т. е. в соответствующих главах третьего и четвертого томов, как правило, кратко или подробно сообщается о присутствии романных героев (князь Андрей в беседе с Кутузовым накануне сражения, затем на одном из участков Бородинского поля; Пьер сначала там же, а затем в Москве и в плену; Николай в своем отряде; Наташа вместе с семьей в сборах к отъезду из Москвы и в организации помощи раненым, даже пятнадцатилетний Петя в отряде Денисова и т. д.). Но основной задачей во многих главах становится изображение России в тот момент, который Гегель назвал бы героическим состоянием мира, так как тут решаются судьбы страны, а вместе с этим и отдельных людей. Эта задача отражается и на характере течения времени.
В первых двух томах излагаются события семи лет (1805 – середина 1812), когда преобладает ровное течение времени, при этом очень часто сопровождающееся указанием на дату того или иного эпизода. В целом в повествовании даты называются 95 раз, в том числе в первых двух томах 50 раз, в третьем и четвертом – 45. Но цифра 50 относится к семи годам, а цифра 45 – фактически к одному году. Значит, в конце время как бы сгущается: в 1812 г. даты называются в 40 случаях; в 1813, 1814 и 1820 – в пяти. Если не называется число и месяц года, то очень часто сообщается: на другой день, через столько-то недель, спустя три дня и т. п. Это способствует не только ощущению достоверности изображаемого, но и возможности включения происходящего с героями в историческое время. Смена эпизодов, сцен и ситуаций подчиняется хроникальному принципу, при этом переход от одной ситуации к другой происходит столь органично и естественно, что не вызывает удивления или сомнения, а граница перехода очень часто обозначается указанием на время, будь то год, месяц или даже число.
Итак, произведение Толстого не утрачивает качеств романа, но приобретает качества эпопеи. В силу этого и хронотоп не меняется, а обогащается. Время сгущается, концентрируется, насыщается событиями непосредственно исторической значимости. Однако в эпилоге писатель возвращает действующих лиц из героического в романный мир и показывает, как выглядит жизнь двух семей – Ростовых и Безуховых – спустя семь лет после трагических событий 1812 г. Поэтому обозначение жанра всего произведения как романа-эпопеи совершенно оправдано.
Указанные жанровые, а следовательно, содержательные особенности порождают принципы изображения, определяющие стиль Толстого, в наибольшей степени проявившийся в данном произведении. Впечатление широты, масштабности, полноты картины мира, воссозданной писателем, достигается в первую очередь за счет преобладания предметной изобразительности и ее функциональной значимости, т. е. умения выпукло, зримо передать внешний облик героев, место действия, будь то дом, пейзаж, поле боя, заседание совета или штаба, официальный прием или светский раут.
Это качество и вызывает ощущение пластичности, наглядности изображенного. В доказательство можно привести массу примеров. Стоит вспомнить картины поместной жизни в Лысых Горах, Богучарове, Отрадном, в имении дядюшки Ростовых, сцены московского, петербургского и военного быта в разные периоды времени. При этом Толстой воспроизводит не только и не столько интерьеры, убранство домов, как любил делать Гоголь, сколько поведение людей, пребывающих в стенах загородных или столичных домов, на улицах Москвы и на полях сражений. Великолепно описание именин в доме Ростовых, сборов на бал Наташи и Сони, сцен охоты, чинных обедов в доме Болконских и непринужденных праздников в доме Ростовых.
Нельзя не заметить мастерства Толстого в описании «коллективных сцен», т. е. всякого рода балов, приемов, раутов, баталий. В таких сценах вырисовываются характеры действующих лиц, а главное, передается атмосфера того или иного круга или сообщества. Стоит вспомнить вечер у Шерер, прием в Английском клубе в честь князя Багратиона, бал в Вильно в день начала войны, заседания в штабе Кутузова, эпизоды Бородинского сражения и др. Приведем небольшой фрагмент описания петербургского бала (первого петербургского бала Наташи), который отмечен посещением царственной особы: «Вдруг все зашевелилось, толпа заговорила, опять раздвинулась, и между двух расступившихся рядов, при звуках заигравшей музыки, вошел государь. За ним шли хозяин и хозяйка. Государь шел быстро, кланяясь направо и налево… Музыканты играли польский, известный тогда по словам, сочиненным на него. Слова эти начинались: Александр, Елизавета, восхищаете вы нас. Государь прошел в гостиную, толпа хлынула к дверям; несколько лиц с изменившимися выражениями прошли туда и назад. Толпа опять отхлынула от дверей гостиной, в которой показался государь. Какой-то молодой человек с растерянным видом наступал на дам, прося их посторониться. Некоторые дамы, портя свои туалеты, теснились вперед. Мужчины стали подходить к дамам и строиться в пары польского».
Помимо искусства предметной изобразительности, которым виртуозно владел Толстой, он был непревзойден в изображении внутреннего мира персонажей. Несколькими штрихами художник умел передать состояние любого действующего лица, будь то стареющая графиня Ростова, юный Николенька Болконский и многие другие. Примечательны сцены тревоги графини Ростовой за Наташу, за Петю, Анны Михайловны Друбецкой за своего сына, а также моменты, свидетельствующие о страхе Николая Ростова во время одного из сражений в Европе; негодования Андрея Болконского при виде беспорядка в русской армии в 1805 г.; переживаний Кутузова за исход Бородинского сражения, а еще более – за ход событий и необходимость сохранения армии при изгнании французов из России.
Но основная заслуга писателя заключалась в анализе и воспроизведении субъективного мира романных героев, который требовал особого внимания и соответствующих способов изображения. Используя мысль одного из исследователей творчества Тургенева, можно сказать: «На построение характеров доминирующих героев идет самый сложный многосоставный материал» (Долотова, 1973). Это может быть отнесено и к героям Толстого. Психологическая манера Толстого характеризуется тем, что его психологизм, в отличие от такового у Достоевского, «не бросается в глаза». Он может быть косвенным, когда состояние героя передается через внешность, жесты, манеры, мимику и сами поступки, как в эпизодах, воссоздающих волнение Наташи перед балом, на балу, перед объяснением с Болконским, после известия о его ранении и присутствии в обозе раненых. Психологически выразительны портреты героев, например, портрет Андрея Болконского, когда он, покинув Петербург, приехал под начало Кутузова и ощутил себя нужным в военном деле: «В выражении его лица, в походке не было заметно прежнего притворства, усталости и лени; он имел вид человека, занятого делом, приятным и интересным. Лицо его выражало больше довольства собой и окружающими; улыбка и взгляд были веселее и привлекательнее».
Прямой психологизм является там, где непосредственно, словами самих героев, передается их состояние. Наиболее репрезентативна с этой точки зрения монологическая речь, обращенная очень часто к самим себе. У Николая Ростова монологи возникают в моменты особых волнений и потому весьма эмоциональны: «Шестьсот рублей, туз, угол, девятка… отыграться невозможно! …И как бы весело было дома… Валет на пе… это не может быть! И зачем же он это делает со мной?…». У Наташи тоже: «Неужели это я, та девочка-ребенок (так все говорили обо мне), неужели я теперь с этой минуты жена, равная этого чужого, милого, умного человека, уважаемого даже отцом моим? Неужели это правда?
Неужели правда, что теперь нельзя уже шутить жизнию, теперь уж я большая, теперь уж лежит на мне ответственность за всякое мое дело и слово? Да, что он спросил у меня?» Размышления князя Андрея, возникающие по разным поводам, личным и общественным, как правило, более спокойны и логичны: «Да, это добрые, славные люди, не понимающие ни на волос того сокровища, которое они имеют в Наташе; но добрые люди, которые составляют наилучший фон для того, чтобы на нем отделялась эта особенно поэтическая, переполненная жизни, прелести девушка!» Пьер в разной степени эмоционален, в зависимости от ситуации и темы его раздумий: «Да, он очень красив (о Долохове), я знаю его. Для него была бы особенная прелесть в том, чтобы осрамить мое имя и посмеяться надо мной, именно потому, что я хлопотал за него и призрел его, помог ему. Я знаю, я понимаю, какую соль это в его глазах должно придавать его обману, ежели бы это была правда. Да, ежели бы это была правда; но я не верю, не имею права и не могу верить». Примеров подобного рода может быть приведено очень много.
Своеобразие психологизма Толстого заключается в умении сочетать и сопрягать мысли и настроения, выраженные с помощью прямой речи героя, с мыслями и состояниями, переданными в форме косвенной или несобственно-прямой речи, сопровождающиеся комментариями повествователя-автора. Несобственно-прямая речь более сложна и трудна для восприятия читателей, так как здесь умственно-психологическое состояние героев передается словами автора, сохраняя при этом особенности речи героя. Существует мнение, что в ««Войне и мире» на первом месте стоят внутренние монологи, переданные прямой речью, в «Анне Карениной» эти две формы сосуществуют» (Кожевникова, 1994). При сравнении двух романов, вероятно, справедливо такое умозаключение, но в «Войне и мире» тоже очень много случаев использования несобственно-прямой речи. В таких случаях взаимопроникновение голосов героя и автора, в частности привнесение авторского голоса, становится особенно заметным. Вот один из примеров: «Он (князь Андрей) посмотрел на поющую Наташу, и в душе его произошло что-то новое и счастливое. Он был счастлив и ему вместе с тем было грустно. Ему решительно не о чем было плакать, но он готов был плакать. О чем? О прежней любви? О маленькой княгине? О своих разочарованиях? О своих надеждах на будущее? Да и нет».
Замечательная особенность манеры Толстого заключается в умении незаметно переходить от передачи прямой речи к косвенной, затем несобственно-прямой и обратно. Причем переключения эти кажутся очень органичными, а читатель поражается, насколько Толстой способен постичь и передать состояние героев самого разного типа, в том числе женщин. «Как ни стыдно ей (княжне Марье) было признаться, что она первая полюбила человека, который, может быть, никогда не полюбит ее, она утешала себя мыслью, что никто никогда не узнает этого и что она не будет виновата, ежели будет до конца жизни, никому не говоря о том, любить того, которого она любила в первый и последний раз», – таковы мысли героини после встречи с Николаем Ростовым в Богучарове перед приходом французов.
Высказывания героев в форме внутренних монологов или косвенной и несобственно-прямой речи настолько органично вписываются в конкретную ситуацию, что и в этом случае возникает впечатление наглядности, зримости отдельных образов и ситуации в целом. Ощущение пластичности и живописности (не в смысле красоты, а в смысле наглядности) создается в процессе и повествования, и описания. При этом повествователь как бы отсутствует, предоставляя право самим героям демонстрировать и свои мысли и действия.
Однако временами повествователь не хочет остаться незаметным, он непосредственно сопровождает повествование и описание рассуждениями, а лучше сказать, эмоционально окрашенными размышлениями по поводу исторических событий и обстоятельств, с которыми были связаны судьбы героев (особенно часто это случается в третьем и четвертом томах произведения). Именно исторические события двенадцатого года, весьма значимые для судеб России, вызывают у автора потребность как можно подробнее охарактеризовать их и сопроводить своими суждениями, раздумьями об их возможных причинах и существующих оценках.
Здесь, очевидно, сам автор выступает в облике или образе повествователя, передавая ему свои мысли. Об этом свидетельствует и характер его речи, в которой сочетаются голос Толстого-романиста, Толстого-историка и Толстого-судьи, выносящего приговор иноземным захватчикам и доказывающего, что победа над французами была неизбежна и неотвратима, а главную роль в этой победе сыграло чувство Родины, которое оказалось присуще и командующему армией, мудрому фельдмаршалу Кутузову, и солдатам, и офицерам, и мужикам, вступавшим в партизанские отряды и не желавшим продавать сено и прочий фураж французам, и жителям Москвы, покидавшим ее перед вступлением французской армии: «Они ехали потому, что для них не могло быть вопроса: хорошо ли или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть: это было хуже всего….Они уезжали каждый для себя, а вместе с тем совершилось то величественное событие, которое навсегда останется лучшей славой русского народа».
Как видим, интонация здесь эмоционально-патетическая, создаваемая различными словесными средствами. Такая интонация особенно ощутима в оценке Кутузова: «Кутузов знал не умом или наукой, а всем русским существом своим знал и чувствовал то, что чувствовал каждый русский солдат, что французы побеждены; но вместе с тем он чувствовал заодно с солдатами всю тяжесть этого, неслыханного по быстроте и времени похода». И далее: «Представителю русского народа, после того, как враг был уничтожен, Россия освобождена и поставлена на высшую степень своей славы, русскому человеку, как русскому, делать больше было нечего. Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер». Здесь важна не столько констатация факта, сколько эмоциональная оценка автора.
Итак, предложенный краткий анализ содержательно-формальных особенностей «Войны и мира» позволяет отметить, что своеобразной доминантой стиля в этом произведении является преобладание предметной изобразительности, которая включает, помимо воспроизведения действий, поступков, описания интерьеров, природы, внешности героев, передачу их внутреннего состояния с помощью разных типов речи самих персонажей и автора-повествователя. Воссоздание внутреннего мира человека, т. е. психологизм, который присущ самым разным произведениям Толстого («диалектика души», по Чернышевскому), настолько органичен, что порой становится незаметным, вплетаясь в повествование и свидетельствуя о поразительном умении художника нарисовать все, что можно увидеть, представить, вообразить и «услышать» внутренним слухом. Отсюда и возникает ощущение пластичности, т. е. зримости, наглядности, живописности или скульптурности изображенного мира, что не исключает выразительности и эмоциональности, исходящей от настроений самих героев, и оценки всего происходящего заинтересованным автором.
Возвращаясь к теоретическому определению стиля, следует еще раз подчеркнуть, что стиль — это не простое соединение элементов формы, а принцип их сочетания и взаимодействия. Поэтому стиль может просматриваться в разных произведениях одного автора, а подчас в произведениях разных авторов, большей частью принадлежащих к одному периоду или эпохе. Тогда стиль и приобретает свойства типологического явления. Вместе с тем в творчестве художника, обращающегося к разным темам и жанрам, может обнаруживаться тяготение к разным стилевым вариациям. Из этого следует, что стиль есть явление индивидуальное, свойственное, как правило, большим мастерам, в силу чего возникло понятие великого стиля. Но в стиле могут быть замечены общие тенденции, обусловленные общностью художественных поисков в области литературы на том или ином этапе ее развития.
Литературные направления
Понятие литературное направление возникло в связи с изучением литературного процесса и стало означать определенные грани и особенности литературы, а нередко и других видов искусств, на том или ином этапе их развития. В силу этого первый, хотя и не единственный признак литературного направления, – констатация определенного периода в развитии национальных или региональных литератур. Выступая показателем и свидетельством определенного периода в развитии искусства той или иной страны, литературное направление относится к явлениям конкретно-исторического плана. Будучи явлением международным, оно обладает вневременными, надысторическими качествами. Конкретно-историческое направление отражает специфические национально-исторические особенности, формирующиеся в разных странах, хотя и не в одно и то же время. Вместе с тем оно вбирает в себя и трансисторические типологические свойства литературы, среди которых очень часто оказываются метод, стиль, жанр.
К числу конкретно-исторических признаков литературного направления в первую очередь относится осознанная программность творчества, которая проявляется в создании эстетических манифестов, составляющих некую платформу для объединения писателей. Рассмотрение программ-манифестов и позволяет увидеть, какие именно качества являются доминирующими, базовыми и определяющими специфику того или иного литературного направления. Поэтому своеобразие направлений легче представить при обращении к конкретным примерам и фактам.
Начиная с середины XVI и на протяжении XVII в., т. е. на завершающем этапе Ренессанса, или Возрождения, в искусстве некоторых стран, особенно в Испании и Италии, а затем и в других странах обнаруживаются тенденции, которые уже тогда получили название барокко (порт. barrocco – жемчужина неправильной формы) и проявились более всего в стиле, т. е. в манере письма или живописного изображения. Доминирующие черты барочного стиля – витийственность, помпезность, декоративность, склонность к иносказательности, аллегоризму, сложная метафоричность, соединение комического и трагического, обилие стилистических украшений в художественной речи (в архитектуре этому соответствуют «излишества» в оформлении сооружений).
Все это было связано с определенным мироощущением и прежде всего с разочарованием в гуманистическом пафосе эпохи Возрождения, тяготением к иррациональности в восприятии жизни и появлении трагических настроений. Яркий представитель барокко в Испании – П. Кальдерон; в Германии – Г. Гриммельсхаузен; в России черты данного стиля проявились в поэзии С. Полоцкого, С. Медведева, К. Истомина. Элементы барокко прослеживаются и до, и после эпохи его расцвета. К программным барочным текстам можно отнести «Подзорную трубу Аристотеля» Э. Тезауро (1655), «Остромыслие, или Искусство изощренного ума» Б. Грасиана (1642). Основные жанры, к которым тяготели писатели, – пастораль в ее разных формах, трагикомедия, бурлеск и др.
В ХУ1 в. во Франции возник литературный кружок молодых поэтов, вдохновителями и вождями которых были Пьер де Ронсар и Жоашен дю Белле. Этот кружок стали называть Плеядой — по числу его членов (семь) и по названию созвездия из семи звезд. С образованием кружка обозначился один из важнейших признаков, свойственных будущим литературным направлениям, – создание манифеста, которым стало сочинение дю Белле «Защита и прославление французского языка» (1549). Совершенствование французской поэзии напрямую связывалось с обогащением родного языка – через подражание греческим и римским древним авторам, через освоение жанров оды, эпиграммы, элегии, сонета, эклоги, развитие иносказательного стиля. Подражание образцам рассматривалось как путь к расцвету национальной литературы. «Мы вырвались из стихии греков и сквозь римские эскадроны проникли в самое сердце столь желанной Франции! Вперед, французы!» – темпераментно заканчивал дю Белле свой опус. Плеяда была практически первым, не очень широким, литературным направлением, которое назвало себя школой (впоследствии так будут именовать себя и некоторые другие направления).
Еще более четко признаки литературного направления проявились на следующем этапе, когда возникает движение, названное позднее классицизмом (лат. classicus – образцовый). О его появлении в разных странах свидетельствовали, во-первых, определенные тенденции в самой литературе; во-вторых, стремление осознать их теоретически в разного рода статьях, трактатах, художественных и публицистических произведениях, которых с ХУ1 по ХVIII век появилось очень много. В их числе «Поэтика», созданная итальянским мыслителем, жившим во Франции, Юлием Цезарем Скалигером (на лат. яз., издана в 1561 г. после смерти автора), «Защита поэзии» английского поэта Ф. Сидни (1580), «Книга о немецкой поэзии» немецкого поэта-переводчика М. Опица (1624), «Опыт поэзии немцев» Ф. Готшеда (1730), «Поэтическое искусство» французского поэта и теоретика Н. Буало (1674), которое считается своего рода итоговым документом эпохи классицизма. Размышления о сути классицизма отразились в лекциях Ф. Прокоповича, которые он читал в Киево-Могилянской Академии, в «Риторике» М.В. Ломоносова (1747) и «Эпистоле о стихотворстве» А.П. Сумарокова (1748), представлявшей собой вольный перевод названной поэмы Буало.
Особенно активно проблемы данного направления обсуждались во Франции. Об их сути можно судить по той острой дискуссии, которую возбудил «Сид» П. Корнеля («Мнение Французской Академии по поводу трагикомедии «Сид» Корнеля» Ж. Шаплена, 1637). Автору пьесы, восхитившей зрителей, вменялось в вину и предпочтение грубой «правды» назидательному «правдоподобию», и прегрешения против «трех единств», и введение «лишних» персонажей (Инфанты).
Это направление было порождено эпохой, когда приобрели силу рационалистические тенденции, отразившиеся в знаменитом высказывании философа Декарта: «Я мыслю, значит я существую». Предпосылки данного направления в разных странах не во всем были одинаковы, но общее заключалось в появлении типа личности, поведение которой должно было согласовываться с требованиями разума, с умением подчинять страсти рассудку во имя нравственных ценностей, диктуемых временем, в данном случае, с общественно-историческими обстоятельствами эпохи укрепления государства и возглавлявшей его тогда королевской власти. «Но эти государственные интересы не вытекают здесь органически из условий жизни героев, не являются их внутренней потребностью, не диктуются их собственными интересами, чувствами и отношениями. Они выступают как норма, которая устанавливается для них кем-то, в сущности художником, который выстраивает поведение своих героев в соответствии со своим чисто рационалистическим пониманием государственного долга» (Волков, 189). В этом обнаруживается соответствующий данному периоду и мироощущению универсализм в толковании человека.
Своеобразие классицизма в самом искусстве и в суждениях его теоретиков проявилось в ориентации на авторитет античности и особенно на «Поэтику» Аристотеля и «Послание к Пизонам» Горация, в поисках своего подхода к соотношению литературы и действительности, правды и идеала, а также в обосновании трех единств в драматургии, в четком разграничении жанров и стилей. Наиболее значительным и авторитетным манифестом классицизма до сих пор считается «Поэтическое искусство» Буало – изысканная дидактическая поэма в четырех «песнях», написанная александрийским стихом, в которой изящно излагаются основные тезисы этого направления.
Из этих тезисов следует обратить особое внимание на следующие: предложение ориентироваться на природу, т. е. действительность, но не грубую, а таящую в себе определенную долю изящества; подчеркивание того, что искусство не должно просто повторять ее, а воплощать в художественные творения, в результате чего «кисть художника являет превращенье // предметов мерзостных в предметы восхищенья». Другой тезис, который предстает в разных вариациях, – это призыв к строгости, стройности, соразмерности в организации произведения, которые предопределяются, во-первых, наличием таланта, то есть способности быть настоящим поэтом («напрасно рифмоплет в художестве стиха достигнуть мнит высот»), а главное, умением четко мыслить и ясно выражать свои идеи («Любите мысль в стихах»; «Учитесь мыслить вы, затем уже писать. Идет за мыслью речь» и т. п.). Этим обусловлено стремление к более или менее четкому разграничению жанров и зависимости стиля от жанра. При этом достаточно тонко определяются такие лирические жанры, как идиллия, ода, сонет, эпиграмма, рондо, мадригал, баллада, сатира. Особое внимание уделяется «эпосу величавому» и драматическим жанрам – трагедии, комедии и водевилю.
В размышлениях Буало присутствуют тонкие наблюдения над интригой, сюжетом, пропорциями в соотношении действия и описательных деталей, а также весьма убедительное обоснование необходимости соблюдения в драматических произведениях единства места и времени, подкрепляемое всепроникающей мыслью о том, что искусность в построении любого произведения зависит от уважения к законам разума: «Что ясно понято, то ясно прозвучит».
Конечно, и в эпоху классицизма не все художники воспринимали буквально декларируемые правила, относясь к ним достаточно творчески, особенно такие, как Корнель, Расин, Мольер, Лафонтен, Мильтон, а также Ломоносов, Княжнин, Сумароков. Кроме того, не все писатели и поэты XVII–XVIII вв. принадлежали к данному направлению – за его пределами оставались многие романисты того времени, тоже оставившие свой след в литературе, но имена их менее известны, чем имена знаменитых драматургов, особенно французских. Причина этого – в несоответствии жанровой сущности романа тем принципам, на которых базировалась доктрина классицизма: интерес к личности, характерный для романа, противоречил представлениям о человеке как носителе гражданского долга, руководствующемся некими высшими принципами и законами разума.
Итак, классицизм как конкретно-историческое явление в каждой из европейских стран имел свои особенности, но практически всюду это направление ассоциировалось с определенным методом, стилем и преобладанием тех или иных жанров.
Настоящей эпохой господства Разума и надежд на его спасительную силу стала эпоха Просвещения, которая хронологически совпала с XVIII столетием и ознаменовалась во Франции деятельностью Д. Дидро, Д'Аламбера и других авторов «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» (1751–1772), в Германии – Г.Э. Лессинга, в России – Н.И. Новикова, А.Н. Радищева и др. Просвещение, по мнению специалистов, «явление идеологическое, представляющее собой исторически закономерный этап в развитии общественной мысли и культуры, при этом идеология Просвещения не замкнута в пределах какого-то одного художественного направления» (Кочеткова, 25). В рамках просветительской литературы различают два направления. Одно из них, как уже отмечалось в разделе «Художественный метод», называют собственно просветительским, а второе – сентиментализмом. Логичнее, по мнению И.Ф. Волкова (Волков, 1995), первое назвать интеллектуальным (его наиболее значительные представители – Дж. Свифт, Г. Филдинг, Д. Дидро, Г.Э. Лессинг), а за вторым сохранить название сентиментализма. Это направление не имело такой разработанной программы, как классицизм; его эстетические принципы часто излагались в «беседах с читателями» в самих художественных произведениях. Оно представлено большим количеством художников, наиболее известны из них Л. Стерн, С. Ричардсон, Ж. – Ж. Руссо и отчасти Дидро, М.Н. Муравьев, Н.М. Карамзин, И.И. Дмитриев.
Ключевое слово этого направления – чувствительность, чувствительный (англ. sentimental), что связано с трактовкой человеческой личности как отзывчивой, способной к состраданию, гуманной, доброй, обладающей высокими нравственными принципами. При этом культ чувства не означал отказа от завоеваний разума, но таил протест против чрезмерного господства разума. Таким образом, в истоках направления просматриваются идеи Просвещения и их своеобразная трактовка на данном этапе, то есть преимущественно во 2-й половине ХVIII – первом десятилетии XIX в.
Данный круг идей сказывается в изображении героев, наделенных богатым духовным миром, чувствительных, но способных управлять своими чувствами с тем, чтобы преодолеть или победить порок. Об авторах многих сентиментальных романов и созданных ими героях с легкой иронией писал Пушкин: «Свой слог на важный лад настроя, // Бывало, пламенный творец // Являл на своего героя // Как совершенства образец».
Сентиметализм, безусловно, наследует и классицизму. Вместе с тем ряд исследователей, особенно английских, называют этот период предромантизмом (преромантизмом), подчеркивая его роль в подготовке романтизма.
Преемственность может иметь разные формы. Она проявляется и в опоре на предшествующие идейно-эстетические принципы, и в полемике с ними. Особенно активной по отношению к классицизму оказалась полемика следующего поколения писателей, назвавших себя романтиками, а рождающееся направление – романтизмом, добавляя при этом: «истинным романтизмом». Xронологические рамки романтизма – первая треть XIX в.
Предпосылкой нового этапа в развитии литературы и искусства в целом явилось разочарование в идеалах Просвещения, в рационалистической концепции личности, свойственной той эпохе. Признание всесилия Разума сменяется углубленными философскими исканиями. Немецкая классическая философия (И. Кант, Ф. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель и др.), явилась мощным стимулом новой концепции личности, в том числе личности художника-творца («гения»). Родиной романтизма стала Германия, где сформировались литературные школы: йенские романтики, активно развивавшие теорию нового направления (В.Г. Вакенродер, бр. Ф. и А. Шлегели, Л. Тик, Новалис – псевдоним Ф. фон Гарденберга); гейдельбергские романтики, проявившие огромный интерес к мифологии и фольклору. В Англии возникла романтическая озерная школа (У. Водсворт, С.Т. Колридж и др.), в России тоже шло активное осмысление новых принципов (А. Бестужев, О. Сомов и др.).
Непосредственно в литературе романтизм проявляется во внимании к личности как духовному существу, обладающему суверенным внутренним миром, независимым от условий существования и исторических обстоятельств. Независимость очень часто толкает личность к поискам условий, созвучных ее внутреннему миру, которые оказываются исключительными, экзотичными, подчеркивающими ее неординарность и одиночество в мире. Своеобразие такой личности и ее мироощущение точнее других определил В.Г. Белинский, назвавший такое качество романтикой (англ. romantic). Для Белинского это тип умонастроения, проявляющийся в порыве к лучшему, возвышенному, это «внутренняя, задушевная жизнь человека, та таинственная почва души и сердца, откуда подымаются все неопределенные стремления к лучшему, возвышенному, стараясь находить себе удовлетворение в идеалах, творимых фантазиею… Романтизм – это вечная потребность духовной природы человека: ибо сердце составляет основу, коренную почву его существования». Белинский же подметил, что типы романтиков могут быть разными: В.А. Жуковский и К.Ф. Рылеев, Ф.Р. Шатобриан и Гюго.
Для обозначения различных, а подчас противоположных видов романтики часто используется термин течение. Течения внутри романтического направления в разное время получали неодинаковые наименования, наиболее продуктивными можно считать романтизм гражданской (Байрон, Рылеев, Пушкин) и религиозно-этической ориентации (Шатобриан, Жуковский).
Идеологический спор с Просвещением дополнился у романтиков эстетической полемикой с программой и установками классицизма. Во Франции, где традиции классицизма были наиболее прочными, формированию романтизма сопутствовала бурная полемика с эпигонами классицизма; вождем французских романтиков стал Виктор Гюго. Широкий резонанс получили «Предисловие к драме «Кромвель»» Гюго (1827), а также «Расин и Шекспир» Стендаля (1823–1925), эссе Ж. де Сталь «О Германии» (1810) и др.
В этих работах вырисовывается целая программа творчества: призыв правдиво отражать «природу», сотканную из противоречий и контрастов, в частности, смело соединять прекрасное и безобразное (такое сочетание Гюго называл гротеском), трагическое и комическое, следуя примеру Шекспира, обнажать противоречивость, двойственность человека («и люди и события… бывают то смешными, то страшными, иногда и смешными и страшными одновременно»). В романтической эстетике зарождается исторический подход к искусству (что проявилось в рождении жанра исторического романа), подчеркивается ценность национального своеобразия как фольклора, так и литературы (отсюда требование «местного колорита» в произведении).
В поисках генеалогии романтизма Стендаль считает возможным назвать романтиками Софокла, Шекспира и даже Расина, очевидно, стихийно опираясь на мысль о существовании романтики как определенного типа умонастроения, что возможно и за пределами собственно романтического направления. Эстетика романтизма – гимн свободе творчества, оригинальности гения, в силу чего «подражание» кому бы то ни было сурово осуждается. Особым объектом критики оказывается для теоретиков романтизма всякого рода регламентация, свойственная программам классицизма (в том числе правила единства места и времени в драматических произведениях), романтики требуют свободы жанров в лирике, призывают к использованию фантастики, иронии, они признают жанр романа, поэмы со свободной и неупорядоченной композицией и т. д. «Ударим молотом по теориям, поэтикам и системам. Собьем старую штукатурку, скрывающую фасад искусства! Нет ни правил, ни образцов; или вернее, нет иных правил, кроме общих законов природы, господствующих над всем искусством», – так писал Гюго в «Предисловии к драме «Кромвель»».
Завершая краткие размышления о романтизме как направлении, следует подчеркнуть, что романтизм ассоциируется с романтикой как типом умонастроения, который может возникать и в жизни, и в литературе в разные эпохи, со стилем определенного типа и с методом нормативного, универсалистского плана.
В недрах романтизма и параллельно с ним вызревали принципы нового направления, которое получит название реализма. К ранним реалистическим произведениям относятся «Евгений Онегин» и «Борис Годунов» Пушкина, во Франции – романы Стендаля, О. Бальзака, Г. Флобера, в Англии – Ч. Диккенса и У. Теккерея.
Термин реализм (лат. realis – вещественный, действительный) во Франции был использован в 1850 г. писателем Шанфлери (псевдоним Ж. Юссона) в связи с полемикой о живописи Г. Курбе, в 1857 г. вышла его книга «Реализм» (1857). В России термин использовал, характеризуя «натуральную школу», П.В. Анненков, выступивший в 1849 г. в «Современнике» с «Заметками о русской литературе 1848 года». Слово реализм стало обозначением общеевропейского литературного направления. Во Франции, по мнению известного американского критика Рене Уэллека, его предшественниками считали Мериме, Бальзака, Стендаля, а представителями – Флобера, молодого А. Дюма и братьев Э. и Ж. Гонкуров, хотя сам Флобер не считал себя принадлежащим к этой школе. В Англии о реалистическом движении стали говорить в 80-е годы, но термин «реализм» применялся и ранее, например относительно Теккерея и других писателей. Аналогичная ситуация сложилась в США. В Германии, по наблюдениям Уэллека, не возникло осознанного реалистического движения, но термин был известен (Уэллек, 1961). В Италии термин встречается в работах историка итальянской литературы Ф. де Санктиса.
В России в работах Белинского появился термин «реальная поэзия», воспринятый от Ф. Шиллера, а с середины 1840-х годов вошло в обиход понятие натуральная школа, «отцом» которой критик считал Н.В. Гоголя. Как уже отмечено, в 1849 г. Анненков использовал новый термин. Реализм стал названием литературного направления, сущностью и ядром которого был реалистический метод, объединявший произведения самых разных по мировоззрению писателей.
Программа направления во многом была разработана Белинским в его статьях сороковых годов, где он замечал, что художники эпохи классицизма, изображая героев, не обращали внимания на их воспитание, отношение к обществу и подчеркивал, что человек, живущий в обществе, зависит от него и в образе мыслей, и в образе своего действования. Современные писатели, по его словам, уже стараются вникать в причины, отчего человек «таков или не таков». Эта программа была признана большинством русских писателей.
К настоящему времени накопилась огромная литература, посвященная обоснованию реализма как метода и как направления в его огромных познавательных возможностях, внутренних противоречиях и типологии. Наиболее показательные определения реализма были приведены в разделе «Художественный метод». Реализм XIX в. в советском литературоведении ретроспективно был назван критическим (определение подчеркивало ограниченные возможности метода и направления в изображении перспектив общественного развития, элементы утопизма в мировоззрении писателей). Как направление он просуществовал до конца века, хотя сам реалистический метод продолжал жить дальше.
Конец XIX в. ознаменовался формированием нового литературного направления – символизма (от гр. symbolon – знак, опознавательная примета). В современном литературоведении символизм рассматривается как начало модернизма (от франц. moderne – новейший, современный) – мощного философско-эстетического движения XX в., активно противопоставлявшего себя реализму. «Модернизм рождался из осознания кризиса старых форм культуры – из разочарований в возможностях науки, рационалистических знаний и разума, из кризиса христианской веры <…>. Но модернизм оказывался не только следствием «болезни», кризиса культуры, но и проявлением неистребимой внутренней ее потребности к самовозрождению, толкающей к поиску спасения, новых способов существования культуры» (Колобаева, 4).
Символизм называют и направлением, и школой. Признаки символизма как школы обозначились в Западной Европе в 1860—1870-е годы (Ст. Малларме, П. Верлен, П. Рембо, М. Метерлинк, Э. Верхарн и др.). В России эта школа складывается примерно с середины 1890-х годов. Выделяют два этапа: 90-е годы – «старшие символисты» (Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, А. Волынский и др.) и 900-е годы – «младшие символисты» (В.Я. Брюсов, А.А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов и др.). Среди важных программных текстов: лекция-брошюра Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1892), статьи В. Брюсова «Об искусстве» (1900) и «Ключи тайн» (1904), сборник А. Волынского «Борьба за идеализм» (1900), книги А. Белого «Символизм», «Луг зеленый» (обе – 1910), работа Вяч. Иванова «Две стихии в современном символизме» (1908) и др. Впервые тезисы символистской программы изложены в названной работе Мережковского. В 1910-е годы заявили о себе сразу несколько литературных групп модернистской ориентации, которые тоже считаются направлениями или школами, – акмеизм, футуризм, имажинизм, экспрессионизм и некоторые другие.
В 20-е годы в советской России возникли многочисленные литературные группировки: Пролеткульт, «Кузница», «Серапионовы братья», ЛЕФ (Левый фронт искусств), «Перевал», Литературный центр конструктивистов, ассоциации крестьянских, пролетарских писателей, в конце 20-х годов реорганизовавшиеся в РАПП (Российскую ассоциацию пролетарских писателей).
РАПП была самым крупным объединением тех лет, выдвинувшим многих теоретиков, среди которых особая роль принадлежала А.А. Фадееву.
В конце 1932 г. все литературные группы согласно Постановлению ЦК ВКП(б) были расформированы, и в 1934 г., после Первого Съезда советских писателей, образован Союз советских писателей с детально разработанной программой и уставом. Центральным пунктом этой программы было определение нового художественного метода – социалистического реализма. Перед историками литературы стоит задача всестороннего и объективного анализа литературы, развивавшейся под лозунгом социалистического реализма: ведь она очень разнообразна и разнокачественна, многие произведения получили широкое признание в мире (М. Горький, В. Маяковский, М. Шолохов, Л. Леонов и др.). В те же годы были созданы произведения, которые «не отвечали» требованиям данного направления и потому не публиковались – позднее их назвали «задержанной литературой» (А. Платонов, Е. Замятин, М. Булгаков и др.).
О том, что пришло и пришло ли на смену социалистическому реализму и реализму вообще говорится выше, в разделе «Художественный метод».
Научное описание и подробный анализ литературных направлений – задача специальных историко-литературных исследований. В данном случае необходимо было обосновать принципы их формирования, а также показать их преемственную связь друг с другом – даже в тех случаях, когда эта преемственность приобретает форму полемики и критики предшествующего направления.
Литература
Абишева С.Д. Семантика и структура лирических жанров в русской поэзии второй половины XX в. // Литературные жанры: теоретические и историко-литературные аспекты изучения. М., 2008.
Андреев М.Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения. М., 1993.
Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967.
Аникст А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972.
Аникст А.А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983.
Аникст АА. Теория драмы на Западе в первой половине XIX в. М., 1980.
Аристотель. Поэтика. М., 1959.
Асмолов А.Г. На перекрестке путей к изучению психики человека // Бессознательное. Новочеркасск, 1994.
Бабаев Э.Г. Из истории русского романа. М., 1984.
Барт Ролан. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994.
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Бахтин М.М. Проблема текста // М.М. Бахтин. Собр. соч. Т. 5. М., 1996.
Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным. М., 1996.
Белинский В.Г. Избранные эстетические работы. Т. 1–2, М., 1986.
Березин Ф.В. Психическая и психофизиологическая интеграция // Бессознательное. Новочеркасск, 1994.
Борев Ю.Б. Литература и литературная теория XX в. Перспективы нового столетия // Теоретико-литературные итоги XX в. М., 2003.
Борев Ю.Б. Теоретическая история литературы // Теория литературы. Литературный процесс. М., 2001.
Бочаров С.Г. Xарактеры и обстоятельства // Теория литературы. М., 1962.
Бочаров С.Г. «Война и мир» Л.Н. Толстого. М., 1963.
Бройтман С.Н. Лирика в историческом освещении // Теория литературы. Роды и жанры. М., 2003.
Введение в литературоведение: Xрестоматия / Под ред. П.А. Николаева, А.Я.
Эсалнек. М., 2006.
Веселовский А.Н. Избранные работы. Л., 1939.
Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.
Волков И.Ф. Теория литературы. М., 1995.
Волкова Е.В. Трагический парадокс Варлама Шаламова. М., 1998.
Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1968.
Гадамер Г. – Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. М., 1993.
Гачев Г.Д. Развитие образного сознания в литературе // Теория литературы. М., 1962.
Гринцер П.А. Эпос древнего мира // Типология и взаимосвязи литератур древнего мира. М., 1971.
Гегель Г.В.Ф. Эстетика. Т. 1–3. М., 1968–1971.
Гей Н.К. Образ и художественная правда // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. М., 1962.
Гинзбург Л. О лирике. Л., 1974.
Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПБ., 2002.
Голубков М.М. История русской литературной критики ХХ в. М., 2008.
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.
Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000.
Долотова Л. И.С. Тургенев // Развитие реализма в русской литературе. Т. 2. М., 1973.
Дубинин Н.П. Наследование биологическое и социальное // Коммунист. 1980. № 11.
Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. М., 1998. С. 177–190.
Женетт Ж. Работы по поэтике. Т. 1, 2. М., 1998.
Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение. Л., 1979.
Западное литературоведение ХХ в.: Энциклопедия. М., 2004.
Кант И. Критика способности суждения. М., 1994.
Кираи Д. Достоевский и некоторые вопросы эстетики романа // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 1. М., 1974.
Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе XIX– ХХ вв. М., 1994.
Кожинов В.В. Происхождение романа. М., 1963.
Колобаева Л.А. Русский символизм. М., 2000. Компаньон А. Демон теории. М., 2001.
Косиков Г.К. Структурная поэтика сюжетосложения во Франции // Зарубежное литературоведение 70-х годов. М., 1984.
Косиков Г.К. Способы повествования в романе // Литературные направления и стили. М., 1976. С. 67.
Косиков Г.К. К теории романа // Проблема жанра в литературе Средневековья. М., 1994.
Кочеткова Н.Д. Литература русского сентиментализма. СПб.,1994.
Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М., 2004.
Кузнецов М.М. Советский роман. М., 1963.
Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм. Екатеринбург, 1997.
Леви-СтроссК. Первобытное мышление. М., 1994.
Лосев А.Ф. История античной эстетики. Кн. 1. М., 1992.
Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. Киев, 1994.
Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. М., 1972.
Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса. М., 1963.
Мелетинский Е.М. Историческая поэтика новеллы. М., 1990.
Михайлов А.Д. Французский рыцарский роман. М., 1976.
Местергази Е.Г. Документальное начало в литературе ХХ в. М., 2006.
Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории литературы. М., 1994.
Мукаржовский Я. Структуральная поэтика. М., 1996. Наука о литературе в ХХ в. История, методология, литературный процесс. М., 2001.
Переверзев В.Ф. Гоголь. Достоевский. Исследования. М., 1982.
Плеханов Г.В. Эстетика и социология искусства. Т. 1. М., 1978.
Плеханова И.И. Преображение трагического. Иркутск, 2001.
Поспелов Г.Н. Эстетическое и художественное. М., 1965.
Поспелов Г.Н. Проблемы литературного стиля. М., 1970.
Поспелов Г.Н. Лирика среди родов литературы. М., 1976.
Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы. М., 1972
Пропп В.Я. Русский героический эпос. М.; Л., 1958.
Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. М., 2008.
Ревякина А.А. К истории понятия «социалистический реализм» // Наука о литературе в ХХ веке. М., 2001.
Руднева Е.Г. Пафос художественного произведения. М., 1977.
Руднева Е.Г. Идейное утверждение и отрицание в художественном произведении. М., 1982.
Сквозников В.Д. Лирика // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. М., 1964.
Сидорина Т.Ю. Философия кризиса. М., 2003.
Скороспелова Е.Б. Русская проза ХХ в. М., 2003.
Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. М., 1999.
Современное зарубежное литературоведение // Энциклопедический справочник. М., 1996.
Соколов А.Н. Очерки по истории русской поэмы конца ХVIII – начала XIX в. М., 1955.
Соколов А.Н. Теория стиля. М., 1968.
Тамарченко Н.Д. Литература как продукт деятельности: теоретическая поэтика // Теория литературы. Т. 1. М., 2004.
Тамарченко Н.Д. Проблема рода и жанра в поэтике Гегеля. Методологические проблемы теории рода и жанра в поэтике ХХ в. // Теория литературы. Роды и жанры. М., 2003.
Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. М., 1962, 1964, 1965.
Тодоров Ц. Поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975.
Тодоров Ц. Теории символов. М., 1999.
Тодоров Ц. Понятие литературы // Семиотика. М.; Екатеринбург, 2001. Тэн И. Философия искусства. М., 1994.
Тюпа В.И. Художественность литературного произведения. Красноярск, 1987.
Тюпа В.И. Анализ художественного текста. М., 2006.
Тюпа В.И. Типы эстетического завершения // Теория литературы. Т. 1. М., 2004.
Успенский БА. Поэтика композиции // Семиотика искусства. М., 1995.
Уэллек – Wellek R. The Concept of Realism || Neophilologus/ 1961. № 1.
Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. М., 1978.
Файвишевский В.А. Биологически обусловленные бессознательные мотивации в структуре личности // Бессознательное. Новочеркасск, 1994.
Хализев В.Е. Драма как род литературы. М., 1986.
Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2002.
Хализев В.Е. Модернизм и традиции классического реализма // В традициях историзма. М., 2005.
Цурганова Е.А. Литературное произведение как предмет современной зарубежной науки о литературе // Введение в литературоведение. Хрестоматия. М., 2006.
Чернец Л.В. Литературные жанры. М., 1982.
Черноиваненко Е.М. Литературный процесс в историко-культурном контексте. Одесса, 1997.
Чичерин А.В. Возникновение романа-эпопеи. М., 1958.
Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М., 1966.
Шмид В. Нарратология. М., 2008.
Эсалнек А.Я. Внутрижанровая типология и пути ее изучения. М., 1985.
Эсалнек А.Я. Архетип. // Введение в литературоведение. М., 1999, 2004.
Эсалнек А.Я. Анализ романного текста. М., 2004.
Юнг К.Г. Воспоминания. Сновидения. Размышления. Киев, 1994.
Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991.
Указатель основных понятий
Анализ 6, 48, 51,53, 56, 57,171
Баллада 157 Барокко 155, 182, 185
Время 11, 123–127, 130, 132, 174
Герменевтика 54, 55, 75
Героика 76, 77
Героический эпос 143–145 Гимн 157
Детализация предметная 66, 88, 155
Диалог 99, 100, 103
Диалогизм 46, 48, 148
Драма 58, 59, 62, 103
Драматизм 76, 81, 82
Жанр 66, 139, 140, 147–151, 154–158, 169, 171, 182
Идея 19, 20, 23, 75
Идеология, идеологический 31, 37, 38, 40, 41, 52
Имманентность 34, 38
Интерьер 66, 95, 96, 98
Ирония 76, 83–85, 87
Комедия (слезливая комедия) 154—156
Классицизм 164, 183, 185, 186
Коммуникат 97
Коммуникативная цепь 97
Комическое 83, 84
Композиция 66, 96, 111, 117, 119, 123
Конфликт 105–108, 150
Концепции 6, 53, 149
Критика 22, 24
Лирика 58, 59, 62, 63—65
Лирический герой 64, 65, 110, 122
Литературное направление 181, 182, 183, 186, 190
Литературный процесс 5, 52, 139
Мадригал 157
Манифест литературный 182
Медитативность 109
Метод художественный 38, 66, 161, 162, 182
Мировоззрение, миросозерцание 37–39, 51, 73, 162
Модальность 73, 76, 161
Модель художественная 43
Модель научная (логическая) 65, 66, 111
Модернизм 167, 168, 192
Монолог 48, 100, 101, 103
Монологизм 151
Мотив 30, 93, 111, 114, 115, 141
Нарратология 96
Наррататор 97
Нарратор 97
Неореализм 168
Неотрадиционализм 167
Новелла 153
Нормативизм 162
Нравоописание 152
Образ художественный 41, 71–73, 97, 116
Объект, объективный 15, 43, 46, 58, 64
Ода 157
Очерк 153
Пасторальная драма 155 Пафос 76
Персонаж 66, 67, 72
Пейзаж 66, 95, 96, 98
Плеяда 183
Повествователь 94–96, 103
Повествование 94–96, 173
Повесть 153
Повтор 119
Понимание 54, 55
Портрет 66, 95, 96, 98
Послание 157
Постмодернизм 50, 85, 167
Поэма 159–160
Прекрасное 8, 12, 23
Проблематика 66, 73–75
Просвещение 186, 188
Пространство 11, 123, 124, 127, 130, 136–138
Психологизм 150, 177, 178, 181, 185
Рассказ 153
Реализм, реалистический метод 38, 162, 165, 166, 168, 191
Ритм 119 Рифма 119
Род литературный 57—63
Роман 143, 145–149, 152, 165, 166, 171
Роман-эпопея 152
Роман-миф 152
Романтизм 5, 188—190
Романтика 76, 82, 83
Сатира 76, 83, 86, 87
Смех 83
Сентиментализм 5, 187
Символизм 191, 192
Синтаксический параллелизм 119, 120
Содержательная форма 57
Социалистический реализм 166, 167
Социологизм 30, 38
Сравнительно-исторический принцип 140–142
Стиль 66, 168, 170, 181
Стилевая доминанта 170, 171, 175
Структура 43, 45, 65, 116
Субъект, субъективный 15, 42, 43, 46, 58, 59, 61, 62, 64, 109
Сюжет 29, 35, 66, 88–92, 104–108, 117, 118, 141, 149
Текст 44, 48, 53, 54, 56, 66
Тематика 73—75
Течение литературное 142, 143, 189
Тип, типизация 69, 70
Типологические аналогии 142–143
Типологический подход (принцип) 140, 142
Толкование 54, 55
Трагедия 154, 155
Трагизм, трагическое 76–80
Трагикомедия 155
Универсализм 163, 164
Фабула 35, 93
Формальная школа 34
Xарактер, характерность 7, 26, 33, 67, 68, 72, 73, 75, 110
Xудожественное произведение 5, 43, 48, 53, 57
Эклога 157
Элегия 157
Эпиграмма 157
Эпиталама 157
Эпитафия 157
Эпос 58, 59
Эстетика 8, 9, 12, 16, 20, 23, 25, 42, 45, 47, 48, 51
Юмор 76, 83, 86, 87
Именной указатель (Исследователи в области теории литературы)
Аникст А.А. 62, 157
Анненков П.В. 21, 190 Аристотель 7, 57, 62, 67, 70, 154, 185
Асмолов А.Г. 69
Бальдансперже Ф. 141
Барт Р. 49, 56
Бахтин М.М. 36, 45–48, 49, 55, 67, 80, 97, 124, 153, 145, 147, 151
Баумгартен А.Г. 9
Белинский В.Г. 19,21, 61, 63, 67, 124, 144, 161, 188, 191
Березин Ф.В. 69
Бенфей Т. 13729, 140, 141
Боткин В.П. 21
Бочаров С.Г. 67, 143
Брандес Г. 25, 140
Бремон К. 97
Богатырев П.Г. 34, 50
Бройтман С.Н. 63, 65
Брюнетьер Ф.140
Буало Н. 184, 185
Вальцель О. 34, 170
Вельфлин Г. 34, 170
Венгеров С.А. 28
Веселовский А.Н 28–30, 59, 60, 62, 93, 141, 142, 144
Винкельман И. – И. 9, 170
Виноградов В.В. 169
Волков И.Ф. 162, 163, 165, 187
Волкова Е.В.80
Воррингер В. 34
Выготский Н.С. 89
Гадамер Г.Г. 55
Галич А.И. 18
Гаспаров Б.М. 93
Гачев Г.Д. 57, 71
Гегель Г.В.Ф. 9, 15–18, 21, 25, 58, 59, 61, 68, 71, 77, 78, 81, 85, 144, 188
Гете И.В. 9 62, 169
Гильденбрандт А. 34
Гинзбург Л.Я. 37, 63, 116
Голубков М.М. 38
Готшед Ф. 184
Греймас А. 47, 97
Григорьев А.А. 21
Гринцер 145
Гронский И.М. 166
Гуревич А.Я. 124
Гуссерль Э. 55
Гюго В. 187
Деррида Ж. 49, 56
Джеймс Г. 96
Дибелиус В. 34
Дидро Д. 9, 67, 155, 186
Дружинин А.В. 21
Есин А.Б. 170
Жирмунский В.М. 142, 143, 145, 169
Ильин И.П. 50, 168
Кант И. 9, 10–13, 18, 124, 188
Кираи Д. 151
Киселева Л. 171
Киреевский И.В 18, 19
Кирпичников А.И. 28
Кожевникова Н.А. 178
Колобаева Л.А. 192
Кожинов В.В. 57, 143
Косиков Г.К. 50, 97, 147, 151
Компаньон А. 49
Крыстева Ю. 49
Кузнецов М.М. 143
Лаббок П. 97
Леви-Стросс К. 49
Ленин В.И. 38
Лессинг Г.Э. 9, 67, 156
Липовецкий М.Н. 50
Ломоносов М.В. 184
Лотман Ю.М. 42–45, 65, 66
Лосев А.Ф. 8, 169, 170
Маркс К. 38
Медведев П.Н. 35
Мелетинский Е.М. 143, 145, 153
Михайлов А.Д. 146
Михайловский Н.К.31
Мукаржовский Я. 49, 50
Надеждин Н.И. 19
Одоевский В.Ф.19
Опиц М. 184
Переверзев В.Ф. 32–34, 38, 67
Плеханов Г.В. 31, 32, 38
Плеханова И.И. 80
Поспелов Г.Н. 40–42, 61, 62, 67, 79, 81, 143, 152, 162, 169
Пыпин А.Н. 24, 27
Познетт X. 140
Поль ван Тигем 141
Пропп В.Я. 97, 143, 145
Пьеге-Гро Н. 49
Ретшер Г.Т. 20
Рикер П. 55
Ревякина А.А. 166
Руднева Е.Г. 76, 83
Сабуров А.А. 143
Сакулин П.Н. 32 170
Сидни Ф. 184
Сидорина Т.Ю. 79
Скалигер Ю.Ц. 184
Сквозников В.Д. 63, 64, 162
Скороспелова Е.Б. 93
Соколов А.Н. 143, 168, 169, 170
Сталь Ж. 189
Стендаль 189
Стороженко И.И. 28
Сумароков А.П. 189
Текст Ф. 141
Тимофеев Л.И. 631
Тихонравов Н.С. 24, 27
Томашевский Б.В. 35
Тодоров Ц.49
Тынянов Ю.Н. 35, 37, 64
Тэн И. 25, 26, 53, 67, 170
Тюпа В.И. 51, 56, 76, 79, 82, 167
Уэллек Р. 49, 50, 190
Уоррен О.49
Успенский Б.А. 97
Файвишевский В.А. 69
Фишер Ф.Т. 23
Фридман Н. 97
Фриче В.М. 32
Хайдеггер М. 55, 79
Хализев В.Е. 50, 51, 56, 62, 63, 139, 168
Хатчесон 9
Цурганова Е.А. 49
Чернец Л.В. 152
Чернышевский Н.Г. 21—24
Чичерин А.В. 143, 169
Черноивааненко Е.М. 139
Шаль Ф. 140
Шанфлери 188
Шаплен Ж. 184
Шевырев С.П. 19
Шефтсбери 9
Шеллинг Ф.В.И. 9, 13, 14, 15, 18, 58, 61, 63, 144, 188
Шлегель А. и Ф. 9, 156, 170
Шлейермахер Ф. 54
Шкловский В.Б. 35—37
Шмид В. 97
Шпет Г.Г. 55
Штанцель Ф. 97
Энгельс Ф. 38
Эйхенбаум Б.М. 35, 36, 37
Эсалнек А.Я. 143, 151 Юнг К.Г. 69
Якобсон Р.О. 34, 35








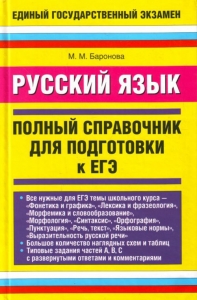

Комментарии к книге «Теория литературы», Асия Яновна Эсалнек
Всего 0 комментариев