Саяпова Альбина Мазгаровна Диалог творческого сознания А.А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз) Монография
«Cущностный источник» как основа духовной связи Востока и Запада
В изучении художественного произведения как органической части некоего единого процесса современному филологу помогает синергетика – трансдисциплинарное направление, получившее в современной науке философско-методологический статус. Многие понятия синергетики в применении к литературоведению восходят к системно-структурному анализу, основные принципы которого были выработаны еще в 60–70-е годы ХХ в. в трудах Н.И. Конрада, И.Г. Неупокоевой, В.М. Жирмунского, М.Б. Храпченко. Представители этого направления под системой понимали некую целостность, кооперацию индивидуальных частей, находящихся в связях и в отношениях друг с другом. И.И. Неупокоева, рассматривая понятие «связи и отношения» в контексте изучения всемирной литературы как динамического целого, ставит вопрос о диалектике в ней общего и особенного в трех основных измерениях – временном, пространственном (в понятии историко-культурного ареала) и собственно-художественном [1: 27]. Таким образом, уже системный анализ формирует то, что становится необходимым понятием в синергетике и получает в ней выражение в следующем постулате: сложное эволюционное целое развивающихся структур состоит из простых частей.
Современный исследователь М.А. Дрюк, представляя синергетику как позитивное знание, одним из принципов согласования частей в целое определяет «установление их общего темпа развития, сосуществование структур разного возраста в одном темпомире». Моделью этого общего темпа развития, по его предположению, могут служить «взаимодействия резонансного типа». Выдвинутое им положение о том, что «некоторые представления (догадки) об особого рода связях по аналогии с взаимно усиливающимся откликом или эхом уже присутствовали в различных восточных учениях», по мнению самого М.А. Дрюка, в настоящее время становится предметом для обсуждения во многих источниках [2: 103].
В качестве доказательства положения «об особого рода связях по аналогии с взаимно усиливающимся откликом или эхом»
М.А. Дрюк приводит пример из работы Т.П. Григорьевой «Синергетика и Восток», который демонстрирует отношения по типу связи-отклика, связи-эха в древней китайской традиции. В китайской философии Дао, как пишет Т.П. Григорьева, универсальный тип мышления восходит к парадигме «Одно во всем, и все в одном», которая, по мнению автора статьи, позволяет утверждать, что «современная наука, синергетика, совпадает почти по всем параметрам с восточными учениями» [3: 100].
Мы же позволим себе обратиться к основному постулату арабского философа Ибн Араби, отчетливо выражающему синергетический принцип мышления, который гласит: «весь континуум бытия един, самодостаточен и в-самом-себе множествен». На наш взгляд, философия арабского мыслителя ценна тем, что содержит в себе опыт не только Востока, но и Запада. Сочетание этих понятий (Восток и Запад), по Араби, рационалистически определяет сущность Бога. «Восток» означает явное, открытое взору (на востоке восходит солнце, освещая мир), «Запад» – скрытое от взора, неявленное чувствам (на западе садится солнце); «Запад» и «Восток» очерчивают границы универсума, и «между ними, т.е. сочетая их черты, и располагается мир» [4: 50]. И если даосизм, по утверждению Т.П. Григорьевой, ставит знак равенства между синергетикой – современной наукой и синергетикой, выраженной в китайских учениях о Природе (синергетика как закон развития самой Природы), то арабского мыслителя интересует проблема познания мира как проблема синтеза различных взглядов в понимании Бытия и Бога, т.е. он, пожалуй, первым и ставит вопрос об универсальном, целостном познании мира.
А.В. Смирнов, исследователь творчества арабского философа Средневековья Аль Араби, опираясь на его тексты, рассматривает три его философемы (рационалистическую, эстетическую, мистическую), которые и определяют методы познания мира, разнящиеся способом осуществления этого познания, инструментом и результатами. Все три метода познания имеют общий объект: мир, человек и Бог в их взаимосвязи.
Рациональный метод Араби содержит аристотелевскую логику (философия Дао отвергает ее). Так, его силлогизм: «Несомненно, что знание вещи лучше неведения оной» – свидетельство признания разума как «правильного» знания о мире. Интуитивное созерцание, за которым стоят чувства человека, сближает с рациональным познанием наличие воли субъекта: человек сознательно, свободным волевым актом направляет свое внимание на тот или иной объект. Оба вида познания, говоря языком нашего времени, интенциональны. И только мистическое знание, по Ибн Араби, это не знание о бытии, это знание бытия, знание, тождественное бытию. В этой части он близок к философии Дао. Разница в том, что знание, тождественное бытию, Араби «добывает» благодаря только мистическому опыту. Вместе с тем, как утверждает А.В. Смирнов, Ибн Араби считает «необходимым разработать все три философемы, но при этом не удовлетворяется ни одной из них и синтезирует их в единую систему» [4: 97]. Иначе говоря, арабский философ Средневековья Ибн Араби пришел к мысли, что в познании мира необходим целостный, универсальный тип мышления: все три философемы, которые выражают рационалистический, интуитивный и мистический виды познания бытия, человека, Бога, в составе системы суверенны и полноправны.
Отмечая позитивное содержание философской мысли Аль Араби, выраженной прежде всего в постулате «весь континуум бытия един, самодостаточен и в-самом-себе множествен», Смирнов определяет его как фундаментальное для выработки иного взгляда на действительность, формулирования новой парадигмы. Это позитивное содержание состоит, по мнению исследователя, «в утверждении самодостаточности континуума бытия, в том, что он не имеет первоосновы, которая не была бы самим же бытием» [4: 128].
Раз, по Аль Араби, континуум бытия един и самодостаточен таким образом, что тождествен своей первооснове, то «всякая сущность несет основание своего бытия в себе самой; ее можно назвать объектом. В континуум бытия включен и человек, который, умопостигая устроение бытия, выступает познающим субъектом» [4: 130]. Определяя субъект-объектную парадигму Аль Араби типологически сходной с той, на которой возникла европейская философия нового времени, А.В. Смирнов подвигает нас к мысли о том, что философские системы мира (они определяют и художественно-эстетические) развиваются по законам свободной самоорганизации самих формирующихся систем, благодаря которой и возможны различия в решении тех или иных проблем. Так, если говорить о приведенном постулате Ибн Араби, который содержит вопрос о том, как мыслить единство множественного бытия или, что то же самое, как мыслить множественность единого бытия, то возможны два ответа: множественность может пониматься «либо как развернутое, либо как различенное единство».
А.В. Смирнов пишет: «В первом случае отношение единство– множественность осмысляется через категории свернутости-развернутости: единство – свернутая множественность, а множественность – развернутое единство. Весь континуум бытия разворачивает нечто изначально-единое, и потому может быть (по крайней мере в мысли) свернут в изначальное единство <...>. Во втором случае отношение единство–множественность осмысляется как отношение различенность–неразличенность: множественность – различенное единство, а единство – неразличимая множественность. Множественность не возникает из единства, а наличествует внутри него. Различение множественного единства – это последовательность шагов эксплицитного выражения множественности» [4: 131]. В первом случае присутствует понимание решения проблемы единства–множественности, выработанное в европейской философии (решение, предложенное Николаем Кузанским, найдем и у Ф. Бэкона, и у Декарта), во втором случае – решение, вытекающее из философии Ибн Араби. Исследователь философской мысли Араби делает вывод, что эти два принципиально различных решения генетически связаны с мыслью крупнейшего представителя мистической философии.
Литературоведение 60–80-х годов ХХ в. нарабатывает осмысление мирового литературного процесса как самоорганизующейся системы, которая может быть изучена комплексно. В основе восприятия того или иного литературного процесса как части мирового процесса-системы находится прежде всего диалектическое понимание развития мира, что и позволяет воспринимать не только предметы, явления, но и понятия, представления в их развитии, изменении, «самодвижении» (термин Гегеля). Так, И.Г. Неупокоева, представляя возможности системного изучения литературных процессов, касается вопроса о диалектическом (историческом) развитии литературных эпох: «При системном изучении может быть рассмотрен и важный, теоретически совсем не разработанный вопрос о разных формах перехода от одной литературной эпохи к другой – относительно спокойном, эволюционном переходе или же более крутом, “критическом”, сопровождающемся “взрывом” основных философско-исторических представлений и художественных форм старой литературной эпохи и бурным рождением новой» [1: 35].
Таким образом, системный подход к литературному процессу предполагает не только синхронный, диахронный линейный срез, но и осмысление его в аспекте самодвижения, самоорганизации, чреватой «критическими», «взрывными» моментами. Только такой подход к литературным процессам и дал возможность теоретикам системно-комплексного подхода разработать основные принципы, которые станут базовыми в синергетике – метаметодологии нашего времени. Ю.Г. Нигматуллина пишет: «Новые направления системного подхода сконцентрированы в междисциплинарной области науки – синергетике, нацеленной на изучение самоорганизации сложно-динамических систем с большой степенью неопределенности и вероятности» [5: 5].
По мнению Н.И. Конрада, именно представление о «системах, складывающихся на больших этапах всемирной истории» создает прочные основания для сравнительно-типологического их изучения, для характеристики литературной эпохи как одного из важнейших феноменов мирового литературного процесса (кн. «Запад и Восток»). Такой подход к истории всемирной литературы освобождает от взгляда на нее как на историю влияний, который чреват утратой конкретно-исторической основы литературного процесса, в том числе, как пишет Неупокоева, «и такой важнейшей его сферы, как сами литературные влияния, рассматриваемые в их действительном значении» [1: 60]. Освобождение от теории влияний – это еще одно серьезнейшее положение системного подхода к литературным явлениям, выработанное благодаря синергетическому подходу, когда вся мировая литература мыслится как единый самоорганизующийся процесс.
Известно, что синергетика как метаметодология формировалась во второй половине ХХ в. Принято считать, что начало теории синергетики было положено Г. Хакеном в 1960-х годах.
В 1960–1980-е годы, когда расширение междисциплинарных связей стало необходимым условием дальнейшего развития гуманитарного знания, получило распространение и комплексное изучение литературы. Теория систем проникает почти одновременно и в точные науки, и в общественно-гуманитарные. Бельгийский ученый И. Пригожин, став создателем новой науки – физики неравновесных процессов, связанной с такими понятиями как самоорганизация и неустойчивые структуры, формирует новую концепцию природы, через призму которой можно осмыслить не только явления физические, но и общественные: явления истории, культуры, литературы.
Если говорить об истории формировании целостной системы в ХХ в., которая будет способствовать формированию синергетического подхода к мировой литературе, то весьма важным представляется рассмотрение отдельных положений, разработанных символистами.
Владимир Фещенко в своей работе «Autopoetica как опыт и метод...», представляя А. Белого и французского поэта П. Валери как представителей русской и французской семиотических школ, находит, что оба в своей творческой деятельности – поэтической, теоретической, философской – руководствовались «единым методом, целостной мыслительной системой, основанной на потенциях символического языка» [6: 84]. Оба увидели потенции символического образа: «единство многоразличия» – А. Белый, прообраз «единой системы» – П. Валери. Так, А. Белый пишет: «Есть узловые пункты, стягивающие противоречивые устремления, пересекающие отвлеченные порывы с конкретной биографией: в такие моменты кажется: ты – на вершине линии лет; перебой троп, по которым рыскал, сбиваясь с пути, вдруг являет единство многоразличия; что виделось противоречивым, звучит гармонично; и что разрезало, как ножницы, согласно сомкнулось в крепнущей воле» [7: 20]. Прообраз уникальной системы П. Валери находит, как пишет В. Фещенко, в творчестве Леонардо да Винчи, а в творчестве Малларме он видел прообраз искомой им «единой системы», в объеме которой слились поэтическая мысль с тщательным исследованием собственных символических оснований [6: 85].
Контекст сказанного помогает нам реконструировать единую цепь исканий, начало которой восходит к осмыслению символического образа, поскольку именно символический образ лежит в основе любой системы, выражающей человеческую деятельность, именно он дает возможность проследить, как конкретные звенья этой цепи сочленяются с другими звеньями, образуя тем самым единую систему.
Еще Гегель, определяя символ «начальным этапом искусства», который был представлен Востоком, разработал ряд положений, необходимых для понимания того, что значит символ в искусстве, литературе. И в первую очередь в искусстве, литературе Востока. Наше внимание привлекают рассуждения Гегеля о пантеистическом мироощущении человека Востока. Представляя миросозерцание восточного человека, он, по существу, формулирует философскую формулу о единстве и самодостаточности бытия и об имманентности всего единству божественного, совершенно очевидно перекликающуюся с основной философской парадигмой Аль Араби («континуум бытия един и самодостаточен и в-самом-себе множествен»), которая может стать, как говорили мы выше, основой концепции «система». Гегель утверждает, что Восток понимает мысль об абсолютном единстве божественного и всех вещей как именно единство. Но осмысливается эта восточная парадигма с позиций западной философии: «...не каждое единичное есть это единое, но единое образует совокупность этих единичностей, которые для созерцания исчезают в этой совокупности» [8: 75]. Подобное толкование единичного-множественного дает Н. Кузанский, которого мы называли выше в связи с изложением парадигмы Аль Араби, мистическое содержание которой становится основой развития как восточной философии, так и западной.
Существенный вклад в формирование целостного, системного взгляда на художественное творчество как единую систему внесли символисты. Так, А. Белый, отвечая на вопрос: «что такое культура?», определяет понятие «культура» как «соединение творчества со знанием». Причем наука и философия, по Белому, – «только одна из форм символизации человеческого творчества»; они (наука и философия) – «орудия» творчества. Таким образом, понятие «культура» у Белого содержит целостное системное осмысление человеческого творчества, выражаемого в символических формах, т.е. представляет из себя концепцию синтеза знаний.
Принцип подобного соединения был характерен для восточной философии. На примере анализа творчества двух ориенталистов – Макса Мюллера и Дейссена – А. Белый обнаруживает тот принцип подхода к символическому образу, который можно назвать междисциплинарным. Так, главную особенность Дейссена он определяет как «соединение научного знания с умением подслушать внутренний ритм описываемых памятников Востока». По Белому, это умение воссоздать в себе дух философии Востока предполагает и творчество; культура в этом смысле есть соединение творчества со знанием. Диалектический взгляд Белого на историю культуры в контексте развития человеческого общества характеризует следующий его силлогизм: так как творчество жизненных ценностей прежде знания, то культура в ранних периодах и есть творчество ценностей; которая впоследствии выражается и в знании; на более поздних стадиях развития она – то и другое вместе; «культура есть особого рода связь между знанием и творчеством, философией и эстетикой, религией и наукой...» [9: 21].
Таким образом, уже символисты в лице таких адептов, как А. Белый, осмысливая современный культурный опыт в контексте человеческой истории в целом, рассматривают искусство не только как лабораторию новых художественных и культурных форм, но и как некое провидение новых смыслов художественного творчества. А. Белый вплотную подходит к основным принципам конструирования эстетического сознания не только современности. Его рассуждения о том, что такое искусство, могут восприниматься как художественно-эстетическое прогнозирование синергетики.
Определяя всякое искусство «символичным по существу», А. Белый смысл новых движений в искусстве видит в выработке оригинальных приемов творчества, в освещении и в углублении понимания всего прошлого в искусстве. И потому-то «символическое течение современности, если оно желает развития и углубления, не может остаться замкнутой школой искусства; оно должно связать себя с более общими проблемами культуры; переоценка эстетических ценностей есть лишь частный случай более общей работы, переоценки философских, этических, религиозных ценностей европейской культуры; назревающий интерес к проблемам по-новому, сравнительно с недавним прошлым, выдвигает смысл красоты, и обратно – теоретик искусства, даже художник, необходимо включает в поле своих интересов проблемы культуры; а это включение неожиданно связывает интересы искусства с философией, религией, этической проблемой, даже с наукой» [9: 22].
Символизм, позже и модернизм в целом, как русский, так и западный, подходил к осмыслению тенденций культурного развития как к определенной позиции сознания, сложившейся благодаря новому типу мышления, когда поиск художественной подлинности приводит к синтезу культурных традиций Востока и Запада.
Проблема синтеза культурных традиций Востока и Запада в пространстве прежде всего художественного творчества занимала не только русских символистов, но и западных теоретиков, о чем можно судить, например, по книге «Методологические искания в западном искусствознании», посвященной критическому анализу концепций герменевтики и рецептивной эстетики. Авторы книги отмечают внимание западных теоретиков к вопросу о возрастании роли восточных элементов в западном искусстве, о заимствовании принципов восточной эстетики и восточных эзотерических учений. Так, в работе канадского исследователя Э. Фааса «Открытые формы в авангардном искусстве и литературе. К становлению новой эстетики» рассматривается вопрос о некой «главной тенденции» в развитии модернистского искусства, заключающейся, по его мнению, в том, что «формы современной художественной деятельности становятся фактором инициирующего действа, основной функцией которого является “культурно-настраивающая”, обеспечивающая гармонию человеческого “я” и космоса» [цит. по: 10: 51–52].
Как показано на примере творчества А. Белого, модернизм уже с периода символизма осознает себя призванным к возрождению активности искусства, приданию культуре нового смысла и нового значения. Работа канадского исследователя Э. Фааса для нас интересна тем, что он, как и А. Белый, концептуально представивший формирующийся модернизм как искусство мировое, с универсальными представлениями о мире, человеке, считает, что модернизмом освоены новые эстетико-коммуникативные перспективы и мировоззренческие положения. Его концепция «новой эстетики» усматривает будущее искусства в осуществлении неформальной, непосредственной связи человека со «смыслом жизни, разлитым в окружающем космосе». Основные положения «новой эстетики» Фааса сводятся к следующему: логическое сознание нового времени не способно обеспечить подлинной коммуникации; в переходе от пралогического к логическому сознанию были утрачены сущностные интенции человека. Модернизм, по Фаасу, возвращает человеку пралогичекие формы и средства коммуникации и пробуждает в нем «дологический» способ восприятия, формирует такие качества художественного сознания, которые позволяют художнику-авангардисту быть «медиумом», т.е. посредником в передаче космического смысла, «настройщиком» коммуникации. Концепцию канадского ученого авторы названной книги характеризуют как своеобразный «панэстетизм»: художественное творчество объявляется «голосом и совестью» эпохи, а эстетика – центральной дисциплиной в осмыслении принципиальных проблем культуры и личности; эстетика выступает в то же время как теория коммуникации, так как художественная практика авангардизма возрождает те средства и приемы общения, которые когда-то были нормой в древних культурах.
Еще Т. Адарно писал, что современное искусство авангарда есть прежде всего явление социологическое и именно как таковое должно быть теоретически осмыслено. Суждения немецкого философа К. Ясперса о «мировой оси», благодаря которой только и возможен такой тип коммуникации, как связь людей, «признающих общий закон», перекликаются со взглядами А. Адарно и Э. Фааса. К. Ясперса занимал вопрос: возможна ли вера, общая для всего человечества, которая объединяла бы, а не разъединяла разные культурные регионы планеты? Такую веру не смогли предложить, по утверждению философа, мировые религии – ни буддизм, ни брахманизм, ни христианство, ни иудаизм, ни ислам, ибо они часто служили источниками не только взаимопонимания, но и раздора. Ясперс убежден, что общей для человечества верой может быть только «философская вера». Последняя, как показывает философ, имеет глубокие корни в исторической традиции, она древнее, чем христианство или ислам. Время рождения философской веры – это и есть искомая «ось мировой истории», или, как выражается Ясперс, «осевая эпоха». Это время примерно между 800 и 200 гг. до н.э. В этот промежуток времени возникли параллельно в Китае, Индии, Персии, Палестине и Древней Греции духовные движения, сформировавшие тот тип человека, который, согласно Ясперсу, существует и поныне. «Осевая эпоха» – время рождения и мировых религий, пришедших на смену язычеству, и философии, пришедшей на место мифологического сознания. Почти одновременно и независимо друг от друга образовалось несколько духовных центров, внутренне друг другу родственных [11].
Пробуждение духа является, по Ясперсу, началом общей истории человечества, которое до того было разделено на локальные, не связанные между собой культуры. Идея Ясперса проста: подлинная связь между народами – духовная, а не родовая, не природная. Истинная же духовная жизнь рождается перед лицом «абсурдных ситуаций», ставящих перед человеком «последние вопросы»; только тут общение людей выходит на экзистенциальный уровень.
В контексте сказанного весьма любопытна мысль еще одного философа-экзистенциалиста ХХ в. Хайдеггера о духовной связи между народами, между Западом и Востоком, которую он называет «сущностным источником». (Имеем в виду его работу «Из диалога о языке. Между японцем и спрашивающим».) Говоря о трудностях перевода, он от лица японца в этой работе рассуждает: «...во время перевода <...> словно я странствую от одного языкового существа к другому, однако при этом мне временами мерцал свет, дававший предчувствовать, что сущностный источник в корне различных языков должен быть одним и тем же» [12: 286].
Эту духовную связь между народами ощущали русские символисты. Вяч. Иванов видит родное во вселенском, вселенское – в родном, А. Белый в своих рассуждениях о символе имеет в виду то духовное, что роднит человечество на уровне миропонимания. Для эпохи модернизма характерен поиск культурно-исторической функции искусства как выразителя духовной жизни человечества, стоящего перед лицом «абсурдных ситуаций».
Вяч. Иванов время, в котором он живет и творит, определяет как время «не только теснейшей общественной сплоченности, но и новых форм коллективного сознания», которые он видит в христианской соборности [13: 98]. Его работа «Гете на рубеже двух столетий» в цикле «Родное и вселенское» является свидетельством синергетического типа мышления теоретика символизма. Оценивая значимость Гете для символизма («...Гете, сам того не зная, вглядывается сквозь мглу наступающего нового столетия в далекие проблемы наших дней»), Иванов представил Гете художником, вобравшим в себя опыт мира, Запада и Востока. В целостном, универсальном осмыслении художественного и философского опыта мира он видит то, что делает символизм искусством нового времени, определяющим искусство всего ХХ века.
Так, говоря о значимости Шиллера в творческой судьбе Гете, Иванов излагает эстетическое учение Шиллера о двух типах поэзии, наивной и сентиментальной, которые представляют два типа сознания: восточный тип (пантеистический) и западный (цивилизованный). Сентиментальный поэт, по Шиллеру, тот, в чьем изображении воспринимаемый объект и воспринимающий субъект разделены, причем центр тяжести лежит на субъекте. Изображая природу, сентиментальный поэт изображает ее не для нее самой, а для того, чтобы высказать себя: он показывает взаимоотношение между жизнью природы и жизнью личности. Наивный же поэт как бы теряет всякое субъективное содержание. Субъект отождествляется с объектом, не ощущает своей разделенности с ним, он как бы растворяет в нем свое сознание [13: 253].
Вяч. Иванов дает достаточно глубокое осмысление тому, что, как он высказывается, «не может быть исчерпано его ходячим и ничего, по существу, не выражающим определением, как “пантеизма”». Его представление о мироощущении Гете-поэта, автора «Дивана», отчетливо перекликается с определением «наивного поэта» Шиллером: «...чем глубже стали бы мы исследовать изречение Гете об отношении между миром и божеством, тем более убеждались бы в том, что это глубоко мистическое миросозерцание, проникнутое чувством нежности и неизрекаемости божественной тайны <...>. Бог для Гете прежде всего Некто живой и более живой, чем все живое, что наперерыв стремится многообразнейшими проявлениями, видимыми и невидимыми, поведать о Его жизни своею жизнью, которая есть излучение жизни Его <...>» [13: 256].
Определение Вяч. Ивановым миросозерцания Гете в какой-то мере схоже с определением Гетевского пантеизма современным исследователем Л.М. Тетруашвили, который говорит об этой черте как возвышающемся над «позитивными» религиями, выражающемся в том, что «он с поразительно высоким гуманизмом разрушает догмат недосягаемости божества для человека, предлагая вместо этого соравенство человека с богом, полное самоотверженной любви и нежности» [14: 60].
Мистическое миросозерцание, «проникнутое чувством нежности и неизрекаемой божественной тайны», Гете и находит в «наивной лирике», разработанной суфийской поэзией. По словам Вяч. Иванова, в «Диване» – «дивной книге лирики, которую волшебно зажгло уже закатное солнце этой многострунной жизни, Гете перемежает описательные и эротические песни в восточном духе мистическими стихами по образцу персидских поэтов, Гафиза или суфитов» [13: 256].
Вяч. Иванов в «Фаусте» и других его произведениях находит то, что перекликается с его собственными воззрениями. Теоретику символизма, формирующему новый тип мышления художника-философа времени, импонирует вера Гете в то, что «избранные от всех племен и из всех времен объединены на некой высшей ступени бытия в действительную общину духов – направителей человечества», а также в «союз всех религий человечества как различных и необходимых ступеней религиозного сознания, взятых в их чистой идее, освобожденных от временных исторических примесей и искажений», что нашло себя, считает Иванов, в духовном христианстве, ознаменованном символом Христовой смерти и воскресения [13: 257].
Таким образом, Вяч. Иванов на примере творчества Гете, осмысленного «на рубеже двух столетий», по существу, говорит о новом типе мировоззрения, новом типе коммуникации, смысл которого – в осознании «новых форм коллективного сознания», характерных всему модернизму, который и формирует некую форму целостного осмысления единства мира.
Творчество Гете, рассмотренное с позиций эстетического учения Шиллера, по мнению Вяч. Иванова, дает основание говорить о имеющемся общем между авангардным сознанием и сознанием архаичным. Художественный авангард пытается реконструировать ту полноту и многогранность связей и контактов с универсумом, которые когда-то были естественными для человека.
Данное положение можно обосновать концепцией сознания у К. Юнга. Рассуждая о моральном облике европейца и о «скрытом духовном влиянии Востока», он пишет: «Восток своими превосходящими душевными возможностями приводит в смятение наш духовный мир. То есть мы все еще никак не придем к мысли, что Восток способен охватить нас снизу. Такая идея покажется нам, наверное, едва ли не сумасбродной, поскольку нам свойственно мыслить исключительно каузальными связями, которые, разумеется, не позволяют нам понять, почему мы вправе возложить ответственность за смятение в душе нашего среднего духовного сословия на некоего Макса Мюллера, некоего Ольденберга, некоего Дейссена или Вильгельма. Но чему учит нас пример Римской империи? Вместе с завоеванием Передней Азии Рим стал азиатским, даже Европа заразилась азиатским, оставаясь таковой и сегодня. Из Киликии пришла религия римских легионеров, распространившаяся от Египта до туманной Британии, не говоря уже об азиатском происхождении христианства» [15: 312].
Концепция сознания у Юнга – восточного происхождения, и это особо подчеркивает канадский ученый Фаас. Восточное понимание сознания, по Фаасу, дало швейцарскому ученому, как пишут авторы указанной выше работы, возможность «высветить» духовное и культурное содержание психоаналитической проблематики без того резкого противопоставления (не смыслового, а терминологического) сознательного – бессознательному, природы – культуре и т.д., которое характерно для работ Фрейда [цит по: 10: 71].
В работе Фааса существенно следующее положение: сознание и разум в их традиционно-рационалистическом понимании не могут исчерпать полноты духовной жизни человека, дать достаточное представление о ее сущности. Суть этого положения на языке психологии представлена в концепции сознания у Юнга, а на языке философии ХХ в. – у экзистенциалистов К. Ясперса, М. Хайдеггера. Так, в работе «Наука и осмысление» Хайдеггера читаем: «Научное представление <...> никогда не в состоянии решить, являет ли природа в своей предметной противоположности полноту своего потаенного существа или, скорее, именно в силу этой своей противопоставленности она ускользает. Наука не способна даже задаться этим вопросом; ведь в качестве теории она уже приковала себя к области, ограниченной предметным противостоянием» [12: 248]. А «потаенное сущее», по Хайдеггеру, и есть тот «сущностный источник», который определяет духовную связь между народами времени «осевой эпохи» (Ясперс).
К постижению «потаенного сущего», как можно утверждать, осмыслив работы С. Кьеркегора, К. Ясперса, М. Хайдеггера, К. Юнга – с одной стороны, с другой – Вяч. Иванова, А. Белого, был близок Гете, поскольку обращение к восточной традиции с ее специальным понятием «мистическая причастность» приближает к снятию противоречий между объектом и субъектом, между общим и частным, между макрокосмом и микрокосмом. Именно «мистическая причастность», по мнению Фааса, является основным условием коммуникации. На Востоке, рассуждает он, человеческая субъективность понимается как некая разлитая в космосе духовность, тождественная с сущностью мира [цит. по: 10: 72]. О том, что культ разума, заложенный в европейской традиции, привел к тому, что эта слитность оказалась утраченной, ибо бессознательное, которое осуществляло функцию единения, связи с космосом, все время подавлялось, пишет и К. Юнг: «На столбовых дорогах мира все кажется запущенным и опустошенным. Поэтому, наверное, ищущий инстинкт покидает проторенную тропу и ищет то, что лежит в стороне, подобно тому как античный человек избавился от своего олимпийского мира богов и открыл для себя таинство Передней Азии» [15: 314].
Таким образом, если М. Хайдеггер говорит о «сущностном источнике» как общем «доме бытия» как условии духовных связей, диалогов между народами Запада и Востока, то К. Юнг, по существу, идет дальше: он как психолог, диагностируя болезнь эпохи, выносит «важную психологическую истину». Она в том, что «Восток и в самом деле причастен к нашему нынешнему изменению духа». Он говорит о душе современного человека, живущего в век американизма, «которая трудится над созданием новых духовных форм, форм, содержащих в себе душевные данности, которые с пользой для нас должны обуздать безграничное стремление арийца к наживе; в них есть, наверное, что-то от того ограничения жизни, превратившегося на Востоке во не внушающий доверия квиентизм, и, возможно, что-то от той стабильности бытия, которая обязательно устанавливается, когда требования души становятся такими же настоятельными, как потребности внешней социальной жизни» [15: 313]. Как К. Юнг верит в то, что человечество стоит у истоков новой духовной культуры, так и М. Хайдеггер констатирует факт «неизбежного диалога с восточноазиатским миром»: «...любое осмысление современности теперь способно возникнуть и укорениться лишь при условии, если в диалоге с греческими мыслителями и их языком оно пустит корни в эту почву нашего исторического бытия. Такой диалог пока еще дожидается своего начала. Он едва только подготовлен; и он сам для нас, в свою очередь, – предварительное условие для неизбежного диалога с восточноазиатским миром» [12: 240].
ЛИТЕРАТУРА
1. Неупокоева И.Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и сравнительного анализа. М., 1976.
2. Дрюк М.А. Синергетика: позитивное знание и философский импрессионизм // Вопросы философии. 2004. № 10. С. 102–113.
3. Григорьева Т.П. Синергетика и Восток // Вопросы философии. 1997. № 3. С. 90–102.
4. Смирнов А.В. Великий шейх суфизма. Опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби. М., 1993.
5. Нигматуллина Ю.Г. Синергетический аспект в исследовании художественного творчества. Казань, 2008.
6. Фещенко В. Autopoetica как опыт и метод... // Семиотика и Авангард: Антология. М., 2006.
7. Белый А. Начало века. Воспоминания: в 3 кн. Кн. 2. М., 1990.
8. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. Т. 2. М., 1969.
9. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
10. Зись А.Я., Стафецкая М.П. Методологические искания в западном искусствознании: Критический анализ современных герменевтических концепций. М., 1984.
11. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.
12. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: пер. с нем. М., 1993.
13. Иванов В.И. Родное и вселенское. М., 1994.
14. Тетруашвили Л.М. Проблема пантеизма в лирике Гете // Гетевские чтения. М., 1991.
15. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени: пер. с нем. М., 1996.
А. Фет в диалоге с поэтическим миром Востока: от «первичных высказываний» к «высказываниям вторичным»
Изучение творчества А.А. Фета в контексте художественной системы и философской мысли Востока требует осмысления рассматриваемых явлений как органической части некоего единого мирового процесса, в котором все взаимосвязано, взаимообусловлено. Такой подход дает возможность толкования восточного «акцента» в творчестве А. Фета – проблемы на протяжении всей истории фетоведения почти всегда остававшейся не то чтобы совсем в тени, но каждый раз не до конца раскрытой, осмысленной (мы, естественно, понимаем, что понятие «до конца изученное, осмысленное» – весьма относительно и условно, используем его, чтобы привлечь внимание к поставленной проблеме и определиться в задачах своего исследования).
Одним из первых в русской литературе к поэтическому диалогу не только с «греческими мыслителями», но и с «восточноазиатским миром» пришел А.А. Фет. Диалог русского поэта с поэтическим миром Востока представлен в циклах «Подражание восточному» (1850), «Из Гафиза» (1859, 1860). Чувство влечения к восточной поэзии как необходимое условие диалога сформировалось у Фета благодаря предшествующему опыту русской литературы, для которой характерны ориентальные мотивы, образы.
Представляется весьма интересным рассмотреть художественную систему творчества А. Фета в отношениях «Фет – восточная поэзия», а именно то, как идет выстраивание из тех или иных «первичных высказываний», т.е. того художественного материала, к которому Фет обращается (имеем в виду лирику Хафиза), «высказывание вторичное», в результате чего создается совокупность художественной системы, весьма интересная в рамках всего творчества поэта, а также в отношениях сравнения, сопоставления с восточной поэзией, в частности, с поэзией Хафиза. В отношениях «Фет – Хафиз» Фет выступает как «получатель» художественно-эстетических ценностей Востока. Творческая интуиция Фета способствовала освоению поэтического языка Хафиза, адаптированию его к условиям культурно-языкового кода русской поэзии XIX в. Хафиз как представитель суфийской поэзии оказывается в «ядерной структуре семиосферы» (Ю. Лотман), поскольку суфийская поэзия в лице Хафиза была известна всему миру, получила резонанс в творчестве не только восточных поэтов, но и западных.
Известно, что Фет переводил не только западную поэзию и философский трактат Шопенгаура, но и восточную: Хафиза (27 стихотворных текстов), Саади. Само обращение и количество этих обращений является фактором, определяющим пристрастия поэта. Знание характера «первичных высказываний» необходимо для восприятия и толкования «высказываний вторичных», т.е. той художественно-образной структуры Фета, которая будет рассматриваться в данной работе.
Известно также, что цикл Фета «Из Гафиза» является переводом Фета с немецкого. Даумер как переводчик, естественно, оставил свои «следы» на тексте Хафиза, Фет – свои. Говоря о «переводах» Фета, мы склоняемся к тому, что Фет даром творческой интуиции постиг поэтический смысл слова Хафиза. Подобная мысль присутствует в работах, в которых творчество Фета изучается в отношениях с лирикой Хафиза, например, К.И. Шарафадиной [1: 42]. Очевидно, что цикл «Из Гафиза» – не перевод в буквальном смысле этого слова (хотя и «просто» перевод – явление весьма сложное, в котором «почерк» переводчика – явление неизбежное). Фет – поэт-романтик силой художественной интуиции уловил в подтексте переводов Даумера то, что отвечало собственным творческим интересам. Вместе с тем современные исследователи творчества Хафиза говорят о узнаваемости первоисточника в цикле Фета «Из Гафиза». Так, М. Рейснер полагает, что восходящими непосредственно к Хафизу можно считать мотив ветра как посредника влюбленных в стихотворении «Ветер нежный, окрыленный...», а также уподобление влюбленного сгорающей свече в лучах «зари» – любимой в переложении «О, как подобен я – смотри!» [2: 295, 297, 302, 308].
Исследование художественной системы не только двух названных циклов, но и всей лирики Фета как связь между «первичным высказыванием» (лирика Хафиза) и «высказыванием вторичным» (в контексте названных двух циклов целый ряд других произведений Фета) определяет отношение текста Фета к метакультурным структурам Востока, образующее семантическую игру, выраженную в художественно-эстетической организации лирики Фета.
Предваряя непосредственный анализ лирики Фета в свете поставленной проблемы, следует помнить, что для того, чтобы рассмотреть парадигму художественности Фета, т.е. «свойства» образа-знака в контексте художественно-философской системы Востока, необходимо брать эти «свойства» в общей системе русского романтизма. Следовательно, говоря о художественно-образной системе Фета в контексте восточной поэзии и философии, следует помнить о необходимости знания двойного ряда смысловых (синтагматических) свойств образа-знака, так как выбор того или иного образа-знака из «высказываний первичных» (его парадигматическое определение) будет зависеть от синтагматического, т.е. смыслового свойства «высказывания вторичного». Синтагматические свойства «высказывания первичного» становятся «толчком» для творческого сознания; смысловые, семантические конструкции уже зависят от синтагматических свойств знака «высказываний вторичных».
Прежде чем начать сравнительно-сопоставительный анализ произведений, принадлежащих к генетически различным литературам, необходимо начать с исходных определений типов культур.
Исследования М.В. Панова, Ю.М. Лотмана, И.П. Смирнова различают «парадигматический» и «синтагматический» типы культуры. Метаязык синхронного описания словесного искусства, предложенный М.В. Пановым, был использован им применительно к символизму и постсимволизму. Расхождение между символизмом и постсимволизмом обусловливается принципиально различными связями смысловых элементов, господствующими в этих поэтических системах: парадигматические отношения преобладают в первом случае, синтагматические – во втором [3: 24], Ю.М. Лотман выделяет в качестве эпох, ориентированных на троп, когда «широко практикуется замена семантических единиц другими», и определяющих первый тип культуры, когда слово, включенное в бесконечный «парадигматический ряд», имеет безграничное число синонимов (его синтагматические связи ослаблены, оно существует при нейтрализованном контексте), мифопоэтический период, средневековую картину мира, барокко, романтизм, символизм и авангард [4: 53]. И.П. Смирнов тоже считает, что опыт, использованный М.В. Пановым, можно повторить, обратившись к другим литературным направлениям [3: 24].
Поскольку предметом нашего исследования является не только поэзия Фета, но и Хафиза, который не может быть осмыслен без философии и эстетики суфийской поэзии, то в контексте сказанного представляется интересным посмотреть на систему тропов, разработанную средневековой суфийской поэзией, которая как «первичное высказывание» использовалась позже, в других культурных эпохах: романтизме, символизме, авангарде. В тропеической системе этой поэзии заменяющее и заменяемое не только не являются адекватными по каким-либо существенным семантическим параметрам, но обладают прямо противоположным свойством – несовместимостью.
Система тропов в суфийской поэзии определялась устойчивой парадигмой – исходной концептуальной схемой. Суфийская поэзия отработала устойчивую систему парадигм как направляющую ход мыслей поэта. Такая парадигма задавала довольно ограниченное количество образов, которым пользовались суфийские поэты. Весь запас их сводится к определенным формулам, как правило, парам образов, которые становятся отправными точками при создании стихотворений. Пары почти не видоизменяются, лишь вступают в различные сочетания друг с другом и, что очень важно, именно эта способность суфийской пары образов расширяет до бесконечности смысловые ее параметры, давая возможность определения содержания и смысловых конструкций целого «веера» произведений, что, в свою очередь, способствует образованию синтагматической связи между отдельными произведениями, когда пара образов превращается в материал, способный резко и индивидуально менять свое значение под влиянием контекста произведения в синтагматическом ряду. В рамках отдельного произведения пара образов воспринимается в парадигматическом ряду, который, каким бы протяженным он ни оказался, все же ограничен реальными масштабами текста, в каждом из которых используется пара образов с исходной концептуальной схемой и с безграничным числом смысловых синонимов.
Например, в паре образов «локон – лицо» «лицо» – естественная антитеза «локона», обладающая противоположными понятиями-ценностями. Метафорическое и метонимическое перекодирование знаков различных семиотических систем (локон – лицо) дает возможность определения парадигмы как исходной концептуальной схемы, модели постановки проблем, решаемых в философской эстетике суфизма. По Е. Бертельсу, лицом называют чистые эманации. Лицо – абсолют, все и вся, и вместе с тем ничего. Локоном называют тайну онности (возможный максимум реальности), куда никому нет доступа. Когда упоминают лицо, имеют в виду миры, имеющие истинное бытие. А когда упоминают локоны, имеют в виду миры, истинного бытия не имеющие [5: 113]. Мир эманаций суфии представляют себе в виде кольца, замыкающегося на последнем заключительном звене – человеке. Локон – кольцо, силок по отношению к тайне онности. Использование метафоры – семантического замещения по сходству или подобию основной семы – в данном случае «локон – кольцо» – олицетворяет ищущего бога суфия, пойманного в кольце низших миров и стремящегося к освобождению из него.
Таким образом, благодаря тропу выражается такое содержание мысли, которое иным способом передано быть не может и, если воспользоваться определением Ю.М. Лотмана, между прямым и переносным значением не существует отношений взаимооднозначного соответствия, а устанавливается лишь приблизительная эквивалентность [4: 54]. Между метафорическим и метонимическим выражением символического образа в суфийской поэзии и метафорическим же содержанием его устанавливаются сложные семантические отношения неравенства и неоднозначности: «локон – кольцо», «локон – лицо» – метафорические образы, в которых приемы изменения основного значения слова исключают рациональное толкование взаимной замены. Причем риторический характер символа в суфийской поэзии, т.е. использование «приемов изменения основного значения слова, именующихся тропами» (Томашевский), проявляется в том, что метафорическое выражение символического образа (например, «лицо» из пары «локон – лицо») не может быть взято отдельно, поскольку суфийская символическая пара образов выполнена в соответствии с утвержденным художественным каноном, закрепившим риторику композиции образа-символа в ее парности. С целью постижения этих отношений необходимо в рамках каждого отдельного текста постигать образ как в парадигматических, так и синтагматических его выражениях.
Взгляд на тропеическую систему поэзии Фета, а также на средневековую поэзию Востока как на явления эпох, ориентированных на троп, позволит осмыслить риторику текста Фета как отдельное «большое слово» (Ю. Лотман), ориентированное на троп, когда образ включается в бесконечную игру синонимов, когда одна семантическая единица заменяется другой; эта «игра», естественно, содержит и семиотическое выражение тропа (например, образы соловья и розы в каждом стихотворении Фета имеют свою семантическую транскрипцию и свое семиотическое выражение, о чем будем говорить дальше).
Наша задача – рассмотреть своеобразие поэзии Фета как риторического целого в его отношениях с риторикой восточной средневековой поэзии, в частности, Хафиза.
Естественно, что риторика восточной поэзии воспринимается Фетом в проекции на романтические нормы русской поэзии XIX в., создавая тем самым «риторику отказа от риторики» (Ю. Лотман), что становится объективной причиной культурно-исторического характера для формирования «риторики второго уровня». В художественно-эстетической концепции «риторики второго уровня» огромную роль играют субъективно-авторские особенности, когнитивные возможности и способности поэта, тип его творческого мышления, комплексы его привязанностей, увлечений и т.п. Последнее является весьма важным фактором в решении поставленной проблемы.
Риторика текста в ее формальных характеристиках объяснима законами языка, но, как пишет М.Ю. Лотман, между языковым и риторическим единством текста существует принципиальная разница. «Риторическая структура не возникает автоматически из языковой, а представляет решительное переосмысление последней (в системе языковых связей происходят сдвиги, факультативные структуры повышаются в ранге, приобретая характер основных, и проч.)» [4: 66]. Сказанное относится и к «риторике второго уровня». Риторика текстов Фета, осмысленная нами как «риторика второго уровня», характеризуется риторической структурой первого уровня, в нашем случае художественными образами-тропами Хафиза, внесенными в текст Фета как бы извне, из другого культурного, семиотического пространства. Сдвиги, происходящие в системе языковых связей, в «риторике второго уровня» объясняются универсальной и индивидуальной когницией концептов-образов в системе текста.
Семиотическое пространство, определяющее «поэтическую стилистику», художественно структурируется системой концептов, которыми и определяется риторика текста, т.е. система тропов – художественных образов [4: 69]. В основе каждого тропа, рассмотренного с когнитивной точки зрения, лежит, как утверждают лингвисты, работающие на стыке с философией, определенный концепт: концепт объекта (предмета, явления), концепт/концепты его атрибутов, концепты действия с объектами, концепты пространства и времени, т.е. концепт, который можно считать входящим в число архетипов коллективного сознания, универсального для всего человечества. В формировании концептов значимы культурные, национальные факторы. Для нас необходимым является определение концепта как риторической структуры, вытекающей из законов языка и реализующейся на уровне построения целостных текстов.
Можно выделить концепты универсальные, свойственные человеческому сознанию в целом, концепты национальные, отражающие национальный тип мышления и определяющие тот или иной тип культуры в том или ином литературном направлении, явлении, и концепты индивидуальные.
Следует заметить, что базисные концепты, являясь общими для разных культур, обладая, естественно, специфическими характеристиками в каждой конкретной культуре, являются «узнаваемыми» в основе того или иного тропа, определяющего риторическую структуру, вытекающую из законов языка и реализующуюся на уровне текста. А вот индивидуальные концепты содержат все то, что определяется как концепт универсальный, национальный плюс то, что называется типом мышления, когнитивной способностью человека к осознанию окружающей действительности и построению концептуальной картины мира. Когнитивная способность – это «совокупность психических (ментальных, мыслительных) процессов – восприятия мира, простого наблюдения за окружающим, категоризации, мышления, речи, служащих обработке и переработке информации, поступающей человеку либо извне по разным чувственно-перцептуальным каналам, либо уже интериоризированной и реинтерпретированной человеком» [цит. по: 6: 116].
Задача данного исследования – через тропеическую систему лирики Фета охарактеризовать когнитивные особенности творческого сознания поэта, проявившиеся в его художественной картине мира и зависящие, с одной стороны, от концептосферы русского романтизма XIX в., а с другой стороны – от степени категоризации воспринятого восточного материала. Термин «категоризация» используем в двух его определениях: это «способ придать воспринятому миру упорядоченный характер, систематизировать наблюдаемое и увидеть в нем сходство одних явлений в противовес различию других» (Е.С. Кубрякова); это «процесс опознавания воспринимаемых сущностей или отнесение их к уже имеющимся группам, характеристики членов которых приписываются этой новой сущности и учитываются на разных уровнях осознаваемости как выводное знание» (А.А. Залевская) [цит. по: 6: 57].
Когнитивные особенности творческого сознания Фета, осознание окружающей действительности, художественная картина мира выстраивались благодаря восприятию опыта мира, Запада и Востока. Совокупностью ментальных, мыслительных процессов в восприятии мира объясняется интерес Фета к восточной поэзии, что способствовало формированию особого типа мышления, который можно определить как целостный, универсальный. Подобный тип мышления и способствовал формированию фетовской эстетической концептуальной картины мира.
Именно когнитивной индивидуальностью Фета объясняются многие образы, заимствованные из восточной поэзии (через поэзию Хафиза, Саади). В художественной картине мира Фета образы, заимствованные из Хафиза, так или иначе определяют концептуальное целое всего его творчества.
Так, образы соловья и розы, широко распространенные в арабской и особенно персидской поэзии, заимствованные западной поэзией, позже русской, у Фета становятся символической концентрацией разного в едином, в концептуальном выражении образы раскрываются линейным развертыванием единого в разных стихотворениях, что дает веер смысловых оттенков одного и того же образа. Можно сказать, что эти образы становятся исходными символами в любовной лирике Фета, емкость которых, если воспользоваться определением Ю.М. Лотмана, «пропорциональна обширности потенциально скрытых в них сюжетов». Текст Фета (его любовная лирика – поэтический роман) превращается в парадигматический набор различных вариантов исходных символических образов соловья и розы. Ими определяется пучок возможных парадигм в художественном пространственно-временном выражении в рамках сюжетов стихотворений.
Образы соловья и розы присутствуют у Фета в его картине природы (циклы «Вечера и ночи», «Весна»), в любовной лирике как средство выражения «невыразимого». Образы соловья и розы выступают как раздельно, так и как парный образ («Соловей и роза»), возможен вариативный ряд парности: пчела-роза, пчела-цветок. Причем любовная лирика с образами соловья и розы у Фета часто становится выражением его философских, эстетических взглядов на жизнь («Сентябрьская роза», «Осенняя роза»). Так, фетовед Д.Д. Благой пишет: «Любовная лирика Фета, помимо своих замечательных поэтических качеств, представляет особенный интерес и потому, что она дает возможность глубже проникнуть в его общефилософские, а соответственно, и эстетические взгляды...» Природа в картине мира Фета, как отмечает Благой, – «необъятный, непонятный, благовонный, благодатный мир любви» [7: 612]. Он имеет ввиду стихотворение «Роза» (1864 (?)), которое имеет откровенно эротический тон, характерный для средневековой арабской, персидской поэзии: «И тебе, царица роза, / Брачный гимн поет пчела». Как пишет Благой, вся природа у Фета «восстает против аскетической теории автора “Крейцеровой сонаты”». Для поэта, который воспринимает мир природы как мир любви («Мир любви передо мной»), природа и любовь – равнозаменяемые понятия.
В цикле «Вечера и ночи» образ соловья как олицетворение природы-жизни, любви в ней и является выразителем гармонии мира, «мира как красоты» (Д. Благой):
Что за вечер! А ручей
Так и рвется.
Как зарей-то соловей
Раздается.
Рефлексия природы приводит творческое сознание Фета не только к осознанию «одухотворенности» природы, но и интериоризации, благодаря чему и становится возможным о человеческих переживаниях, ощущениях говорить на «языке» природы.
«Язык» природы дал Фету понимание природы как источника жизни, источника любви, красоты. Стихотворение «Скучно мне вечно болтать о том, что высоко, прекрасно...» (1842) нужно воспринимать как художественно-эстетическое кредо прекрасного в жизни. «Болтать» о прекрасном – скучно, «к зевоте ведут»... Подобные разговоры были, как знаем, характерными для времени (представления о прекрасном И.С. Тургенева, Н.Г. Чернышевского, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского). У Фета же прекрасное не нечто абстрактно-теоретическое, а реальное, вполне земное. Художник природным инстинктом, как и пчела, «чует прекрасного след»:
Бросив педантов, бегу с тобой побеседовать, друг мой;
Знаю, что в этих глазах, черных и умных глазах,
Больше прекрасного, чем в нескольких стах фолиантах,
Знаю, что сладкую жизнь пью с этих розовых губ.
Только пчела узнает в цветке затаенную сладость.
Только художник на всем чует прекрасного след.
Чувственность у Фета – «инструмент» восприятия мира природы, она в поэтическом мироощущении поэта – средство познания прекрасного.
Так, слуховое, зрительное восприятие явлений природы, например, в стихотворении «Я жду...», в котором строки: «Соловьиное эхо / Несется с блестящей реки, / Трава при луне в бриллиантах, / На тмине горят светляки» – определяют импрессионистическую недописанность лирического субъекта в мотиве ожидания («Я жду...»). Повторяющееся «Я жду» (все три строфы начинаются с этих слов) усиливает эмоциональный тон стихотворения: через заявленный мотив настойчиво повторяется предикативность лирического субъекта – она в ожидании. Таким образом, ожидание – единственный «поступок» лирического субъекта, «поступок» его сердца, который невыразим, чем объясняются многоточия в каждом случае после слов «Я жду...» В «каталоге» явлений природы, который присутствует в каждой строфе после повторяющихся «Я жду...», – интериоризация природы, чем объясняется то, что в «каталог» явлений природы вносится «биение сердца» лирического субъекта, «трепет в руках и ногах».
В последней строфе лирический субъект дается не просто в созерцательно выстроенной картине природы, он в причинно-следственных отношениях с ней – природой:
Я жду... Вот повеяло с юга;
Тепло мне стоять и идти;
Звезда покатилась на запад...
Прости, золотая, прости!
Обращает на себя внимание характерная для стилистики Фета последняя строка стихотворения: «Прости, золотая, прости!», которая не о звезде, «покатившейся на запад», как может казаться на первый взгляд, она о той, кто является причиной «биения сердца» лирического субъекта. Таким образом, стихотворение «Я жду...» о любви, о которой поэт говорит на «языке» природы, понятном художнику: «только художник на всем чует прекрасного след» (Д. Благой).
В цикле «Вечера и ночи» с неизменным спутником – образом соловья – мотив ожидания присутствует у Фета и в других стихотворениях: «Здравствуй! Тысячу раз мой привет тебе, ночь!», «Право, от полной души я благодарен соседу...»
Мотив ожидания и встречи с возлюбленной, выраженный через образы соловья и розы, – основной мотив персидской поэзии; он характерен и для любовной лирики Хафиза. Так, его стихотворение «Приди: израненное сердце, быть может, исцелится вновь...» завершается бейтом:
Приди, приди: уже трепещет моих желаний соловей,
Благоуханной розой встречи он хочет насладиться вновь!
(Перевод С. Липкина)
У Фета тоже соловей – выразитель чувств лирического субъекта: «под окном соловей громко засвищет любовь» (стихотворение «Право, от полной души я благодарен соседу...» (1842). В стиле Хафиза выписан эротический портрет возлюбленной:
Что за головка у ней, за белые плечи и руки!
Что за янтарный отлив на роскошных извивах волос!
Стан – загляденье! притом какая лукавая ножка!
Будто бы дразнит, мелькая...
Говоря о любовной лирике Фета, необходимо отметить присутствие в ней еще одного хафизовского мотива – мотива опьянения, который характерен для стихотворений позднего периода. Так, в стихотворении «Моего тот безумства желал, кто смежал...» (25 апреля 1887) этот мотив становится основным в теме любви, которой поэт остается верен и в старости:
Злая старость хотя бы всю радость взяла,
А душа моя так же пред самым закатом
Прилетела б со стоном сюда, как пчела,
Охмелеть, упиваясь таким ароматом.
Через эту тему, выраженную с помощью парного образа «пчела – аромат», определяется полнота мироощущения лирического субъекта, его способность любить, а значит жить:
И, сознание счастья на сердце храня,
Стану буйства я жизни живым отголоском.
Этот мед благовонный – он мой, для меня,
Пусть другим он останется топким лишь воском!
С хафизовской любовной лирикой перекликается и стихотворение «Не нужно, не нужно мне проблесков счастья...» (4 ноября 1887), в котором мотив опьянения присутствует в контексте мотива сна:
Когда бы ты знала, каким сиротливым,
Томительно-сладким, безумно-счастливым
Я горем в душе опьянен, –
Безмолвно прошла б ты воздушной стопою,
Чтоб даже своей благовонной стезею
Больной не смутила мой сон.
Как принято утверждать, мотив сна – «продукт» европейского, позже русского романтизма. Так, фетовед В.Н. Касаткина пишет: «Только романтики проявили особый интерес к сновидениям как действительному воплощению главного принципа их творчества – осознания и предугадывания двоемирия, глубинной противоречивости бытия, двоемирия, которое так очевидно представлено в сне и пробуждении. <...> Сон в романтизме всегда контрастен действительности. Пробуждение – это или возврат к тягостной, убогой действительности, или, напротив, освобождение от кошмаров сновидений» [8: 69].
Вместе с тем анализ лирики Фета приводит исследователя к следующему, на наш взгляд, весьма ценному положению: «Фета обычно не занимают романтические сюжеты сновидений (хотя есть и исключения). Его лирика сновидений приобретает все более философско-психологическое наполнение». Уже в ранних стихотворениях поэта, отмечает исследователь, обнаруживаются «субъективный и объективный принципы лирики сновидений», которые в дальнейшем развитии лирики Фета сохраняются и все больше сливаются, «обозначая его философский взгляд на мир и онтологические переживания, интуитивные и разумные» [8: 72].
Взяв за основу данное утверждение авторитетного фетоведа, обратимся к стихотворению «В царство розы и вина – приди...» из цикла «Из Гафиза» с целью осмысления философского содержания мотива сна в лирике Фета:
В царство розы и вина – приди,
В эту рощу, в царство сна – приди.
Инстинктом художника Фет понял тип мироощущения Хафиза. «Царство розы и вина» – это прежде всего мир воображения-видимости поэта, который становится миром его поэзии. Лирика Хафиза становится толчком к воображению Фета. Любопытно, что мотива сна в буквальном его определении у Хафиза нет, он выражен опосредованно, через мотив любви:
Приди, Хафиза уничтожь: никто мне в мире не поверит,
Что жил, что был я сам собой, когда лишь ты существовала!
(Перевод С. Липкина)
В контексте сказанного любопытно обратиться к философии Ибн Араби – крупнейшего представителя средневекового арабо-мусульманского мистицизма. Так, в Геммах мудрости, в частности в «Гемме мудрости лучезарной в слове Иосифа», объясняется миропорядок следующим образом: «...то, что именуется миром, по отношению к Богу – то же, что тень по отношению к человеку. Сие тень Бога, и сие же – воплощение соотнесения бытия с миром...» Вместилище для сей тени Божьей именуется миром [9: 189]. Коль скоро миропорядок таков, то мир иллюзорен (мутаваххам), у него нет истинного бытия. В этом и заключается смысл видимости [9: 190]. Мир видимости – мир сна. Посланник Божий сказал: «Люди спят, умерев же, очнутся» [9: 187]. Следовательно, миропорядок таков, что человек сам – видимость-воображение, все постигаемое и высказываемое им есть лишь видимость-воображение. Все бытие – видимость в видимости, истинное же бытие – это Бог как Самосущность и как Воплощенная сущность [9: 191].
Данные определения Ибн Араби ценны и тем, что они, на наш взгляд, совершенно необходимы в осмыслении эпиграфа к стихотворению-поэме Фета «Соловей и роза», анализ которого мы даем в отдельной части нашего исследования. Пока, предваряя непосредственный анализ этого произведения, в рамках обзорных характеристик образов соловья и розы скажем, что шопенгауэровские строки в качестве эпиграфа («Равномерность течения времени во всех головах доказывает более, чем что-либо другое, что мы все погружены в один и тот же сон; более того, что все видящие этот сон являются единым существом») совершенно созвучны выше приведенным изречениям Ибн Араби. Созвучие определяется связью Шопенгауэра с восточной философией, о чем мы будем говорить, представляя наш анализ названного произведения Фета. На наш взгляд, обнаружение подобной связи способствует более глубинному осмыслению не только данного произведения Фета, но и всего его творчества, что противоречит существующему мнению о том, что поэт «присоединил» эпиграф, взятый из Шопенгауэра, и как таковой в художественно-философской мысли произведения не играет существенной роли [см., например: 8: 69–81].
В сокровищницах воображения Фета доминирующую роль играет соловьиное пение, являющееся прообразом «грезящей», «мифотворческой» поэзии Фета, о чем пишет в своем исследовании Г.П. Козубовская. Соловей организует мифосимволический комплекс соловьиного сада. Через образ соловья интериоризуется, субъективизируется природа. Исследователь утверждает, что вершина лиризма Фета – в осуществлении принципа «стать природой» [10]. Принцип «стать природой» выражает мифопоэтическое сознание народов. Эстетика восточной поэзии сохранила этот тип сознания и в Новое время. В XIX в. этот тип сознания оказался привлекательным для поэтов романтиков как Европы, так и России.
Цикл «Из Гафиза» является творческой иллюстрацией определения мифологического сознания Фета, перекликающегося с аллегорическим сознанием восточного поэта.
Как у Хафиза, у которого образ соловья равен образу автора («Несчастный, как и я, любовью к розе болен»), соловей – «заместитель» Фета, причем не только в мифологемах поэта, но и его философемах, в которых выражено понимание поэтом мира как такового: «Странные мысли / Приходят тогда мне на ум: / Что это – жизнь или сон? / Счастлив я или только обманут?» (стихотворение «Я люблю многое, близкое сердцу...» (1842)).
В равенстве между соловьем и автором в лирике Фета – осуществление принципа «стать природой», что отвечало канонам эстетики романтизма. Принцип «стать природой», если говорить о мироощущении поэта, предполагает субъект-объектную неразделенность, характерную картине мира восточного человека. Для восточного поэта интериоризация (о внутреннем мире человека говорить через «язык» природы) – совершенно естественная форма самовыражения. Благодаря подобному мироощущению мир (бытие) для восточного человека таков, каков сам человек. Человек в самом себе открывает устроение мира (бытия). Единое двуипостасное бытие, согласно Ибн Араби, – это «континуум истинных сущностей, который открывается человеку только тогда и только постольку, когда и поскольку он познает их истинность, осуществляет их в себе» [9: 130]. При этом умопостигаемая сущность, по Араби, есть та самая, которая воплощена в мире как сенсибельная: то, что открывает человек в своем уме, и есть то, что существует вне его в мире. Субъект-объектная парадигма Ибн Араби, типологически сходная с той, на которой возникла европейская философия Нового времени, необходима нам в осмыслении лирики Фета в контексте поставленной проблемы.
Суждения, подобные высказываниям Ибн Араби, мы находим у философа XX в. Мартина Хайдеггера, опыт которого может восприниматься как опыт преемственности. По Хайдеггеру, сущность мира тоже категория сенсибельная, умопостигаемая, он тоже говорит на языке феноменологии: «Мышление есть пред-ставление, устанавливающее отношение к представляемому (idea как peceptio)». Представлять, по Хайдеггеру, значит: «самостоятельно ставить нечто перед собой и удостоверять пред-ставленное как таковое. <...> Всякое отношение к чему бы то ни было, воление, мнение, ощущение есть прежде всего с самого начала представление, coqitatio, что переводят как “мышление”» [11: 59]. Термин «coqitatio» – термин Декарта, с которого, по мнению Хайдеггера, начинается освобождение человека, «когда он освобождает себя себе самому, от обязательной истины христианского откровения и от церковного учения переходя к самоустанавливающемуся законодательству» [11: 58]. Только такой человек «должен стать исключительным сущим» и отсюда, «быть субъектом становится теперь исключительной характеристикой человека как мысляще-представляющего существа» [11: 60].
Восточный поэт, в том числе Хафиз, «освободил себя себе самому», благодаря опыту мироощущения, для которого характерна субъект-объектная неразделенность с природой, постиг тайну сущего, которая в том, что поэт – «мысляще-представляющее существо».
Фетоведы сущим у Фета называют мир воображения-видимости, например, мир сна, как его определяет В.Н. Касаткина, характеризуя романтическое мироощущение поэта. Именно он (мир сна) переживается и становится переживанием, т.е. сущим. Сущее поэта – греза Творца (В. Касаткина) .
В стихотворении «Ветер нежный, окрыленный...» (цикл «Из Гафиза) через «язык» природы (проявление очеловеченности природы) создается мир воображения-видимости с образом лика Божества-Любви. Образ ветра становится олицетворением божественной стихии, которая у Фета, как и у Хафиза, – «благовестник красоты»:
Ветер нежный, окрыленный,
Благовестник красоты,
Отнеси привет мой страстный
Той одной, что знаешь ты.
Расскажи ей, что со света
Унесут меня мечты,
Если мне от ней не будет
Тех наград, что знаешь ты,
Потому что под запретом
Видеть райские цветы
Тяжело – и сердце гложет
Та печаль, что знаешь ты.
И на что цветы Эдема,
Если в душу пролиты
Ароматы той долины,
Тех цветов, что знаешь ты?
Не орлом я быть желаю
И парить на высоте:
Соловей Гафиз ту розу
Будет петь, что знаешь ты.
Образ ветра как олицетворение красоты, разлитой в мире, выражен в рамках восточного концепта «соловей-роза». Образ ветра на Востоке обычно имел существенную роль в любовной и «винной» лирике: тема страстной, безумной любви обычно перекликалась с темой «восточного ветра» («саба»). В философской поэзии Востока образ ветра входил составной частью в сложный образ, сформированный из множества перекликающихся друг с другом аллегорий. Так, «восточный ветер» является аллегорией эманации гор [12: 102].
Если говорить о творчестве Хафиза, то и в его любовной, «винной» лирике образ ветра является сквозным. Однако в целом ряде стихотворений он отказывается от аллегорического языка, обязательного для лирики с философией суфизма («О суфий, розу ты сорви...», «Не откажусь любить красавиц...», «Нам надо наслаждаться...», «Ты, чье сердце – гранит...» и др.) Так, стихотворение «Не откажусь любить красавиц...» содержит строки – газели:
Как надоели мне намеки, увещеванья мудрецов,
Я не хочу иносказаний, – ведь их значенье так темно!
(Перевод С. Липкина)
Хафиз – поэт Любви–Красоты–Жизни. Об этом он говорит в двух поэтических формах: в форме аллегорической философской поэзии Востока, здесь он близок к философии суфизма, и в форме, с одной стороны, архаичной, идущей от арабо-испанской поэзии, с другой – во многом авангардной, в рамках которой любовные переживания, ощущения стали сущностными, определяющими тип творческого мышления поэта. Эта форма хафизовской лирики покорила мир, Запад и Восток. Эту совершенно пронзительную форму языка Любви и перенял русский поэт Фет. Для него, как и для Хафиза, синонимами Любви становятся Красота, Жизнь.
Следует подчеркнуть, что концепция «Любовь–Бог» у Хафиза, выраженная не без традиционных иносказаний суфийского характера, имеет расширительный контекст: Бог и есть Жизнь, Красота. Хафиз всегда тянулся к самим реалиям жизни, которые и определяли его царство любви, вина и красоты. Именно это делает лирику Хафиза свободной от сложных форм иносказаний, демократичной, доступной и близкой каждому.
Таким образом, для лирики Хафиза характерна как связь с суфийской философией, так и своеобразный отказ от нее. В этом ее парадоксальность. Хафиз, сохраняя высокий дух суфийской философии, приближал поэзию к той форме, которая позволяла воспринимать образы в авторском художественно-эстетическом смысле. Ему претила также лживая игра суфийскими образами. По этой причине он и воспринимался апологетами религии чуть ли не еретиком. Так, например, в стихотворении «О боже, ты вручил мне розу...» поэт, следуя суфийской философии, использует суфийский «инструмент»: «О боже, ты вручил мне розу...», но тут же его отрицает: «...но я верну ее назад, – / Затем что на меня лужайка завистливый бросает взгляд». Результатом отрицания становится удаленность «подруги» «на сто стоянок от любви» («подруга» – образ, через который в традиционной суфийской поэзии говорится о любви к Богу; «на сто стоянок от любви» – отказ от традиционной любви к Богу, о которой привычно было говорить на языке аллегорических иносказаний). И все следующие дальше газели этого произведения Хафиза содержат сочетание суфийской символики с вполне земным образом возлюбленной:
Хотя природа удалилась на сто стоянок от любви,
Пусть от подруги удалятся тоска и горе, дождь и град.
Когда ты над ее стоянкой повеешь, вешний ветерок,
Надеюсь, ты ей нежно скажешь, что я всегда служить ей рад.
(Перевод С. Липкина)
Вместе с тем присутствующий в стихотворении образ «вешнего ветерка», конечно же, несет в себе эманацию божественного света (в последнем двустишии поэт говорит: «Хвала поэзии Хафиза, она – познанье божества»).
В стихотворении «Ветер нежный, окрыленный...» Фет, используя художественно-эстетический язык Хафиза, выражает основной постулат всей своей лирики, который выражен через слово «красота». Источник красоты – «та одна», «та роза», которую Фет, как и Гафиз-соловей, будет петь всю жизнь. Фет заимствует у Хафиза форму игры в аллегорию. Каждое четверостишие завершается рифмующимися между собой строками: «Той одной, что знаешь ты»; «Тех наград, что знаешь ты»; «Та печаль, что знаешь ты»; «Тех цветов, что знаешь ты»; «Будет петь, что знаешь ты». Подобный игровой тон придает стихотворению оттенок романтического иносказания.
Хафиз, используя приемы аллегорической поэзии, создал бессмертные образы соловья и розы, через которые можно было говорить не просто о любви (что было характерно для фольклора многих народов), но о Любви как Божестве, как Прекрасном. Суфийская поэзия через образ соловья, стремящегося к розе, отработала художественную форму постижения Абсолютной сути, которая возможна при полном проявлении истинной сущности «Я» человека – «ман». «Ман» – путь суфия, идущего по пути духовного совершенствования. Поэзия Хафиза воспринимается чрезвычайно привлекательной по той причине, что в ней соловей, воспевающий свою розу, и является олицетворением того духовного совершенства, которое необходимо для постижения мира как Красоты, как красоты Любви. И что очень важно в понимании лирики Хафиза, а через него Фета, для подобного постижения Красоты характерен отказ от сущностного отношения к «я» своей личности.
Следует подчеркнуть, что подобное определение красоты было основным как в мусульманской мистике, так и в философской, аллегорической поэзии востока. Так, Ибн Араби, формулируя принцип применения аллегории как единственного способа выражения в философской поэзии онтологических, эстетических взглядов, характерных для пантеизма, в предисловии к своему сборнику «Толкователь страстей» пишет: «Хвала Аллаху, чьи деяния – благо, что возлюбил красоту и сотворил мир в самой совершенной форме, украсив его и пронизав его своей скрытой и тайной мудростью в то время, как создавал его. Он указал, где скрыта тайна мироздания, он определил мир и разделил его общность для знающих и разъяснил его. Он сделал все, что есть в мире телесного, украшением этого мира и этих тел и заставил погибать знающих от страсти и стремления созерцать эту красоту. Да будут молитвы Аллаха с тем, что исходит (эманирует) из него в прекраснейшей форме» [цит. по: 12: 106–107].
В контексте определения мотивов в любовной лирике Хафиза весьма интересным является парный образ свечи и мотылька, который может восприниматься своеобразной вариацией мотива соловья и розы. Фет в двух стихотворениях «Из Гафиза» тоже обыгрывает хафизовские образы. В стихотворении «О, как подобен я – смотри!» лирический субъект, выражая свою любовь к возлюбленной, уподобляет себя свече, «мерцающей впотьмах!», в то время как его возлюбленная («Ты») – «в сияющих лучах восход зари». Как и стихотворения Хафиза, строки Фета могут восприниматься в двух транскрипциях: как аллегорическая философская лирика с пантеистическим толкованием мироздания как мира красоты («Восход зари, – /Лишь ты сияй, лишь ты гори!»), выраженная через язык любовной лирики, и как любовная лирика, в которой через лирического субъекта выражается сущностное отношение к любви.
В стихотворении «Мы, Шамзеддин со чадами своими...» (из того же цикла Фета) образ свечи выражает гражданские позиции Хафиза-поэта: «Без устали ярмо свое влача, / Роняя перлы из очей горячих, / Мы веселы и ясны, как свеча».
Парный образ «бабочка – свет» присутствует у Фета в стихотворении «Люди нисколько ни в чем предо мной не виновны...» (1854). Поэтическая антитеза «люди – я», в которой невольное противопоставление лирического субъекта «людям», через парный образ «день – ночь» раскрывает своеобразие мироощущения, миропонимания лирического «я»:
День их торопит всечасно своею тяжелой заботой,
Ночь, как добрая мать, принимает в объятья на отдых,
Что им за дело, что кто-то весь день протомившись бездельем,
Ночью с нелепым раздумьем пробьется на ложе бессонном?
Ночное состояние лирического субъекта выражается через двусоставный образ «бабочка – свет»:
Пламя дрожит на светильне – и около мысли любимой
Зыблются робкие думы, и все переходят оттенки
Радужных красок. Трепещет душа, и трепещет рассудок.
Сердце – Икар неразумный – из мрака, как бабочка к свету,
К мысли заветной стремится. Вот, вот опаленные крылья,
Круг описавши во мраке, несутся в неверном полете
Пытку свою обновлять добровольную. Я же не знаю,
Что добровольным зовется и что неизбежным на свете...
В последних двух стихах в форме риторического вопроса определяется «мысль заветная» лирического «я», к которой сердце, «как бабочка к свету», стремится. На этот вечный вопрос «Что добровольным зовется и что неизбежным на свете...» нет и не может быть ответа, но он волнует лирического героя, является его ночным «нелепым раздумьем».
В традиционной суфийской поэзии образ бабочки, стремящейся к огню, обладает устоявшимся значением: им выражалось стремление к познанию. В суфийской поэзии, в творчестве Хафиза в частности, «свеча» – высшая божественная Истина, а «мотылек» стремится к ее свету для того, чтобы, сгорев в пламени свечи, слиться с божеством и ощутить свое с ним единство (кульминация единства – «небытие в Истине»).
Известно, что многие суфийские образы, широко распространившись в мировой поэзии, воспринимаются как традиционные. Таковым является, по мнению Г.П. Козубовской, образ «бабочка – свет (огонь)» в этом стихотворении Фета. Смысл «традиционного» образа расшифровывается ею как «обозначение неразумности человека в его устремлении к истине» [13: 153–154]. Вместе с тем исследователь признает ключевое значение этого образа в системе поэтики произведения.
На наш взгляд, благодаря суфийскому подтексту и определяется глубина философемы поэта «Сердце – Икар неразумный – из мрака, как бабочка к свету, / К мысли заветной стремится». «Неразумность» в устремлении к истине – способность поэта-мыслителя, который не похож на тех, кого день «торопит всечасно своею тяжелой заботой, / Ночь, как добрая мать, принимает в объятья на отдых». Фет на образном языке, сформулированном еще суфизмом, сказал, что истина – «мысль заветная» – постигается не разумом, а сердцем – «Икаром неразумным», что является основополагающим положением философии суфизма.
Нельзя не согласиться с Г.П. Козубовской в том, что образ полета бабочки к свету обнажает двойственность оценки «мысли заветной», обусловленной «двойным бытием» («Я же не знаю, что добровольным зовется и что неизбежным на свете...») [13: 154]. Именно этот образ подводит к истокам фетовского понимания бытия, человека в нем, который всегда стоит перед неразрешимыми вопросами.
Анализируя стихотворения Фета «Из Гафиза», следует помнить, что суфийская поэзия, опираясь на традиционную арабскую, персидскую любовную лирику, создала образный язык, имманентно несущий в себе архаичную семантику не условного сходства, а субстанциального синкретизма, который требует не метафорического понимания смысла образа, а буквального. Суфийский поэт выстраивает целую систему образов с тем, чтобы сказать о Боге, своей любви к нему, о пути к нему («ман»).
Подобная черта свойственна и поэзии Хафиза. Образная система его лирики, выстроенная по канонам символической системы суфийской поэзии, которая, в свою очередь, воспользовалась образами древней любовной лирики, является, прежде всего, выразителем любви, красоты как возвышенного, божественного. Ориентация на архаическую семантику древней любовной лирики предполагает буквальное, неметафорическое толкование образа, за которым стоит субъект-объектная неразделенность как выражение архаического взгляда восточного человека на природу и человека в ней, предполагает интериоризацию (о внутреннем мире человека через «язык» природы), художественно она, как правило, выражалась через двучленный параллелизм. И философия суфизма, выписывая формулу постижения истины «единства бытия», отрицала субъект-объектную расчлененность, поскольку только «смерть» феноменального «я» открывает путь к сущностному знанию [14: 197].
В цикле «Из Гафиза» есть два четверостишия, написанных в стиле рубаи, в которых присутствует образ кудрей, весьма характерный для творчества Хафиза.
Первое:
Ах, как сладко-сладко дышит
Аромат твоих кудрей!
Но еще дышал бы слаще
Аромат души твоей.
Второе:
Гиацинт своих кудрей
За колечком вил колечко,
Но шепнул ему зефир
О твоих кудрях словечко.
И опять Фет уловил смысловую игру Хафиза образом кудрей-волос, который содержит семантику земного, поэтизированного как Возвышенное, а также семантику Возвышенного, поэтизированного в стилистике древней любовной лирики. Фет использует архаический тип словесного образа – двучленный параллелизм. Отношениями параллелизма связаны кудри гиацинта и кудри возлюбленной, связующее звено – зефир. Подобный язык, как мы уже говорили, был свойственен восточным поэтам, поскольку именно он выражает отношения «человек – природа» в субъект-объектной неразделенности.
В газели Хафиза «Садовник верный! Если с розой побыть желаешь пять ночей...» образ сердца «в силках пленительных кудрей» определяет любовный сюжет с соловьем и розой. Локон «колечком», по ассоциативному мышлению восточного поэта, вызывает характерный для любовной лирики образ силка, в который попадает сердце влюбленного, стремящегося к возлюбленной. Образ имеет суфийскую транскрипцию.
Анализируя суфийские символические образы, Е.Э. Бертельс пишет: «...мир эманаций суфии представляют себе в виде кольца, замыкающегося на последнем заключительном звене – человеке». Семантика символического образа говорит о том, что ищущий бога суфий пойман в кольце низших миров и должен стремиться к освобождению из него. Кривизна локона, замыкающегося в кольце, как символический суфийский образ выражает, как пишет исследователь, множественность явлений мира. Каждое явление мира может увлечь человека, сбить с прямого пути, заставить забыть основную цель. Каждый локон завитка – силок для неопытного сердца [5: 115]. Основная цель суфия – постижение Абсолюта. Стремиться к постижению мира – значит смущать сердце, поскольку «мир – нереален, он – фантасмагория, спутанность, изучить его до конца нельзя». Суфий должен прийти к единственно верному решению: «Я не знаю мира и не должен знать, ибо я стремлюсь лишь к единой истине» [5: 116].
Образ возлюбленной дается в этой газели через парный образ «лик и кудри» – своеобразную дихотомию, поскольку составляющие образа – диаметрально противоположны: лик – это выражение Абсолюта, кудри, как сказали выше, это то земное, что мешает стремлению к единой истине. Любопытно хафизовское обыгрывание этого парного образа:
Твой лик и кудри так прекрасны, что видеть их не смеет тот,
Кому любезней лик жасмина и нежный гиацинт милей.
Ее нарциссам возбужденным, ее соблазнам покорись, –
Таков удел сердец влюбленных, покорных пленников страстей.
О доминанте земного над суфийским толкованием образа говорит и финал газели:
Кто ты такой, Хафиз, чтоб кубок не осушить при звоне струн?
Зачем, влюбленный, столько горя ты накопил в душе своей?
(Перевод С. Липкина)
Таким образом, сказанное как предваряющая часть нашего исследования уже дает право говорить не только о том, что в циклах Фета «Подражание восточному», «Из Гафиза» проявляется устойчивый интерес поэта к Востоку, но и о том, что многие образы, мотивы этих двух циклов перекликаются, вступают в диалог со всем творчеством Фета.
Обращение Фета к восточной средневековой поэзии, в частности к творчеству Хафиза, не было явлением случайным и исключительным. О новом типе восприятия мира на примере поэзии Тютчева и Фета, Верлена и Малларме, Блока, прозы Пруста, Джойса, Пастернака пишет С.Н. Бройтман [15: 274–280].
Г.С. Померанц, исследуя лирику Мандельштама в сравнении-сопоставлении с Басе, говорит о новом восприятии мира, сложившемся под влиянием Востока, когда ценны не отдельные предметы в мире, а весь мир во всей целостности пространства-времени. Тогда «тяжелые контуры предметов размываются, и за ними выступает некое текучее единство, «синяя вечность». Это единство не складывается из предметов, а предшествует им (подобно пленэру в картинах импрессионистов). Онтологически оно реальнее, первичнее; предметы складываются из игры его волн» [16: 199].
«Синяя вечность» – это то, что в средневековой поэзии Востока определялось как «потаенное сущее». В отдельной части нашего исследования мы будем говорить о том, что именно восточная поэзия Средневековья с ее специальным понятием «мистическая причастность» в постижении «потаенного сущего» приближает к снятию противоречий между объектом и субъектом, между общим и частным, между макрокосмом и микрокосмом.
На наш взгляд, именно устойчивым интересом Фета к восточной поэзии определяется тот тип миропонимания, для которого характерна субъект-объектная неразделенность с миром природы, выражающаяся, как отметил С.Н. Бройтман, характеризуя понятие «новое восприятие мира», в интересе к архаическим (синкретическим) формам художественного мышления [15: 274–280]. Следует подчеркнуть, что содержание усвоенного миропонимания в творчестве Фета, как в лоне воспринявшей культуры, оказывается в своей «естественной среде» (свойство это как закономерность механизмов диалога между текстами разных культур описано Ю.М. Лотманом) [4: 199–200]. Тот тип миропонимания, который определил содержание названных двух циклов Фета, проявляется во всем творчестве поэта, о чем мы будем говорить дальше. В свою очередь, художественное слово Фета становится причиной порождения новых текстов (если говорить о непосредственном приемнике, то лирика А. Блока, у которого образ любви может быть осмыслен в культурном коде восточной поэзии).
Образы, мотивы циклов «Подражание восточному», «Из Гафиза», рассмотренные в контексте всего творчества поэта, позволят нам представить написанное Фетом как единый текст, в котором названные циклы могут рассматриваться как «первичный текст», способствующий осмыслению основных образов-символов как исходных, емкость которых, как определил Ю.М. Лотман, представляя творчество как единый процесс, как «текст в процессе движения», пропорциональна обширности потенциально скрытых в них сюжетов [4: 105]. Многие образы этих двух циклов, если мы говорим о диалоге этих двух циклов со всей поэзией Фета, могут быть восприняты как «символическая концентрация разного в едином» (Ю.М. Лотман). Естественно, что в каждом отдельном стихотворении образы, которые нами определяются как исходные символы, выражаются в своем синтагматическом выражении, т.е. смысловая характеристика образа будет зависеть от смыслового контекста стихотворения в целом. Любопытно для нас и линейное («веерное») развертывание образа-символа из «первичного текста» в творчестве Фета, когда один и тот же образ присутствует в целом ряде других стихотворений поэта, определяя тем самым парадигматические связи между образами.
ЛИТЕРАТУРА
1. Шарафадина К.И. Обновление традиций флоропоэтики в лирике А. Фета // Русская литература. 2005. № 2. С. 18–54.
2. Рейснер М. Коментарии // Хафиз. Вино Вечности. М., 1999.
3. Смирнов И.П. Смысл как таковой. СПб., 2001.
4. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек. Текст. Семиосфера. История. М., 1996.
5. Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература. М., 1965.
6. Зайнуллина Л.М. Лингвокогнитивное исследование адъективной лексики) на материале английского, русского, башкирского, французского и немецкого языков). Уфа, 2003.
7. Благой Д.Д. Мир как красота // А.А. Фет. Вечерние огни. М., 1981. С. 495–636.
8. Касаткина В.Н. Лирика сновидений А.А. Фета // А.А. Фет. Поэт и мыслитель: сб. науч. тр. М., 1999. С. 69–82.
9. Смирнов А.В. Великий шейх суфизма. Опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби. М., 1993.
10. Козубовская Г.П. А. Фет и проблема мифологизма в русской поэзии XIX – начала XX века: автореф. дисс. на соиск. уч. ст. д-ра филол. наук. СПб., 1994.
11. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993.
12. Шидфар Б.Я. Арабская философская лирика // Теория жанров литератур Востока. М., 1985. С. 75–115.
13. Козубовская Г.П. Поэзия А. Фета и мифология. Барнаул; М., 1991.
14. Степанянц М.Т. Суфизм: оппонент или союзник рационализма // Рационалистическая традиция и современность. Ближний и Средний Восток. М.: Наука, 1990. С. 193–205.
15. Теория литературы: в 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 2. М., 2004.
16. Померанц Г.С. Басе и Мандельштам // Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока. М., 1970. С. 195–202.
Идея Целого и художественная парадигма лирики А. Фета
Принципиально значимым в цикле А. Фета «Из Гафиза» является стихотворение «О, если бы озером был я ночным...», в котором интересна не только образная система сама по себе, как «перевод» из Хафиза, но и то, как благодаря этой образной системе произошла актуализация архаического образного языка персидской поэзии, ставшего характерным для всей лирики Фета, да и не только для него.
В контексте проблемы нашего исследования стихотворение во многих своих чертах воспринимается нами ключевым.
Вот это стихотворение:
О, если бы озером был я ночным,
А ты луною, по нем плывущей!
О, если бы потоком я был луговым,
А ты былинкой, над ним растущей!
О, если бы розовым был я кустом,
А ты бы розой, на нем цветущей!
О, если бы сладостным был я зерном,
А ты бы птичкой, его клюющей!
Анализ данного стихотворения начнем с того, что Фет сумел уловить и передать через поэзию Хафиза восточный тип мышления эпохи синкретизма, который характеризуется целостностью мировосприятия, когда человек и мир понимаются не как человек и мир, а мир в человеке и человек в мире, когда мир Природы воспринимается как нечто единое в своих пространственно-временных отношениях, и единение с ней – высший закон самой Природы.
Для западного восприятия мир является картиной, изображающей мир, т.е. созданной с позиций познающего, наблюдающего субъекта. С эпохи Ренессанса картина мира – это антропоцентрически выстроенный мир, а не мир сам по себе. Западное искусство, совершая скачок в своем развитии, противопоставляло себя средневековому мировидению, отрицало его каноны и выдвигало новые способы восприятия [1: 101]. Объект в картине мира западного художника понимается не просто как нечто, обладающее теми или иными свойствами, эти свойства определяются способом художника видеть мир, концептуально его выстраивать.
Искусство восточного Возрождения сохранило и приумножило древние образцы проникновения в мир природы и единения с ней. Ренессанс на Востоке носил «традиционный» характер. Возвращение к древности в эпоху Ренессанса сохранило для человечества тот тип художественного мышления, который характерен для поэзии арабской, персидской, для Хафиза, в частности, о котором мы говорим в нашем исследовании в контексте творчества Фета.
Образная система арабской, персидской классической литературы весьма специфична – она основана на антропоморфическом (или анималистическом) понимании природы и «заимствовании (истиара) качеств человека или животного для определения абстрактного явления» [2: 156]. Такое понимание природы объясняется восточным путем познания мира как со-переживания в неразделенности субъекта-объекта. В образной системе, отражающей такой путь познания мира, метафора близка к олицетворению, а в персидской поэзии по причине суфийской семантики метафора становится символом.
«Возрождение древности» станет явлением западного искусства второй половины XIX – начала XX в. Так, в творчестве Ш. Бодлера, как пишет С.Н. Бройтман, представляя возрождение архаических типов словесного образа, «был творчески воплощен и эстетически осознан принцип “соответствия”». А.Н. Веселовский, знавший поэзию французских и русских символистов, писал о том, что «идея целого, цепь таинственных соответствий, окружающих и определяющих наше “я”, полонит и окутывает нас более прежнего» [3: 276].
Неосинкретизмом назовут интерес к архаическим формам художественного мышления, проявленный в русской литературе у Фета и Тютчева, позже у Пастернака и других, когда природа предстает «живой и говорящей не на метафорическом, а на каком-то ином языке, но ее жизнь и язык не поддаются логике субъектно-объектных и причинно-следственных отношений» [3: 277].
В рассматриваемом стихотворении Фет использовал ту архаическую форму художественного мышления, за которой стоит тип мышления человека Востока, когда идея жесткой корреляции устроения бытия и понимания человеком этого устроения позволяло средневековому поэту свести целостную систему воззрения на мир, т.е. на сущее в целом, к частным случаям, которые только и определяют действительное состояние мира. Причем бытие понимается, как утверждает философия Ибн Араби, как единое и множественное одновременно [4: 129].
Стихотворение состоит из парадигматического набора возможных вариантов развития многомерного целого – сущего в целом, единичного в едином, которое переживается и становится переживанием. Язык образа имманентно несет в себе субстанциальный синкретизм. Каждый вариант развития многомерного целого у Фета начинается с условно-сослагательного определения «О, если бы...» Это многомерное целое в картине мира стихотворения Фета, выписанное по канонам восточной архаической формы, отражает фетовское представление о целостной системе бытия, что, в конечном итоге, отвечает восточным представлениям о бытии: бытие таково, каков сам человек.
В стихотворении нет линейного развертывания образов-символов, в нем гирлянда парных образов (озеро – луна, поток – былинка, розовый куст – роза, зерно – птичка) как выражение многомерного целого сущего, как единство этого сущего или свернутая множественность, выраженная в веерной развернутости символических парных образов. Каждая пара образов может восприниматься как философема, выражающая отдельный, частный случай действительного состояния мира с тем, чтобы сказать о единстве, целостности бытия в его множественности. По Ибн Араби, бесконечное множество частного и есть единое общее [4: 133]. Многомерное целое сущего объясняется исходным онтологическим постулатом суфизма – пантеизмом: все есть Бог, и Бог есть все. Бог присутствует в каждом из всех множественных вещей, составляет его суть, он множествен в вещах, но все вещи в то же время едины в Боге.
Иерархическая вершина парадигматического набора возможных вариантов развития многомерного целого – диалог двух начал, единство противоположного. «Я», «Ты» – опорные слова стихотворения, обладая широким набором валентностей, свидетельствуют о гармоническом единстве мира, его целостности и многообразии.
Через это стихотворение Фета можно осмыслить основной концепт его творчества «Я – Ты», выраженный через веер парадигматических определений-валентностей, которые можно понимать и как философемы и как мифологемы, смысл которых заключен у Фета в художественно-эстетической формуле Любви – Красоты, к которой и сводится весь континуум бытия (вся жизнь во всех ее множественных проявлениях и человек в ней как часть этого единого со всеми своими ощущениями, переживаниями).
Любопытно, что веер парадигматических определений-валентностей оформлен в кумулятивный поэтический сюжет, когда высказывания-определения нанизываются с явным нарастанием, подготавливающим «узнавание» того, что является основным в авторской идее [5: 354–355]. В данном случае это основное в авторской идее ушло в подтекст, превратившись в «неотчетливое иносказание» (Н.А. Кожевникова). Глубинный смысл подтекста определяется самой обращенностью поэта к поэзии Востока, его интуитивным улавливанием прежде всего аллегорических значений богатой образно-метафорической системы, которая восходит к пантеистической идее философии суфизма. Аллегорический смысл парных образов в философской лирике Востока в том, что, во-первых, все сущее в мире – эманация высшей реальности, во-вторых, парность – выражение универсальной любви к божеству-возлюбленной.
Подобный кумулятивный сюжет имеют и другие стихотворения Фета: «Это утро, радость эта...», «Весна», «Сад весь в цвету...» Правда, в конце этих стихотворений имеются наиболее адекватные слова, создающие образ с более прозрачной семантикой, к которому и «подбирается» автор, нанизывая гирлянду тропов.
В стихотворении «Восточный мотив» (1882) из цикла «Подражание восточному» концепт «Я – Ты» через веер парадигматических определений-валентностей представляет мир в его гармоническом единстве, целостности и многообразии:
С чем нас сравнить с тобою, друг прелестный?
Мы два конька, скользящих по реке,
Мы два гребца на утлом челноке.
Мы два зерна в одной скорлупке тесной,
Мы две пчелы на жизненном цветке,
Мы две звезды на высоте небесной.
Выше изложенный анализ стихотворения «О, если бы озером был я ночным...» говорит о том, что обращение Фета к Хафизу способствовало формированию в его лирике тех черт, которые будут определены как неосинкретизм (С.Н. Бройтман). Образный язык стихотворения не поддается логике субъект-объектных, причинно-следственных отношений. Так, за диалогом «Я – Ты» очевиден субъектный синкретизм, или нерасчлененность автора и героя; диалог выстроен по принципу двучленного параллелизма – древней формы синкретизма, объясняющейся ассоциативным типом мышления.
И наконец, следует подчеркнуть, что существенным фактором неосинкретизма как ориентации на архаические образцы средневековой литературы является отражение концепции времени как мировоззрения средневековья, характеризующейся принципиальной замкнутостью внутри себя, обращением в прошлое, а не в будущее. Востоковед Б.Л. Рифтин пишет: «Средневековые концепции времени и его движения у народов Востока, как правило, принципиально не отличались от распространенных в древности повсеместно взглядах. С этими концепциями связано и представление о “золотом веке”, относимом к далекому прошлому. Это во многом объясняет и характерные для ряда средневековых народов движения за “возврат к древности”. Первое такое движение возникает еще в пору поздней античности, у самого рубежа Средневековья (II–III вв. н.э.)» [6: 42–43].
Аналогичное в известном смысле течение, по мнению исследователя, наблюдается в средние века и на Востоке, «в частности, в особо отчетливо выраженной форме у китайцев и арабов – и у тех и у других в период развития Средневековья, т.е. в VIII–X вв.» [6: 43].
Так, Б.Я. Шидфар, рассматривая проблему формирования арабской философской лирики, представляет «зухдийят» как жанр средневековой арабской литературы, сыгравший существенную роль в становлении философской поэзии. «Зухдийят» определяет литературное направление, которое «носит более аутентичный характер, оно спорадически обнаруживается уже в самых ранних образцах арабской поэзии...» [7: 75]. И далее, оценивая творчество Аль-Маари как вершинную точку в развитии арабской философской лирики и вместе с тем как один из истоков развития «теоретической», или мистической, философской лирики на арабском языке (а может быть, в известной степени и персидской философской лирики), Шидфар представляет следующий этап философской поэзии – аллегорическую поэзию, которая обратилась к традиционной любовной и «винной» лирике, разработанной в совершенстве со времен доисламской поэзии. Образы философской лирики данного направления, как утверждает ученый, прошли характерный для арабской поэзии путь – «от «реалистических» (на основе стихийного материализма родоплеменного общества) образов, подвергшихся уже в дошедших до нас образцах доисламской поэзии определенной «заштампованности», подчиненности еще не сформулированному, но осознававшемуся канону, до сознательной канонизации <...> и, наконец, до полной утраты этими образами реального содержания, событийной наполненности, т.е. до их аллегоризации» [7: 101].
Таким образом, на примере становления арабской философской поэзии, представленной Шидфаром, мы видим, что в основе художественно-эстетических систем восточных литератур лежит принцип «возврата к древности», определяемый средневековой концепцией времени, в основе которой идея вечно длящегося настоящего, неразрывно связанного с прошлым [6: 42].
Резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что стихотворение «О, если бы озером был я ночным...», содержащее мировосприятие человека Востока, становится, на наш взгляд, ключевым в целостной системе воззрения Фета на мир. Через него можно выйти к пониманию философско-эстетических взглядов поэта, определяющих его художественную систему. Решая ту или иную задачу поставленной нами проблемы, мы неоднократно будем обращаться к нему.
Итак, следует подчеркнуть, что обращение Фета к творчеству Хафиза формирует общую со средневековой поэзией Востока парадигму художественности, которая проявилась не только в циклах «Из Гафиза», «Подражание восточному», но в известном смысле во всем творчестве Фета, в его художественной системе романтизма. Схожесть парадигмы художественности Фета с парадигмой художественности Хафиза может быть прослежена на уровне мотивных систем текстов того и другого, образов-символов, а также на уровне семантики философски осмысленных подтекстов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Мамонова М.А. Запад и Восток. Традиции и новации рациональности мышления. М., 1991.
2. Шидфар Б.Я. Образная система арабской классической литературы. М., 1974.
3. Теория литературы: в 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 2. М., 2004.
4. Смирнов А.В. Великий шейх суфизма. Опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби. М., 1993.
5. Теория литературы: в 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 1. М., 2004.
6. Рифтин Б.Л. Типология и взаимосвязи средневековых литератур // Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М., 1974. C. 68–117.
7. Шидфар Б.Я. Арабская философская поэзия // Теория жанров литератур Востока. М., 1985. С. 75–115.
Феномен образного мышления А. Фета
Прежде чем рассмотреть концептуальную систему образов в целом ряде стихотворений, в которых концепты объекта – явления природы (небо, тень, огонек, месяц) – даны в предикативности как определяющие картину природы в ее очеловеченности, например, в стихотворениях «Дул север. Плакала трава...», «Весеннее небо глядится...» и многих других, необходимо сказать о фетовском феномене образного мышления, глубинных процессах творческого сознания, нашедших выражение в художественной структуре его произведений. Генезис этого явления может быть осмыслен через восточную средневековую поэзию.
Дело в том, что у Фета, как было замечено исследователями творчества поэта, а также теоретиками поэтики, одушевление природы часто не может быть воспринято как просто метафора, когда человеческие свойства приписываются явлениям природы в прямой связи со свойствами самих природных явлений – по сходству, происходит переосмысление тропов, подвергаются сомнению сами границы прямого и переносного значений слова [см. об этом: 1: 112–113, 2: 84, 3: 275–277]. Об этом феномене говорят на примере не только творчества Фета, но и Тютчева. Совершенно справедливо замечено, что природа у Фета предстает живой и говорящей не на метафорическом, а на каком-то «ином языке, не поддающемся логике субъектно-объектных и причинно-следственных отношений» (С.Н. Бройтман).
Весьма ценным для нас является обнаружение Б.Я. Бухштабом интертекстуальных связей между творчеством Фета и Гейне. Характеризуя своеобразие метафорической системы Фета, его нетрадиционный антропоморфизм, когда «человеческие чувства приписываются явлениям природы без прямой связи со свойствами этих явлений», он указывает на Гейне как на учителя Фета [1: 113]. В качестве доказательства своей мысли он приводит в переводе Фета одно стихотворение Гейне, в котором, по мнению фетоведа, «особенно сказалась эта манера одушевлять всю природу чувствами лирического героя» (было три перевода из Гейне, напечатанные в «Москвитянине» в 1841 г., причем эти переводы стали первой журнальной публикацией Фета). Бухштаб приводит это стихотворение:
Из слез моих много родится
Роскошных и пестрых цветов,
И вздохи мои обратятся
В полуночный хор соловьев.
Дитя, если ты меня любишь,
Цветы все тебе подарю,
И песнь соловьиная встретит
Под милым окошком зарю.
Художественно-образная система процитированного стихотворения Гейне в переводе Фета говорит о влиянии на Гейне поэзии Хафиза. Дело в том, что, как Хайям в переводе Фитцджеральда завоевал необычайную популярность в Англии [5: 197], так и Хафиз в переводе Даумера был, вероятно, широко известен в Германии, в первую очередь в среде поэтов-романтиков.
Исследователи творчества Гейне, представляя два цикла «Книги песен» («Лирическое интермеццо» и «Возвращение»), написанных в форме своеобразного «лирического повествования», поскольку в них – история любви поэта, отмечают параллелизм чувств и явлений природы при изображении отношений «Я – Ты» [цит. по: 5: 39–40].
Когда чудесным майским днем
Готов был лист раскрыться,
Пришла пора и в сердце
Ростку любви пробиться.
Когда чудесным майским днем
Запели звонко птицы,
Тогда я ей поведал,
По ком душа томится.
(Перевод З. Морозкиной)
Как замечает С. Гиждеу, автор работы «Лирика Генриха Гейне», «в подлиннике стихотворение это еще проще, “наивнее” и в нем четче выражен параллелизм чувств и явлений природы» [5: 40].
В цикле «Лирическое интермеццо» описывается, как пишет Гиждеу, «блаженное состояние влюбленности, к которому примешивается чувство сладостной грусти – может быть, предчувствие будущих любовных страданий. На окружающее поэт смотрит влюбленными глазами, – он даже начинает понимать язык звезд <...>». Отмечается чувство легкой иронии, характерное для Гейне: «Как ни поглощен поэт своими любовными переживаниями, он все же способен и пошутить: он больше не любит лилию, розу, голубку и солнце – он любит только “ее”» [5: 41].
Ценным для нас является и следующее определение: «Его герой – как и у романтиков – чаще всего наедине с природой, со своими чувствами и мыслями, с любимой. Но эта природа – настоящая, живая природа (курсив наш. – А.С.), а субъект этой лирики гораздо ближе к реальному Гете, чем лирический герой романтиков к их реальным создателям и прообразам – к поэтам Эйхендорфу, Уланду, Брентано и В. Мюллеру» [5: 29].
Значительность лирики Гейне, как и других его современников поэтов-романтиков, связана с тем, что они вновь вернулись к ее извечному истоку – народной песне. Однако тот же Гиждеу отмечает, что Гейне иначе, чем его предшественники, связан с фольклорной традицией. Народную песнь он нашел на страницах «Волшебного рога мальчика» – сборника народных песен, собранных Арнимом и Брентано [5: 75], содержание которых говорит о фольклорных традициях европейской литературы, связанных с поэзией трубадуров, которые представляли собой ответвление одного из суфийских направлений. Первые произведения провансальских поэтов датируются концом XII столетия. Как пишет исследователь суфизма Идрис Шах, «несмотря на то, что суфийские влияния в деятельности трубадуров ощущаются уже довольно слабо, связь между настроем их произведений и подлинными суфийскими материалами была замечена даже теми, кто не обладал специальными знаниями об их внутренней взаимосвязи» [4: 355]. Поэты Эмерсон и Грейвз сравнивают великого суфийского певца любви Хафиза с трубадурами, считая, что в своем творчестве они сумели выразить истинную суть поэзии: «Почитайте Хафиза и трубадуров: все гении считали эти произведения основой и наилучшим средством против пустословия и поэтической фальши» [4: 355].
Традиции восточной поэзии прослеживаются в творчестве Гейне также в «Романцеро», во всех трех книгах которого важное место занимает тема искусства. В стихотворении «Поэт Фирдуси» создается «история» жизни великого поэта, обманутого царем, который уходит от людей, чтобы умереть всеми забытым, с обидой в сердце. «Истории», описанные в этих книгах, как пишет Гиждеу, «рассказаны очень лично – они напоены иронией, сарказмом, горечью человека, пережившего одну из подобных историй <...>» [5: 130]. Поэтому так естествен и логичен переход ко второй книге сборника – к «Ламентациям», от истории человечества к истории одного человека – поэта Генриха Гейне, собрата Фирдуси, Жоффруа Рюделя и реббе Файбиша, к истории его борьбы, страданий и поражений <...> [5: 131].
С. Гиждеу, как и Б. Бухштаб, говорит об интересе Фета к лирике Гете: он приводит его перевод стихотворения «Они любили друг друга» из цикла «Возвращение» («Книга песен»):
Они любили друг друга,
Но каждый упорно молчал;
Смотрели врагами, но каждый
В томленье любви изнывал.
Они расстались – и только
Встречались в виденье ночном;
Давно они умерли оба –
И сами не знали о том.
Перевод Фета определяется «достаточно точным». Для сравнения Гиждеу приводит перевод этого же стихотворения Лермонтовым, который, с точки зрения исследователя, является «совсем другим стихотворением», посвященным «трагедии двух людей, навсегда замкнувшихся в своем чувстве, фатально обреченных на молчанье» [5: 47–49].
В лирике Фета и Гейне много общего, восходящего к тому, что дала миру восточная средневековая поэзия. Обращение Гейне к фольклору, в котором очевидны традиции любовной лирики трубадуров, способствовало формированию своеобразного мироощущения, благодаря которому и была сохранена субъект-объектная неразделенность с миром природы. Для поэтического мира Фета тоже характерны связывающие отношения «соответствия» между человеком и природой, выраженные через принцип двучленного параллелизма, в основе которого лежит ассоциативный тип мышления.
Вместе с тем, если, скажем, провансальский трубадур или немецкий миннезингер создавали очередную «альбу» – стихотворение о влюбленных, то никто не искал конкретного «случая», личного «опыта» данного поэта, то для Гейне конкретное, непосредственное созерцание и переживание являются важнейшим элементом поэзии. В этом он продолжатель традиции, наработанной Байроном, «который сумел наполнить собой все свое творчество и сделал это в такой яркой и впечатляющей форме, что привлек равный интерес и к своей личности и к своему творчеству во всей Европе» [5: 11]. Даже у романтиков часто то, что читатель принимает за индивидуальное, личностное, подчас оказывается «общим местом», написанным по канонам литературного направления; самовыражение не входит в художественную задачу поэта. Фет, как и Гейне, наполнил свою поэзию собственной индивидуальностью: непосредственные переживания-воображения становятся «предметом» его поэзии. Оба поэта в лирике всегда выражают лишь свою личность.
Следующей немаловажной чертой схожести поэтических структур Гейне и Фета является принцип объединения стихов обоими поэтами в циклы. Фет, как и Гейне, ощущал некую «недостаточность» одного отдельно взятого стихотворения для выражения той или иной поэтической мысли. Лишь в совокупности, объединенные в циклы, стихотворения приобретают форму «лирического повествования». Сказанное характерно и для «Вечерних огней» Фета, художественному единству которых посвящены специальные исследования [см., например: 6].
Таким образом, обращение Фета к творчеству Гейне является еще одним доказательством того, что тип образного мышления Фета в его художественной картине мира созвучен мироощущению поэта средневековой восточной поэзии, в основе которой лежит идеалистическая философия, когда путь познания мира представляет процесс со-переживания в неразделенности субъекта-объекта, исключающий метод анализа и синтеза (философия Ибн Араби, Дао). Именно восточный тип художественного мышления, сохранивший многие свои черты с эпохи синкретизма и позже, продолжал оставаться привлекательным и в новое время: он был осмыслен и воспринят А. Шопенгауэром, позже М. Хайдеггером, статья Вл. Соловьева «Поэзия Ф.И. Тютчева» тоже стоит в этом ряду. Из работ нашего времени мы уже касались исследования Г.С. Померанц «Басе и Мандельштам».
Восточный тип мышления свидетельствует о восприятии природы не объектом, а субъектом, определяющим такое художественное видение мира, когда картина мира как Целое интуитивно открывается тому, кто становится един с миром, приходит с ним в абсолютное созвучие, когда имеет место быть со-переживание в неразделенности субъекта-объекта, благодаря чему и открывается суть этого Целого, та потаенная красота, абсолютная, безмерная, которая и есть мир.
В своей работе «Основные идеи эстетики» А. Шопенгауэр, рассуждая о том, что такое в искусстве «идея» и «понятие», дает им определения, перекликающиеся со средневековой философией Востока, в частности, Ибн Араби, с его интуитивным восприятием мира как Целого. Так, он пишет: «Идея есть единство, посредством временной и пространственной формы нашего интуитивного восприятия распавшееся на множество; напротив того, понятие есть единство, посредством отвлечения нашего разума вновь восстановленное из множества: его можно обозначить как единство “после вещей”, а первую как единство “до вещей”» [7: 466]. (Ср. у Ибн Араби: «Весь континуум бытия един, самодостаточен и в-самом-себе множествен» [8: 129] .)
Понятие «идея» у Шопенгауэра близко к понятию «интуитивное созерцание» у Ибн Араби. У того и другого конструируется такое философское знание, когда картина мира рисуется не трезвым аналитиком, а вдохновенным художником, сердцем ощущающим свое единство с мирозданием.
Так, когда Ибн Араби говорит о чувствах человека, то речь идет не об обычных чувствах (зрение, осязание и т.п.), а о том, что называется «чувством красоты», «чувством истины», «чувством долга» и т.п. С их помощью человек способен строить свои отношения с окружающей действительностью, не обращаясь к разуму, получая знание непосредственно, по подсказке этих «чувств». Такой метод познания Ибн Араби обозначает термином «мушахада», что буквально переводится как «лицезрение», «наблюдение», «свидетельствование». Таким образом, термин «мушахада» на языке философии можно передать словосочетанием «интуитивное созерцание» [8: 59].
Идея, по Шопегауэру, «в своей мощной первобытности почерпается только из самой жизни, из природы, из мира <...>. Только из такого непосредственного восприятия исходят настоящие произведения, носящие в себе бессмертную жизнь. Именно потому, что идея созерцательна, художник не сознает в абстракциях намерения и цели своего произведения; не понятие, а идея носится перед ним; поэтому он не в силах дать отчета в своих действиях: он работает, как люди выражаются, по одному чувству и бессознательно, даже как бы инстинктивно» [7: 466–467].
Способность интуитивного созерцания, настраивающего на сопереживание в неразделенности субъекта-объекта, увидел Вл. Соловьев в Тютчеве. Он тоже говорит о чувстве красоты – «художественном чувстве», делающим человека поэтом. Благодаря этому чувству и создается художественная картина мира. Дело поэзии, как и искусства вообще, считает Соловьев, не в том, чтобы «украшать действительность приятными вымыслами живого воображения», а в том, чтобы «воплощать в ощутительных образах высший смысл жизни». Высказывание о том, что Тютчев принимал и утверждал прекрасное не как вымысел, а как предметную истину, потому что «чувствуя жизнь природы и душу мира, был убежден в действительности того, что чувствовал», тоже отчетливо перекликается с определением идеи у Шопенгауэра [см.: 19: 111].
Вся лирика Фета является выражением переживания сокровенного, полноты Бытия, высшего мига сопричастности Целому. Неразделенность субъекта-объекта в со-переживаниях определяет вхождение в прямое общение с Целым, благодаря чему у Фета формируется своя художественная система, в которой разрушаются традиционные представления о тропах, когда «плакала трава» – уже не метафора дождя, как было у прежних поэтов. Как пишет Б.Я. Бухштаб, у Фета «человеческие чувства приписываются явлениям природы без прямой связи с их свойствами. Лирическая эмоция как бы разливается в природе, заражая ее чувствами лирического “я”, объединяя мир настроением поэта». И именно этим объясняется то, что у Фета «цветы глядят с тоской влюбленной», роза «странно улыбнулась», ива «дружна с мучительными снами», звезды молятся, «и грезит пруд, и дремлет тополь сонный» и т.п. [2: 84].
В лирике Фета происходит переосмысление художественного принципа метафоры, формируется новое осмысление системы тропов, основанной не на механизме причинно-следственных отношений, а на восприятии мира как со-переживания в неразделенности субъекта-объекта. Новый язык тропов и должен передавать те таинственные соответствия в воспринимаемом Целом.
Так, стихотворение «О, если бы озером был я ночным...», о котором мы говорили в предыдущей части работы, выражает средневековый художественный принцип, основанный на со-переживании в неразделенности субъекта-объекта, когда троп используется в прямом значении (я – озеро, ты – луна; я – поток луговой, ты – былинка и т.д. ) и когда образ сравнения представлен как его предмет (образы озера, луны, потока лугового, былинки т.д. предстают не как сравнения, а как часть неразделяемого субъекта-объекта). Ср. у Хафиза: «Розе вчера сказал гиацинт: “О краса ширазских садов...”», «Отрыдал соловей – и любовью розы своей одарен...»; «Месяц с неба исчез, стал он родинкой черной на лбу у тебя...» и т.п.
Стихотворение «О, если бы озером был я ночным...», состоящее из целой цепочки парных образов, в которой лирический субъект и природа выступают в нерасчлененности, содержит образный язык кумуляции, основанный на сочинительном присоединении друг к другу внешне самостоятельных, но внутренне семантически тождественных друг другу слов-образов. Благодаря кумуляции и создается художественная картина мира как Целое. В качестве «отдаленного подобия» такого образа С.Н. Бройтман приводит стихотворение Фета «Шепот, робкое дыханье...» [10: 358].
Необходимо также подчеркнуть, что в основе парных образов стихотворения лежит принцип образного языка параллелизма, основанный на соответствиях одного другому, внутреннего мира человека внешнему миру, в первую очередь миру природы, который объясняется ассоциативным восточным мышлением: я – озеро ночное, ты – луна; я – поток луговой, ты – былинка; я – розовый куст, ты – роза , я – сладостное зерно, ты – птичка и т.д.
Параллелизм, кумуляция, характерные для средневековой арабской, персидской поэзии, были интуитивно восприняты и освоены творческим сознанием Фета, и на примере его творчества можно говорить о том, как архетипические формы образного языка Востока обогатили художественную систему русской поэзии XIX в.
Лирическая поэзия всегда является выражением творческой личности как «автономной». Фет, если на его примере говорить об истории переживания Хафиза в русской поэтической культуре, «откликнулся» на родственное своему мироощущению, миропониманию. Не только два цикла стихотворений Фета («Из Гафиза», «Подражание восточному»), но и вся его поэзия как выражение творческой личности является свидетельством интуитивного проникновения в поэтический «образ» восточного поэта.
Рассуждая об особенностях лирического образа Фета, о взаимосоотнесенности мифопоэтического языка (кумуляция, параллелизм) с понятийным (троп), думается, будет уместным процитировать слова Гегеля о том, что восточные поэты проявляют «большую смелость» в создании образов – развернутых метафор, «соединяя и сплетая в один образ предметы, обладающие совершенно самостоятельным существованием относительно друг друга. Например, Хафиз выразился однажды так: «Теченье мировых событий есть кровавая сталь. А падающие с нее капли суть венцы». А в другом месте он говорит: «Меч солнца изливает в утренней заре кровь ночи, над которой он одержал победу». Или: «Никто еще не снимал, подобно Хафизу, покрывал со щек мысли, с тех пор как завили локоны невесте слова». «Смысл этого образа, – продолжает философ, – кажется, таков: мысль есть невеста слова <...>, и, с тех пор как эта невеста была украшена завитыми словами, уж никто на свете не был так способен ясно выявить украшенную мысль во всей ее неприкрытой красе, как Хафиз» [11: 119–120].
Обращение к лирике Хафиза возвращает Фета к древности, к своеобразному возрождению опыта синкретического типа мышления, что становится шагом вперед в поэтике лирики XIX века. Опыт целостного мировосприятия в духе восточных традиций сказался на всей системе тропов поэта.
Так, в стихотворении «Моего тот безумства желал, кто смежал...» (1887) образы «...кто смежал / Этой розы завои, и блестки, и росы...», «...кто свивал / Эти тяжким узлом набежавшие косы» выражают ощущения со-переживания в неразделенности субъекта-объекта, которые с точки зрения аналитического взгляда на мир являются «безумством». Образ «безумства» – необходимое свидетельство интуитивного созерцания, благодаря которому открывается не только внешнее, ощущаемое и умопостигаемое, сохраняющее субъект-объектную разделенность, но и внутреннее – «скрытый смысл» Целого (на языке философии Ибн Араби, «манан»), когда становится возможным единение с объектом познания по «внутренней сути».
Кроме синкретизма, выраженного на уровне типа творческого сознания, стихотворение содержит парный образ «роза – пчела», а также мотив опьянения («...Прилетела б со стоном сюда, как пчела, / Охмелеть, упиваясь таким ароматом. / И, сознание счастья на сердце храня, / Стану буйства я жизни живым отголоском. / Этот мед благовонный – он мой, для меня, / Пусть другим он останется топким лишь воском!»), которые характерны для персоязычной поэзии средневекового Востока, в первую очередь суфийской. Ср. у Хафиза: «Чашу пей – в ней снов основа – вновь, и вновь, и вновь, и снова!» Состояние опьянения у Хафиза – состояние творческого экстаза, постижения красоты Целого. Восприятие своего «Я» «живым отголоском буйства жизни» у Фета близко к хафизовскому восприятию жизни. Необходимо, правда, подчеркнуть, что мы не касаемся суфийского толкования этого мотива.
По своему происхождению суфийский образ восходит к реальному, материальному миру вещей и чувств. В основе построения символического образа в суфийской поэзии, как пишет востоковед Н.И. Пригарина, «чисто логическая процедура, характеризующая образования всякого тропа, а именно перенос значений, уподоблений одного другому (тяга мотылька к свече, как тяга влюбленного к возлюбленной» [12: 133].
Тропы Фета в цикле «Из Гафиза» не являются знаками суфийской поэзии: Фет десимволизирует суфийские символические образы и возвращает их на «круги своя» – символ как метафорический образ у Фета знаменует «реальную сущность вещи» (М. Бахтин). (А когда имеется суфийский подтекст, то метафора становится символом, в основе которого – сходство признаков у не совпадающих между собой предметов, тогда как метафора с помощью нового знака приписывает два значения одному и тому же предмету; прямое и переносное значения в метафоре равны.)
Таким образом, процесс десимволизации у Фета предполагает не просто освобождение от теологического, суфийского подтекста: Фет, сохраняя ореол «символического прошлого», наполняет заимствованные образы своим художественно-эстетическим содержанием, суть которого определяется Красотой как имманентной сущностью художественного образа. Именно такое понимание образа-символа, по Фету, и выражает «реальную сущность вещи». Десимволизации суфийского символического образа становится характерным явлением не только для западной (Гете), русской литератур, но и литературы Востока XX века. Так, на примере творчества пакистанского поэта Мухаммада Икбала, об этом пишет востоковед Н.И. Пригарина (см. процитированную выше книгу «Поэтика творчества Муххамада Икбала»).
В стихотворении Фета («Из гафиза») «Я был пустынною страной...» десимволизация образов определяет его основной смысл: от суфизма к пантеизму. Символические образы в творческом сознании становятся метафорами, тяготеющими к прямому значению. Образуется «реализованный троп, опирающийся на сочетаемость слова в его прямом значении» [13: 17]:
Я был пустынною страной:
Огонь мистический спалил
Моей души погибший дол.
Песок пустыни огневой,
Я там взвивался и пылил
И, ветром уносимый,
Я в небеса ушел.
Хвала Творцу: во мне он
Унял убийственный огонь,
Он дождик мне послал сырой, –
И, кротко охлажденный,
Я прежний отыскал покой:
Бог дал мне быть веселой,
Цветущею землей.
Если в стихотворении «О, если бы озером был я ночным...» реализованные парные тропы (я – озеро, ты – луна и т.д.) сохраняют ореол суфийского символизма, поскольку оно в первом своем осмыслении носит характер любовной лирики (а суфийская поэзия, мы знаем, и опиралась на метафору любовной лирики), правда, неотчетливое иносказание, объясняющееся обращением к суфийской образной системе, и делает стихотворение бесконечным на уровне осмысления, то процитированное нами стихотворение на уровне системы тропов свободно от суфийского иносказания: из них уходит символизация суфийского толка, но остается художественная «память символического прошлого», обогащающая систему тропов. Так формируется характер реализованных тропов, десимволизированных образов.
Семантика реализованного тропа, выраженного именной метафорой «Я был пустынною страной», раскрывается через глагольную его транскрипцию следующей именной метафорой – «Огонь мистический спалил / Моей души погибший дол».
Реализованный троп «Песок пустыни огневой», который воспринимается как синонимичный первому («был пустынною страной»), тоже выражен именной метафорой, правда, семантика образа расширена: выражается не только состояние лирического «я», образ предполагает воздействие суфийского мистицизма на эмоциональное состояние. Именная метафора «песок пустыни огневой» становится хронотопом образного определения состояния, «поступка» лирического субъекта, выраженных через глагольные метафоры: «Я там взвивался и пылил / И, ветром уносимый, / Я в небеса ушел».
По той же логике выстраивается система тропов во второй части стихотворения, смысловое содержание которого – пантеизм. В стихотворении – два парных образа: «Я был пустынною страной...» и «...быть веселой, / Цветущею землей». Олицетворение, символическая емкость как художественная форма восточной поэзии переданы Фетом совершенно в духе Хафиза, для значительной части поэзии которого и характерен пантеизм, свободный от мистического подтекста.
Новое осмысление тропов обнаруживается во всем творчестве Фета. Стихотворение «Благовонная ночь, благодатная ночь...» (28 апреля 1887), как и многие другие, содержит картину мира, выписанную художником, воспринимающим мир как со-переживание в неразделенности субъекта-объекта. На языке тропов эта неразделенность природы-человека выражена через эпитеты «благовонный», «благодатный». Первый выражает осязательное восприятие ночи, второй – эмоционально-душевное состояние лирического героя. Со-переживание неразделенности природы-человека определяет предикативную функцию ночи – «раздраженье недужной души» как необходимое условие для диалога «Я – Ты». Так возникает многоплановый импрессионистически выразительный образ ночи:
Благовонная ночь, благодатная ночь,
Раздраженье недужной души!
Все бы слушал тебя – и молчать мне невмочь
В говорящей так ясно тиши.
Импрессионистически выразительная картина ночи, выраженная в потоке мгновений в созвучии с эмоциональными ощущениями-переживаниями лирического «я», воспринимается картиной мироздания в вечном его движении и родственности человеческой душе, что определяет обилие глаголов (в первых трех строфах по четыре глагола, в последней – пять), а также то, что семантика глаголов выражает «родственность» мироздания и лирического героя: «Эти звезды кругом точно все собрались, / Не мигая, смотреть в этот сад. / А уж месяц, что всплыл над зубцами аллей / И в лицо прямо смотрит, – он жгуч...»; «Так ласкательно шепчут струи...»
В последних двух строфах медитирующая интонация выражена образами-сравнениями:
И меняется звуков отдельный удар;
Так ласкательно шепчут струи,
Словно робкие струны воркуют гитар,
Напевая призывы любви.
Словно все и горит и звенит заодно,
Чтоб мечте невозможной помочь;
Словно, дрогнув слегка, распахнется окно
Поглядеть в серебристую ночь.
Сравнения «словно робкие струны», «словно все и горит и звенит», «словно, дрогнув слегка» обозначают не случайные подобия описательного характера, используемые для украшения текста как изобразительные средства, в них выражение глубинной связи между «недужной душой» лирического героя и состоянием природы. Поэтому их можно назвать сравнениями-метафорами (термин В.А. Масловой). (Подобные сравнения-метафоры характерны не только для лирики Фета, но и Тютчева, символистов и, вообще, художников нового времени.) Как утверждает В.А. Маслова, сравнения-метафоры трудно отличить от сравнений-образов, особенно от образов импрессионистического типа. «Сравнения-метафоры – это своего рода вызов языковому сознанию: в них устанавливаются нетривиальные отношения между двумя понятиями. Такое сравнение как бы расшатывает логику, рациональное» [14: 151].
Ряд сравнений-метафор (в четвертой, пятой строфах с повторяющимся «словно») начинается со второй строфы, с образа «точно все собрались», который и определяет семантику глубинного содержания поэтической структуры, когда звезды становятся «свидетелями» чувств лирического героя:
Широко раскидалась лазурная высь,
И огни золотые горят;
Эти звезды кругом точно все собрались,
Не мигая, смотреть в этот сад.
Структура образа «Эти звезды кругом точно все собрались, / Не мигая, смотреть в этот сад» зеркально однотипна образу «Словно, дрогнув слегка, распахнется окно / Поглядеть в серебристую ночь». Сравнения-метафоры, основанные на зрительном сходстве, усиливаются звуковым сходством («плещется ключ», «шепчут струи», / «Словно робкие струны воркуют гитар...»), за которым тоже глубинная связь души лирического героя с «благовонной», «благодатной» ночью. Причем звуки природы перекликаются с «рукотворными» звуками человека: «Словно робкие струны воркуют гитар...»
Образы-сравнения Фета с точки зрения традиционной поэтики расшатывают логику, оторваны от реалий, но соответствуют им, если учитывать своеобразие типа творческого мироощущения поэта, когда художник и природа вступают в отношения со-переживания в неразделенности субъекта-объекта: предикативность мира природы, выраженная через определения «благодатная», «благовонная», «раздражает», т.е. возбуждает душу, пробуждает чувства. «Благовонная, благодатная ночь» становится толчком потока ощущений, который как выражение состояния души определяется через действие (предикативность) души – «все бы слушал тебя».
Любопытно грамматическое выражение формы времени в сочетании «Все бы слушал тебя», в котором действие прошедшее (прошедшее совершенного вида) транспонируется в будущее. Образуется нонкальное следование, при котором действие прошедшее, связанное с настоящим, становится актуальным для момента образной речи: «В говорящей так ясно тиши». Строка «Широко раскидалась лазурная высь...» тоже говорит о действии прошедшем, связанном с настоящим, актуальным для изображаемого мгновения состояния природы: «...точно все собрались, / Не мигая, смотреть в этот сад». По тому же принципу оформлено выражение следующего мгновения состояния природы: «А уж месяц, что всплыл над зубцами аллей / И в лицо прямо смотрит, – он жгуч...»
Все эти точечные определения «благовонной», «благодатной» ночи, выписанные с использованием своеобразных глагольных конструкций, актуализируют эмоциональное состояние лирического субъекта: к зрительному со-переживанию присоединяется и слуховое: «И меняется звуков отдельный удар; / Так ласкательно шепчут струи...» Гармония звукового, зрительного выражает апогею эмоционального всплеска: «Словно все и горит и звенит заодно, / Чтоб мечте невозможной помочь...»
Кроме всего сказанного, обратим внимание на оксюморон в первой строфе стихотворения («В говорящей так ясно тиши»), который содержит образ молчания, говорящий о противоречивых эмоциональных переживаниях лирического субъекта.
Ночная тишина для лирического субъекта Фета – условие постижения смысла мироздания, условие вживания в мир, поскольку она (ночная тишина) дает ощущение своей исходной, глубинной сопричастности космосу – Природе. Ощущение субъект-объектной неразделенности с Природой и определяет тождество микрокосма лирического «я» Фета с осмысленным им макрокосмом.
Образ ночной тишины (молчанья) в подобной семантике присутствует у Фета и в стихотворении «Сегодня все звезды так пышно...» (27 октября 1888) из того же цикла «Вечера и ночи»:
Всю ночь прогляжу на мерцанье,
Что светит и мощно и нежно,
И яркое это молчанье
Разгадывать стану прилежно.
И опять именно оксюморон («яркое это молчанье») становится формой выражения семантики образа: молчание и есть один из важнейших способов постижения смысла мироздания. В самом молчании – «язык» этого постижения. Поэтому ночная тишина у Фета «говорит так ясно», поэтому ночное молчание так «ярко».
Образ молчания является центральным в стихотворении позднего Фета «Нет, даже не тогда, когда, стопой воздушной...» (19 февраля 1891). Ситуация молчания в данном стихотворении является выражением внутреннего мира лирического субъекта с интровертивным сознанием:
Нет, чтобы счастию нежданному отдаться,
Чтобы исчезнуть в нем, спускаяся до дна,
Мне нужно одному с душой своей остаться,
Молчанье нужно мне кругом и тишина.
Интровертивное сознание (сознание восточного типа мышления), характерное для творческого «Я» Фета, и определило картину мира Фета как мир поэзии, максимально приближенный к «естественному» эталону, к культивированию «естественных» форм поэтического искусства, описывающих мир его собственным языком.
Итак, средневековая поэзия Востока с ее художественным принципом, основанном на со-переживании в неразделенности субъекта-объекта, когда троп используется в прямом значении (границы прямого и переносного значений слова стираются), стала весьма привлекательной для поэтов-романтиков, художественное мышление которых, как и средневековых поэтов Востока, было метафорическим.
С целью эстетического осознания глубинных процессов структуры подобного образного мышления во второй половине XIX в. Ш. Бодлером был представлен принцип «соответствия», в основе которого мысли об «аналогиях ощущений» («Природа – некий храм <...>, / И взглядом родственным глядит на смертных он»).
Сопереживание в неразделенности субъекта-объекта определяет интуитивное созерцание, благодаря которому, по мысли Ибн Араби, можно «увидеть» скрытый смысл Целого (манан), что значит узреть Бога в вещах, Бога в мире. Обращение к «оку» и через него к «свидетельствованию» – зрению означает и обращение к сущности – своей собственной или любой вещи и тем самым к «свидельствованию» – внутреннему видению [8: 60].
С суждениями Ибн Араби о «внутреннем видении» перекликаются рассуждения философа XX в. А.Ф. Лосева: «Если глаз хочет видеть себя самого, то он должен смотреть в глаз, в глазу же в то самое место, в котором заключена сила глаза, сила же эта есть зрение. А в таком случае... если душа хочет узнать самое себя, не должна ли и она смотреть в душу, и именно в то место души, в котором заключена ее сила или что-нибудь другое, подобное этому? Но можем ли мы сказать, что в душе есть что-нибудь главнее той ее части, через которую она познает и мыслит? Стало быть, эта часть души подобна чему-то божественному; и кто смотрит в нее и узнает все божественное, тот и себя самого всего больше может познать этим способом» [15: 323–324].
А. Белый эту «познающую и мыслящую» часть души называет интуицией сознания. Его работа «Душа самосознающая» о «само-со-знании» как интуиции Целого. Он пишет: «Сознание есть первичная и единственно данная нам интуиция целого; “Я” есть интуиция сознания, т.е. то, в чем пересечены представления содержания, формы, субъекта, объекта, миров внешнего и внутреннего. “Я” – ни внешне, ни внутренне, ни субъект, ни объект. Оно есть “Само” нашего “Со” (состава) знаний; осознание мира сознания, как единственно автономного, поднимает проблему Само-со-знания, как сознания собственно <...>» [16: 16]. Таким образом, определение А.Ф. Лосевым «той части души», через которую она (душа) «познает и мыслит» равноценно определению А. Белым мира творящего сознания как мира души «самосознающей». И все это схоже с суждениями Ибн Араби о «внутреннем видении» Целого.
Любопытно, что Вл. Фещенко, представляя статью А. Белого «Памяти Александра Блока» в рамках вопроса о самосознании творческой личности, обращает внимание на использованный Белым при определении «организующего центра само-со-знания» Блока образ Атмана. Атман, в трактовке Белого, «это то в нашем сознании, что связывает все остальное с самим собой. Это некоторый самопроизвольный центр в человеке – САМО всех его действий, мыслей, речей» [17: 112]. Истоки своего учения об «абсолютной самости» вещей Лосев, как замечает В. Фещенко (имеется в виду его работа «Миф, число, сущность»), так же, как и Белый, видит в «Упанишадах» – в мифологеме Атмана.
Ссылки на «Упанишады» являются для нас ценными, поскольку, по утверждению философов (например, Шопенгауэра), суфизм по своему источнику и духу – явление индусское. В древнеиндийских ведических «Упанишадах» Атман обозначает индивидуальное бытие, индивидуальную душу, соотносимую с объективной первичной реальностью – Брахманом. Индуистский монистический мистицизм учит, что Атман и Брахман сливаются воедино и Атман становится Брахманом, что является выражением тождества субъекта и объекта. Атман скрыт во всех живых существах, в человеке и в боге. Таким образом, самопознание, открывающее человеку его подлинное «Я», есть одновременно познание Бога [18: 43].
В философии суфизма есть понятие «ман». Адепт суфизма Шабистари дает три его определения: 1) абсолютное бытие, 2) проявившаяся суть бытия, 3) определившаяся истина. Состояния «ман» человек достигает, «путешествуя» в себя. Следовательно, источник Истины – сам человек [19: 127]. Таким образом, в суфизме, как и в «Упанишадах», при определении человека и Бога, сути бытия, Истины значимо тождество субъекта и объекта. Подчеркнем, что метод интуитивного созерцания, о котором говорится в «Упанишадах» родственен суждениям Ибн Араби об интуитивно-созерцательном постижении Целого (Бога), его «художественному» языку, на котором написана эстетическая философема – картина мироздания, где представлено абсолютное совершенство Бога, неразрывная связь с ним тварного мира и особое место человека – посредника между ними [8: 62].
Итак, ощущение со-переживания в неразделенности субъекта-объекта, характерное уже средневековой поэзии Востока, проявляется в поэзии Фета. В ней выстраивается картина мира, в которой «Я» субъекта созвучно сути мироздания, что и определяет своеобразие художественной системы поэта, когда слово «утрачивает свою непосредственную направленность на предмет, тропы ...тяготеют к реализации и использованию в прямом значении» [13: 16].
Символисты теоретически осмыслили данное явление: из потенции самого символического образа вывели определение внутреннего содержания символа, его идеальной сущности, «самое само» (А. Белый). Вещь определима только из себя самой. Ни форма, ни материя, ни признаки или свойства ее не могут быть определяющими: «Определить абсолютную индивидуальность вещи – значит утерять ее как предмет определения. Найти самое само вещи – значит не иметь возможности высказать о ней ни одного предиката. Только такая, абсолютно лишенная всяких признаков и предикатов, сущность вещи и есть ее абсолютная индивидуальность, ее самое само» [цит. по: 17: 112]. Высказывания А.Ф. Лосева об эйдосе как «идеи в вещи» созвучны определениям А. Белого внутреннего содержания символа как «самое само». Так, представляя учение Платона об идеях, философ пишет: «...эйдос, или идея, резко противополагаясь вещи и факту, будучи одним и тем же вопреки множеству осмысленных им вещей и будучи в то же время далеким от какой бы то ни было призрачности, рисуется присутствующим одновременно везде и нигде в вещах, так что утверждается такое присутствие идеи в вещи, котрое не есть никакая степень фактического ее присутствия, а есть только чисто идеальное же присутствие и осмысливание» [15: 314]. М. Бахтин в символистской «верности вещам» видит стремление к постижению сущего: «Символ для них не только слово, которое характеризует впечатление от вещи, не объект души художника и его случайной судьбы: символ знаменует реальную сущность вещи» [20: 375].
ЛИТЕРАТУРА
1. Бухштаб Б.Я. Русские поэты. Тютчев. Фет. Козьма Прутков. Добролюбов. Л., 1970.
2. Бухштаб Б.Я. А.А. Фет. Очерк жизни и творчества. Л., 1990.
3. Теория литературы: в 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 2. М., 2004.
4. Шах И. Суфизм. М., 1994.
5. Гиждеу С. Лирика Генриха Гейне. М., 1983.
6. Азарова Е.В. Композиционная структура «Вечерних огней»: автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филол. наук. М., 2007.
7. Шопенгауэр А. Избранные произведения. М., 1992.
8. Смирнов А.В. Великий шейх суфизма. Опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби. М., 1993.
9. Соловьев В.С. Литературная критика. М., 1990.
10. Теория литературы: в 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 1. М., 2004.
11. Гегель Г. В.Ф. Эстетика: в 4 т. Т. 2. М., 1969.
12. Пригарина Н.И. Поэтика творчества Муххамада Икбала. М., 1978.
13. Кожевникова Н.А. Словоупотребление в поэзии начала XX века. М., 1986.
14. Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие. М., 2004.
15. Лосев А.В. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993.
16. Белый А. Душа самосознающая. М., 1999.
17. Фещенко В. Autopoetica как опыт и метод... // Семиотика и Авангард: антология. М., 2006.
18. Энциклопедия мистицизма. СПб., 1997.
19. Павлова И. Трансформация суфийской темы «Путешествие» в маснави Икбала «Новый цветник тайн» // Творчество Мухаммада Икбала: сб. статей. М., 1982. С. 123–135.
20. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
«Потаенное сущее» как «сущностный источник» в картине мира А. Фета
М. Хайдеггер, определяя духовную связь между народами времени «осевой эпохи» (Ясперс), говорит о «потаенном сущем» – «сущностном источнике» как общем «доме бытия», поскольку человек под «картиной мира» подразумевает сам мир, сущее в целом. Картина мира, сущностно понятая, означает, таким образом, не картину, изображающую мир, а мир, понятый в смысле такой картины. По Хайдеггеру, сущее в целом только тогда становится сущим, когда «поставлено представляющим и устанавливающим его человеком», т.е. картина мира субъективна. «Быть сущим» для средневекового человека – «значит принадлежать к определенной иерархической ступени сотворенного бытия и в таком подчинении отвечать творящей первопричине» [1: 49]. Философия Ибн Араби, Николая Кузанского – тому доказательство. Так, у Араби континуум бытия един, самодостаточен и в самом себе множествен, причем множественность не возникает из единства, а наличествует внутри него [2: 129–131].
Лирика Хафиза, являющаяся художественным выражением картины мира с философской мыслью Средневекового Востока в духе того же Ибн Араби, и привлекает к себе внимание Фета тем «потаенным сущим» как «сущностным источником», который и является основой духовной связи между народами. Дело в том, что восточное искусство следующего этапа – Возрождения – в отличие от западного ренессанса, сохранило и приумножило древние образцы проникновения в мир природы и единения с ней. Западное искусство, как пишет М.А. Мамонова, «совершая скачок в своем развитии, противопоставляло себя средневековому мировидению, отрицало его каноны и выдвигало новые способы восприятия. Объект воспринимается и понимается не просто как нечто, обладающее свойствами, но обладающее ими в силу наших концептуальных структур и способов видеть мир. В итоге образ предмета столько же говорит о наблюдателе, сколько и о самом предмете». Таким образом, для западного восприятия мир есть картина: художник пишет картину с позиций наблюдателя – с позиций познающего субъекта [3: 101].
Стихотворение Фета «О, если бы озером был я ночным...» («Из Гафиза») отчетливо выражает основное положение средневековой философии Востока: наличествование множественности в самом единстве и есть необходимое условие полноты и гармонии бытия. Гармония бытия в картине мира средневекового поэта и является выражением сущего в целом. «Потаенное сущее» как «сущностный источник», которое увидел Фет в картине мира Хафиза, и покорило его: оно соответствовало его представлениям картины мира. Дух подобного толкования мира содержит и другое стихотворение из цикла «Из Гафиза» – «Звезда полуночи дугой золотою скатилась...» Приведем его полностью:
Звезда полуночи дугой золотою скатилась,
На лоно земное с его суетою скатилась.
Цветы там она увидала и травы долины
И радостной их и живой пестротою пленилась.
Она услыхала звонки говорливые стада
И мелких серебряных звуков игрою пленилась.
Коня увидала она, проскакавшего в поле,
И лошади статной летучей красою пленилась.
И мирными кровами хижин она и деревьев,
И даже убогой гнилушкой лесною пленилась.
И все полюбя, уж на небо она не просилась, –
И рада была, что ночною порою скатилась.
В рифмующихся «скатилась», «пленилась», «не просилась» – «сюжет» стихотворения о «звезде полуночи»: небесная звезда «скатилась на лоно земное», пленившись красою земли, «на небо она не просилась». «Лоно земное» характеризуется в бытийных определениях: «На лоно земное с его суетою...» «Суета» – это человеческая жизнь, которая подчинена извечным законам бытия, «суета» – это тот хаос, без которого невозможна гармония. Гармония земной жизни («лона земного») – в бесконечности форм красоты самого бытия. Таким образом, если воспользоваться термином средневековой философии, в «наличествовании множественности» – само единство. «Лоно земное с его суетою» репрезентируется в своей множественности, чем и определяется полнота бытия, гармония его сущности, ибо, как утверждает философия Ибн Араби, Бог – высшая реальность, абсолютное совершенство, из которого истекают, эманируют, но в котором «утоплены», (т.е. заключены) все сущие реальности [4: 195]. Таким образом, гармония земной жизни («лона земного») – сама божественная реальность.
Этот «перевод» Хафиза перекликается со многими другими стихотворениями Фета, прежде всего, формой выражения смысла состояния мира, когда он – этот смысл – сводится к частным случаям его проявления. Таково, например, известное безглагольное стихотворение «Это утро, радость эта...» В нем – симфоническая репрезентация множественности макрокосма человеческого бытия. В отличие от стихотворения «Из Хафиза», в нем нет предикативного определения лирического героя, он как бы за «сфотографированной», «записанной» картиной мира. Вместе с тем лирический герой во всей своей сущности, узнаваем и эмоционально определяем – он за указательными местоимениями «это», «эта», «эти», в которых не только констатация, фотографирование, указание на мир, в них прежде всего – эмоции лирического героя, восторг его души, ощущение полноты и гармонии бытия, ощущение безграничности и беспредельности этого бытия; с другой стороны, в этих указательных местоимениях – ощущение причастности к этой бесконечной множественности бытия, его необъяснимости.
В «переводе» из Хафиза «звезда полуночи» (лирический «герой») отчетливо определяется в своей предикативности по отношению к «лону земному»: она «скатилась», «увидала», «пленилась», «услыхала», еще раз «пленилась», «увидала», еще раз «пленилась», «не просилась» и, наконец, «рада была, что ночною порою скатилась». Предикативность, во-первых, определяет «сюжетную» канву стихотворения, во-вторых, в формах выражения этой предикативности – полнота восприятия жизни: зрительное восприятие в сочетании со слуховым и создает гармонию полноты жизни.
Выражение гармонии, полноты бытия характерно для стихотворений «Цветы», «Вечер» и многих других, стоящих в одном ряду с рассмотренным выше «Это утро, радость эта...» Подобная форма как выражение фетовского типа творческого сознания присутствует в лирике и с другими смысловыми контекстами. В стихотворении «Цветы» «фотографирование», схватывание мгновенных состояний мироздания («несется голос стада», «малиновки звенят», «струится аромат» и т.д.) тоже до последнего четверостишия «скрывает» лирическое «я». В последнем четверостишии – обращение лирического субъекта к «сестре цветов, подруге розы» с просьбой: «очами в очи мне взгляни». Диалог с миром – условие гармонии, полноты бытия, «живительных грез».
Как видим, диалог с миром в природной лирике Фета является пейзажем-картиной в восточном смысле слова (запечатлевание мимолетных и зыбких мгновений), в котором не открывается зрителю, а внутренне проявляется момент сущности в субъект-объектной неразделенности человека и природы. М.А. Мамонова, обобщая опыт Н.И. Конрада по исследованию китайского Возрождения, заключает, что восточная эмпирическая наука – это бесконцептуальная фактография и рецептура, как бы слепок с индифферентной Природы; живопись дзэн – внемасштабная, внесубъективная, запечатлевающая мимолетное и зыбкое мгновение, схваченное в перцептивной перспективе. Ведущий жанр – пейзаж, но не в европейском смысле слова: не открывающийся зрителю, а внутренне проявившийся момент сущности [3: 90].
Представляется интересным рассмотреть достаточно раннее стихотворение Фета «Каждое чувство бывает понятней мне ночью...» (1843).
Пограничное эмоциональное состояние (состояние перед засыпанием) способствует обострению ощущений лирического субъекта («Каждое чувство бывает понятней мне ночью...», «Самые звуки доступней...»), в результате меняется восприятие мира самим сознанием (Все невозможно-возможное, странно-бывалое...»). Последние строчки стихотворения дают понять, что эмоциональный тон стихотворения – своеобразная медитация: «Так между влажно-махровых цветов снотворного маку / Полночь роняет порой тайные сны наяву».
Пограничное состояние обостряет звуковое восприятие мира – «Самые звуки доступней, даже когда неподвижен...» Именно звуки имеют свойство медитации, настроя на своеобразную духовную волну:
А в отдалении колокол вдруг запоет – тихонько
В комнату звуки плывут; я предаюсь им вполне.
Сердце в них находило всегда какую-то влагу,
Точно как будто росой ночи омыты они.
Вместе с тем звуки пробуждают и мысли лирического героя, содержание которых «иное совсем»:
Звук все тот же поет, но с каждым порывом иначе:
То в нем меди тугой более, то серебра.
Странно, что ухо в ту пору, как будто не слушая, слышит;
В мыслях иное совсем, думы – волна за волной...
Звук для лирического «я» Фета – возможность диалога между миром и им, живущим в нем. Благодаря звуку действительность реального мира соотносится с душой. Чувственное восприятие создает мир лирического субъекта Фета, микрокосм с неповторимыми ощущениями, переживаниями. И состоявшийся диалог – свидетельство того, что мир, представляющийся общим для всех, у каждого свой. Так, предикативность мира в воспринимающем сознании лирического субъекта начинает формироваться благодаря звуковому образу («колокол вдруг запоет»), причем звуковое восприятие доминирует над зрительным. Любопытно, что ощущения ритма в музыке («То в нем меди тугой более, то серебра») определяют характер интенции сознания лирического субъекта: он «не слушая, слышит», в то время как думы – «волна за волной». Чувственное восприятие мира, таким образом, создает и мир душевного состояния лирического «я», новый, однократный с неповторимыми переживаниями.
Как всегда в жанре стихотворного произведения, основная смысловая конструкция произведения находится ближе к концу, в последних четырех строках:
А между тем еще глубже сокрытая сила объемлет
Лампу, и звуки, и ночь, их сочетавши в одно.
Так между влажно-махровых цветов снотворного маку
Полночь роняет порой тайные сны наяву.
«Сокрытая сила» – это извечная тайна бытия; в ней, в этой силе, – законы существования макрокосма. Пограничное состояние настроило лирического героя Фета на ощущение этой «тайной силы», которая «объемлет / Лампу, и звуки, и ночь, их сочетавши в одно», объемлет весь макрокосм человеческого «Я», поскольку континуум бытия един («сочетавши в одно»), самодостаточен, абсолютно гармоничен и в самом себе множествен («лампу, и звуки, и ночь»). Вещный мир, природа, человек со своими ощущениями, мыслями – такова корреляция устроения бытия человеческого существования.
В стихотворении «Любо мне в комнате ночью стоять у окошка...» (1847) зрительные образы создают картину гармонии мироздания. Вертикаль взгляда переходит в горизонталь («луна с высоты прямо глядит на меня», «нарисует квадраты лучами»), в этом некая корреляция дальнего с ближним: луны как центра ночного мироздания с земным содержанием «Я» лирического субъекта. Дается зрительная игра с пространством: «...Нарисует квадраты лучами / По полу, комнату всю дымом прозрачным поя...» – передний план обозреваемого; «А за окошком в саду, между листьев сирени и липы...» – дальний план. Лучи луны («золоченые стрелы») определяют характер пейзажного рисунка и дальше («А за окошком в саду <...> зыбким проходит лучом»), в котором доминирует вертикаль взгляда.
Стихотворение завершается восклицанием: «блажен, трижды блажен, о Диана, / Кто всемогущей судьбой в тайны твои посвящен!», семантика которого – приближение к той «сокрытой силе», «тайне», на чем стоит мироздание.
Интерпретация лирических субъектов в этих стихотворениях в их отношениях к миру в его пространственно-временном выражении невольно отсылает нас к работе Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление» (1844) в переводе Фета. Лирика Фета являет собой мир художника как представление о мире. Пространство, время мира художника – в «Я» его лирического субъекта, т.е. они субъективны, зависят, если говорить на языке Шопенгауэра, от «представляющего существа», вместе с тем в творческом сознании Фета очевиден объективный мир, из которого выхватываются какие-то предметы, явления как «отправные точки» в интенции авторского сознания. Конечно, речь не о влиянии Шопенгауэра на Фета, а о том, что сближало их в воззрениях на мир, человека в нем. Фет нашел в нем подтверждение своим собственным поэтическим ощущениям.
Любопытно, что фетовское толкование Шопенгауэра перекликается со многими философскими парадигмами средневекового Востока, с мистицизмом суфизма, учением о мистическом переживании, интуитивном прозрении – с одной стороны, с рационализмом фальсафа, который предполагает опыт, связанный с размышлением, обобщением знаний, логическим доказательством, выводами из эксперимента – с другой.
В фетовском переводе мир как представление состоит «из двух существенных, необходимых и нераздельных половин. Одна из них объект, коего форма – пространство и время и через них – множество». В этой половине – объективно-рациональное постижение мира. Другая же половина – субъект – «не лежит в пространстве и времени; ибо она вполне и нераздельно в каждом представляющем существе...» В этой половине – субъективное, интуитивное постижение мира [5: 3]. Таким образом, корреляция устроения мира, по Шопенгауэру, как его толкует Фет, – это отношения каждого «представляющего существа» и объекта в их пространственных и временных определениях и через них в своей множественности (ср. у Ибн Араби: континуум бытия един, самодостаточен и в самом себе множествен).
По суфийской концепции, творчество предполагает умение «увидеть» образ прежде, чем воплотить его в жизнь. «По существу, – пишет М.Т. Степанянц, – согласно Ибн Араби, воображение служит интеллекту: выполняет посредническую роль, абстрагируя образы, возникающие при чувственном восприятии, прежде чем передать их разуму» [4: 199]. В переводе Шопенгауэра Фетом обнаруживается аналогичная цепочка: «всякое созерцание интеллектуально, следовательно, объект и представление – одно и то же» [5: 13].
Таким образом, через философию Шопенгауэра, перекликающуюся с философией Ибн Араби, можно осмыслить интенцию авторского сознания Фета в «конструировании» образа-концепта, коррелятом которого становится «представляющее существо» с его миром-объектом в его пространственно-временном определении и через них в своей множественности. Рефлектирующий лирический субъект Фета как «представляющее существо» интуитивно обнаруживает в себе феноменальное «Я» – «Я» самой личности, собственную волю. Происходит непосредственное постижение, если говорить на языке Канта, смысла понятия «вещь-в-себе», поскольку человек и есть эта «вещь», он как личность находится внутри «вещи-в-себе», т.е. лирический субъект как «представляющее существо» является коррелятом устроения мира. Об интуитивном пути познания, включающем разные формы интуиции, в том числе и мистическую интуицию, писал русский философ Н.О. Лосский.
Суфийская средневековая философия Востока с его мистицизмом тоже «знала» интуитивные формы работы личности над своим «Я» с целью его совершенствования, приближения к абсолютной Истине, в процессе которого обнаруживается, что, чем больше личность приближается к постижению этой Истины («вещи-в-себе»), тем больше она понимает, что Истина («вещь-в-себе») – само человеческое «Я», его представление о мире. Мир как представление – это феноменологическое понятие, поскольку созданное сознанием и есть мир.
Природа, внешний мир интересуют суфия лишь как «ткань символов», которые должны быть прочитаны в соответствии с их божественным значением: «<...>поскольку миропорядок появился по форме Его <...>, Всевышний, дабы познать Его, предложил нам знаки Свои» [2: 152]. Возможность понять эту «ткань символов», «намеки» Всевышнего определяет исключительное место и роль человека в мироздании. Он, по словам Ибн Араби, микрокосм («алам асгар»): универсум (макрокосм – алам акбар) без него подобен мертвому телу. Ключом к прочтению служит сам человек, на испытание самого себя направлено его сознание: «<...> по себе мы узнаем Его: каким бы атрибутом мы Его ни описали, мы сами – сей атрибут, кроме самосущностно-необходимого бытия. И вот, познав Его через и из самих себя, мы соотнесли с Ним все, что соотнесли с собой; так пришли к нам божественные вести через верных передатчиков. Он описал нам Себя через нас: видя Его, мы видим души свои, а видя нас, Он видит Себя Самого» [2: 152]. Таким образом, благодаря единству всего сущего, корреляции микро– и макрокосма, гностику достаточно перевоплотиться в «вещь» и изнутри себя обрисовать ее (вчувствоваться). И для этого у суфия есть «внутреннее око», «сердце», способность вкушения («заук»).
Стихотворение «На стоге сена ночью южной...» (1857) содержит художественные парадигмы представления о мире-макрокосме: Я-макрокосм, постигая себя, выстраивает свои пространственно-временные отношения с миром, который воспринимается, как некая, если хотите, загадка.
Как и в стихотворении «Каждое чувство бывает понятней мне ночью...», состояние внешнего покоя («На стоге сена ночью южной / Лицом ко тверди я лежал...») определяет характер предикативности лирического героя по отношению к миру, которая выражена через созерцание, благодаря чему представление о мире выстраивается как зрительная картина мироздания:
На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал,
И хор светил, живой и дружный,
Кругом раскинувшись, дрожал.
Пространственная характеристика лирического субъекта – он в центре мироздания – способствует созерцанию, определению представления о мире. В этом представлении о мире – зрительная игра с пространством, в которой вертикали взгляда определяют отношения между лирическим героем и макрокосмом: «Земля... уносилась прочь...»; «Я ль несся к бездне полуночной, / Иль сонмы звезд ко мне неслись?» Игра с пространством завершается состоянием неподвижности: «Казалось, будто в длани мощной / Над этой бездной я повис». «Над этой бездной я повис» – это то переходное мгновение, которое одаривает лирического героя ощущением причастности микрокосма к макрокосму.
Как и в предыдущем стихотворении, ночь, ночное восприятие мира создает условие для погружения лирического субъекта в пограничную ситуацию («Казалось, будто в длани мощной / Над этой бездной я повис»). Эта «бездна», как и «сокрытая сила», – вечная тайна человечества, от которой зависит человеческое «Я», определение в нем «вещи-в-себе». И эта «бездна», глубина которой «с замираньем и смятеньем» измеряется взором, настолько таинственна и властна, что лирический субъект признается в полной охваченности тайной этой бездны («с каждым я мгновеньем / Все невозвратнее тону»).
Ощущение причастности микрокосма к макрокосму как основное содержание стихотворения содержит глубинный непостижимый смысл, который можно постичь только через метафизический язык символа. Причастность микрокосма к макрокосму свидетельствует не о том, что «есть» мир, а о том, что он – мир – значит для живущего в нем существа. Переходное мгновение – это момент экзистенциального пробуждения, когда, как сказал Шпенглер, «что-то обрывается для нас между некой точкой «здесь» и некой точкой «там» [6: 324]. «На стоге сена ночью южной / Лицом ко тверди я лежал...» – это точка «здесь», пространство бытия лирического субъекта. «Хор светил, живой и дружный, / Кругом раскинувшись, дрожал» – пространство чужое, параллельное земному, точка «там», которая переживается.
Ощущение лирическим субъектом своей причастности к макрокосму объясняется постижением протяженности мироздания, начинающимся как бы с «нулевой» точки, когда нет земли («Земля <...> уносилась прочь...»), когда он «один в лицо увидел ночь». С «нулевой точки» и начинается игра с пространством, когда вертикали пространства со встречным движением («Я ль несся к бездне полуночной, / Иль сонмы звезд ко мне неслись?») и создают переживание переходного мгновения, за которым момент экзистенциального пробуждения. Зрительная игра с пространством завершается символическим образом «длани мощной», который содержит невольное впечатление, связанное с внутренним переживанием ребенка в люльке, колыбели, содержащим «колыхательно-колебательную» стихию, восходящую к «пренатальному» сознанию (В.Н. Топоров). Экзистенциальное же значение этого образа расшифровывается через образ бездны.
Образ бездны в подобной художественной интерпретации присутствует и в стихотворении «Как нежишь ты, серебряная ночь...» (1865(?)):
Мой дух, о ночь, как падший серафим,
Признал родство с нетленной жизнью звездной
И, окрылен дыханием твоим,
Готов лететь над этой тайной бездной.
Основным мотивом обоих стихотворений является мотив ночного неба, который можно осмыслить через архетипический комплекс моря, описанный В.Н. Топоровым, поскольку небо, как и море, можно характеризовать как «колыхательно-колебательную стихию», сохранившую память о праистоках, что было в первобытном человеке, в котором, как и в ребенке, выступает некое внутреннее переживание, связанное с рождением «Я». Это внутреннее переживание в стихотворении «На стоге сена ночью южной...» выражено мифологической парадигмой: «И я, как первый житель рая, / Один в лицо увидел ночь».
Перед взором лирического субъекта, как перед взором «первого жителя рая», вырисовывается картина ночного неба как мир упорядоченных, «осмысленных» протяженностей:
И хор светил, живой и дружный,
Кругом раскинувшись, дрожал.
Эмоциональным переживанием этого ночного неба как мира протяженностей становится ощущение непреложной противоположности этого внешнего мира собственному внутреннему миру, выражающегося во внезапно осознанном чувстве одиночества, пробуждающего прачувство тоски, в котором – прачувство пространства, связанного с актом рождения. Это и есть тоска «первого жителя рая», которая экзистенциальна по своему содержанию: постижение протяженности мироздания как ощущение тоски перед вечным таинством мироздания: «И с замираньем и смятеньем / Я взором мерил глубину».
Зрительное постижение пространства, протяженности мироздания не просто определяет время, оно (у Фета мгновенье) поглощается пространством: «Я взором мерил глубину, / В котором с каждым я мгновеньем / Все невозвратнее тону». Результатом зрительной игры с пространством становится ощущение тоски как реакция на постижение пространства, протяженности. Символический образ бездны («Над этой бездной я повис») и является художественным выражением единства времени и пространства в ощущении тоски перед тем неуловимым Ничто, в котором время, рожденное пространством, поглощается этим пространством.
Таким образом, через экзистенциальное ощущение тоски Фет выразил мировой страх, который Шпенглером определяется как «наиболее творческое из всех прачувствований», «ему обязан человек самыми зрелыми и глубокими формами и ликами не только своей сознательной внутренней жизни, но и ее отражения в бесчисленных образованиях внешней культуры». Этот страх, по мнению Шпенглера, проходит «сквозь язык форм каждого подлинного творения искусства, каждой прочувствованной философии, каждого значительного деяния...» [6: 233].
Внутренняя жизнь лирического субъекта Фета как «прочувствованная глубина», как прозрение и является осознанием жизни как судьбы («в длани мощной / Над этой бездной я повис»). Экзистенциальный смысл символического образа «в длани мощной» лежит в сфере протяженного – в ощущении глубины («Я взором мерил глубину»). Таким образом, Фет показал, что восприятие мира связано с феноменом глубины – дали или отдаленности. С постижения глубины (в нем прачувство пространства, связанное с актом рождения) и начинается мир. Через переживание глубины человек получает свой мир, свое представление о нем. Таким образом, умение создавать зрительную игру с пространством и позволило автору выписать ощущение тоски с прачувством страха как внутренний мир своего героя.
И наконец, следует обратить внимание на то, что глубина, выраженная бинарным образом «хор светил» – «длань мощная», имеет форму купола, купола ночного неба. Купол как выражение глубины, если воспользоваться определением того же Шпенглера, является «исконным гештальтом мира», прасимволом мира, врожденным и для русского человека, поскольку в нем – «душа той культуры, которая воплощается в нашей жизни» [6: 337]. Купол как символ протяженности обязан, по мысли Шпенглера, магической душе арабской культуры[1], «очнувшейся во времена Августа в ландшафте между Тигром и Нилом, Черным морем и Южной Аравией, со своей алгеброй, астрологией и алхимией, мозаиками и арабесками, халифатами и мечетями, таинственными священными книгами персидской, иудейской, христианской, “позднеантичной” и манихейской религии» [6: 346].
Фет в своем стихотворении показал этот гештальт мира и как приобретенный опыт, в котором есть закономерность постижения мира, поскольку каждый, пришедший в этот мир, на своем опыте повторяет творческий акт постижения глубины как пространства мира. Если говорить о личном опыте человека, то прасимвол глубины восходит к мирочувствованию, связанному с актом рождения и самыми первыми детскими впечатлениями.
Феноменология ночного неба, эмоционально-волевой тон его как явление творческого акта Фета объясняется, с одной стороны, «врожденным мироощущением» (В.Н. Топоров), с другой – приобретенным, субъективным опытом, который связан с образом моря. Оба образа содержат внутреннюю обусловленность – «трансперсональную доминантность», т.е. архетип, в основе которого лежит «морской» комплекс (В.Н. Топоров).
В стихотворении «Как нежишь ты, серебряная ночь...» (1865(?)), как в рассмотренном выше, переживание пространства (глубины ночного неба, которое, как океан) дает возможность не только чувственного, созерцательного восприятия мироздания как некоей «тайны», но и осмысления своего «Я» как силы, «способной лететь над этой тайной бездной».
Стихотворение написано в форме обращения лирического субъекта к «серебряной ночи», которая сразу определена в своей предикативной функции. В этой функции – связь души человека с мирозданием:
Как нежишь ты, серебряная ночь,
В душе расцвет немой и тайной силы!
Переживание пространства «серебряной ночи» приводит к мысли о конечности всего земного («Весь этот тлен, бездушный и унылый!»); в основе подобного переживания – врожденное мирочувствование пространства как убивающего время: человеческое «Я» неизмеримо ничтожно по сравнению с безграничным пространством мироздания. Вместе с тем то же переживание пространства воспринимается как безграничная мощь, способная «окрылить» человека, дать ему силы «превозмочь / Весь этот тлен, бездушный и унылый!»
Во второй строфе восторженное описание ночного неба, как и в стихотворении «На стоге сена ночью южной...», дается в зрительной игре с пространством, когда вертикали взгляда имеют направление то сверху вниз, то снизу вверх:
Какая ночь! Алмазная роса
Живым огнем с огнями неба в споре,
Как океан, разверзлись небеса,
И спит земля – и теплится, как море.
Эта зрительная игра с пространством дает возможность соединения неба с землей, моря с небом, земли с морем. Макрокосм как пространство в зрительном восприятии лирического субъекта предстает как нечто единое, взаимоопределяемое: земная «алмазная роса» определяется через явление небесное, «с огнями неба», земля сравнивается с морем, она, «как море». В ощущении мироздания как нечто единое основным врожденным понятием является восприятие земли кровным своему «Я», чем и объясняется очеловечивание образа земли: «спит земля – и теплится, как море».
В третьей строфе через принцип кольцевой композиции повторяется основная мысль стихотворения о родстве человеческой души с «жизнью звездной», художественно выраженной через интериоризацию :
Мой дух, о ночь, как падший серафим,
Признал родство с нетленной жизнью звездной <...>
Присутствие мифологического образа «падший серафим» определяет врожденный, архетипический опыт человечества в признании родства «с нетленной жизнью звездной». Разница в строфах следующая: если в первой строфе лирический субъект, обращаясь к «серебряной ночи», просит: «О, окрыли – и дай мне превозмочь / Весь этот тлен, бездушный и унылый!», то в заключительной строфе признание родства «духа» с «нетленой жизнью звездной» окрыляет его:
И, окрылен дыханием твоим,
Готов лететь над этой тайной бездной.
Экзистенциальный образ «тайны бездны», как и в предыдущем стихотворении, раскрывает смысл интериоризации как художественного приема, который заключен в том, что постижение пространства мироздания одаривает человека необходимым опытом («окрылен дыханием твоим»), способствующим готовности «лететь над этой тайной бездной». Таким образом, именно пространственное восприятие мироздания, переживание глубины пробуждает в человеке основной инстинкт – инстинкт страха и вместе с тем то же переживание, в котором ощущение родства с этим мирозданием, одаривает человека силой, способной преодолеть этот страх.
Весьма любопытным в контексте основной проблемы нашего исследования представляется цикл стихотворений А.А. Фета «Море».
Начнем с того, что у Фета в цикле «Из Гафиза» есть стихотворение «Грозные тени ночей...», эмоциональное настроение, экзистенциальное содержание, а также «морская» образность которого найдут свое развитие в цикле «Море». Вот это стихотворение «Из Гафиза»:
Грозные тени ночей,
Ужасы волн и смерчей, –
Кто на покойной земле,
Даже при полном желаньи,
Вас понимать в состояньи?
Тот лишь один вас поймет,
Кто, под дыханием бурь,
В неизмеримом плывет
От берегов расстояньи.
Морская тема с «прозаическим» значением образа моря не характерна для Хафиза – поэта-мыслителя, в силу обстоятельств географических, он не маринист. Но образ моря присутствует в некоторых его газелях. Любопытно, что бейт газели «Вновь пусти по кругу чашу, – кравчий, все страдальцы в сборе!»:
Ночь темна, свирепы волны, глубока, страшна пучина, –
Там, на берегу, счастливцы, знают ли, что тонем в море?
(Перевод С. Липкина)
перекликается с фетовским стихотворением «Из Гафиза», процитированным выше.
И в двустишии Хафиза, и в «переводе» Хафиза Фетом символический образ моря оказывается явной метафорой тех ситуаций в жизни человека, которые в художественно-философском выражении того и другого получают свое отражение в универсальных парадигмах искусства вообще – «Человек – Мир». Символический образ моря становится «универсальным» способом корреляции сущностного и экзистенциального бытия как парадоксальной смысловой структуры, в которой бесконечное выражается в конечном, вечное – во временном и т.д.
«Морской» комплекс и свойственная ему образность могут быть прокомментированы через мотивную систему, в которой доминантным является мотив одиночества, покинутости, выражающий смысл экзистенциально осмысленного бытия. Переживание сущностного как противостоящего человеческому «Я» и зарождает экзистенциальное переживание этого сущностного как бытия.
Образ берега у Фета в контексте того же «морского» комплекса дополняет семантику основного мотива стихотворения: переживающего чувство покинутости, одиночества, поймет лишь тот, кто, как и он, заброшен в «ужасы волн и смерчей», «Кто, под дыханием бурь, / В неизмеримом плывет / От берегов расстояньи». Берег в контексте основной мысли произведения становится разъединяющим локусом: есть те, кто «на покойной земле», и те, кто «плывет от берегов расстояньи». Образ берега с подобной семантикой становится знаком полного отсутствия диалога между теми, кто разъединен «берегом»: «Кто на покойной земле, / Даже при полном желаньи, / Вас понимать в состояньи?»
Таким образом, семантика метафорического образа моря как некоей стихии у Фета, как и у Хафиза, достаточно прозрачна. Интериоризированная стихия морская у того и другого выражает «стихию» человеческого бытия и «стихию» человеческой души. Сознательное или подсознательное чувство «родственности» самой «морской» темы и способа ее «разыгрывания» непроизвольно «сидит» во внутренней психологической, ментальной структуре автора. «Морской» комплекс, восходящий к «пренатальному сознанию», о чем пишет В.Н. Топоров, является настолько «родственным», своим для каждого человека, что интериоризация образа моря невольно выражается через «комплекс» моря, который переживается, как неотъемлемая часть своего «Я».
Символический образ моря в парадигматическом ряду фетовских валентностей находит свое выражение в этом цикле в двух основных парадигмах поэта: «Я и Мир как мои ощущения» и «Я и Ты».
Если говорить о первой парадигме, то внутреннее содержание образа моря в стихотворениях с концептом «Я и Мир как мои ощущения» во многом «родственно» душе поэта; «родственность» эта и определяет содержание духовного в произведении. В стихотворениях «Морская даль во мгле туманной...», «Прибой», «На корабле», «Буря», «После бури» «прозаическое» значение образа моря, благодаря интериоризации, получает романтическое звучание.
Стихотворение «Морская даль во мгле туманной...» (1857(?)) является необычным в своем эмоциональном содержании: напряжение романтического драматизма, присутствующее уже в первой строфе, не получает своего развития:
Морская даль во мгле туманной;
Там парус тонет, как в дыму,
А волны в злобе постоянной
Бегут к прибрежью моему.
Зрительный образ морской дали «во мгле туманной» с одиноким парусом, который «тонет, как в дыму», создает романтический образ одиночества. В следующих двух строках мотив одиночества наполняется ощущением страха: волны «в злобе постоянной / Бегут к прибрежью моему». Образ волн «в злобе постоянной», а также образ берега настраивают читателя на ситуацию ожидания чего-то драматического. Однако со следующей строки (первая строка второй строфы) снимается это ощущение тревожного, драматического. Катарсис «добывается» благодаря созерцательному восприятию морской стихии без интериоризации.
Из них одной, избранной мною,
Навстречу пристально гляжу
И за грядой ее крутою
До камня влажного слежу.
Взгляд лирического героя, сфокусированный на одной, «избранной» им, волне и снимает напряжение, присутствующее в первой строфе. Начинается, характерная для Фета, зрительная игра с пространством со встречным движением: волна, «избранная» лирическим героем, катится к его «прибрежью», взгляд лирического героя движется «навстречу» волне и «пристально» следит за ней «до камня влажного»:
К ней чайка плавная спустилась, –
Не дрогнет острое крыло.
Но вот громада докатилась,
Тяжеловесна, как стекло...
Описание морской пары «волна – чайка» еще раз поднимает эмоциональное напряжение, выраженное не только семантикой слов «дрогнет», «громада», но и их звуковым содержанием – повтором согласных – аллитерацией. Однако драматической развязки нет, союз «но» не отрицает союза волны с чайкой, он всего лишь констатирует финал движения волны («громада докатилась»). В последней строфе мгновенье удара волны-«громады» о «каменную стену» выражено уже не только через зрительное восприятие, но и звуковое, благодаря чему создается картина гармонии красоты:
Плеснула в каменную стену,
Вот звонко грянет на плиту –
А уж подкинутую пену
Разбрызнул ветер на лету.
Созерцательное восприятие движения волны состоит у Фета из «схваченных» мгновений, благодаря которым и передается динамика движения, игра с пространством.
В стихотворении «Прибой» (1856 или 1857) опять морская волна в ее колыхательно-колебательных движениях становится романтически представленным центральным образом. Эмоциональная волна в этом стихотворении выстраивается по схеме, отличной от предыдущего. Нейтральный, созерцательный тон, присутствующий в первой строфе, характеризует пейзажную зарисовку с определением главного «предмета» поэтического взгляда: «И вдалеке земной твердыне / Морские волны бьют челом». В следующей строфе «предмет» конкретизируется: взгляд лирического героя из всей массы «морских волн» выхватывает одну, которая уже не просто волна, а «Средиземный вал», правда, «уже безвредный», в последних своих колыхательно-колебательных движениях: «И, забывая век свой бурный, / По пестрой отмели бежит...»
Следующая строка, начинающаяся с союза «но», резко поднимает эмоциональный тон повествования «поведения» Средиземного вала, который вдруг на пути своем встречается с «преградой»: «Но вот преграда – он кипит». Тире, делающее предложение буквально афористичным, вносит дополнительные оттенки в его семантику: в «поступке» Средиземного вала нет каких-либо переходных, подготовительных движений. Он, этот вал, уже «преломленный и лазурный», «забывая век свой бурный, / По пестрой отмели бежит...», «но вот преграда...»
В следующем мгновении своей «жизни» он уже в битве со скалой: «Жемчужной пеною украшен, / Встает на битву со скалой». Последние две строчки – «фокусовая»точка произведения, в которой апофеоз «жизни» этого морского вала:
И, умирающий, все страшен
Всей перейденной глубиной.
Таким образом, в этом стихотворении образ морской волны предстает не только в созерцательно-описательном тоне, но и в интериоризации: волна становится метафорой человеческого духа в «пороговой» ситуации. Образ морской волны – экзистенциален, образ «перейденной глубины» позволяет феноменологическую игру воспринимающего сознания, основа которой – то невыразимое, что определит семантику центральной «фокусовой» точки стихотворения.
Стихотворение «На корабле» (1856 или 1857) начинается с описания эмоциональных ощущений человека, ступившего на корабль и оказавшегося в «стихии чуждой». Эти ощущения – ощущения «пороговой» ситуации, экзистенциально переживаемые:
Летим! Туманною чертою
Земля от глаз моих бежит.
Под непривычною стопою
Вскипая белою грядою,
Стихия чуждая дрожит.
И в унисон со «стихией чуждой» «дрожит и сердце» лирического героя. И «напрасно моря даль светла»... Ощущения «пороговой» ситуации приводят к мысли о безвозвратной потери «родимой земли»: «Душа в тот круг уже вступила, / Куда невидимая сила / Ее неволей унесла». «Невидимая сила» – метафора судьбы, рока, в воле которого человек совершенно безволен.
Заключительная строфа, выписанная в стиле романтизма с образами неземного, трансцендентного, которые и привлекли к себе внимание символистов, например К. Бальмонта, А. Белого, тоже содержит глубинную метафору человеческой жизни.
В стихотворении «Буря» (1854) через архетипический морской комплекс с колыхательно-колебательными движениями («И пена плещет на гранит – / То прянет, то отхлынет прочь») передается состояние бури на море. Мифологические образы «буруна» и «бога морского» олицетворяют морскую силу, представляющую угрозу для человека:
Как будто бог морской сейчас,
Всесилен и неумолим,
Трезубцем пригрозя своим,
Готов воскликнуть: «Вот я вас!»
Через 16 лет пишется стихотворение «После бури» (1870), которое может восприниматься продолжением первого, образуя тем самым своеобразную дилогию, через морской комплекс выписывающую два состояния моря как природный цикл: состояние бури и состояние после бури.
Пронеслась гроза седая,
Разлетевшись по лазури.
Только дышит зыбь морская,
Не опомнится от бури.
Спит, кидаясь, челн убогой,
Как больной от страшной мысли,
Лишь забытые тревогой
Складки паруса обвисли.
Освеженный лес прибрежный
Весь в росе, не шелохнется, –
Час спасенья, яркий, нежный,
Словно плачет и смеется.
Уже первая строка стихотворения (с глаголом «пронеслась», с прилагательным «седая») становится смысловым конструктом, в котором важную роль играет первым стоящий глагол «пронеслась», выражающий действие свершившееся, действие с этого мгновения остающееся в прошлом. Следующие глаголы выражают первые мгновения состояния природы после того, что только свершилось. Именно глагол «пронеслась», благодаря образовавшейся фразеологической единице «пронеслась гроза», расширяет семантику первой строки: она воспринимается не только как вступление к пейзажной зарисовке состояния природы после бури, но, прежде всего, как выражение ментальности человеческого сознания.
Все следующие конструкты с глаголами содержат семантику оживания, возрождения. Так, строка «только дышит зыбь морская» выражает «состояние» морской волны как одно действие из целого ряда возможных действий, «спит, кидаясь, челн убогой» определяет «состояние», в котором сохранена еще память о прошлом действии, в конструкте «складки паруса обвисли» – последствия действия, ушедшего в прошлое, и, наконец, конструкт «освеженный лес... не шелохнется» выражает полное отсутствие какого-либо действия в то первое мгновение, когда «пронеслась гроза». С этого мгновения и начинается «час спасенья, яркий, нежный».
Определяя феноменологию авторского сознания, остановимся на принципе кольцевой композиции стихотворения: как и в первой строфе, фразеологическая единица последней строфы «словно плачет и смеется», содержащая два глагола с выражением двух противоположных действий, отражающих не оппозицию, а бинарность бытия в его предикативности, является выражением ментальности человека, пережившего экстремальные, «пограничные» ситуации.
Адъективная лексика стихотворения, состоящая в основном из контрарных прилагательных, семантизирующихся по принципу «иметь / не иметь N» (В.В. Волков) выражает эмоционально-психологическое состояние человека: «гроза седая», «челн убогой», «как больной от страшной мысли», «освеженный лес», «час нежный». Прилагательное «забытые» («забытые тревогой») с временным отношением, прилагательное с пространственным отношением («лес прибрежный»), а также дополнительное субстантивное определение «леса прибрежного» – «весь в росе» подводят к мажорно звучащему финалу: «Час спасенья, яркий, нежный, / Словно плачет и смеется».
И, наконец, стихотворение весьма любопытно своей метафорической системой, тяготеющей к олицетворению, основанной на антропоморфическом понимании природы, когда природное состояние выписывается «на языке» эмоционально-психологических, физических состояний человека («гроза седая», «дышит зыбь морская», «не опомнится от бури», «спит челн убогой, как больной от страшной мысли», «лес не шелохнется», «час, словно плачет и смеется»). Подобный принцип метафоризации характерен для арабской поэзии [7: 156]. В персидской поэзии суфийский подтекст еще более усложняет метафорическую систему, что можно без труда увидеть на примере творчества Хафиза – поэта любви, в котором образно-понятийная игра имеет двойной уровень по той причине, что персидская поэзия закодировала истину бытия в понятие «любовь». Через язык любви к земной женщине она говорит о любви к Богу, с другой стороны, о земной женщине она сумела сказать, как о богине. Сквозные образы розы, соловья, ветра, жемчуга, родника и др. у Хафиза – метафора любви, близкая к олицетворению. Смысл образно-понятийной игры в авторском сознании Хафиза объясняется универсальным пониманием любви как сути природы. Антропоморфизм в понимании природы как раз и заключается в обожествлении земной женщины, когда она становится сутью природы как таковой в целом.
Природа как мир у Хафиза сужается до пространства двоих, мужчины и женщины:
О, если б улица твоя сделалась тропой,
Я увенчал бы дни свои одним свиданием с тобой!
<...>
В развалинах моей души гнездится по тебе тоска, –
Скитаясь, видно, не нашла она обители иной.
(Перевод С. Липкина)
Пространство любимой становится метафорой любви. Антропоморфическое понимание природы у Хафиза присутствует при описании мира души в диалоге (возможном или состоявшемся) с любимой, который и содержит истину бытия, поскольку мужчина и женщина и есть две сущности Бога.
В цикле «Море» у Фета есть еще три стихотворения («Вчера расстались мы с тобой», «Море и звезды», «Качаяся, звезды мигали лучами...»), в которых образы моря, неба, выраженные через «морскую» стихию, становятся метафорой человеческих чувств, семантизирующихся в контексте основного мотива этих стихотворений – диалога «Я – Ты».
В стихотворении «Вчера расстались мы с тобой» (1864) море в двух его состояниях (когда «морская бездна бушевала» и когда «волна светла») является явной метафорой человеческих чувств в двух ситуациях (расставания и встречи), темпорально определенных через образы «вчера» и «ныне».
Контекст образа «вчера» определяет эмоционально-душевное состояние лирического героя в ситуации, когда «расстались». После резкого, рубленного определения «Я был растерзан» идет образ морской бездны, который является коррелятом сущностного и экзистенциального бытия:
Вчера расстались мы с тобой.
Я был растерзан. – Подо мной
Морская бездна бушевала.
Волна кипела за волной
И, с грохотом о берег мой
Разбившись в брызги, убегала.
Обращает на себя внимание синтаксическое оформление этой части стихотворения. В первых трех предложениях, предельно лапидарных, выражен основной смысл ситуации. Тире между вторым и третьим предложениями и есть знак коррелята между «стихией» человеческой души и стихией моря.
Подчеркнем, что подобное экзистенциальное осмысление образа моря есть и у Хафиза («Ночь темна, свирепы волны, глубока, страшна пучина, – / Там, на берегу, счастливцы знают ли, что тонем в море?»), и у Фета в цикле «Из Гафиза» («Грозные тени ночей, / Ужасы волн и смерчей, – / Кто на покойной земле, / Даже при полном желаньи, / Вас понимать в состояньи?»).
Вторая часть стихотворения, темпорально определенная через образ «ныне», начинается со сравнения души лирического героя с морской волной, которая «светла». В основе поэтизации морской волны лежит принцип антропоморфизма:
А ныне – как моя душа,
Волна светла, – и, чуть дыша,
Легла у ног скалы отвесной...
Таким образом, образ «светлой» морской волны становится метафорой гармонии, любви. В великолепной картине ночного моря с луной образ «светлой» морской волны, «погруженный» в лунный свет, становится олицетворением всего земного и небесного, поскольку земное и небесное и есть две ипостаси божественной сущности:
В ней и земля отражена,
И задрожал весь хор небесный.
В стихотворении «Море и звезды» (1859) гармония как основной смысл его присутствует уже в первой строке: он в событие (в бахтинском определении) лирических героев («мы оба глядели»). Напряжение, имеющееся во второй строке («Под нами скала обрывалася бездной»), снимается романтическим описанием «затихавших волн» и ночного неба.
Обычная для Фета зрительная игра с пространством, в которой море и небо – явления одной стихии, приводит к символическому образу трансцендентного «края родного» – образу, буквально, символистскому, характерному для А. Белого, А. Блока:
Любуясь раздольем движенья двойного,
Мечта позабыла мертвящую сушу,
И с моря ночного и с неба ночного,
Как будто из дальнего края родного,
Целебною силою веяло в душу.
Морская стихия своими колыхательно-колебательными движениями «затихавших волн» оказывает успокаивающее, убаюкивающее воздействие, стилистически выраженное повторяющимся «как будто»:
Всю злобу земную, гнетущую, вскоре,
По-своему каждый, мы оба забыли,
Как будто меня убаюкало море,
Как будто твое утолилося горе,
Как будто бы звезды тебя победили.
Известно, что мир в картине мира художника выступает в то же время образом самого субъекта. Как свидетельствует вышеприведенный анализ стихотворений, художественная картина Фета как мироздание не является картиной в западном смысле этого слова, когда художник «пишет картину с позиций наблюдателя, что сообщает картине прямую (линейную) перспективность изображения, масштабность относительно положения рисовальщика, обуславливает видимость или невидимость предметов» [3: 101]. Художественная картина Фета – это не антропоцентрически выстроенный мир, характерный западному художнику, а мир сам по себе, со «встроенностью» в него субъекта восприятия, что является свойством восточного художника. Художественная картина мира Фета как картина мироздания – это мимолетное и зыбкое мгновение, схваченное как представление, восприятие мира. Мгновение у Фета – внутренне проявившийся момент сущности, в котором прозрение мироздания, в нем – «процесс» «встроенности» субъекта восприятия как необходимое условие при создании картины мира. Не случайно, фетоведы говорят о стремлении поэта «запечатлеть вечность в одном мгновении» через создание поэтом видения макрокосмоса через микрокосмос [8: 36].
Мгновение как внутренне проявившийся момент сущности – это дар художника, дающий ему свободу творчества. В этом даре – способность в мгновение представить свой творческий замысел как целое, прозреть его. (По Гартману, целое дается гениальному замыслу в мгновение [9: 92].)
Белый называет мгновением «временную форму индивидуального содержания» («индивидуальное содержание» поэта – это его творчество). Мгновение, по Белому, не предел делимости времени, а «совокупность моментов, объединенных индивидуальным единством содержания; это единство протекает перед нами как замкнутый сам в себе мир; погружение в этот мир есть процесс переживания; пережить мгновение – пережить индивидуальный процесс как процесс, замкнутый со всех сторон <...>» [9: 60]. Чрезвычайно важным для нас является определение Белым символа как исходного образа в тех структурно-семантических отношениях, которые позже были названы как синтагматические, парадигматические. Он пишет: «Символы определяли мы со стороны метафизики как единство форм и их содержаний; символическое содержание, являя нам разнообразие единого (линейное развертывание образа в парадигматических его определениях. – А.С.), находится в противоречии с содержаниями имманентной действительности; эта последняя является новой в каждом индивидуальном комплексе (смысловые, синтагматические определения. – А.С.); мир с этой точки зрения есть собрание индивидуальностей» [9: 60].
ЛИТЕРАТУРА
1. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993.
2. Смирнов А.В. Великий шейх суфизма. Опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби. М., 1993.
3. Мамонова М.А. Запад и Восток. Традиции и новации рациональности мышления. М., 1991.
4. Степанянц М.Т. Суфизм: оппонент или союзник рационализма // Рационалистическая традиция и современность. Ближний и Средний Восток. М., 1990. С. 193–205.
5. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / Пер. А. Фета. СПб., 1844.
6. Шпенглер О. Закат Европы: в 2 т. Т. 1. М., 1993.
7. Шидфар Б.Я. Образная система арабской классической литературы. М., 1974.
8. Шеншина В.А. А.А. Фет как метафизический поэт // А.А. Фет. Поэт и мыслитель: сб. науч. тр. М., 1999.
9. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
Стихотворение-поэма «Соловей и роза»: парадокс любви как основная форма человеческого существования
Стихотворение-поэма «Соловей и роза» (1847, 1848) из цикла «Подражание восточному» представляется нам интересным в плане концептуального осмысления художественно-философской системы поэта. Это стихотворение может стать ключом к осмыслению всей духовной биографии Фета. Фетовед В.Н. Касаткина, имея в виду включение этого стихотворения в «Вечерние огни», называет его «обширным стихотворением, объединившим 40-е и 80-е годы» [1: 77]. Мы же хотим расширить смысловое содержание этого высказывания: произведение дает возможность целостного осмысления многих художественно-эстетических особенностей творчества поэта, оно объединяет то, с чего начал Фет свое творчество, с тем, к чему пришел в конце творчества.
В стихотворении использован парный восточный образ соловья и розы, через который выписан диалог – «Он» и «Она». Местоимения «Он» и «Она» очеловечивают созданный диалог, придают ему характер рассуждений о любви, жизни, вечной дисгармонии в ней.
Если в стихотворениях «О, если бы озером был я ночным...» (цикл «Из Гафиза»), «Восточный мотив» (цикл «Подражание восточному») Фет, используя принцип двучленного параллелизма, выстраивает парадигматический ряд парных образов, свидетельствующих о гармонии, полноте бытия, то в данном стихотворении, при наличии как идеального содержания, так и идеальной формы любви (любовь соловья и розы), гармонии, полноты бытия нет. В этом парадокс любви как основной формы человеческого существования, который заложен в сути самой природы.
Построчный анализ стихотворения дает интересные наблюдения. Смысловая, философская нагрузка произведения возложена на лирического субъекта, рассуждения которого о пантеистически представляемом «саде мироздания» предваряют диалог между «Он» и «Она»:
Небес и земли повелитель,
Творец плодотворного мира
Дал счастье, дал радость всей твари
Цветущих долин Кашемира.
И равны все звенья пред Вечным
В цепи непрерывной творенья,
И жизненным трепетом общим
Исполнены чудные звенья.
Эта часть стихотворения в смысловом своем содержании перекликается со стихотворением «О, если бы озером был я ночным...» – она о полноте, гармонии мира «Творца плодотворного». Философская мысль этой части – в интенции «Творец плодотворного мира / Дал счастье, дал радость всей твари...» Однако появившийся в третьей строфе образ «дрожащей бездны», определяющий суть мироздания («дыханье полудня и ночи»), исподволь в контекст гармонии вводит мотив не просто восторга, но восторженного ужаса, страха:
Такая дрожащая бездна
В дыханьи полудня и ночи
Что ангелы в страхе закрыли
Крылами звездистые очи.
Следующая часть стихотворения, начинающаяся с противительного союза «но», представляет собой описание любви соловья и розы, которые там же, «в саду мирозданья, где радость и счастье – привычка», но они «забыты, отвергнуты счастьем...» Выписывается своебразная философия «Но», философия закономерности абсурда, через которую только и возможно осмысление мира «Творца плодотворного». Соловей и роза вопреки всеобщему закону не равны «пред Вечным / В цепи непрерывной закона»:
И любят друг друга, – но счастья –
Ни в утренний час, ни в вечерний.
В следующей строфе («И по небу веки проходят, / Как волны безбрежного моря, / Никто не узнает их страсти, / Никто не увидит их горя») метафорическое выражение вечности как бы закрепляет утверждение, высказанное выше.
Диалог «Он – Она» – свидетельство дисгармонии отношений:
Ты поешь, когда дремлю я,
Я цвету, когда ты спишь;
Я горю без поцелуя,
Без ответа ты грустишь.
Следующий фрагмент произведения:
Я дремлю, но слышит
Роза соловья;
Ветерок колышет
Сонную меня.
Звуки остаются
Все в моих листках;
Слышу, – а проснуться
Не могу никак.
Заревые слезы,
Наклоняясь, лью.
Пой у сонной розы
Про любовь мою!
Все стихотворение проникнуто чувством трагической неизбежности дисгармонии как абсурдного закона бытия, которая и определяет характер диалога.
Эстетически воспринятый парный образ соловья и розы, олицетворяющий идею гармонии-красоты как одухотворение природы, всего мира, содержит одновременно и чувство трагической неизбежности дисгармонии. Эмоциональное воздействие этого образа – освобождение человека от неизбежного страдания, мучительного опыта жизни, приближение к опыту экзистенциального прозрения: гармония-красота мимолетна, слишком хрупка, мысль о трагической неизбежности дисгармонии выверяется чувством красоты, гармонии. В то же время ясно, что одна красота есть смысл жизни. Во всем этом Фет близок к Шопенгауэру.
В контексте сказанного любопытно рассмотреть стиховую форму этого произведения. Ощущению дисгармонии, несоответствия способствует размер стихотворения – сочетание амфибрахия с хореем и ямбом, амфибрахия с анакрузой, сочетание длинных строк с короткими. Ритмический «сбой» художественно оправдан, в диалогах «Он – Она» мы буквально физически ощущаем эту дисгармонию отношений.
Рассмотрим стиховую форму этого произведения. Первая часть, в которой даются ключевые определения-сентенции «плодотворного мира», философия «Но», когда по логике вещей должно быть одно, но жизнь преподносит другое, написана трехстопным амфибрахием, с нерифмующимися первыми и третьими строками, зато рифмующимися вторыми и четвертыми. Ритмический рисунок этой части, образованный трехстопным амфибрахием с женской клаузулой, способствует выражению эмоционального тона рассуждений, философствования.
Первая часть первого диалога «Он – Она» состоит из шести строк, написана четырехстопным хореем. Третий и шестой стихи усеченные, создают мужскую клаузулу. Вторая часть тоже состоит из шести строк, четыре строки (первая, вторая, четвертая, пятая) написаны четырехстопным хореем, а две строки (третья и шестая) – короткие, усеченные, их размер – трехстопный хорей с мужской клаузулой, тогда как остальные стихи имеют женскую клаузулу.
Вот первая часть диалога:
Он
Рая вечного изгнанник,
Вешний гость я, певчий странник;
Мне чужие здесь цветы;
Страшны искры мне мороза.
Друг мой, роза, дева-роза,
Я б не пел, когда б не ты.
Она
Полночь – мать моя родная,
Незаметно расцвела я
На заре весны;
Для тебя ж у бедной розы
Аромат, краса и слезы,
Заревые сны.
Первая часть второго диалога состоит из двух строф-четверостиший, написана пятистопным ямбом с рифмующимися первыми и третьими строками с женской клаузулой, вторыми и четвертыми с мужской клаузулой. Пятистопный ямб с дополнительной внутренней рифмой придает стихам напевность, мелодичность. Если в первом диалоге Он, как бы характеризуя себя («вешний гость я, певчий странник»), представляет себя «другу» своему, «деве-розе», то во втором диалоге его обращение к «деве-розе» – выражение чувств влюбленного сердца:
Он
Ты так нежна, как утренние розы,
Что пред зарей несет земле восток;
Ты так светла, что поневоле слезы
Туманят мне внимательный зрачок;
Ты так чиста, что помыслы земные
Невольно мрут в груди перед тобой;
Ты так свята, что ангелы святые
Зовут тебя их смертною сестрой.
Вторая часть диалога состоит из двух четверостиший, написанных четырехстопным хореем, с рифмующимися первыми и третьими, вторыми и четвертыми строками, женская клаузула чередуется с мужской. В этой части выстраивается антитеза «Ты – Я»: «Ты поешь, когда дремлю я, / Я цвету, когда ты спишь; / Я горю без поцелуя; / Без ответа ты грустишь», смысловое ее содержание – дисгармония. Второе четверостишие, начинающееся с «но», придает дополнительную семантику парному образу: вопреки всему – желание гармонии, любви: «Но ни грусти, ни мученья / Ты обманом не зови: / Где же песни без стремленья? / Где же юность без любви?»
Первая часть третьего диалога состоит из двух четверостиший. Как и во второй части первого диалога, в ней – сочетание четырехстопного хорея с трехстопным с короткими, усеченными вторыми и четвертыми строками, с мужской клаузулой. В этой части – обращение соловья к «деве-розе», по которому можно судить о главной формуле-тезе жизни «Я – Ты» («дева-роза» – соловей), которая и должна формировать мир отношений.
Вторая часть третьего диалога – пространный, пятистрофный монолог «девы-розы». Вся часть написана трехстопным амфибрахием, причем с анакрузой в каждой строке: «за», «но», «на», «что» – в первой строфе, «за», «го», «ве», «не» – во второй и т.д. Анакруза затрудняет ритм стиха, который художественно оправдан, соответствует авторскому замыслу: создается эффект неторопливого, «полусонного» повествования. Анакруза, тем самым, становится средством художественного, эмоционального воздействия на читателя. «Дева-роза» как бы укачивает своего возлюбленного, сторожит его сон, а перед тем как заснуть самой, будит своего возлюбленного:
Зацелую тебя, закачаю,
Но боюсь над тобой задремать:
На заре лишь уснешь ты; я знаю,
Что всю ночь будешь петь ты опять.
Закрываются милые очи,
Голова у меня на груди.
Ветер, ветер с суровой полночи,
Не тревожь его сна, не буди.
Я сама притаила дыханье,
Только вежды закрыл ему сон,
И над спящим склоняюсь в молчаньи:
Все боюсь, не проснулся бы он.
Ветер, ветер лукавый, поди ты,
Я умею сама целовать;
Я устами коснуся ланиты,
И мой милый проснется опять.
Просыпайся ж! Заря потухает;
Для певца золотая пора.
Дева-роза тихонько вздыхает,
Отпуская тебя до утра.
Последний диалог «Он – Она» – тоже «нестройный», прежде всего в своих частях: в первой части (голос соловья) чередуются четырехстопный хорей с трехстопным, вторые и четвертые стихи в каждой строфе усеченные (трехстопный хорей) с мужской клаузулой, размер следующей части (голос «девы-розы») – трехстопный хорей, вторые и четвертые стихи усеченные с мужской клаузулой. И здесь ритмический «сбой» художественно оправдан: он передает диссонанс форм «бытия» «девы-розы» и соловья и ассонанс их чувств.
Заключительные слова «девы-розы»: «Заревые слезы, / Наклоняясь, лью. / Пой у сонной розы / Про любовь мою!» – свидетельство взаимности чувств.
Ритмический «сбой» последней части произведения (четыре строфы) оправдан заключительными рассуждениями автора о дихотомии «соловей – роза»:
И во сне только любит и любит,
И от счастья плачет и спит!
Эти песни она приголубит,
Если эхо о них промолчит.
Эти песни земле рассказали
Все, что розе приснилось во сне,
И глубоко, глубоко запали
Ей в румяное сердце оне.
И в ночи под землею коренья
Влагу ночи сосут да сосут,
А у розы росой умиленья
Бриллиантами слезы текут.
Отчего ж под навесом прохлады
Раздается так голос певца?
Роза! Песни не знают преграды:
Без конца твои сны, без конца!
Первая строфа состоит из двух стихов с четырехстопным хореем и двух – с пятистопным, последний стих усеченный, создает мужскую клаузулу, первый стих с женской клаузулой.
Вторая строфа состоит из двух стихов с пятистопным хореем, с женской и мужской клаузулами, и двух – с трехстопным амфибрахием, с анакрузами «и», «ей», последний стих усеченный, создает мужскую клаузулу.
В третьей строфе первый стих – трехстопный амфибрахий с анакрузой «и», с женской клаузулой; второй стих – пятистопный хорей, усеченный, следовательно, с мужской клаузулой; третий стих – трехстопный амфибрахий с анакрузой «а», четвертый стих – опять трехстопный амфибрахий, усеченный, мужская клаузула.
И, наконец, четвертый стих состоит из двух стихов с трехстопным амфибрахием, с анакрузами «от», «раз», второй стих усеченный, мужская клаузула, и двух стихов с пятистопным хореем, четвертый стих усеченный, мужская клаузула.
Кроме общего анализа эмоционального, идейно-художественного содержания произведения представляется интересным более внимательно рассмотреть семантическую парадигму дихотомии «соловей – роза», через которую можно представить всю духовную биографию поэта.
Парный образ «соловей – роза», как мы говорили, создает мотив любви, гармонии и дисгармонии в ней. Фет – поэт любви. Традиционно его любовную лирику связывают с его биографией. С одной стороны, это естественно. Вместе с тем биография и творчество – это разные понятия, хотя рассмотрение некоторых фактов биографии поэта и того, что такое его художественное слово на фоне этих фактов, и дает возможность постижения более глубинного смысла этой дихотомии. При этом, естественно, надо помнить о том, что герой-человек может совпадать с автором-человеком, но герой произведения никогда не может совпадать с автором-творцом его, поскольку, автор и герой находятся в эстетической деятельности, в эстетическом «событии», диалоге [2: 82]. Вместе с тем, как пишет Бахтин, «человек есть условие возможности какого бы то ни было эстетического видения, все равно, находит ли оно себе определенное воплощение в законченном художественном произведении или нет, только в этом последнем появляется определенный герой<...>» [2: 86].
Фетоведы пишут о беззаветной любви Марии Лазич к Фету и о том, что любовь молодого Фета отступила перед прозаическим расчетом. Б.Я. Бухштаб своим риторическим вопросом «Не был ли Фет вообще способен только на такую любовь, которая тревожит воображение и, сублимируясь, изживает себя в творчестве?» говорит о том, что биографический факт – толчок к творчеству [3: 29].
Роман Фета с Марией Лазич кончился разлукой, за которой вскоре последовала смерть возлюбленной. Б.Я. Бухштаб совершенно справедливо пишет: «Воспоминание об этом трагическом романе во всю жизнь не утратило для Фета своей остроты, и ряд замечательных стихотворений связан с этим воспоминанием» [3: 30]. Мария Лазич стала для Фета-поэта, если воспользоваться определением Бахтина, тем «условием возможности эстетического видения», которое способствовало рождению его героя, вернее, его вечной героини.
Обратим внимание на то, что многие современники поэта, вслед за ними биографы и исследователи творчества Фета, приводят слова поэта о равнодушии. Так, тот же Бухштаб цитирует письмо А. Фета к И.П. Борисову, в котором дается трезвое, земное обоснование своему отказу жениться на Марии Лазич. Слова: «Давно подозревал я в себе равнодушие, а недавно чуть ли не убедился, что я более чем равнодушен» – на первый взгляд имеют отношение к событию женитьбы, на самом же деле они – свидетельство творческой натуры, для которой Мария Лазич, став героиней лирики Фета, дается в реакции автора на нее; автор интонирует многие черты своей героини, в этом смысле можно говорить о сублимации, изживании себя в творчестве, поскольку, чтобы создать образ, нужно сначала вжиться в чувства, мысли того, кто будет героем, а потом войти в отношения, как говорил Бахтин, «вненаходимости автора всем моментам героя, пространственной, временной, ценностной и смысловой вненаходимости, позволяющей собрать своего героя, который изнутри себя самого рассеян и разбросан <...>, собрать его и его жизнь и восполнить до целого теми моментами, которые ему самому в нем самом недоступны <...>» [3: 98].
Так вот, то состояние Фета, о котором говорили как о равнодушии, и есть настраивание творческой натуры на авторскую вненаходимость, которая трансформировала Марию Лазич в героиню лирики поэта.
Понятие «равнодушие», нам думается, может быть использовано и при осмыслении глубинного подтекста дихотомии «соловей – роза», а через нее – всей любовной лирики поэта. В данном случае мы говорим о духовной сущности Фета-поэта, выраженной, как и у Хафиза, через образ соловья.
Н.Н. Скатов приводит высказывание Ап. Григорьева, в котором дается определение всего духовного эмоционального строя Фета: «С способностью творения росло в нем равнодушие. Равнодушие ко всему, кроме способности творить, – к божьему миру, коль скоро предметы оного переставали отражаться в его творческой способности, к самому себе, как скоро он переставал быть художником. Так сознал и так принял этот человек свое назначение в жизни...» [4: 157].
Вот это равнодушие ко всему, кроме способности творить, т.е. отказ от всякого сущностного отношения к чему бы то ни было другому – к миру ли, к индивиду, возникает из сущностного отказа от всего сущего, кроме самого Высшего (Абсолюта) и самого «Я». «Я» как самость, связанная с другой самостью, составляет противоположность, т.е. союз, и созидает форму во плоти социальной жизни. При таком союзе не может быть сущностного отношения ни к «Я», ни к другой самости. Как пишет М. Бубер, которого занимала проблема диалога, бытия «Я – Ты», сущностное отношение к другой самости имеет лишь тот человек, который стал одиночкой, т.е. самостью, действительной личностью, и что это сущностное отношение не ниже, но выше проблематики связи человека с человеком [5: 207].
По мнению М. Бубера, подлинная и достаточная самость зажигает искру самобытия всюду. Искра самобытия Фета зажглась в его любовной лирике, она стала для него образцом завершенного отношения его «Я» к своей самости, поскольку в ней его душа, вполне довольствующаяся общением с самой собой. Для него его слово – свидетельство души, которая, пребывая наедине с собой, помышляет о «Ты» как тождественной своей душе, своей самости; мир бытия его «Ты» тождественно бытию его «Я». За диалогом «Я – Ты» – субъектный синкретизм, или нарасчлененность автора и героя. У Фета дихотомия «Я – Ты» – это непосредственное отношение сущности к сущности, в котором разрушается человеческая замкнутость и прорываются границы самобытия. Об отказе сущностного отношения к чему бы то ни было другому, о сущностном отношении к «Ты», равном сущностному отношению к Богу пишет М. Бубер, анализируя понятие «сущностное отношение» у Кьеркегора.
Таким образом, отношение к «Ты» (возлюбленной) у Фета становится совершенным сущностным отношением к другой самости, поскольку в нем отсутствует сущностное отношение к индивиду (Марии Лазич). Остается сущностное отношение к «Ты», равное сущностному отношению к Богу. Для Фета каждый акт творчества – внутренне проявившийся момент сущности.
В основе философии суфизма, которая во многом определила словесное творчество Востока, лежит понятие о том, что источник Истины – сам человек. Так, основой суфийской темы «путешествие» является понятие «я» («ман»). Состояния «ман» человек достигает, «путешествуя» в себя («сафар андар ход»). «Путешествие» в себя – это «путешествие» одиночки в свою самость, благодаря которому и постигается сущностное отношение к «ман». На вопрос: «Что такое ман?» – адепт суфизма Шабистари, как пишет востоковед И. Павлова, дает три его определения: 1) абсолютное бытие, 2) проявившаяся суть бытия, 3) определившаяся истина [6: 127].
В газели, основном поэтическом жанре персидской литературы, основными мотивами всегда были любовь, вино, красота, которые восходят к суфийскому мистическому толкованию. Суфизм способствовал рождению в литературе системы символических образов, которые связаны с переживаниями суфия, ищущего Истины, стремящегося к постижению и слиянию с ней.
Шопенгауэр, изучив мистические учения мира, приходит к выводу, что не только религия Востока, но и подлинное христианство имеет тот основной аскетический характер, который его философия истолковывает как отрицание воли к жизни [7: 163]. Таким образом, сущностное постижение «Я» («ман») в суфийской философии, если воспользоваться определением Шопенгауэра, содержит квиетизм – отречение от всех желаний, аскезу – намеренное умерщвление собственной воли, и мистицизм – сознание тождества нашего собственного существа с существом всех вещей или с ядром мира. Все эти три момента, по мнению философа, находятся между собою в самой тесной связи, так что те, кто исповедует какой-нибудь один из них, постепенно склоняются к исповеданию и остальных, даже помимо собственного желания» [7: 160]. Высказывание Шопенгауэра о том, что писатели, исповедующие это учение, несмотря на различие стран, эпох и религий, вполне согласны друг с другом, и что «эта солидарность сопровождается незыблемой уверенностью и сердечным доверием, с каким они раскрывают содержание внутреннего опыта» [7: 160]. Определение может стать базовым и при обнаружении схожих черт в философских суждениях Фета и Хафиза – с одной стороны, Фета, Хафиза, Бубера и самого Шопенгауэра – с другой.
Принципиально значимым в свете нашего толкования стихотворения-поэмы является мотив сна, сновидений в контексте мотива любви соловья и розы, фетовская интерпретация которого во многом восходит к хафизовской, о чем говорит само название цикла – «Подражание восточному».
Если следовать философии того же Шопенгауэра, то смерти в природе нет, поскольку воля к жизни «являет себя в бесконечном настоящем» [7: 99]. Следовательно, смерть в природе все равно, что сон для индивидуума. Или, что то же самое, сон индивидуума – маленькая смерть, т.е. отрицание воли к жизни. Отрицание воли к жизни – это и есть отказ от всего бытийного, когда всякое сущностное жизненное отношение достигает завершения, когда сущностное «Я» («ман») завершило «путешествие» к Истине-Богу.
Таким образом, мотив сна (сон – это подсознание человека), реализованный через парный образ соловья и розы, выражает сущностное «Я» личности, которая сознательно отказывается от всякого сущностного жизненного отношения к бытийному. Такого рода сущностное «Я», выраженное у Фета через образ соловья, определяет образ розы в восприятии соловья: «Ты так чиста, что помыслы земные / Невольно мрут в груди перед тобой...» Образ розы как выражение красоты, любви, что является синонимом жизни, данный в восприятии соловья как нечто выше «помыслов земных», свидетельствует об идеалах соловья, его представлениях о мироздании, о том как раз, что они выше сущностного жизненного отношения к бытийному.
Определим еще один сквозной мотив произведения, который обнаруживается в контексте восприятия «сада мирозданья» как дисгармонии («...в саду мирозданья, / Где радость и счастье – привычка, / Забыты, отвергнуты счастьем / Кустарник и серая птичка») – это мотив страдания по причине ощущения диссонанса отношений: «Ты поешь, когда дремлю я, / Я цвету, когда ты спишь; / Я горю без поцелуя, / Без ответа ты грустишь». Страдание, по Шопенгауэру, отвращает волю к жизни. Однако это отвращение воли к жизни, как мы говорили выше, является неизбежным условием проявления сущностного «Я», необходимого для постижения Красоты, Истины мирового бытия, Любви-жизни. Такого рода страдание и определяет у Фета отношение соловья к розе.
«Соловей любит розу» – весьма древний поэтический образ Востока. Этот образ приобрел устойчивый характер в мотивах (ма’ани) классической поэзии, арабской, затем персидской. Как правило, вокруг каждой из тематических частей касыды группировались определенные мотивы (ма’ани). Любовь соловья к розе для выражения различных состояний человеческой души становится распространенным мотивом в восточной поэзии. Разные поэты сочиняли бейты на один и тот же поэтический мотив «соловей – роза».
При интерпретации образа «соловей – роза» у Фета представляется интересным в контексте сказанного обращение к исследованию А.Е. Бертельса «Художественный образ в искусстве Ирана IX–XV вв.». В одной из глав он рассматривает мифологемы, связанные с некоторыми реальными свойствами птиц, а также традиции метафорического использования описаний свойств и образов птиц для изображения различных состояний души в текстах на персидском языке, относящихся к X–XV вв.
Как пишет А.Е. Бертельс, в поэме Аттара (ум. ок. 1229 г.) «Мантик ат-тайр» («Язык птиц», возможен и другой перевод – «Разговоры птиц») мифологемы, связанные с реальными свойствами птиц, служат метафорами, изображающими различные типы мистического богопознания [8: 120].
Сюжет поэмы следующий: птицы (числом условно тридцать, хотя поэт говорит только о 12) собираются, чтобы избрать или найти себе царя. Удод – согласно Корану (XXVII, 20–26), посланец Сулаймана, мудрец – говорит, что царь птиц, которого зовут Симург, существует и пребывает за мифической «горой Каф». Птицы охвачены стремлением найти Симурга, однако опасаются трудностей пути к нему. Далее, как пишет Бертельс, «следует перечисление “свойств” птиц, определяющих метафорическую “ценность” каждой птицы в структуре поэмы. В этом перечислении переплетаются реальные и фантастические, аллегорические черты птиц. Соловей – “любит розу” (весьма древний поэтический образ), у попугая – зеленые перья, делающие его подобным пророку мусульманской традиции, бессмертному Хызру, носящему зеленые одежды, утка не может обходиться без воды, охотничий сокол сидит обычно на руке царя, сова живет в развалинах, воробей очень слаб и не вынесет тягот пути. Можно заметить, что удод здесь вестник, “посланец царя Сулаймана”, очевидно, потому, что он на самом деле (“орнитологически”) летает быстрее почти всех птиц, соловьи, питающиеся червями, часто вьют гнезда в садах, где есть вскопанная земля (и розы), попугай живет очень долго и покрыт ярко-зелеными перьями (“как Хызр”), утка – действительно водяная птица, воробей – действительно слаб, плохо летает и т.п.» [8: 121].
Птицы Аттара, излагает А.Е. Бертельс ход религиозного мышления автора, – «прежде всего персонификации свойств и состояний души. Когда они проходят “семь долин” (семь стадий духовного совершенствования) и прибывают во дворец Симурга, им не удается его увидеть, ибо Симург – лишь символ божества, подобного зеркалу. Птиц явилось во дворец тридцать (си мург – по-персидски – «тридцать птиц»), и потому божество представилось им в одном зеркале как их собственное общее единственное отражение, а ранее мыслилась как одна таинственная птица Симург <...>» [8: 122]. Для сравнения можно привести схожее решение проблемы «общее-частное» в арабской мысли на примере философии Ибн Араби, у которого частное понимается не как видовое, детализирующее и конкретизирующее общеродовое, а как слепок с общего образца [9: 132].
Гора и птица – символы древнего духовного мира. Гигантская сказочная птица Симург, обитающая на дальней горе Каф, «окружающей землю» (или обитающая за ней, «по ту сторону горы»), – одно из общих мест персидской поэзии. Как отмечает А.Е. Бертельс, в этот сложный символ-метафору, по традиции, может вкладываться различный смысл, от внешне простого философского «ничто» (метафора небытия), до сложнейших категорий суфийской метафизики [8: 187].
А.Е. Бертельс приводит несколько дефиниций символа-метафоры и поэтических примеров, ее содержащих, взятых из специального издания.
Первая философская дефиниция такова:
«“Симургом” назвали Единую Абсолютную Суть [Божества], а “Горой Каф” [назвали] истинную сущность (“хакикат”) человечности, ибо она [“Гора”], есть полное проявление этой истинной сущности, и Истинный [Бог] весь в ней явлен и явен, в совокупности [Его] имен и атрибутов. А те, кто говорят, что “Гора Каф” ввиду ее огромной величины располагается вокруг мира (‘алам) и окружает мир в плане истинной сущности (хакикат) человека, то этот сокровенный смысл ясен, ибо истинная сущность [человека] охватывает все истинные сущности мира» [8: 187].
В данной дефиниции изложено распространенное в исламе Востока учение о макрокосме и микрокосме. «Птица Симург» может служить в этой дефиниции символом абстракции Абсолюта в макрокосме, а «гора Каф» – символом проявления, или эманации, Божественности в микрокосме. Суфий истолковывает «гору Каф» как символ «совокупного бытия», т.е. «тела и души вместе» путника, т.е. суфия, идущего по пути духовного совершенствования. Такое понимание иллюстрируется в источнике, который цитирует А.Е. Бертельс, бейтом из «Диван-и Шамс-и Табриз» Джалал ад-Дина Руми.
В иллюстрация бейта из «Маснави-йи ма’нави» Джалал ад-Дина Руми «гора Каф» метафорически обозначает «сердце» как центр самой возвышенной духовной деятельности, любви к Богу.
«Гора Каф» может также символизировать царственность, божественную власть, что подтверждается бейтами Хафиза [8: 188– 189].
Таким образом, «гора Каф», являющаяся аллегорией истинной сущности (хакикат) человека, а через него – всех истинных сущностей мира, является синонимом Любви к Божественному. Образ розы в восточной поэзии не просто символ красоты, роза – символ этой Любви, Царица, поскольку у истоков мирового бытия, сотворенного Божеством, обнаруживается ее прообраз. Как «Симург и гора Каф» у шейха Махмуд Шабистари в его суфийском произведении «Гулшан-и раз» (Цветник тайны») являются важнейшими в концепции пути, путешествия в себя (сафар андар ход), целью которого является достижение некоего пункта, обозначенного «я» – «ман», так у Хафиза парный образ «соловей – роза» в мистико-эротическом плане тоже говорит о путешествии в себя, достижении «я» – «ман». Возлюбленная символизирует Абсолют, а свидание с ней – обретение «ман», что равноценно полному слиянию с Богом, уподоблению абсолютной Истине (мистический суфийский термин «фана’»).
В контексте представленных восточных образов любопытно рассмотреть стихотворение Фета «Не дивись, что я черна...» из того же цикла «Подражание восточному», содержание которого принято характеризовать как эротическое.
Мы знаем, что восточная мистическая философская лирика использует богатейший арсенал любовной лирики. Аллегорическая семантика образа открывается только «посвященному», когда любовное стихотворение на самом деле является описанием экстатического единения с высшей истиной. Причем единение с высшей истиной происходит с помощью восхождения («пути»).
Названное стихотворение Фета содержит образы философской мистической поэзии Хафиза: возлюбленная – «опаленная лучами», она – «роза гор», влюбленный – красой возлюбленной «ужален», путь любимой к любимому – «незаметные пути».
Возлюбленная у Фета – не просто роза, она – «роза гор». Аллегорический смысл образа горы («гора Каф») в иранской мистической теософии и персидской поэзии, как рассмотрел А.Е. Бертельс, в том, что она, («Гора»), есть полное проявление истинной сущности («хакикат»), и Истинный (Бог) весь в ней явлен и явен. Таким образом, «гора Каф» является символом проявления, или эманации, Божественности в микрокосме, причем поскольку человек есть малый мир, в нем заключены все сущности большого мира – вселенной [8: 187–188].
Аллегория метафоры «птица Симург за горой Каф» дает возможность истолковать «гору Каф» как символ «совокупного бытия» (хасти, вуджуд, т.е. «тела и души вместе») «путника» (салик), т.е. суфия, идущего по пути духовного совершенствования [8: 188].
Смеем представить, что сказанное позволяет говорить о присутствии в метафорах стихотворения Фета аллегорической семантики в скрытом виде, которая во многом восходит к суфийской поэзии Хафиза.
«Роза гор» у Фета в прямом, или «внешнем», понимании – метафора любимой, которая придет к любимому в ночи «незаметными путями». Однако знание аллегорической символики восточной поэзии (арабской, персидской) позволит расширить интерпретацию этого и других названных образов произведения.
«Роза гор» как выражение истинной сущности мира является выражением Любви–Жизни–Женственности:
Розой гор меня зови;
Ты красой моей ужален,
И цвету я для любви,
Для твоих опочивален.
«Ужаленный» красой «розы гор» у Фета подобен влюбленному из суфийской поэзии, жаждущему экстатического единения с высшей истиной, что открывает ему смысл всего мироздания: «Целый мир пахнул весной...»
Образ женской груди («Я приду к тебе в ночи / Незаметными путями; / Отопрись – и опочий / У меня между грудями»), если следовать логике интерпретации образа «розы гор», может восприниматься метафорой с аллегорической семантикой, которую можно истолковать так: в ней – женской груди – частица Божества, она, как символическая «гора Каф», окружающая вселенную, является центром мироздания, в ней истинная сущность мира, о ней можно сказать так, как о «горе Каф» сказали: «Истинный [Бог] весь в ней явлен и явен» [8: 187]. Не случайно в строфе присутствует образ пути («незаметными путями»), который тоже можно воспринимать как метафорическую аллегорию пути к истине мироздания: она в Любви–Жизни–Женственности. Деталь в портретной характеристике восточной красавицы («Не дивись, что я черна, / Опаленная лучами...») – может стать еще одним образом-аллегорией «божественного света».
Таким образом, стихотворение Фета «Не дивись, что я черна...» должно восприниматься не только как стихотворение, в котором страстно-чувственный колорит создает образ женской чувственности, что является внешним слоем произведения, в нем – выражение высокого смысла мироздания, жизни.
Заметим, что подобная интерпретация стихотворения Фета в определенной мере противоречит осмыслению семантики его образной системы фетоведом К.И. Шарафадиной, которая в этом стихотворении видит «не столько развитие персидских мотивов, сколько парафраз ветхозаветной “Песни Песней” – “самой ароматичной и тайной поэмы во всемирной литературе” (В.В. Розанов)» [10: 36].
С утверждением, что каждому из стихов Фета можно найти «буквальное соответствие в первоисточнике», т.е. в «Песни Песней», можно согласиться в той мере, что «Песнь Песней», как и восточная философская поэзия, аллегорична, и в своем прямом, или «внешнем», понимании является эротичной. Отсюда неслучайно и определение этого явления культуры русским Фрейдом – В.В. Розановым. Однако исследователь вынуждена признать одно несоответствие, которое в концепции нашего толкования стихотворения становится ключевым: речь идет о центральном образе произведения – «розе гор». Этим несоответствием является присутствие образа «роза гор» у Фета и отсутствие его в «Песни Песней». К.И. Шарафадина, проанализировав мир флористики в «Песни Песней», признает: «...в канонических книгах этого образа нет, другие ветхозаветные упоминания этого цветка также единичны, а коннотации мистически отвлеченны» [10: 36]. Именно образ «роза гор», являющийся ключевым, «ведет» нас к толкованию стихотворения в контексте философско-художественной системы Востока.
Если вернуться к стихотворению-поэме Фета «Соловей и роза», то есть смысл рассмотреть его в сравнительно-сопоставительном плане с одной-двумя газелями Хафиза, в которых присутствуют образы соловья и розы.
Образы соловья и розы у Хафиза входят, во-первых, в сложнейший сплав традиционных образов любовной лирики с философскими аллегориями (если говорить о суфийской поэзии, то аллегорическая семантика определяется целым рядом символических образов, часто парных, которые становятся «штампами» в выражении тех или иных философских мыслей), а также эти образы определяют традиционные темы, где аллегория не является господствующей или присутствует в скрытом виде, вследствие чего стихотворения могут быть поняты двояко.
В газели Хафиза «Я вышел на заре...» есть лирический герой, который дан в предикативности к миру (пространственное определение мира – сад): «Я вышел на заре, чтоб роз нарвать в саду...»; «По той лужайке я прогуливался часто...» Повествование о любви соловья к розе ведется от лица лирического героя, который и представляет образ автора: «На розу я смотрю, на соловья и жду...» Причем соловей уподоблен лирическому герою: они оба «больны» любовью: «Несчастный, как и я, любовью к розе болен, / Среди лужайки он оплакивал беду».
Таким образом, в газели две любовные пары: соловей – роза, лирический герой – роза; через первую пару интериоризуется высокое-божественное откровение, если не в кораническом смысле, то в не менее высоком – пантеистически-божественном. И как рефлексии интериоризации – «Стенанья соловья мне в сердце болью пали, / И утешенья сам себе я не найду...»
Последние два бейта представляют из себя афористически выписанные две сентенции, в которых экзистенциально трезво определена концепция любви-жизни:
Так много роз цветет, но кто сорвать их может,
Не испытав шипов опасную вражду!
Хафиз, надежду брось на счастье в этом мире:
Нет блага в нем, и все нам к скорби и вреду!
(Перевод Е. Дунаевского)
Образ шипов в сентенции этой газели Хафиза далек от коранического его толкования как необходимого источника страданий в восхождении («пути») к Истине-Божеству.
В стихотворении-поэме Фета повествование, а также философские рассуждения о законах бытия «плодотворного мира» тоже ведутся от лица лирического героя, за которым – образ автора. Фет, как и Хафиз, в предельно лаконичной, отточенной форме, близкой к афоризму, представляет свою концепцию осмысления «плодотворного мира», созданного самим «повелителем Творцом». Концепция состоит из двух противоположных начал: с одной стороны – «И равны все звенья пред Вечным / В цепи непрерывной творенья...», с другой – «Но там же в саду мирозданья, / Где радость и счастье – привычка, / Забыты, отвергнуты счастьем / Кустарник и серая птичка». Как говорили выше, выстраивается экзистенциальная философия «Но», когда по логике развития этого «плодотворного мира», созданного самим Творцом, должно быть одно, на самом деле в этом «плодотворном мире» есть «забытые» «небес и земли повелителем». Смысловое содержание этой концепции – дисгармония (соловей и роза обречены на вечную полуразлуку по причине несовпадения сна и бодрствования).
Вводная философская часть произведения (семь строф) содержит трезвый взгляд на жизнь как на царство абсурда, дисгармонии; эмоциональная тональность взаимоотношений соловья и розы – трагизм: «И любят друг друга, – но счастья – / Ни в утренний час, ни в вечерний. / И по небу веки проходят, / Как волны безбрежного моря, / Никто не узнает их страсти, / Никто не увидит их горя». Следующие четыре строфы, предваряющие диалог соловья и розы, повествуют об ангельской «отметине» на их судьбе. В последних четырех строфах – итоговые рассуждения о любви розы, которая «во сне только любит и любит, / И от счастья плачет и спит!» Сон для розы стал замещением жизни, во сне она любит, слышит песни любви. Таким образом, образ сна вполне экзистенциален: являясь замещением жизни, он спасает от отчаяния, способствует гармонизации отношений.
Фетовед В.Н. Касаткина в работе «Лирика сновидений А.А. Фета» справедливо интерпретирует мотив сна в лирике Фета не как явление романтизма, а как признак постромантизма. Она пишет: «...оттолкнувшись от романтической традиции, поэт отошел от нее, в его лирике весь видимый и чувственный мир как бы погружен в состояние грезы-сна («все мечты почиющей природы»). Такого рода слияние сна и яви, реального и нереального и пребывание действительности в объятиях грезы-сна – важнейший признак уже постромантизма, которым отмечены больше всего сборники «Вечерних огней» [1: 78]. Экзистенциальный смысловой подтекст произведения, содержащийся, как и у Хафиза, в лаконичных метафорических суждениях-сентенциях, – еще одно доказательство справедливости этого положения.
Итак, очевидно, что образ соловья у Фета, как и у Хафиза («Несчастный, как и я, любовью к розе болен»), – своеобразный «заместитель» автора, в нем – выражение духовной сути самого поэта. Такое замещение было достигнуто, благодаря отказу от сущностного отношения к жизни ради стремления к Красоте, как к Всевышнему. Именно изживание себя в творчестве отстраняет Фета от сущностного отношения к другому (к возлюбленной Марии Лазич), благодаря чему и создаются лирические герои его произведений – соловей и роза. Отстранение от сущностного отношения к другому, другим, миру делает Фета автором – творцом своих героев. Лирического героя-человека у Фета по его мироощущению, мировосприятию можно воспринимать абсолютно равным автору-человеку, вместе с тем лирическое «я» как «продукт» автора не может совпадать с автором-творцом. Авторская позиция «извне» (Бахтин), позиция отстранения, которая началась у Фета с отказа от сущностного отношения ко всему, кроме процесса изживания себя в творчестве, способствовало тому, что образы соловья и розы стали доминантными в творчестве поэта, определили все мифологемы, философемы его лирики. Как мифологема и философема соловей – идеальный прообраз прекрасного, возвышенного, который, без сомнения, имеет русские корни (см., например, диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук А.В. Азбукиной «Образ-символ “соловей” в русской поэзии XIX в.» (Казань, 2001). Мы же говорим прежде всего о восточном контексте образа.
ЛИТЕРАТУРА
1. Касаткина В.Н. Лирика сновидений А.А. Фета // А.А. Фет. Поэт и мыслитель: сб. науч. тр. М., 1999. С. 69–82.
2. Бахтин М.М. Работы 20-х годов. Киев, 1994.
3. Бухштаб Б.Я. А.А. Фет. Очерк жизни и творчества. Л., 1990.
4. Скатов Н.Н. Н.А. Некрасов и продолжатели. М., 1986.
5. Бубер М. Два образа веры. М., 1995.
6. Павлова И. Трансформация суфийской темы «Путешествие» в маснави Икбала «Новый цветник тайн» // Творчество Мухаммада Икбала: сб. статей. М., 1982. С. 123–135.
7. Шопенгауэр А. Избранные произведения. М., 1992.
8. Бертельс А.Е. Художественный образ в искусстве Ирана IX–XI вв. Слово, изображение. М., 1997.
9. Смирнов А.В. Великий шейх суфизма. Опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби. М., 1993.
10. Шарафадина К.И. Обновление традиций флоропоэтики в лирике А. Фета // Русская литература. 2005. № 2. С. 18–54.
Поэтический концепт «Я – Ты»: «чистое созерцание Красоты»
Гегель, характеризуя пантеистический взгляд магометанского поэта как субъекта, пишет: «...одержимый жаждой видеть во всем божественное и действительно узревая его, поэт отказывается перед его лицом и от самого себя, признавая вместе с тем имманентность божественного своему расширенному таким образом и освобожденному внутреннему миру. Благодаря этому у него возникает та радостная интимность, то свободное счастье, то упование в блаженстве, которое свойственно восточному человеку, отрекающемуся от собственной особенности, всецело погружающемуся в вечное и абсолютное и познающему и чувствующему во всем образ и присутствие божественного» [1: 78]. По Гегелю, такое чувство проникнутости божественным граничит с мистицизмом. Любовь к божеству, с которым человек отождествляет свое «я» в безграничной самоотдаче, он видит в творчестве Дж. Руми, Хафиза. В последнем он видит способность восточного человека, не испытывая подавленности и не впадая в сентиментальность и ворчливую меланхолию, принимать приговоры судьбы и оставаться при этом уверенным в себе. «...Восточным народам, и главным образом магометанским персам, – продолжает Гегель свою мысль, – свойственна свободная, счастливая интимность чувства; они открыто и радостно отдают все свое самобытие как богу, так и всему, достойному похвалы, достигая в этой самоотдаче свободной субстанциальности, которую они умеют сохранить и по отношению к окружающему миру» [1: 79].
Низами, Саади (персидский Анакреон, так его звали), Хафиз знали это чувство отречения от «собственной особенности»: воспевая любовь к женщине, они находили небесную любовь в земной, которая будучи идеализированной, становилась подобной высочайшей любви, любви души к Богу.
Мартин Бубер (1878–1965) дал философское осмысление концепта «Я – Ты», концепта, который человечество выстраивало со времен Адама и Евы. На этой концепции, в основе которой чувство отречения, стоит вся философия суфийской поэзии, имевшей огромное влияние на средневековую поэзию Востока, Испании (лирика трубадуров, андалусская поэзия)[2].
Так, арабо-испанская (арабско-андалусская) поэзия – мувашшах – как «смешанная поэтическая система» генетически связана с арабской и арабо-испанской классикой. Предпосылкой для изобретения мувашшаха явились персидские или арабские модели, строфическая архитектоника мувашшаха могла базироваться на чисто арабской основе и возникнуть под ее влиянием [2: 390–391]. По содержанию мувашшах, как считает И.Ю. Крачковский, примыкает к неоклассической поэзии, выдвигая на первый план мотивы любви несколько реже прославления покровителя. Мувашшахи писались на темы всех традиционных жанров арабской поэзии: мадх (восхваление), газель (любовная лирика), риса (оплакивание), хиджа (осмеяние) и т.п. Мувашшахом овладели и суфийские поэты [3: 511–512]. Традиция трубадуров нашла продолжение в итальянской поэзии «дольче стиль нуово», а затем – в поэзии Данте и Петрарки. В Новое время традиции суфийского поэта Хафиза находят свое выражение в творчестве В. Гете, «величайшего поэта-мистика» (Эллис). В России концепт «Я – Ты» гениально разработан А.А. Фетом.
Обычно стихи Фета – это монолог, но в поэтическом мире поэта, которого называли русским Петраркой, всегда есть другой, мир которого в той или иной мере в родстве с миром поэта, и вся лирика Фета – это диалог его «Я» с «Я» его возлюбленной, диалог в «рамках» души поэта. В лирике Фета – два мира, диалог двоих, иногда близких по душевному складу, мирочувствованию, иногда далеких. Иногда лирический герой Фета в этом другом видит себя, иногда себя – чужим ей.
Источник поэтического слова Фета – сам поэт, «источник» основного концепта его лирики «Я – Ты», как пишут биографы, – Мария Лазич, возлюбленная будущего поэта, которая трагически погибла. Она стала источником искусства Фета. Закономерность подобного в творчестве можно объяснить через определение «вечного источника искусства», данное М. Бубером: «...образ, представший человеку, хочет стать через него произведением. Этот образ – не порождение души его, но то, что явилось пред ним, подступило к нему и взыскует его созидающей силы». И если тот, кому предстал образ, «осуществит его, если изречет всем своим существом основное слово явившемуся образу, то изольется поток созидающей силы, возникнет произведение» [4: 20]. Все творчество Фета – и есть изречение «основного слова явившемуся образу».
Бубер понял, что созерцание не только удваивает, но и удесятеряет силы мистика. Г. Померанц, исследователь творчества М. Бубера, высказывает мнение о том, что Бубер был близок к прекрасному слиянию «Я – Ты» в духе Руми, но, вероятно, «не перешел известного порога, после которого созерцание само рождает порыв к действию. Но даже это неполное созерцание оставило в нем некоторый след, некоторую почву опыта, на который впоследствии опиралась его мысль» [4: 13].
Несколько лет (с 1904 по 1909 г.) Бубер посвятил изучению хасидизма, собирал и пересказывал предания о его учителях и подвижниках. Хасидизм, впитавший в себя высочайшие достижения еврейской мистики, – это, по словам Бубера, «кабалла, ставшая этосом». Для него самым достоверным источником были легенды, которые заключали истории «Я и Ты». Легенда – не хроника, но она, по мнению Бубера, «правдивее хроники» [5: 435–436].
В художественной концепции Фета «Ты» становится объектом чистого созерцания шопенгауэрского типа, порождением его искусства. «Ты» – «чистый субъект» познания, идея. Экзистенциальное, внутреннее, становится у Фета внешним, эстетическим, становится искусством, той силой, которая спасает поэта: трагическое его жизни становится искусством, в котором, если говорить на языке Шопенгауэра, остается один только мир как представление, а мир как воля исчезает. Гений поэта, если измерять его критерием философа, и состоит в преобладающей способности чистого созерцания: «...гениальность есть способность относиться вполне созерцательно, теряться в созерцании, и свое познание, предназначенное собственно к услужению воле, освобождать от такого служения, т.е. совершенно упускать из виду собственный интерес, собственное желание, собственные цели, и потому вполне отказываться на время от собственной особы, чтобы остаться чистым познающим субъектом, ясным оком мироздания...» [6: 415].
И.С. Нарский, делая обзор работам Шопенгауэра с целью толкования мировоззрения философа, пишет, что желанной находкой для философа стали древнеиндийские ведические «Упанишады», в которых с большой силой обрисовывалась противоположность высшего сущностного мирового начала, Брахмана, или Атмана, и порожденной им сферы видимости (она получила в «Упанишадах» название «майя» – «покров обмана»). Последняя, распадаясь, возвращает всех нас в бездну бессознательного. Шопенгауэр был знаком с «Пуранами» – мифологическим эпосом, который считается низшим вариантом ведической мудрости. Кроме «Упанишад», «Пуран», Шопегауэр читал в переводе работу Ишвара-Кришны «Санкхья-карика» (Книга о Сакхья). Свою практическую цель философия санкхья видела в указании пути к прекращению всех человеческих страданий и мучений, и в этой философии можно видеть непосредственную предшественницу буддизма. Нарский считает, что Шопенгауэр приобрел все основные сведения по буддийской философии, в том числе о знаменитой буддийской «нирване», то есть о достижимом каждым человеком состоянии просветленной умиротворенности души и полного покоя, граничащего с исчезновением сознания [6: 9–10].
В начале XVI в. в Бенгалии, уже около трех столетий находившейся под мусульманской властью, возникло и широко распространилось вишнуитское (точнее, кришнаитское) религиозно-реформаторское движение, по идеологии своей относящееся к категории бхакти. Центральная фигура бенгальского вишнуитского бхакти – Чайтанья (Чойтонно), ученый брахман, ставший проповедником новой веры, создавший ее основы. В русле этой идеологии возникла обширная литература, одна из основных частей которой – аллегорическая поэзия о любви Кришны и Радхи, символизирующей, согласно понятиям бхакти, взаимоотношения человеческой души и высшего начала [7: 460–461].
Известно, что суфийская средневековая поэзия, например, в лице персидского поэта Джалаледдина Руми (1207–1273), разработала целую систему символики тоже в аллегорической поэзии о любви с целью постижения человеком Истины. Возможность стать «совершенным человеком» (через состояние экстаза достичь «фана», раствориться в Боге), по философии суфизма, заложена в каждом человеке, поскольку совершенный человек появляется не по указанию Бога, а как проявление необходимости в вечном движении мироздания, которое и есть Бог. Любопытно заметить, что Шопенгауэр, называя суфизм «прекрасным явлением», подчеркивает, что оно «по своему источнику и духу безусловно индусское и насчитывает теперь уже больше тысячи лет» [6: 151].
Таким образом, два культурных явления (одно под влиянием буддийской философии, другое – суфийской философии) имели нечто общее в понимании путей к нравственному совершенству человека: состояние «нирваны» в первом случае и состояние «фана» – во втором. В обеих литературах взаимоотношение человеческой души и высшего начала дается в форме любовной поэзии, в форме диалога «Я и Ты».
Контекст нашего исследования обязывает нас увидеть, что шопенгауэровское «чистое созерцание» идеи «чистого субъекта» познания (возможное только в искусстве) перекликается с учением Ибн Араби об интуитивном созерцании (мушахада), благодаря чему, по мнению философа, и возможно выстраивание эстетических философем, т.е. системы образного философского знания. Творчество, по логике Ибн Араби, предполагает умение «увидеть» образ прежде, чем воплотить его в жизнь. Воображение абстрагирует образы, возникающие при чувственном восприятии, прежде чем передать их разуму. Человек, согласно Ибн Араби, с помощью разума, интуиции, воображения приближается к Истине [8].
Рассмотрим художественно-эстетическую суть поэтического концепта Фета «Я – Ты», когда «Ты» становится объектом чистого созерцания шопенгауэровского типа. С целью интерпретации того, что такое воображение, фантазия в концепте «Я – Ты» Фета возьмем достаточно раннее его стихотворение «Забудь меня, безумец исступленный...» (1855):
Забудь меня, безумец исступленный,
Покоя не губи.
Я создана душой твоей влюбленной,
Ты призрак не люби!
В концепте «Я – Ты» – обращение, если говорить на языке Шопенгауэра, «чистого субъекта», который становится объектом чистого созерцания, к тому, кто испытывает блаженство безвольного созерцания. И этот «безвольный созерцатель», кто в процессе фантазии, предчувствия прекрасного, полностью освобождаясь от своего «Я», созерцает «чистый субъект» – идею Любви, и называется «безумцем исступленным».
Во второй строфе ищущий идею Любви, «мечту свою воздушную» называется «мечтателем малодушным». «Предмет» созерцания поэта преподносит мораль:
Чем ближе ты к мечте своей воздушной,
Тем дальше от меня.
В преподнесенной сентенции – вечная тайна творчества, в которой выражение «двойного бытия» души, которая реализуется в фантазии, творчестве – с одной стороны, с другой – в земном «Я» человека. Поэзия романтизма, позже символизма (Фета многие и называли поэтом предсимволизма) и разработала художественное выражение этой концепции.
Стихотворение «Прежние звуки, с былым обаяньем...» (1862) перекликается с предыдущим: в нем тоже о безвольном созерцании «чистого субъекта». Созерцание характеризуется в темпоральном выражении: события прошлого определили предмет «чистого субъекта», память прошлого уводит в мир воображения, достигая тем самым освобождения от страдающей самости.
Первые же две строчки («Прежние звуки, с былым обаяньем / Счастья и юной любви!») определяют основную мысль стихотворения: прошлое – это то, чем жил и живет лирический герой, в нем сформировался образ «чистого субъекта». Прошлое прежде всего в звуковом наполнении становится фактическим условием фантазии-воображения. Однако отправной точкой в интенции авторской мысли является настоящее время, экзистенциально определенное: «Все, что сказалося в жизни страданьем, / Пламенем жгучим пахнуло в крови!» Таким образом, в первой же строфе определяется контраст между настоящим со страдающей самостью лирического героя и прошлым (памятью), в котором воспоминание минувшего проносится, как счастье. Память-воображение, естественно, возвращает одно желанное, а не индивидуально-субъективное, фактическое того времени, что осознается лирическим героем, и потому воображение («старые песни») и называется «сном безотвязно больным». Однако душа, вопреки страданиям самости в настоящем («Пусть обливается жгучею кровью / Сердце, а очи слезой!»), жаждет этого воображения-фантазии, поскольку только в нем, в памяти-воображении, она сможет отбросить страдания, стать «чистым субъектом познания», слиться с предметом «чистого субъекта»: «Пой! Не смущайся! Пусть время былое / Яркой зарей расцветет!» Однако это состояние – осознанная игра-воображение лирического героя, продолжающего оставаться в настоящем времени, полном страданий: «Может быть, сердце утихнет больное / И, как дитя в колыбели, уснет».
В стихотворении Фета «Я был опять в саду твоем...» (1857) образ аллеи («И увела меня аллея») становится отправной точкой в интенциональном акте воспоминания, в котором лирический герой оказывается ведомым миром, в котором были «Я» и «Ты», были «Мы» («Туда, где мы весной вдвоем»). Стихотворение начинается с определения мира лирического героя – «Я был» с экзистенциальной функцией глагола «быть» в настоящем времени в отличие от функции связочного «есть». Употребление экзистенциального «был» (быть) становится принципиально важным содержанием высказывания – ремой становится бытийный глагол, в нем смысловой центр всего поэтического высказывания.
Функция связочного «есть» предполагает предикативность бытия (Я есть...), определяет отношение «Я – Оно» – мир как опыт, поскольку жизнь человеческого существа не ограничена областью переходных глаголов; она не сводится лишь к такой деятельности, которая имеет нечто своим объектом: Я нечто воспринимаю, Я нечто ощущаю, Я нечто желаю и т.д. Экзистенциальное «был» создает отношение «Я – Ты», в котором он (лирический герой) есть «Ты» и потому все пространство мира заполнено им, все живет в его свете: «Как сердце робкое влекло / Излить надежду, страх и пени...» Однако фетовское «я был» дается и во временном концепте «был – теперь», который делит стихотворение на две части с двумя смысловыми концептами: в первой – концепт «возможности счастья», во второй – концепт «невозможности счастья» («Напрасно взор кого-то ищет»). Концепт «Я – Ты» разрушен, хотя время «теперь» определяется как абсолютно гармоничное: «Теперь и тень в саду темна, / И трав сильней благоуханье; / Зато какая тишина, / Какое томное молчанье!» И вместе с тем это «теперь» не может стать счастливым временем, поскольку нет «Ты» («Напрасно взор кого-то ищет»). Концепт «невозможности счастья» художественно решается через образ одинокого соловья («Один зарею соловей, / Таясь во мраке, робко свищет...»).
Таким образом, в этих стихотворениях, как, пожалуй, ни в каких других, представлены жизнь и творчество Фета, если мы говорим о нем, как о русском Петрарке. Первое, что понял Фет и что находит художественное выражение в этих стихотворениях, – жизнь отрицает себя самое, она сама источник страданий, второе – человек инстинктивно пытается освободиться от страданий, отчаяния, скуки и т.д. И в этом ему помогает, как сказал основоположник философии Нового времени А. Шопенгауэр, искусство, хотя Фет, как и философ-пессимист, понимал, что искусство – не более чем фрагмент бытия, жизнь не состоит из одного искусства.
В стихотворении «Прежние звуки, с былым обаяньем...» – и жизнь Фета с его страданиями, и его искусство, его песня Любви, пусть его искусство не вся его жизнь (не случайно исследователи жизни и творчества поэта говорят о «двойной» жизни Фета: Фета-поэта и Фета-человека), но его поэзия – самое лучшее доказательство основного шопенгауэровского положения о мире как представлении. Его любовная лирика продемонстрировала возможность исчезновения мира как воля и даже мира как «только моего Я» и возможность существования в мире, понятом как представление, поскольку мир как представление – это и есть то, чего жаждет сама душа человека, то, что освобождает человека от гнета мира как воли, дает возможность ощущения блаженства безвольного созерцателя.
Весьма интересным в смысле возможностей интерпретации смысловых единиц произведения в контексте сказанного выше представляется и стихотворение «Я видел твой млечный, младенческий волос...» (1884). Стихотворение состоит из двух строф, каждая представляет собой шестистрочье. В первой части стихотворения воображение автора через лирического героя организует восприятие мира через ощущения:
Я видел твой млечный, младенческий волос,
Я слышал твой сладко вздыхающий голос –
И первой зари я почувствовал пыл;
Налету весенних порывов подвластный,
Дохнул я струею и чистой и страстной
У пленного ангела с веющих крыл.
Вторая часть стихотворения, начинающаяся строкой «Я понял те слезы, я понял те муки...», говорит о «упорядоченности» чувств разумом. Каждая следующая строка этой части начинается с указательного местоимения «где», за которым функция определения не пространства, как требует того грамматическая норма этого слова, а выражения эмоционального состояния:
Где слово немеет, где царствуют звуки,
Где слышишь не песню, а душу певца,
Где дух покидает ненужное тело,
Где внемлешь, что радость не знает предела,
Где веришь, что счастью не будет конца.
Пять раз повторяющееся «где» создает ритм медитации, который настраивает на некое интуитивно-мистическое состояние, выраженное строкой: «Где дух покидает ненужное тело...» Ощущение трансцендентности души и способствует тому, что ипостась бытия как бы исчезает (потому и нет пространственного определения лирического героя). Если говорить о художественном времени произведения, то оно опять определяется воображением-памятью («Я видел...», «Я слышал...»), в котором эмоционально-чувственное восприятие субъекта воображения делает прошлое настоящим, хотя грамматически – «я почувствовал...» тогда, «дохнул я...» тогда.
Стихотворение выражает лирическое описание экстаза влюбленных (Я и Ты), когда «дух покидает ненужное тело», когда происходит забвение «Я» как индивидуума, когда чувства, которые и являются началом разума («Я понял те слезы, я понял те муки...»), возвышаются до чистого, безвременного, безвольного чистого созерцания. Тогда «слово немеет», «царствуют звуки», тогда «слышишь не песню, а душу певца». Лирический герой Фета в состоянии эстетического наслаждения: отбросив страдающую самость («Я понял те слезы, я понял те муки...»), он, как певец Любви, сливается со своей идеей Любви.
Связь лирики Фета с Шопенгауэром не только на уровне внешних признаков (эпиграф), но и на уровне философско-эстетических контекстов обнаруживается в стихотворении «Измучен жизнью, коварством надежды...» (предположительно датируется 1864 годом), который можно назвать программным. Эпиграф, взятый из Шопенгауэра: «Равномерность течения времени во всех головах доказывает более, чем что-либо другое, что мы все погружены в один и тот же сон; более того, что все видящие этот сон являются единым существом» – является ключом к расшифровке идеи произведения.
В первой строфе, на первый взгляд, очевидна романтическая антиномия: подлинное человеческое бытие, реальность жизни, контрастна сну-прозрению («Измучен жизнью, коварством надежды, / Когда им в битве душой уступаю, / И днем и ночью смежаю я вежды / И как-то странно порой прозреваю»). Однако вторая строфа тоже с антиномией, в которой уже не реальность-сон, а реальность и подлинное человеческое бытие в чистоте своей («Еще темнее мрак жизни вседневной, / Как после яркой осенней зарницы, / И только в небе, как зов задушевный, / Сверкают звезд золотые ресницы»), говорит о способности относиться к миру вполне созерцательно, благодаря чему и рождается искусство. Сон становится условием «прозревания», условием созерцания прекрасного, когда лирический герой свободен от слепого давления жизни, когда он способен предчувствовать красоту и безбрежность подлинного человеческого бытия:
И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность
И пламя твое узнаю, солнце мира.
В последней строфе первой части стихотворения лирический герой повествует о том, что дает ему это умение «прозревать»:
И этих грез в мировом дуновеньи
Как дым несусь я и таю невольно,
И в прозреньи, и в этом забвеньи
Легко мне жить и дышать мне не больно.
Таким образом, мир как представление, или мир как воображение (Араби), – мир творчества имеет экзистенциальную функцию: он спасает от слепого давления жизни. Первая фраза первой части – «Измучен жизнью» – реакция лирического героя на беспощадное слепое давление жизни, последняя фраза первой части – «Легко мне жить и дышать мне не больно» – состояние «прозренья», которое достигнуто, благодаря забвенью своего «Я», что и освобождает человека от «битвы» с жизнью. Забвенье своего «Я» с целью глубокого проникновения в недра собственного Я – состояние мистическое, которое и дает состояние «странного» прозревания, о чем говорится в первой же строфе произведения:
И днем и ночью смежаю я вежды
И как-то странно порой прозреваю.
Образ, созданный в первой строчке («смежаю я вежды»), напоминает образ Майи – «покрова обмана» в «Упанишадах», благодаря которому создается мистическая сфера видимости. «Смежаю я вежды» Фета близко «златотканому покрову» Тютчева («На мир таинственный духов, / Над этой бездной безымянной, / Покров наброшен златотканый / Высокой волею богов»); правда, у Тютчева доминирует экзистенциальное наполнение семантики образа.
Если в первой части стихотворения лирический герой в состоянии «забвенья» всего земного, своего «Я», то во второй части он во власти земных реалий, во власти страданий своего «Я» – с одной стороны, мечтаний, желаний – с другой. Основной концепт стихотворения – «сон» – здесь содержит другое смысловое и эмоциональное содержание. Если в первой части сон – это «забвенье», дающее возможность прозрения Красоты-творчества, которая только и может спасти от «темного мрака жизни», то во второй части сон – смерть в земном, человеческом его понимании («И сон сиротлив одинокой гробницы...») – в первом случае и сон – желания, мечты страдающего, тоскующего человека («И снится, снится: мы молоды оба...») – во втором случае.
В каждой части есть почти полностью повторяющиеся двустрочья с концептом «небо», с метафорически одинаково определяющейся предикативностью («Сверкают звезд золотые ресницы»), но с разными сравнениями: в первой части «звезд золотые ресницы», «как зов задушевный», во второй – «как вечная дума». В этом различии сравнений – смысловое отличие частей: в первой части «звезд золотые ресницы» – «зов задушевный», зов души, жаждущей Красоты. Во второй части «звезд золотые ресницы» – «вечная дума» человека, обремененного страданием. Таким образом, заключительная вторая часть стихотворения содержит лирическое описание страдающей души, которая в «звездном хоре» «таинственной ночи» видит «знакомые очи», очи той, которая в «забытой могиле».
Мир грез, мир воображения, в котором нет «жизни вседневной», помещает лирического героя в центр мироздания, откуда он постигает смысл этого мироздания: «Живой алтарь мирозданья курится, / В его дыму, как в творческих грезах, / Вся сила дрожит и вся вечность снится». «Живой алтарь мирозданья» – это «солнце мира». Свет-солнце – центр и источник мироздания.
Любопытна предпоследняя строфа первой части с двойным смысловым подтекстом:
И все, что мчится по безднам эфира,
И каждый луч, плотский и бесплотный, –
Твой только отблеск, о солнце мира,
И только сон, только сон мимолетный.
Первый смысл в том, что мирозданье – «только отблеск» солнца мира, второй – в том, что это мирозданье – «только сон мимолетный». Таким образом, в рамках эстетической философемы «солнце – алтарь мирозданья» выписывается мистическая философема «все – только сон мимолетный». Мы уже сказали, что в первой части стихотворения образ сна определяет концепт «сон-воображение», но важно и то, что сон характеризуется, как «мимолетный»: состояние грез, забвенья своих страданий – состояние мимолетное. (Вспомним А.С. Пушкина, который состояние любовного экстаза, равное творческому вдохновенью, определял, как «мимолетное виденье, как гений чистой красоты».)
Кроме того, в процитированной выше строфе содержится еще одна философема с мистическим подтекстом – «все – только отблеск, о солнце мира». Слегка перефразировав, можно сказать: «все – только тень, о солнце мира». Образ отблеска-тени в этом стихотворении, на наш взгляд, близок толкованию этого образа мистической философией Ибн Араби, по которой этому образу, как пишет А.В. Смирнов, соответствует категория бытийно-возможного. «Вместилище тени» у Ибн Араби становится определением соотнесенности бытия с миром: «То, о чем говорится “кроме Бога”, или то, что именуется миром, – по отношению к Богу то же, что тень по отношению к человеку. Сие – тень Бога, и сие же – воплощение соотнесенности бытия с миром, ибо тень, несомненно, наличествует в чувстве, но лишь тогда, когда есть то, в чем появляется эта тень» [8: 66–67].
Подобное содержание образа тени (жизнь – тень) характерно для Ф.И. Тютчева: «И сладко жизни быстротечной / Над нами пролетела тень» (стихотворение «Я помню время золотое...»). Любопытным с точки зрения возможности интерпретации поэтического образа в контексте восточных традиций является и стихотворение Фета «Заря прощается с землею...» (1858), в котором присутствует образ тени. В нем, как и в стихотворении Тютчева «О, вещая душа моя!», образ тени воспринимается как «перешеек» между миров – мира дня и мира ночи. Вечерняя тень деревьев приоткрывает тайну бытия – «жизни двойной»:
И землю чувствуют родную,
И в небо просятся оне.
Г.П. Козубовская, характеризуя поэтику Фета, пишет: «Тень» у Фета двузначна: она знак материальности «мира» и одновременно инобытия» [9: 153–154]. По справедливому замечанию исследовательницы, именно в «двойном бытии» – истоки фетовского понимания человеческого существования.
Образ отблеска-тени в стихотворении Фета «Измучен жизнью, коварством надежды...», вписанный в контекст концепции Красоты, получает мистический оттенок, свободный от земного содержания. (Во многих других случаях Фет создает лирический мир земной красоты, мир природы, мир человеческой души: «Чтоб и я в этом море исчез, / Потонул в той душистой тени...» (стихотворение «Солнце нижет лучами в отвес...»), «Растут, растут причудливые тени, / В одну сливаясь тень...» (стихотворение «Растут, растут причудливые тени...») и др.)
Наконец, нельзя не заметить, что «забвенье-прозренье» лирического героя происходит при восходе солнца, когда в небе «сверкают звезд золотые ресницы», когда в «бездне эфира» узнается пламя «солнца мира» (рисуется великолепный пейзаж с восходящим солнцем), а ощущение тоски выписывается на фоне «тиши и мрака таинственной ночи». И если в первой части «бездна эфира», наполненная световыми образами («золотые ресницы», «прозрачна огней бесконечность», «бездна эфира», «пламя твое», «огненные розы», «алтарь... курится», «в его дыму» и др.), и создает ощущение причастности к Красоте мирозданья, то во второй «таинственная ночь», настроившая лирического героя на образ памяти, опускает его на землю, которая мертва: «Трава поблекла, пустыня угрюма». И на этом фоне – «сон сиротлив одинокой гробницы...» Следующая строка, начинающаяся со слов «И только в небе...», говорит о вечной антиномии живого и мертвого, земного и вечного, вдохновенья-экстаза и трезвого взгляда на жизнь. На этой антиномии зиждется философия творчества и философия жизни Фета, причем обе философии идут рядом, находя свое выражение часто в рамках одного произведения, как в вышерассмотренном.
Следует подчеркнуть, что созерцание Красоты, выраженного через созерцание света, Шопенгауэр называет «чистейшим и совершеннейшим родом созерцательного познания»; оно освобождает от всего земного. Философ пишет: «...эту радость должно выводить из того, что чистое, освобожденное и избавленное от всякого хотения познание в высшей степени радостно и, уже как таковое, принимает большое участие в эстетическом наслаждении» [6: 430].
Эстетические философемы средневековой поэзии Востока понятие Бог определяют через образ света. Так, у Ибн Араби Бог становится субъектом, на который льется свет. Как пишет А.В. Смирнов, «получается самоизлияние порождающего, самого себя дифференцирующего света», что, по мнению исследователя творчества арабского философа, не может не вызвать ассоциаций с эманацией неоплатоников [8: 67]. Природа, по Плотину, сотворена так, что через материю (тьму) проникает божественный принцип (свет).
Кроме того, нам представляется весьма интересным суждение Плотина о том, что основой всего существующего является сверхчувственный, сверхъестественный, надразумный божественный принцип. От него зависят все формы бытия. Этот принцип Плотин объявляет абсолютным бытием, являющимся непознаваемым, поскольку «это бытие есть и остается богом, не существует вне его, а есть именно сама его тождественность». Это единственно истинное бытие постижимо лишь путем проникновения в самый центр чистого созерцания и чистого мышления, что становится возможным лишь при «отторжении» мысли – экстаза. Все остальное, что существует в мире, производно от этого единственно истинного бытия [10: 192]. Таким образом, шопенгауэровское «подлинное человеческое бытие», в чистоте своем говорящее только в искусстве, совершенно очевидно перекликается с неоплатоническим «истинным бытием», постижимым через чистое созерцание, являющимся необходимым условием и у Шопенгауэра.
Образ сна в философско-эстетической концепции Фета занимает значительное место, о чем пишут, например, В.Н. Касаткина, И.Г. Козубовская. Так, В.Н. Касаткина, изучая лирику сновидений Фета в контексте эстетики романтизма XIX в., рассматривает стихотворения «Измучен жизнью, коварством надежды...», «Соловей и роза». Исследователем отмечается романтическая антиномия между реальностью жизни и сном-прозрением, в котором обращение к «солнцу мира». «Солнце мира» в философской концепции стихотворения трактуется как основа бытия, а не как «темная воля» (определение Шопенгауэра) [11: 75]. Мы же в своем анализе этого стихотворения пытаемся показать, что фетовское «воображение» этого образа, его смысловое содержание можно объяснить через шопенгауэровское понятие созерцания, освобождающего человека от «темной воли», дающего ему возможность в своем сне-прозрении понять, что все мироздание – «только отблеск» солнца мира.
Образ сна в концепте «Я – Ты» присутствует у Фета в цикле «Из Гафиза», в частности в стихотворении «В царство розы и вина – приди...», в котором в силу интуиции гения воспроизводится многое, характерное для поэзии Хафиза. Приведем его полностью:
В царство розы и вина – приди,
В эту рощу, в царство сна – приди.
Утиши ты песнь тоски моей:
Камням эта песнь слышна! – Приди!
Кротко слез моих уйми, ручей:
Ими грудь моя полна! – Приди!
Дай испить мне здесь, во мгле ветвей,
Кубок счастия до дна: – приди!
Чтоб любовь дотла моих костей
Не сожгла (она сильна!), – приди!
Но дождись, чтоб вечер стал темней!
Но тихонько и одна – приди!
Прозрачность смысла стихотворения Фета, его образная система исключают намек на какое бы то ни было переносное толкование. Любовная лирика с мотивом любовной тоски имеет форму газели, рифмы которой (рифмуются между собой все первые, все вторые строчки каждого двустрочия, рефреном повторяется в каждом двустрочии «приди») создают эффект медитирующего заклинания, усыпляющего, уводящего в царство сна – «в царство розы и вина». Естественно, что в процессе двойного перевода-толкования стихотворения Хафиза суфийский подтекст стерт, но вместе с тем очевидно, что в образе сна – «царстве розы и вина» – присутствует память жанра восточной суфийской поэзии, в которой ощущение мистического «слияния» с богом передавалось в лирических описаниях экстаза влюбленных (мистик-влюбленный признавался в любви богу-возлюбленному), требующих определенного эмоционального, психического настроя. Ритмика медитирующего заклинания и создает эффект эмоционального состояния подобного экстаза. Колдовские строки – строки заклинания, как всегда у Фета, дышат восторгом.
В цикле «Из Гафиза» есть стихотворение «О, как подобен я – смотри!», содержащее концепт «Я – Ты», в котором образ зари, на наш взгляд, соотносится с образом «солнце мира» из стихотворения «Измучен жизнью, коварством надежды...» Вот оно это небольшое стихотворение:
О, как подобен я – смотри! –
Свече, мерцающей впотьмах!
Но ты, в сияющих лучах
Восход зари, –
Лишь ты сияй, лишь ты гори!
Хотя по первому лучу
Твой яркий свет зальет свечу,
Но умолять тебя хочу:
Лишь ты гори,
Чтоб я угас в твоих лучах!
Присутствие памяти восточной суфийской поэзии в этом стихотворении, конечно, очевидно: выписан образ свечи и «угасание» в лучах зари. Правда, образ свечи у Фета дан не в традиционной восточной парности («свеча – мотылек, летящий в огонь»), символическая семантика которого – любить, значит сгореть, причем в суфийском контексте подразумевается любовь к Богу. Тем не менее, образ не претерпевает в транскрипции Фета больших художественных, смысловых трансформаций. Наличие в фетовском переводе Хафиза эмоционально выразительной эстетической пары образов «свеча – заря» (влюбленный лирический герой подобен «свече», «мерцающей впотьмах», а возлюбленная («ты») – «восходу зари», солнцу) придает произведению характер не только любовной лирики, но и философской, поскольку через уничтожение феноменального «Я» постигается Красота мирозданья. Как и в стихотворении «Измучен жизнью, коварством измены...», Фет говорит о безвольном созерцании Красоты и, наконец, о том, что только подобное состояние духовно-спасительно для человека.
Напомним, что мистические учения о совершенном человеке и давали образцы этого физического, земного освобождения «Я» человека. Так, суфийская философия необходимым условием возрождения человека (бака) считала прохождение через уничтожение (фана), которое воспринималось как физическое подвижничество, как полное подавление собственной воли. Через уничтожение «Я» достигалась всепоглощающая любовь к богу. Ощущение мистического «слияния» с богом передается в лирических описаниях экстаза влюбленных. Такого рода лирика характерна Руми, Саади, Хафизу. Так, у Руми мистик-влюбленный говорит Богу-Возлюбленному:
Я настолько поглощен тобою,
Что полон тобою с головы до ног.
Как пишет востоковед М.Т. Степанянц, «слияние с абсолютным бытием переживается столь полно, что возникает ощущение тождественности человека с богом»:
Истинно любящий Бога тот,
Кому Бог говорит: «Ты мой, и я твой!»
Однако, как подчеркивает исследователь, «слияние с абсолютом не означает принятия человеком божественного облика. Руми отвергает концепцию инкарнации (раи холул). Он ощущает ее как претензию на власть божью. Совершенный человек един с богом, но не тождествен ему» [12: 141].
Принято считать, что «несуществование для себя», «отвержение самости» в суфийском толковании этих понятий повторяется у Хафиза в трех образах: свечи, становящейся пламенем, сгорающего мотылька и в превращении неблагородного металла в золото [13: 66]. Конечно, эти образы, как считали сами приверженцы этой философии, могли понять только «посвященные», только те, кто не искал «ничего своего».
Вместе с тем отсутствие религиозного пафоса, дух свободомыслия, жизнелюбия во многих стихотворениях Хафиза способствует восприятию многих образов, содержащих суфийский смысловой подтекст, в романтической их окрашенности, свободными от религиозно-мистического груза. Именно так воспринимали Хафиза уже в Новом времени, например Гете. Газели Хафиза содержат не просто диалоги мистика-влюбленного с богом-возлюбленным, как принято в классических жанрах религиозной суфийской поэзии, в них этот диалог с целью постижения Красоты божественной реальности, а также с целью постижения Любви к существующей, земной реальности.
Так, к весьма любопытным наблюдениям приводит стихотворение Хафиза «Я так влюблен, что всем влюбленным огонь дарую, как свеча», в котором присутствует в своеобразной транскрипции суфийский парный образ «свеча – мотылек». В традиционном парном образе свеча – Бог, божественная сила, мотылек – мистик, сгорающий в пламене любви к Богу. (Напомним, что пары образов в суфийской поэзии почти не видоизменяются, лишь вступают в различные сочетания друг с другом, что расширяет смысловые их возможности.) У Хафиза же лирический герой (мистик-влюбленный) подобен свече; он часть существующей земной реальности, от любви к Богу – высшей реальности он возлагает на себя функцию дарения огня «всем влюбленным», он, «как свеча», сияет «всем безумцам праздным сквозь тьму ночную». «Подруга» – высшая реальность, мотылек же – «посредник подруги». Влюбленный лирический герой, обращаясь к своей «подруге», просит: «Пусть прилетит ко мне, подруга, как твой посредник, мотылек...» Следующая строка газели – «А если нет – повергну в пламя всю ширь земную, как свеча!» Вот он пафос бунтаря, буквально демонический. Как же так? В рамках одной газели содержатся два противоположных положения: в первой строке – лирический герой находится с Богом в любовных отношениях, стремится отдаться ему, во второй – бунт против мира божьего, в то время как в суфийской философии мир и есть Бог, поскольку исходный онтологический постулат суфизма – пантеизм и, находящийся с Богом в любовных отношениях человек стремится не обладать миром-богом, а отдаться ему (в отличие от христианства, в котором господствует аристотелевский взгляд, согласно которому природа создана для человека, следовательно, человек больше не является органической частью космоса, он вырывается из природной жизни, становится вне ее и над ней). Как пишут востоковеды, в частности Е.А. Фролова, «существует сложная “зеркальная” связь заманиваний, искусов со стороны Всевышнего, Истины и чередующихся с рефлексией погружения в нее – проникновение за поверхность “зеркала” идет за счет самопознания, самоистязания человека (но истязается он, а не природа!)» [14: 152].
Если же говорить о второй строке газели, содержащей настроение бунта, то необходимо обратиться к истории возникновения суфизма как общественного явления. И тут необходимо сказать, что мистическая ориентация на уход в себя была своеобразной реакцией на существовавшее в обществе зло, несправедливость, ложь и т.п. Как пишет М.Т. Степанянц, заложенная в суфизме «тенденция на самопознание, самосовершенствование в определенной мере содействует самоутверждению личности ее относительно независимому нравственному развитию. Но в то же время, в этом уходе в себя выражались беспомощность изменить окружающий мир несправедливости, оправдание социальной пассивности и квиетизма» [12: 140].
Мотивы любовного томленья, тоски, тайны в семантике своей восходят к самоотречению в любви, в «небытии», что означает не смерть, а существование не для себя («Я таю, таю, убываю – ведь я ревную! – как свеча»). «Не хотеть быть», подавить в себе самость – такова формула любви у Хафиза. И это подавление самости ради одного – постижения Красоты-мира Бога, основа которой и есть Любовь:
Красавица! Однажды ночью меня свиданьем награди,
Ты озари мой дом и душу мою больную, как свеча.
Известно, что европейская литература знала игру восточными образами, мотивами, персонажами. Филоориентализм (любовь к Востоку) был течением в европейской литературе XVI–XVII вв. Мысль о возможности соединить культуру Востока с западной культурой впервые высказал Гердер, и именно от Гердера Гете усвоил идею западно-восточного синтеза, которую поэтически воплотил в «Западно-восточном диване». Стоит напомнить любимое изречение Гете из Корана: «Богу принадлежит и Восток, Богу принадлежит и Запад», которое содержит мысль о единстве мира. В поэтической форме эта мысль выражена в стихотворении «Ginqo biloba» из «Книги Зулейки» («Западно-восточный диван»):
Этот листик был с Востока
В сад мой скромный занесен,
И для видящего ока
Тайный смысл являет он.
Существо ли здесь живое
Разделилось пополам,
Иль напротив, сразу двое
Предстают в единстве нам?
И загадку и сомненья
Разрешит мой стих один:
Перечти мои творенья,
Сам я – двойственно един.
Известно, что Гете был увлечен поэзией Хафиза. Как пишут биографы Гете, в 1813 году И.Ф. Котта, издатель Гете, подарил ему двухтомный, только что вышедший перевод стихов Хафиза. Через год Гете писал Котте: «Я давно уже занимался в тиши восточной литературой и, чтобы глубже познакомиться с нею, сочинил многое в духе Востока. Мое намерение заключается в том чтобы непринужденным образом соединить Запад и Восток, прошлое и настоящее, персидское и немецкое, так чтобы нравы и способы мыслить проникли друг в друга. Ваш прошлогодний подарок – перевод Хафиза – вновь возбудил меня, и у меня собрался уже довольно основательный томик...» [15: 500]. Речь шла о «Западно-восточном диване» Гете.
Парный образ мотылька и свечи – центральный в суфийской поэзии – через Хафиза нашел свою форму выражения и у Гете. Философско-смысловой подтекст, приведенной выше заключительной строчки из стихотворения «Ginqo biloba» «сам я – двойственно един», восходит к Гетевскому космологическому мифу: «мир был и есть не что иное, как вечное отпадение и вечный возврат к первоистоку», который отражен и в «Западно-восточном диване», и в «Фаусте», и в «Поэзии и правде» (8 книга)[3].
Используя суфийский парный образ «мотылек – свеча» Гете и выражает на языке поэзии это «вечное отпадение и вечный возврат к первоистоку». В «Западно-восточном диване», в знаменитом «Блаженном томлении», воспринимающемся как переосмысление газели Хафиза, образ мотылька, летящего на огонь и в нем сгорающего, дается как олицетворение устремленности к свету, истине, что является «сопряженьем в высшем браке», который есть смерть и одновременно возрождение:
Речь моя – к одним лишь мудрым,
Чернь – она начнет глумиться!
Жизнь я славлю, что упорно
К смерти огненной стремится.
В ночь любви, в какую сам ты
Жизнь принял и жизни сеял,
Чувство странное нисходит,
Лишь огонь вдали зардеет,
С тенью ты уж не миришься,
Жить не можешь ты во мраке,
Ты стремишься упоенно
К сопряженью в высшем браке,
Мчишься, словно кем гонимый,
Путь не кажется далек,
Миг – и вот, до света жадный,
Ты сгораешь, мотылек!
Если ж зов: «умри и стань!»
Спит в душе смиренной,
Ты лишь горестный пришелец
В сумрачной Вселенной.
(Перевод В.В. Вересаева)
«Блаженное стремление» живого к смерти вписывается Гете в принцип «умри и возродись», который и объясняет извечный закон мироздания: «вечное отпадение и вечный возврат к первоистоку». «Блаженное стремление» живого к смерти есть стремление личности к совершенствованию собственного «Я»: через преодоление самости возврат к первоистоку, к единению с природой-богом в субъект-объектной неразделенности. В смерти Гете слышит голос жизни – утверждающей природы.
Как пишет Л.М. Кессель, «Гетевская концепция смерти пронизана духом гуманизма. Смерть – умножение жизни, ее обогащение, разрушение для творения. Она подобна «водопаду, разливающемуся на тысячи потоков». Он приводит слова Гете о смерти как «приеме природы, чтобы иметь много жизней», ибо «повсюду вечность шевелится»; в природе нет ничего «в готовом виде и налицо», ибо все творится» [13: 62].
Исследуя лирику Гете в контексте восточной философии, Л.М. Тетруашвили излагает точку зрения суфизма на человека, который в страстном стремлении к богу достигает определенного совершенства, осуществляя при этом принцип «высшего соединения» – слияния человека с Богом. Так, он пишет: «Для достижения высшей цели познающий должен пройти четыре ступени: овладение учением мудрецов и критическое отношение к нему, признание бога и мира соравными; настойчивое и страстное стремление к совершенству, т.е. в конечном счете к богу, полное возвышение человеческих сил для служения этой цели; поглощение своей индивидуальности “всеобщим”, всеобъемлющее познание совершенного в сверхчувственном (космическом) экстазе; приобщение к истине. На этой последней ступени познающий становится соравным богу и сливается с ним, т.е. “умирает”» [16: 61]. Суфий на пути к истине-богу должен пройти две ступени: уничтожение (фана) и возрождение (бака). Как сказал еще Е.Э. Бертельс, «ощутив уничтожение своего временного преходящего “я”, человек погружается в море абсолюта, а тем самым и ощущает отчетливо, что существует так же вечно, как вечна и божественная сущность. Это осознание бессмертия, понятно, высшее из состояний, достижимых для путника» [17: 65]. Присутствие логического следствия бака (вечность) отличает состояние фана от буддийской нирваны.
Л.М. Кессель, сравнивая-сопоставляя «Блаженное томление» Гете с переосмысленной им газелью Хафиза «Как свеча горит душа» в переводе Гаммера, находит, что тема «огненной смерти» у Хафиза полна суфийского мистицизма, «который устремлен к исчезновению своего “я” в едином и увековечению в бесконечном неземном». Ученый считает, что Гете же «возвращает этот образ на землю», реализуется мотив любви самоисчезновения в любимом деле, идее по формуле «умри и возродись» [13: 65]. Вместе с тем формула «умри и возродись», восходящая к космологическому мифу Гете, содержит философию жизни, в основе которой извечный закон мироздания в «вечном отпадении и вечном возврате к первоистоку».
Своеобразный «эротический пантеизм» в рамках диалога «Я– Ты» характерен как молодому, так и позднему Гете. Так, в стихотворении «Вездесущий» («Западно-восточный диван») божество юных лет обретает конкретность в лице любимой – Зулейки, которая предстает влюбленному в тысяче образов:
В тысяче форм ты можешь притаиться, –
Я, Вселюбимая, прозрю тебя,
Иль под волшебным покрывалом скрыться, –
Всевездесущая, прозрю тебя.
Эти строчки напоминают стихотворения молодого Гете, где бог является, как отмечает Л.М. Тетруашвили, «в конкретных образах то весны, то старого ласкового Океана, в сладком пении соловья, в спускающихся с небес облаках» [16: 62].
«Вселюбимая» лирического героя Гете в диалоге «Я – Ты» становится олицетворением неодолимого стремления к созерцанию-познанию Красоты мира-жизни, ее гармонии, в основе которой закон «вечного отпадения и вечного возврата к первоистоку» («В тысяче форм ты можешь притаиться...»). Гете заимствует не только символическую образную систему суфизма, но и, что важнее, основную пантеистическую идею философии суфизма, по которой каждая форма бытия – так или иначе отражение абсолюта, следовательно, «единое бытие можно найти в каждой пылинке». По философии Ибн Араби, бог – высшая реальность, абсолютное совершенство, из которого истекают, эманируют, но в котором «утоплены все существующие реальности» [8].
Концепт «Я – Ты» в фетовском переводе Хафиза – в стихотворении «О, если бы озером был я ночным...» – реализуется через парные образы («роза – куст», «зерно – птичка», «озеро – луна», «поток – былинка»), которые выражают, с одной стороны, эманацию из высшей реальности всего сущего в мире, а с другой, в них – универсальная любовь к божеству-возлюбленной, блаженное самоотвержение ради этой любви.
В контексте сказанного необходимо отметить еще одно обстоятельство: в приведенных шедеврах своеобразного «эротического пантеизма» не только Гете, но и Хафиза в переводе Фета «перемешано» высказываемое в адрес Бога и любимой. И именно эта черта придает им характер романтической лирики, в которой содержится и любовное томление, и томление по идеалу Красоты, то «чистое созерцание Красоты», дающее понимание и жизни и творчества. Свойство это было привлекательным не только для романтизма, но и для поэзии следующего века, прежде всего символизма.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. Т. 2. М., 1969.
2. Куделин А.Б. Арабо-испанская строфика как «смешанная поэтическая система» (гипотеза Х. Риберы в свете последних открытий) // Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М., 1974. С. 379–414.
3. Крачковский И.Ю. Арабская культура в Испании. М.; Л., 1937.
4. Бубер М. Два образа веры. М., 1995. С. 20.
5. Лезова С.В. Примечания // М. Бубер. Два образа веры. М., 1995.
6. Шопенгауэр А. Избранные произведения. М., 1992. С. 415.
7. Грибанов А.Б. Восточный жанр «обрамленной повести» в средневековой Испании // Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М., 1974.
8. Смирнов А.В. Великий шейх суфизма. Опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби. М., 1993.
9. Козубовская Г.П. Поэзия Фета и мифология: учеб. пособие. Барнаул; М., 1991.
10. История философии в кратком изложении. М., 1994.
11. Касаткина В.Н. Лирика сновидений А.А. Фета // А.А. Фет. Поэт и мыслитель. М., 1999. С. 69–82.
12. Степанянц М.Т. Концепция «совершенного человека» в творчестве Джалал Ад-Дина Руми и Мухаммада Икбала // Творчество Муххамада Икбала. М., 1982. С. 134–141.
13. Кессель Л.М. Гете и «Западно-восточный» диван. М., 1973.
14. Фролова Е.А. Человек – мир – бог в средневековой исламской культуре // Бог – человек – общество в традиционных культурах Востока. М., 1993. С. 144–155.
15. Дмитриева Е.Е. Комментарии // И.В. Гете. Стихотворения. Страдания юного Вертера. Фауст. М., 2002.
16. Тетруашвили Л.М. Проблема пантеизма в лирике Гете // Гетевские чтения. М., 1991.
17. Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература. М., 1965.
Память как интенция творческого сознания А. Фета
В феноменологии, к которой необходимо обратиться с тем, чтобы понять творческое сознание Фета, утверждается, что предметы в качестве предметов познания оказываются конституируемыми в интенциональных актах познающего сознания. У интенционалиста Гуссерля феноменологическая редукция раскрывает перед взором «медитирующего философа» поле трансцендентального опыта, который определяется не только действительным опытом (предметы восприятий, припоминаний, актов ретенции – интенции, направленной в прошлое, и протенции – интенции, направленной в будущее), но также и воображаемым («чистая фантазия», «опыт как будто бы»), со всеми теми же модусами восприятия, припоминания и т.д., но в аспекте «будто бы». Трансцендентально-феноменологическое «Я», согласно Гуссерлю, служит источником всех «предметов» – но только в качестве трансцендентальных предметов. Феноменология переживаний Гуссерля утверждает интенциональность любого переживания сознания.
В нашем исследовании представляется интересным рассмотреть интенцию, т.е. «нацеленность» сознания Фета на то или иное, без чего не состоялся бы образный мир, реальный или воображаемый, поскольку переживание «чего-то» как предмета образного мира в творческом сознании поэта просто не могло бы состояться. Сделаем это на примере стихотворения «На кресле отвалясь, гляжу на потолок...» В первой строчке, по которой оно и названо, – пространственное определение лирического героя, предикативности его к миру. Предикативность, выраженная глаголом «гляжу», фокусирует внимание лирического героя на «подвешенный кружок», который «вертится призрачною тенью». И этот «подвешенный кружок», вертящийся «призрачною тенью», становится толчком к воображенью («на задор воображенью»). С этого толчка начинается интенция творческого сознания Фета, благодаря чему выстраивается удивительная игра сознания, в которой очевидна дерзость поэтического мышления.
Таким образом, творческое сознание поэта начинается с акта восприятия этой «призрачной тени», именно она становится предметом интенциональной «работы» сознания, благодаря которой выстраивается воображаемый мир с целым потоком переживаний, причем каждый воображаемый предмет становится следующим толчком к следующему воображаемому миру. Так, представший в воображении «зари осенний след» становится толчком для интенционального образа грачей, кружащихся «темным стадом». Союз «нет», отрицая первый концепт воображения, дает возможность выстраивания второй содержательной единицы сознания со второй вероятностной структурой с центральным интенциональным образом коней «у крыльца». Следовательно, создается два концепта: во второй строфе – концепт сомнения, нерешительности, в третьей – тоски, разлуки. Концепты дискретны, ментальный мир сознания лирического героя обуславливается коррелятами в первом случае следа «зари осенней» с «темным стадом» кружащихся грачей, во втором случае «трепетные руки», «бледность прекрасного лица» соотносятся с «горестной разлукой». Оба концепта являются конструктом авторского сознания в его интенции и вместе с тем художественно-образное выражение коррелятов в концептах отражает сущность действительного мира. Так, «зари осенний след», с одной стороны, – воображаемый мир, но он как предмет интенционального акта определяется через явления действительного мира («Грачи кружатся темным стадом...») в их пространственном выражении («Над кровлей, кажется, и садом...»). Или, «кони у крыльца», «трепетные руки», «бледность прекрасного лица» – воображаемые образы и вместе с тем в них – черты вполне реальной женщины. В осно ве поэтических концептов стихотворения лежит принцип ассоциативного мышления, о котором как характерном для восточного средневековья говорили в предыдущих частях работы. Подобным типом мышления объясняется принцип двучленного параллелизма, на котором выстроена тропеическая система этого стихотворения («кони у крыльца» – «трепетные руки», «Бледность прекрасного лица»).
Стоит обратить внимание на способы формирования концептов в творческом сознании Фета. Чувственный опыт у Фета является определяющим. Так, зрительно воспринятый «подвешенный кружок» дает толчок для интенциональной игры сознания. Первый «плод» этой игры – «зари осенней след» представляет собой зрительно-цветовую картину. В третьей строфе – звуковое восприятие («Нет, то не крыльев шум, то кони у крыльца!»). Следующая строка этой строфы – «Я слышу трепетные руки» – свидетельствует уже о сложном восприятии, оно может быть истолкованным как сочетание чувственного и нечувственного восприятия чувственного содержания предмета, поскольку слышание трепета рук, если воспользоваться определением Н. Лосского, есть «углубленное духовное созерцание чувственных качеств предмета» [1: 177]. Да и образ со звуковым восприятием («Нет, то не крыльев шум, то кони у крыльца»), воспринимаемый в контексте предыдущей строфы, тоже плод духовного созерцания чувственно воображаемой картины. Духовное созерцание и определяет эмоционально-психологическое наполнение концептов стихотворения, которые восходят к основному – «воображение».
Любопытна перекличка мотивно-образной системы с композицией этого концепта. Четырехстрофное стихотворение, благодаря мотиву вглядывания, имеет кольцевую композицию: «На кресле отвалясь, гляжу на потолок...» – препозиция концепта воображения, «Молчу, потерянный, на дальний путь глядя...» – заключение этого концепта. Концепт «воображение» выражен через мотив «кружение», который в свою очередь определен образом кружка над лампой («Над лампой тихою подвешенный кружок / Вертится призрачною тенью»).
Известно, что существенными в формировании концептуальной системы в художественной картине мира являются концепты объекта, места (топоса), действия, пространства, времени, признака и т.д. Рассмотрим концептуальную систему образов в стихотворении «Весеннее небо глядится...» (1844, цикл «Мелодии»). Концепты объекта в произведении – явления природы (небо, тень, огонек, месяц) – даны в предикативности, определяется картина мира природы в ее очеловеченности: «небо глядится», «тень ложится», «огонек трепещет», «месяц бежит». В отражении пространства преобладает чувственная (образная) форма в эмоциональном ее выражении: «Весеннее небо глядится / Cквозь ветви мне в очи случайно, / И тень золотая ложится / На воды Блестящего Майна». Кроме названных объектов, в стихотворении есть два других, основных, смысловых, это «звуки» и «память», которые определяют целый ряд других стихотворений поэта и являются опорными в авторском сознании Фета. Концепт «душа скрипок» вписан в концепты явлений природы. Так, последний концепт «огонек» («огонек одинокой», трепещущий «под сумраком липок») определяет концепт «душа скрипок», его эмоциональное содержание: «душа замирающих скрипок» «исполнена тайны жестокой». Наречие «вдали», с которого начинается вторая основная часть стихотворения, расширяет семантику образа одинокого огонька. Оно выражает не только определение пространства мира по горизонтали (до этого в первой строфе было восприятие пространства по вертикали: «весеннее небо» – верх, «на воды» – низ), но и определение движения в пространство души. Концепт реального объекта «душа скрипок – музыка» пробуждает феноменологический объект – память, через который выстраивается еще один пласт картины мира. Благодаря эмоционально-чувственному восприятию мира происходит движение от объектов внешнего природного мира к объектам внутреннего феноменологического мира (звуки – объект внешнего мира, память – объект внутреннего мира). Причем «звуки» являются связующим звеном между объектами природного мира и объектами внутреннего мира, ибо «Напомнили силой чудесной / Они мне все сердцу родное». «Звуки» стали толчком для пробуждения игры воображения. Творческое сознание Фета всегда вольно или невольно выискивает «толчковый» образ, с которого начинается игра воображения. Первые шесть строк стихотворения представляют зрительно воспринятую картину природы, первая строфа выписывает как бы случайно схваченные образы, первые два стиха второй строфы, как говорили выше, эмоционально приближают к основному мотиву-концепту стихотворения. И в этом зрительно воспринятом мире – «душа замирающих скрипок», которая приводит в движение душу лирического субъекта, и «Ожившая память несется / К прошедшей тоске и веселью...» Если внешний, природный мир дается только в пространственном, физическом его определении (вербально выражено предлогами), без движения, предикативность выражает некое экзистенциальное состояние – вот он мир, а «вдали огонек одинокой...», то внутренний мир лирического субъекта, разбуженный и ведомый «душей замирающих скрипок», мир «ожившей памяти», дается в движении – в движении души:
Ожившая память несется
К прошедшей тоске и веселью;
То сердце замрет, то проснется
За каждой безумною трелью.
Эмоционально-чувственным определением этого движения является образ «тоскливой тайны» («Но быстро волшебной чредою / Промчалась тоскливая тайна...»). «Промчалась тоскливая тайна» и лирический герой как бы возвращается в реальный мир, который вдруг увиден в движении: «месяц бежит полосою / Вдоль вод тихоструйного Майна».
Реальный земной пейзаж или предметное пространство реального мира необходимы Фету для того, чтобы подойти к тому образу-толчку, с которого начнется интенциональный акт представления картины мира как воспоминания. Интенциональный акт воспоминания формирует в поэтической структуре некую эмоционально-чувственную картину мира, которая определяется более высоким уровнем проявления духовности лирического субъекта, его внутреннего, интимного мира. Н.О. Лосский, исследователь чувственной, интеллектуальной и мистической интуиции в человеке, писал: «Память есть способность, предполагающая более глубокое единство субъекта с миром, чем чувственная восприимчивость по поводу наличного телесного раздражения, следовательно, она есть более высокое проявление духовности» [1: 176]. Естественно, что в акте воспоминания участвуют физиологические процессы в центральной нервной системе. У Фета это, как правило, зрительное, слуховое восприятие какого-либо предмета, явления природы, которые и становятся толчком интенционального акта воспоминания. (В стихотворении «Весеннее небо глядится...» – слуховое восприятие звуков скрипок, в стихотворении «Вчера я шел по зале освещенной...» – зрительное восприятие «залы освещенной», в стихотворении «Бал» – слуховое восприятие музыки, в стихотворении «Я был опять в саду твоем...» – зрительный образ аллеи и т.д.) Конечно, инициатива в этом акте исходит не от вспоминаемого объекта (предмета, личности), а от субъекта. Объективная сторона воспоминания отличается от объективной стороны восприятия. Лосский утверждает, что у лиц, называемых эйдетиками, «вспоминаемое предстоит в первичных и даже во вторичных воспоминаниях с чувственною полнотою, равною полноте восприятия <...> Неудивительно поэтому, что бывают случаи, когда восприятие и представление воспоминания так приближаются друг к другу, что становится возможным смешение их: восприятие можно принять за воспоминание, и наоборот» [1: 177].
Если говорить о творчестве, в частности лирике Фета, то, естественно, интенциональный акт воспоминания как фантазия, творящая «временной момент» (Гуссерль), предполагает большую чувственную полноту: субъект (лирический герой) вслушивается, всматривается и т.д. в объект своего воспоминания. Неудивительно поэтому, что вспоминаемое всегда почти кажется воспринятым. Так, в стихотворении «Вчера, увенчана душистыми цветами...» (1855) уже первым словом «вчера» интенция авторского сознания определяется памятью, однако лирический субъект воспоминания выражен во всей полноте чувственного восприятия, что дает возможность определения его не только в каких-то действиях, поступках, мыслях, чувствах и т.д., но он, этот лирический субъект, дается в картине мира, воспринятом не как прошлое, а актуализированном до мгновений:
Вчера, увенчана душистыми цветами
Смотрела долго ты в зеркальное окно,
На небо синее, горевшее звездами,
В аллею тополей с дрожащими листами, –
В аллею, где вдали так страшно и темно.
В картине мира Фета, созданной памятью как «представление воспоминания» (Лосский), актуализируется-конструируется мгновение за мгновением. Память воскрешает не целый объект-картину мира, а создается последовательность мгновений в цепочке воспоминаний. Так, действие «смотрела» составляет целую гирлянду точек, каждая из которой становится актуальным объектом в интенциональном акте воспоминания: «смотрела... в зеркальное окно, на небо синее..., в аллею тополей..., в аллею, где...»
Память лирического субъекта как сфера фантазии Фета становится источником представлений времени: время – череда мгновений. Плавно текущие мгновенья образуют картину-содержание стихотворения: каждая строфа – точка-мгновенье в цепочке мгновений. Вместе с тем мгновенье у Фета дискретно: каждая точка памяти – отдельный эпизод стихотворения со своим пространством (в первой строфе – пространство «зеркального окна», во второй – пространство «зала», в третьей – «беседки»).
Ощущения в фантазии Фета приобретают постоянно изменяющийся временной характер, и содержание каждой точки мгновенья в каждый последующий момент становится отодвинутым в прошлое: в первой строфе даются ощущения восприятия лирическим субъектом лирического объекта, смотрящего долго «в зеркальное окно», что становится выражением фантазии, творящей первый, отправной, момент представлений (временной момент), во второй – лирический объект в ситуации бала «в зале» определяет ощущения лирического субъекта, являющиеся выражением следующего временного момента, в третьей строфе ощущения переживания лирическим субъектом своего «я» в ситуации ожидания возлюбленной характеризуют еще один временной момент. Таким образом, в стихотворении три эпизода с тремя хронотопами («окно», «зал», «беседка»), которые и составляют единую картину как память-фантазия с тремя точками-мгновеньями.
Рассмотренное стихотворение как нельзя лучше демонстрирует интенциональный акт воспоминания Фета, а именно то, как, пытаясь извлечь предмет рассуждения из прошлого, память поэта каждый раз извлекает лишь точку (мгновение, деталь), с которой и начинается поток сознания, а именно движение внимания от одной точки, связанной с прошлым, к другой.
В контексте сказанного любопытно заметить, что именно этим объясняется темпоральная природа воспоминания. Фантазия Фета формирует из прошлого представление настоящего: действие лирического субъекта определяется глаголом прошедшего времени «смотрела», смысловое же его выражение прочитывается через настоящее время – настоящее прошедшего. В картине мира, созданного памятью, нет прошлого, ибо оно актуализируется, поскольку оно существует в душе. Настоящее прошедшего и есть память. Следовательно, интенциональный акт воспоминания Фета делает сущим прошлое, которое актуализируется благодаря памяти.
О том что творческое сознание благодаря способности воображения, представляет (актуализирует) несуществующее, можно судить уже по логике Бл. Августина (354–430), христианский неоплатонизм которого господствовал в западно-европейской философии и катологической теологии до XIII века: существует только настоящее время, ибо говорить о прошлых и будущих событиях, значит, говорить о том, чего нет. Как, например, можно, видя зарю, – рассуждает он, – предсказать восход солнца и даже представлять его? Последнее, по мнению Бл. Августина, возможно только, если представление восхода, которому надлежит произойти в будущем, присутствует как настоящее в душе. Воображаемая картина восхода есть также настоящее, как и созерцаемая картина зари [цит. по: 2: 135].
Идея вечно длящегося настоящего, неразрывно связанного с прошлым лежит в основе принципа «возврата к древности». Данная идея, как мы говорили в одной из предыдущих глав, лежит в основе художественно-эстетических систем средневековых восточных литератур, о чем на примере арабской философской поэзии пишет Б.Я. Шидфар.
Творческое сознание Фета, определяющееся в первую очередь чувственным восприятием окружающей действительности, т.е. получением знания и принятием решения по подсказке чувств, способствует конструированию картины мира, нарисованной не аналитиком, а вдохновенным художником, сердцем ощущающим свое единство с мирозданием, субъект-объектную неразделенность. О чувственном восприятии как основном в структуре постижения действительности, о том, что и на высших этапах процесса постижения не появляется ничего сверх чувственных ощущений, преобразованных и организованных различными средствами, в том числе и опорой на начало разума и памяти, говорит философия Ибн Араби.
Процесс постижения (основной вопрос гносеологии искусства) Ибн Араби понимает как рациональное познание, а также как чувственное восприятие и память. Человек, считает философ, «постигает» познаваемое благодаря той или иной «силе», или способности: ощущению, т.е. одному из пяти чувств; воображение, которое организует в определенной форме ощущения, беря их либо в том виде, как они передаются непосредственно органами чувств, либо уже упорядоченными мыслью; мыслительной силе, всегда направленной на сущие вещи и черпающей информацию от чувств, «начал разума» (интуитивно ясные истины) или «сокровищности воображения»; разумной силе, которая обеспечивает связность и упорядоченность мысли, памяти [3: 59].
Русский философ-интуитивист Н.О. Лосский в своей книге «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция» пишет: «Мое учение об интуиции не есть проповедь нового, необычного способа познания, это – новая теория старых, обычных способов знания – чувственного восприятия, памяти, воображения и мышления (суждения, понятия и умозаключения)» [1: 138]. Лосский, как и Ибн Араби, считает, что весь мир, включая природу, человека и даже Бога, познается нами так же непосредственно, как и мир субъективный, мир нашего «Я».
С целью постижения художественной когнитивности в картине мира Фета любопытно рассмотреть выражение темпоральных актов творческого сознания поэта, конституирующих схватывание временных различий реального мира, а также характер адъективной предикативности, чем объясняются определенные представления о мире в виде концептов времени, пространства; живого, мертвого, мгновенья, вечности и т.д.
Возьмем несколько стихотворений из цикла «Мелодии», на примере которых рассмотрим время в потоке сознания лирического героя Фета. Так, в стихотворении «Давно ль под волшебные звуки...» (1842) в сознании лирического героя всплывает несколько эпизодов из прошлого. Уже первым словом стихотворения «давно ль» определяется случай вторичной памяти (воспользуемся некоторыми терминами Э. Гуссерля – теоретика по проблемам осознания временных различий): лирический герой пробегает по событиям в памяти-фантазии, он как будто видит сначала одно событие, потом другое, третье, причем каждая Теперь-точка воспоминания сопровождается музыкальным тоном («волшебные звуки», «песнь погребенья», «чудные звуки»), в каждый определенный момент памяти некоторый тон музыки находится в Теперь-точке: в первой Теперь-точке памяти – «волшебные звуки», во второй – «песнь погребенья», в третьей – «чудные звуки». Создается кольцевое музыкальное обрамление событий памяти: в первой и третьей строфах музыка «волшебна», «чудна». При схватывании «теперь» являющегося («под волшебные звуки носились по зале мы»), как бы теперь услышанного тона формируется первичная память только что как бы услышанных тонов и ожидание еще тех, которым предстоит прийти. Следующая Теперь-точка («пели песнь погребенья») тоже обладает для сознания темпоральным обрамлением («вчера»), которое осуществляется в непрерывности схватываний памяти, и совокупное воспоминание событий состоит в континууме темпоральных обрамлений («давно ль», «вчера», когда-то в прошлом). В конечном итоге, когда представленные в памяти события, воспринимаемые как музыка с двумя контрастными мелодиями («волшебные звуки», «песнь погребенья»), но с финальными «чудными звуками», завершили свое протекание, к этому Как-будто-Слышанию присоединяется, если говорить на языке Гуссерля, первичная память: некоторое время звучит Как-будто-Услышанное, непрерывность схватывания еще не исчезла, она очевидна, но уже более не как слышимая. Последние две строчки: «Под чудные звуки мы с нею / Носились по зале вдвоем» – и создают эффект ретенции, отсылающей сама в себе к впечатлению. Время в художественной структуре произведения сужается: от «давно ль» к «вчера», но это «вчера» может интенционально «взорваться» вновь воспроизведением: вспомненное не воспринимается в сознании лирического героя как настоящее, оно не есть теперешнее событие, но только что прошедшее, произошло воскрешение в памяти, воспроизведение.
Любопытно глагольное выражение эмоционального состояния лирического героя в каждой Теперь-точке. Так, в первой Теперь-точке («Носились по зале мы») непереходный глагол с семантикой живого определяет коннотативное значение – были носимы судьбой. Переходный глагол во второй Теперь-точке говорит о конкретном жизненном факте, перевернувшем судьбу («пели песнь погребенья»). Коннатативное значение глагольной формы в третьей Теперь-точке («Она... спала / Я спал») – в семантике уже мертвого, мертвого по воле судьбы.
Характер адъективной лексики обнаруживается в этом стихотворении в концептах живого и мертвого, отражающих сущности действительного мира, а также, что для нас важнее, конструкты самого творческого сознания. Первая половина антитезы выражена строками: «Теплы были нежные руки / Теплы были звезды очей». Понятие «теплы были» включает в себя признаки живого. Выбор интерпретации при восприятии рук предопределен, прежде всего, языковой привычкой (язык влияет на способ понимания действительности). Вместе с тем в этом образе – оценочная категоризация с чувственной и эмоциональной основой; восприятие лирическим героем «нежных рук» возлюбленной и осмысление их в соответствующем определении – «теплы». С другой стороны, в этом образе – рациональная оценка, которая выражает характер строений семантических подсистем, предполагающих полярность рациональных оценок: «Теплы были нежные руки» – «песнь погребенья», «луна мертвецом». Во второй строчке первой половины антитезы («Теплы были звезды очей») в эмоциональной оценке восприятия «живого» содержится эстетическая оценка. Таким образом, эстетическая оценка «живого» основана на синтезе сенсорных и психологических оценок, выраженных достаточно сложными по структуре значениями: «звезды очей» теплы. Следовательно, семантическое пространство краткого прилагательного «теплы» расширяется, создается эстетический концепт Фета, в основе которого вербальный опыт, языковая привычка говорить о концепте «живое» как о теплом. Антитеза живое-мертвое («Теплы были звезды очей» – Стояла луна мертвецом») и выражает художественно-эстетическую, а также философскую концепцию произведения. В основе этой антитезы – фетовский концепт, отражающий коллективное и авторское сознание. «Звезды очей» – символически насыщенный знак русской культуры, потому может стать культурным концептом, используемым Фетом в своем эстетическом концепте.
Вторая половина антитезы живое-мертвое определяется конкретно-бытийным опытом, а именно тем, что было, что осталось в памяти лирического героя как некий зрительный опыт: «Без крыши гробница была; / Закрывши глаза, без движенья, / Она под парчою спала». Если в первой половине антитезы – «Теплы были звезды очей», то во второй – «Закрывши глаза, без движенья». Причастие «закрывши» здесь выполняет функцию определения – глаза неподвижны, мертвы. Наслоение на конкретно-бытийный опыт чувственного опыта и формирует эстетический концепт Фета с субъективным, авторским выражением адъективной предикативности картины мира: «Стояла луна мертвецом», т.е. стояла луна мертвой.
В следующем стихотворении «Шумела полночная вьюга» (1842), как и в предыдущем, вспоминается прошлое. Конституирование воспроизведения событий по вторичной памяти (определение Гуссерля) имеет единственную Теперь-точку: «Мы сели с ней друг подле друга». Любопытно выражение адъективной предикативности мира двоих с самого начала произведения. Так, определение топоса («В лесной и глухой стороне») становится и хронотопом, поскольку в нем и происходит действие, характер которого определен первой строкой стихотворения. Эмоционально-психологический эффект, дающий состояние катарсиса, достигается благодаря игре пространственными категориями. Так, образ вьюги «в лесной и глухой стороне» создает одно пространство, открытое пространство внешнего мира, причем коннотативное значение этого образа сводится к экзистенциальной мысли. Характер действия («Мы сели с ней друг подле друга») предполагает замкнутое, самодостаточное пространство, но образ валежника, свистящего на огне, как бы вставляет пространство двоих в пространство открытое, пространство «полночной вьюги / В лесной и глухой стороне», чем и определяется драматизм отношений. Первая строка стихотворения, таким образом, становится ключевой в осмыслении эмоционально-психологического содержания произведения.
Во второй строфе пространство двоих вновь определяется через пространство открытое, концепция которого выражена образами: «теней громады / Лежали на красном полу», «нечем прогнать эту мглу». Адъективная предикативность мира, созданного этими образами, в его трагизме, выражающемся в эмоционально-оценивающемся концепте «красный пол». Семантика этой метафоры в отсутствии любви: «А в сердце ни искры отрады...» И третья строфа выстроена по той же схеме – пространство двоих вставлено в пространство открытое: «Березы скрипят за стеною. Сук ели трещит смоляной...» Звуковые эффекты усиливают эмоциональное выражение ощущения трагизма. Риторический вопрос «Что с тобою?» с рефренной реакцией на него («Я знаю давно, что со мной!») – свидетельство отсутствия диалога между двоими.
Любопытно, что именно открытое пространство имеет звуковое выражение («шумела вьюга», «валежник свистал», «березы скрипят», «сук ели трещит»), определяющее кольцевое строение композиции, что дает усиление эмоционально-психологического содержания стихотворения. Не случайно, Теперь-точке памяти предваряется шум «полночной вьюги», который и является маркером эмоционального тона повествования, выраженного глагольными формами: «мы сели...», «друг мой, скажи». Таким образом, предикативность картины мира определяется, с одной стороны, глаголами («шумела», «свистал», «скрипят», «трещат»), с другой – адъективной лексикой («полночная вьюга», «глухой стороне», «теней громады», «на красном полу», «сук ели смоляной»). Семантика как глагольной, так и адъективной лексики и определяет концепты творческого авторского «я» с его эмоционально-чувственным опытом переживаемых ощущений любви.
Интересно в выражении потока памяти временное оформление глаголов. В Теперь-точке памяти вьюга «шумела» (глагол прошедшего времени), как сказали выше, глагольная метафора становится эмоциональным тоном повествования. Само повествование определено глаголом прошедшего времени в функции настоящего («мы сели»). Во второй строфе предикативность «теней громады» выражена опять глаголом прошедшего времени («лежали»), а в повествовательной части – глагол в инфинитивном выражении («и нечем прогнать»), семантика которого – отсутствие действия, поступка. В третьей строфе глаголы настоящего времени («скрипят», «трещит») определяют характер эмоциональных метафор, а в повествовательной части – глагол повелительного наклонения «скажи» в риторическом вопросе и глагол настоящего времени «знаю» в предложении, констатирующем факт, состояние: «Я знаю давно, что со мной!»
И, наконец, еще раз остановимся на определении «И наших двух теней громады» с кратким прилагательным («теней громады») в выполнении номинативной функции. Позиция подлежащего является главным условием субстантивации разных частей речи. Слово «громады» имеет свойства существительного и прилагательного. С другой стороны, объективация грамматической семантики происходит не только в направлении существительного, но и в направлении глагола – тени громадны. Грамматическая семантика прилагательного соединяет эти две далекие друг от друга части речи. Следовательно, предикативность мира двоих выражена через образ «теней громады», краткое прилагательное в котором в номинативной функции предельно осложняет образ: предикативность в нем не только в определении теней как громадных, но и в глагольной семантике (тени громадны). С другой стороны, предикативность выражается глаголом «лежали» («теней громады лежали») и прилагательным «красном» («лежали на красном полу»). Причем семантика образа теней сама по себе является осложненной по причине возможной символичности. «И наших двух теней громады / Лежали на красном полу» – образ с подтекстом. Тень, например, в восточной философии и есть человеческая жизнь, или, вернее, жизнь – это только тень. Таким образом, символическая семантика образа говорит о том, что человеческая жизнь в ее «громаде» в Теперь-точке памяти «лежала на красном полу», т.е. сгорала, уничтожалась, именно поэтому «в сердце ни искры отрады».
Таким образом, попытка постичь художественную когнитивность в творчестве Фета привела нас, с одной стороны, к философскому осмыслению потока сознания в творческом «я», с другой – к необходимости понять саму образную структуру поэта не только с точки зрения художественности, но и языковой ее выраженности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Лосский Н.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М., 1995.
2. Гутнер Г. Категория модальности и математическое существование // Вопросы философии. 1998. № 9. С. 120–138.
3. Смирнов А.В. Великий шейх суфизма. Опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби. М., 1993.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Диалог творческого сознания А. Фета с Хафизом – ярчайший образец синтеза культурных традиций Востока и Запада, свидетельство нового типа мышления, универсального, синтезирующего, способного охватить Мир как Целое, Мир как Единое в его множественности.
Художественная система лирики Фета в отношениях «Фет – Хафиз» может определяться как «высказывание вторичное» по отношению к «высказыванию первичному», а все творчество – как «единый текст». В результате художественная система Фета представляется интересной не просто в сравнительно-сопоставительных отношениях с восточной поэзией, но и как явление смены интенций творческого сознания, вписавшее лирику Фета в парадигматическую систему культур, в русский романтизм.
А. Фет в Хафизе нашел созвучное своему «я» – «я» поэта. Поэт с романтическим типом мироощущения даром творческой интуиции осознал в Хафизе синкретизм как тип художественного мышления, для которого характерно познание Мира в субъектно-объектной неразделенности. (По мнению отдельных ученых, синкретизм восточного типа познания мира как принцип мышления становится предтечей синергетики.)
Идея Целого, в основе которой желание понять Природу, исходя из нее самой, из законов Бытия, а не представлений человека о нем, формируется в парадигматических культурах: в восточной средневековой поэзии, в романтизме (Гейне, Гете – на Западе, Фет, Тютчев – в России), в символизме. В средневековой художественной картине мира, позже в картине мира романтизма, символизма слово включено в бесконечный «парадигматический ряд», имеет значительное число синонимов. В «парадигматическом ряду» важным оказывается слово в индивидуальном осмыслении. Но какова бы ни была протяженность «парадигматического ряда» во всех трех структурах, он все же ограничен реальным масштабом текста, подчиненного художественно-эстетическим канонам литературного направления (течения), который и определяют тропеическую систему, «парадигматический ряд» слов-образов. Все три типа поэзии отработали внешнюю сторону знака (тропа), исходные концептуальные схемы. Так, система тропов в суфийской поэзии определялась устойчивой парадигмой, направляющей ход мыслей поэта. Причем устойчивая парадигма задавала довольно ограниченное количество тропов, как правило, пары образов, которые становились отправными при создании стихотворений. Романтики были уверены в тождестве «слова» и «дела» – в совпадении высказывания и обозначаемого им физического действия (И.П. Смирнов). Художественная система символизма характеризуется семиотизацией действительности – возникновением таких представлений о предметно-фактическом мире, согласно которым всякая вещь есть знак (И.П. Смирнов).
Внутреннее содержание образа-символа во всех трех типах поэзии выражает отношение человека с Миром по законам самой Природы: идея Целого определяет внутреннюю форму восточной средневековой поэзии; «стать природой» у Фета – выражение Красоты как имманентного качества Природы, человеческой души, силы которой направлены на реорганизацию действительности по законам высшего порядка; внутреннее содержание символического образа у символистов сливается с некоторой идеальной сущностью явлений.
Синкретизм художественного мышления поэтов средневековья становится привлекательным для западного искусства второй половины XIX – начала ХХ в. (Гейне, Гете, Бодлер). Неосинкретизмом назовут интерес к архаическим формам художественного мышления, проявленный в русской литературе (Фет, Тютчев, Пастернак), когда природа предстает «живой и говорящей не на метафорическом, а на каком-то ином языке, но ее жизнь и язык не поддаются логике субъектно-объектных и причинно-следственных отношений» (С.Н. Бройтман).
Фет даром творческой интуиции улавливает суть архаической формы художественного мышления Хафиза, которая определяется синкретизмом – типом мышления человека Востока, когда идея жесткой корреляции устроения бытия и понимание человеком этого устроения позволяли средневековому поэту выстроить целостную систему воззрения на мир, осмысленного как сущее в целом. Идея Целого («потаенное сущее» как «сущностный источник») определяет художественную парадигму лирики Фета. Идея Целого, как единое и множественное одновременно, лежит в основе единственного универсального художественно-эстетического концепта Фета – концепта Красоты, который в форме парадигматического набора возможных вариантов развития многомерного Целого представлен в диалоге двух начал как единство противоположного (стихотворение «О, если бы озером был я ночным...»). Обладая широким набором смысловых единиц парный образ «Я – Ты» свидетельствует о гармоническом единстве Мира, его целостности и многообразии (бытие понимается, по утверждению философии Ибн Араби, как единое и множественное одновременно). Через это стихотворение («перевод» из Хафиза) можно выйти на веер парадигматических определений-валентностей, представленных в целом ряде других стихотворений Фета, что позволяет осмысление основной художественно-эстетической формулы поэта – Любовь – Красота, к которой и сводится весь континуум бытия, вся жизнь во всех ее множественных проявлениях.
Веер парадигматических определений-валентностей выражен в лирике Фета целым рядом символических образов (парный образ соловья и розы, образ ветерка, тени), мотивов (мотив опьянения, мотив любви), образным языком параллелизма, кумуляции. Все это – формы проявления синкретизма, который был характерен для средневековой арабской, персидской поэзии, в частности, для Хафиза и через него был интуитивно воспринят и освоен творческим сознанием Фетом.
Вся лирика Фета является выражением переживания сокровенного, полноты Бытия, высшего мига сопричастности Целому. Неразделенность субъекта-объекта в сопереживаниях определяет вхождение в прямое общение с Целым, благодаря чему происходит переосмысление художественного принципа метафоры, формируется новое осмысление системы тропов. Так, символические образы в творческом сознании Фета становятся метафорами, тяготеющими к прямому (конкретному) значению. Образуется «реализованный троп, опирающийся на сочетаемость слова в его прямом значении» (Н.А. Кожевникова).
Таким образом, обращение Фета к творчеству Хафиза образует в русском романтизме ХIХ в. то «резонансное пространство», в котором диалог «Фет – Хафиз» выводит на глобальную проблему синтеза культурных традиций Востока и Запада в пространстве художественного творчества. Проблема эта, занимавшая умы человечества на протяжении, как минимум, двух последних веков, продолжает оставаться актуальнейшей. Хочется верить, что современные методологические искания будут способствовать более активному решению данной проблемы.
Примечания
1
Центральное купольное сооружение, в котором, по мнению Шпенглера, магическое мирочувствование, магическая душа арабской культуры, достигло своего выражения и получило развитие по ту сторону римской границы. Для несторианцев оно стало единственной формой, распространяемой ими с манихеями и маздаистами от Армении вплоть до Китая. Форма эта триумфально проникает и в базилику Запада. В Южной Франции, где еще во время крестовых походов существовали манихейские секты, форма, пришедшая с Востока, прошла полную акклиматизацию. Купольная базилика распространялась из Византии и Армении в сторону России. Заключая свои рассуждения, Шпенглер пишет: «Множество мотивов, принятых Ренессансом за античные, как-то крытый двор и сочетание арки с колонной, берут свое начало именно оттуда» (С. 381). Сказанное об архитектуре Шпенглер демонстрирует и на примере орнаментики, которая в соблазнительно прелестном виде предстала юной художественной воле Запада как искусство арабески. «Фаустовская душа готики, уже самим арабским происхождением христианства ведомая по пути своего благоговения, ухватилась за богатую сокровищницу позднеарабского искусства. Арабесочный узор, – утверждает Шпенглер, – опутывает фасады кафедральных соборов Бургундии и Прованса, обуздывает магией камня Страсбургского Мюнстера и повсюду, в статуях и порталах, в узорах тканей, резной работе, металлических изделиях, не в последнюю очередь в кудреватых фигурах схоластического мышления и в одном из высочайших западных символов, в легенде о святом Граале, ведет скрытую борьбу с северным прачувством викингской готики» (Шпенглер О. Закат Европы: в 2 т. Т. 1. М., 1993. С. 383–384).
(обратно)2
А.Р. Никл в книге «Испано-арабская поэзия и ее связи с поэзией старых провансальских трубадуров» стремится документально доказать влияние арабо-испанской поэзии на провансальскую поэзию XI–XIII вв. (ученый анализирует творчество Гильома IX Аквитанского, Маркабрюна, Рюделя). А.Р. Никл обращает внимание на факты, которые позволяют сделать вывод о знакомстве первых провансальских трубадуров с арабской поэзией. Он истолковывает близость поэзии провансальских трубадуров и арабо-испанской поэзии как «подражание» и «заимствование» первой у второй.
Контактные связи подробно анализируются и в работе Р. Менедеса Пидаля «Арабская поэзия и поэзия европейская» (первая редакция – 1938 г.). Пидаль приводит «неопровержимые данные о распространенности и популярности мавританско-андалусской песни задолго до путешествия Гильома IX в Сирию» (Куделин А.Б. Арабо-испанская строфика как «смешанная поэтическая система» (гипотеза Х. Риберы в свете последних открытий) // Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М.: Наука, 1974. С. 379–414, 381–382). Р. Менендес Пидаль приводит и иные доказательства того, что «испано-мавританская песня была известна» во Франции. Отказ многих ученых признать влияние арабско-андалусской песни на провансальскую лирику Р. Менендес Пидаль рассматривает как следствие «ложного убеждения, что между христианской и мусульманской культурами не было никакого духовного взаимодействия» (там же. С. 382) .
Противники «арабской гипотезы» считают, что знакомство европейцев с арабо-испанской поэзией еще не является строгим доказательством ее влияния на провансальскую лирику. Гипотеза Х. Риберы вносила существенно новый элемент в освещение механизма контактных связей – устойчивый билингвизм носителей арабо-испанской поэзии. Свои взгляды на проблему Х. Рибера впервые изложил в 1912 г. Образец «смешанной поэтической системы» Х. Рибера видит в произведениях известного поэта Андалусии Ибн Кузмана (ок. 1080–1160). Ученый отмечает переплетение двух языков (арабского и романского) в поэзии Ибн Кузмана, находит отличия его стихотворений от арабской классики. Наряду с этим Х. Рибера отнюдь не отрицает родства поэм (заджалов) Ибн Кузмана с арабской традиционной лирикой. Анализ творчества Ибн Кузмана позволяет Х. Рибере сделать вывод о гибридности заджальной формы.
Х. Рибера подчеркивает, что смешанная арабо-романская народная поэзия существовала уже в конце IX в., т.е. намного раньше появления в Провансе первого трубадура. Таким образом, исходя из этого обстоятельства, Х. Рибера считает возможным объяснить происхождение поэзии трубадуров андалусским влиянием. Х. Рибера, противник «арабской гипотезы», вынужден признать, что «близкое сходство между обеими лириками – андалусской и провансальской, большая древность первой при наличии несомненной связи между обеими заставляют сделать вывод о том, что андалусская является моделью для провансальской, а значит, и всех европейских более поздней даты. Так как андалусская, с другой стороны, распространилась по всему мусульманскому миру – через Северную Африку на восток, то диван Ибн Кузмана, отражающий эту андалусскую лирику, является тем ключом, который объясняет механизм всех лирических систем культурного Средиземноморья» (там же. С. 388).
(обратно)3
Согласно гетевскому мифу, в Люцифере олицетворено стремление к первоначальной внутренней разобщенности, разъединению единого, эгоцентризму, стремлению концентрировать все в себе самом, в «самости». В «Поэзии и правде» Гете пишет: «Поскольку же все зло <...> пошло от Люциферовой односторонности, то вполне понятно, что сотворенному им бытию недоставало лучшей его половины: ибо в нем было все, что может дать концентрация, сплоченность, и не было ничего, что дает экспансия, распространение. Таким образом, довершенное Люцифером творение, пребывая в извечной концентрации, само размололо и уничтожило бы себя вместе с отцом своим Люцифером и посему уже не могло бы посягать на вечность, равную божественной». Уничтожив зло, Элохимы в «силу своей бесконечности» устранили сей изъян мироздания. «Они одарили бесконечное бытие способностью распространяться и восходить к первоистоку. Необходимый пульс жизни был восстановлен, и сам Люцифер не мог уже избегнуть его воздействия. В эту эпоху появилось то, что мы называем светом, и началось то, что мы привыкли обозначать словом “творение”. <...> Все еще не было сотворено существо, призванное восстановить изначальную связь с всевышним. И вот был создан человек, во всем сходствующий с божеством, более того – ему подобный, который, однако, именно поэтому вновь оказался в положении Люцифера, то есть был одновременно и безусловен и ограничен. <...> Прошло немного времени, и он в точности сыграл роль Люцифера. Покинуть своего благодетеля – высшая форма неблагодарности, и это вторичное отпадение возымело столь же великие последствия, ибо весь сотворенный мир был и есть не что иное, как вечное отпадение и вечный возврат к первоистоку» (перевод Наталии Ман) (Гете И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда. М., 1969. С. 267–268).
(обратно)
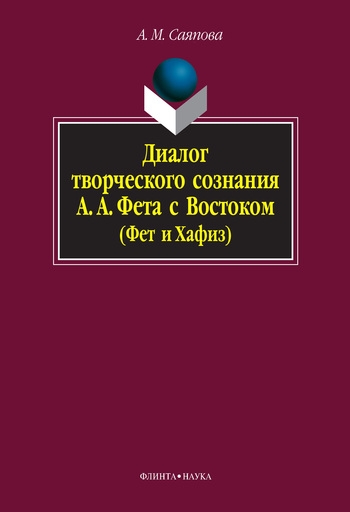
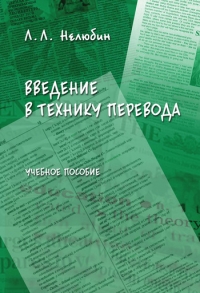

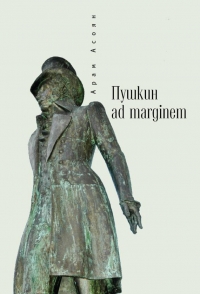
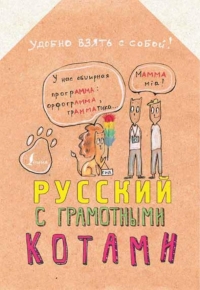



Комментарии к книге «Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз)», Альбина Мазгаровна Саяпова
Всего 0 комментариев