Сергей Александрович Тузков, Инна Викторовна Тузкова Неореализм: Жанрово-стилевые поиски в русской литературе конца XIX – начала XX века
Введение
Движение литературы возможно лишь как диалог различных эстетических систем, стилевых течений, концепций мира и человека.
В первой трети XIX века классический реализм противостоял романтизму, в последней трети – модернизму: преодолев романтическую эстетику, реализм пережил период расцвета (середина XIX века) и кризиса (рубеж XIX–XX веков), но не исчез из литературы, а видоизменился. Изменение реалистической эстетики было связано с попыткой реализма адаптироваться к мироощущению человека рубежа столетий, к новым философско-эстетическим и бытовым реалиям. В русской литературе эта попытка реализовалась в два этапа: в конце XIX века, в первую очередь в творчестве В. Гаршина, В. Короленко и А. Чехова; затем в начале XX века в творчестве М. Горького, Л. Андреева, М. Арцыбашева, Б. Зайцева, А. Ремизова, Е. Замятина и др.
В результате возникла новая реалистическая эстетика – неореализм: реализм, обогащенный элементами поэтики романтизма и модернизма.
В современном литературоведении термин «неореализм» принято употреблять в качестве определения постсимволистского стилевого течения в русской реалистической или модернистской литературе начала XX века, т. е. неореализм рассматривается как течение внутри реализма или модернизма1. Вместе с тем всё больше учёных склоняется к мысли о необходимости пересмотра выработанных прежде понятий, терминологического аппарата, формирования нового подхода к типологии литературного процесса ушедшего столетия: в частности, предлагается расширить рамки даже настолько устоявшегося понятия в истории русской литературы, как «Серебряный век»2. На наш взгляд, и смысловой потенциал термина «неореализм» шире, чем литературное явление, которое им обычно обозначают. Логично расширить область его употребления: нам представляется, что неореализм следует рассматривать в одном ряду с реализмом и модернизмом – как литературное направление, а не течение. Неореализм формируется в одно время с модернизмом (последняя четверть XIX века) и развивается параллельно с ним в течение всего XX столетия3. Думается, что в данной трактовке понятие «неореализм» содержит прямое указание на то, что художественные открытия рубежа XIX–XX веков предопределили характер развития русской литературы на протяжении всего XX столетия. Кроме того, в таком расширении смысла уже устоявшегося понятия содержится мысль о принципиальной новизне литературно-художественного сознания XX столетия по отношению к русской классической литературе.
В классическом реализме XIX века человеческая природа поверяется алгеброй рационального дискурса. На рубеже XX века (fin de siecle) формула художественного сознания предыдущего столетия изживает себя: реализм уже не может претендовать на роль универсальной эстетической системы, способной объяснить мир, – модернизм и неореализм возникают в качестве антитезы рациональной картине мира. Волны модернистских и неореалистических течений накатывались одна за другой, стараясь сокрушить именно это представление, прежде всего за счёт расширения сферы смысла. Но если в модернизме открытие новых смысловых пространств нередко становилось самоцелью (отсюда потребность в эпатаже), то в неореализме главное – прорыв к новой художественной реальности, лежащей на грани реалистического и романтического или реалистического и модернистского искусств.
Неореализм, подобно модернизму, включает в себя множество течений. У представителей различных неореалистических течений прорыв к новой художественной реальности проходил по-разному.
Субъективно-исповедальная (песси-/оптимистическая) и субъективно-объективная парадигмы в неореализме конца XIX века (В. Гаршин, В. Короленко, А. Чехов) складываются в результате взаимодействия реалистических и романтических принципов отражения действительности4; импрессионистическо-натуралистическая (Б. Зайцев, A. Куприн, М. Арцыбашев), экзистенциальная (М. Горький, Л. Андреев, В. Брюсов), мифологическая (Ф. Сологуб, А. Ремизов, М. Пришвин) и сказово-орнаментальная (А. Белый, Е. Замятин, И. Шмелёв) парадигмы в неореализме начала XX века формируются на основе взаимодействия реализма и модернизма.
В 1-й главе нашего пособия определяется роль лирического начала во взаимодействии реалистического и романтического принципов отражения действительности, что позволяет увидеть «диалектику субъективного и объективного в стиле»5. Среди русских писателей конца XIX века романтическая стилевая тенденция наиболее ярко выразилась в творчестве B. Гаршина, В. Короленко и А. Чехова. Их поэтика в интересующем нас аспекте рассматривается в работах Г. Бялого, В. Каминского, Т. Маевской и др.6 Xарактерно, что среди способов воссоздания романтической образности в реалистической литературе конца XIX века все исследователи называют лиризм – однако подробно на проблеме лирического начала в произведениях В. Гаршина, В. Короленко и А. Чехова никто из них не останавливается, ограничиваясь отдельными указаниями на лирическое звучание пейзажа, экспрессивность романтической символики и т. п. Таким образом, характер лиризма В. Гаршина, В. Короленко и А. Чехова, функции и способы его выражения всё ещё нуждаются в тщательном изучении и конкретном анализе. Разумеется, нами рассматриваются лишь наиболее характерные формы выражения лирического начала в творчестве этих писателей, анализируются лишь те произведения В. Гаршина, В. Короленко и А. Чехова, в которых, как нам представляется, наиболее ярко проявляется специфика их лиризма.
Во 2-й главе речь идёт о преодолении традиционного реализма в русской литературе начала XX века: здесь рассматривается модернистская стилевая тенденция в творчестве писателей-неореалистов. Их произведения анализируются в жанрово-стилевом аспекте – предпочтение отдаётся жанру повести как «промежуточному» между рассказом и романом7. Повесть – исконно русский литературный жанр, имеющий давнюю письменную традицию. Но в своём современном виде она начала формироваться лишь с 20-х годов XIX века. В период утверждения и развития реализма наметились общие тенденции эволюции повести – её жанровые разновидности широко представлены в творчестве А. Пушкина, Н. Гоголя, И. Тургенева, Л. Толстого, Ф. Достоевского и других писателей XIX века. В начале XX столетия повесть продолжает развивать структурные возможности своего жанра, вбирая в себя черты, свойственные другим видам повествовательной прозы (роману, рассказу, очерку, мифу), и сама оказывая на них влияние. В связи с этим при изучении различных жанровых разновидностей повестей Л. Андреева, А. Белого, Б. Зайцева, М. Арцыбашева, А. Ремизова, Е. Замятина, М. Пришвина и других писателей-неореалистов нами учитываются две взаимоисключающие тенденции процесса жанрообразования: взаимодействие с другими жанрами и стремление сохранить жанровую самобытность. При этом мы принимаем во внимание, что развитие жанров в начале XX века идёт ко всё большему многообразию, ко всё большей индивидуализации: теоретическое понятие жанра уже не определяет особенностей тех индивидуальных форм, которые он принимает в творчестве отдельных писателей.
* * *
Неореализм рассматривается нами как литературное направление, включающее в себя романтическую и модернистскую стилевые тенденции, которые возникли на общей реалистической основе в процессе взаимовлияния – вплоть до синтеза – романтического, реалистического и модернистского искусств. Разумеется, предложенная нами типология неореализма дискуссионна и потребует уточнения.
Глава 1 «Реализм + романтизм»: Лирическое начало в русской прозе конца XIX века
Положение о том, что реализм усвоил и развивает лучшие традиции предшествующих литературных направлений (среди них и традиция романтического искусства), стало общим местом в современной науке о литературе: исследователи отмечают влияние романтической поэтики на творчество И. Тургенева, Н. Лескова, В. Гаршина, В. Короленко, А. Чехова и других русских писателей-реалистов1. Тем не менее теоретические аспекты «возрождения романтизма» в литературе рубежа XIX–XX веков до конца не прояснены. Ясности, как справедливо указала некогда Т. Маевская, «мешает неупорядоченность терминологии, нечёткость исходных установок». Одни исследователи видят в этом явлении синтез романтического и реалистического методов, высказывают предположение, что романтические тенденции в реалистической литературе этого периода усиливаются настолько, что приводят к качественной перестройке реализма («романтический реализм», «романтико-реалистическая двуплановость»); другие рассматривают романтические явления в литературе конца XIX – начала XX века как стилевую тенденцию в реализме2. При этом все они в своих работах в той или иной мере обязательно касаются и проблемы лиризации эпического повествования, однако эта проблема, как правило, не находится в центре их внимания.
Тем не менее в основном именно усилиями исследователей, писавших о романтических тенденциях в реализме рубежа XIX–XX веков, в современном литературоведении накоплено немало интересных наблюдений над способами выражения лирического начала в творчестве писателей конца XIX века, в том числе В. Гаршина, В. Короленко и А. Чехова. Однако, если на субъективно-исповедальный характер творчества В. Гаршина и В. Короленко указывают практически все из них, то понятие «чеховский лиризм» ещё нередко вызывает возражения, поскольку в творчестве А. Чехова лирическое начало получило очень сложную, скрытую форму существования3. К тому же, по мнению большинства исследователей, лиризм В. Гаршина и В. Короленко носит ярко выраженный романтический характер и этим существенно отличается от лиризма А. Чехова, который, с их точки зрения, остаётся в рамках реалистического метода отражения действительности. В частности, М. Соколова считает, что «именно в характере лиризма сказывается (…) отличие художественного метода В. Короленко от особенностей реалистической манеры А. Чехова»4.
Специфические черты лиризма В. Гаршина рассматриваются в названных выше работах Т. Маевской, В. Гусева и др., но при этом, как правило, имеются в виду стилевые качества его произведений: субъективный тон, аллегоричность и символичность художественных образов, повышенная экспрессивность языковых средств и т. п. В связи с этим принципиальное значение имеет утверждение И. Московкиной, которая полагает, что характер соотношения субъективного (лирического) и объективного (эпического) в прозе регулируется особенностями не только метода, стиля, но и жанра: «Поскольку лиризм является одним из составляющих родовых начал и, следовательно, выполняет структурообразующие функции на всех уровнях художественных произведений (…) есть все основания говорить о жанровой природе лиризма в творчестве В. Гаршина»5.
Глубокую характеристику лиризма В. Короленко даёт Н. Пиксанов в статье, специально посвящённой данной проблеме. Анализируя такие лирико-символические произведения писателя, как «Сказание о Флоре и Менахеме» и «Необходимость», он указывает на ритмическое строение, «общую музыкальность» прозы В. Короленко, звучность его языка; отмечает умение писателя «немногими, но точными и меткими чертами воссоздать в слове подлинный пейзаж», рядом с которым у В. Короленко «идёт лирика природы, им самим пережитая и заражающая читателя»; вместе с тем исследователь убедительно показывает, что «лиризм В. Короленко антропоцентричен» и в связи с этим выделяет основные лирические мотивы в творчестве писателя: лирика борьбы за свободу, лирика социальной неправды, заболевшей общественной совести, вера в разум и др.6
Интересные наблюдения над лирическими аспектами в творчестве В. Короленко содержат статьи М. Соколовой, В. Азбукина и С. Снопковой, Л. Пожиловой, Е. Синцова. Эти исследователи, рассматривая лиризм в произведениях В. Короленко как одно из средств художественного обобщения явлений действительности, указывают на субъективность повествователя, изображающего не столько действительность, сколько своё к ней отношение, определяют роль разнообразных художественных средств в создании лирико-романтической образности, выделяют различные способы ритмизации его прозы7.
Особенно противоречивы точки зрения исследователей на соотношение объективного и субъективного начал в произведениях А. Чехова: одни из них утверждают доминирование объективного начала (В. Тюпа), другие указывают на тяготение прозы А. Чехова к лирике (В. Линков), третьи отмечают соединение объективных и субъективных элементов в стиле А. Чехова (Э. Полоцкая, М. Гиршман)8. Наиболее убедительной представляется последняя точка зрения, которой мы и будем придерживаться в дальнейшем.
1.1 Субъективно-исповедальная парадигма: Вс. Гаршин – В. Короленко
1.1.1. «Быть как дети» – Всеволод Гаршин
«Attalea princeps»
«Красный цветок»
«Ночь»
Скромное по объёму литературное наследие В. Гаршина – важнейший вклад в развитие жанра рассказа, остававшегося долгое время в русской литературе на втором плане. Глубоко оригинальное по выбору тем и их трактовке, основанное на автобиографических событиях, личных переживаниях и наблюдениях, творчество В. Гаршина отдельными мотивами восходит к Ф. Достоевскому и Л. Толстому, перекликается с В. Короленко и предвосхищает А. Чехова. Субъективно-исповедальный характер творчества писателя неоднократно отмечался критикой конца XIX века и современным отечественным литературоведением1. Очень определённо субъективно-исповедальное начало проявляется в тех рассказах В. Гаршина, где повествование ведётся в форме первого лица: персонифицированный рассказчик, формально отделённый от автора, фактически выражает его взгляды на жизнь («Четыре дня», «Происшествие», «Очень коротенький роман», «Трус», «Xудожники» и др.). В тех же рассказах писателя, где повествование ведётся условным повествователем, который не входит непосредственно в изображаемый мир, дистанция между автором и героем несколько увеличивается, но и здесь значительное место занимает самоанализ героя, который носит лирический, исповедальный характер («Ночь», «Красный цветок», «То, чего не было», «Сказка о жабе и розе», «Сказание о гордом Аггее», «Сигнал», «Лягушка-путешественница» и др.).
Лиризм В. Гаршина непосредственно связан с романтической традицией. Не случайно во всех его рассказах поднимается традиционная для романтического искусства тема борьбы добра и зла, звучат лирико-романтические мотивы веры в человека, больной совести («Происшествие», «Ночь»), подлинного искусства («Художники»), борьбы с мировым злом («Красный цветок»), борьбы за свободу («Attalea princeps») и др.
Двуплановость повествования, соотнесённость прямого, реалистического подхода с символико-романтическим позволяет В. Гаршину сочетать в одном произведении раскрытие характеров своих персонажей в эпической и лирической плоскостях: с одной стороны, характеры персонажей в его произведениях изображаются как бы со стороны, предстают в развитии, в окружении других людей и событий; с другой – они даны через подробное, углублённое изображение субъективных переживаний, в описание которых автор вкладывает своё определённое эмоциональное отношение. Причём логический акцент всегда делается именно на лирических, подчёркнуто субъективированных частях повествования. Не случайно сам писатель называл свои рассказы «страшными воплями» и в то же время «стихами в прозе»2. Своего рода синтез характерных для В. Гаршина лирико-романтических мотивов и приёмов авторского самораскрытия представлен в рассказах «Attalea princeps», «Красный цветок» и «Ночь», анализ которых даёт возможность получить достаточно полное представление о специфике гаршинского лиризма.
Авторское присутствие в произведении у В. Гаршина прочно связано с движением сюжета, без которого невозможно верно проследить развитие характеров героев, понять особенности их взаимосвязей с социальным окружением. Контур сюжета рассказа «AT-TALEA PRINCEPS» (1879) составляет борьба героини за свободу. Условно это произведение можно разделить на четыре части, каждая из которых включает в себя один из элементов сюжета:
• описание оранжереи и характеристика героини (экспозиция);
• разговор между растениями (завязка конфликта);
• описание борьбы пальмы за свободу (кульминация);
• финал: разочарование и гибель героини (развязка).
Первые три части, примерно равные между собой по объёму, передают содержание основного действия произведения с характерным для него лирико-романтическим пафосом; заключительная часть выделена в самостоятельный в композиционном отношении эпизод (по объёму он почти вдвое короче предыдущих), который как бы вносит в повествование объективную, реалистическую поправку. В «Attalea princeps» господствует голос автора-повествователя, речь же героев занимает сравнительно немного места. Причём авторские описания – менее всего нейтральные описания, они неизменно окрашены эмоциями повествователя. Эмоциональная достоверность достигается в них преимущественно за счёт активной позиции интерпретирующего, оценивающего и сопереживающего автора-повествователя, путём повышения экспрессивности его речи.
Остановимся подробнее на структуре сюжета рассказа В. Гаршина. Он имеет довольно пространную экспозицию, включающую в себя описание оранжереи и характеристику пальмы. Описанию оранжереи посвящены два абзаца, в которых представлены по принципу контраста два взгляда на оранжерею: снаружи («Она была очень красива: стройные витые колонны поддерживали всё здание; на них опирались лёгкие узорчатые арки, переплетённые между собой целой паутиной железных рам, в которые были вставлены стёкла…» [с. 111]) и изнутри («Сквозь толстые прозрачные стёкла виднелись заключённые растения. Несмотря на величину оранжереи, им было в ней тесно. Корни переплелись между собою и отнимали друг у друга влагу и пищу. Ветви дерев мешались с огромными листьями пальм, гнули и ломали их и сами, налегая на железные рамы, гнулись и ломались. Садовники постоянно обрезали ветви, подвязывали проволоками листья, чтобы они не могли расти, куда хотят, но это плохо помогало. Для растений нужен был широкий простор, родной край и свобода…» [с. 111])3. Контрастность изображения в данном случае становится одним из средств выявления авторских симпатий.
Элемент красоты в описании оранжереи (В. Гаршин даже сравнивает её с драгоценным камнем: «Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освещало её красным светом. Тогда она вся горела, красные отблески играли и переливались, точно в огромном, мелко отшлифованном драгоценном камне…» [с. 111]) лишь усиливает представление о неестественности состояния, в котором находятся «заключённые» растения. Эпитет «заключённые» также воспринимается в свете экспрессивно-оценочной позиции писателя как форма выражения авторского идеала: осмысление оранжереи, её замкнутого пространства как тюрьмы вводит в повествование важный для развития центральной сюжетной коллизии лирико-философский мотив несвободы, который образует как бы лирическую увертюру рассказа4.
Выявлению и активизации образа автора-повествователя способствует также своеобразие ритмико-интонационного строя произведения. У В. Гаршина одной из форм выражения авторского лиризма становится экспрессивная интонация, которая часто выступает на первый план и настойчиво подчёркиваемая автором превращается в интонационный лейтмотив произведения, окрашивая в тона элегической медитации наиболее важные в идейном отношении части повествования. Так, лирически окрашенное высказывание автора «Как ни прозрачна стеклянная крыша, но она не ясное небо» [с. 111] уже в экспозиции вносит в повествование со временем постоянно усиливающийся оттенок сочувствия героине. В свою очередь, обилие параллельных синтаксических конструкций (в данном случае параллелизм проявляется в одинаковом построении: глагол + зависимый компонент), нанизывание родственных слов и форм создают ритмическую напряжённость текста, усиливают его экспрессию.
Центральный лирико-романтический мотив рассказа – мотив тоски по утраченной свободе, тоски по родному краю, близкий, как указывает А. Латынина, «романтическому мотиву иной, чаще всего небесной родины, воспоминания о которой не дают романтическому герою принять прозу будничного земного существования»5, – отчётливо проступает в символическом параллелизме: В. Гаршин вводит в повествование образ «бразильянца», которому прекрасная пальма напоминает родину («А бразильянец долго стоял и смотрел на дерево, и ему становилось всё грустнее и грустнее…» [с. 112]), а затем углубляется в психологической характеристике Attalea («Была между растениями одна пальма, выше всех и красивее всех… Она была совсем одна… она лучше всех помнила своё родное небо и больше всех тосковала о нём, потому что ближе всех была к тому, что заменяло им его: к гадкой стеклянной крыше» [с. 112]).
В эпизоде с «бразильянцем» В. Гаршин выделяет те подробности, которые могут служить выражением вполне определённых душевных состояний персонажа: с одной стороны, это ощущение счастья, связанное с воспоминаниями о родном крае, а с другой – чувство грусти, вызванное пребыванием на чужбине и побудившее его вернуться домой. В характеристике Attalea оно сменяется тоской, так как для пальмы возвращение на родину немыслимо: чувство тоски, испытываемое героиней, в данном контексте психологически мотивировано. Но существенно оно не столько само по себе, сколько как выражение того душевного состояния, в котором находилась Attalea, прежде чем решила всю себя подчинить одному стремлению, одной страсти – борьбе за свободу. При этом речь автора-повествователя, характеризующая героиню в плане её исключительности, приобретает яркую экспрессивность за счёт нагнетания повторяющихся определений, лексическое значение которых выражает высшую степень того или иного качества или признака. Эпитет «гадкий» также несёт в себе экспрессивно-оценочный элемент, выявляющий симпатии автора. Лексические и синтаксические повторы, многочисленные субъективно-оценочные эпитеты, интонационный строй и ритм приведённых фрагментов достигают своей цели, эмоционально заражая читателя авторским отношением к героине, побуждая его к сопереживанию.
Наметившееся в экспозиции противопоставление Attalea другим растениям усиливается во второй части рассказа, где описание сменяется драматизированной формой повествования. Растения ведут между собой разговор о жизни в оранжерее, во время которого в двух репликах Attalea, содержащих в себе, соответственно, – призыв к борьбе за свободу: «Послушайте меня: растите выше и шире, раскидывайте ветви, напирайте на рамы и стёкла, наша оранжерея рассыплется в куски, и мы выйдем на свободу…» [с. 113] – и принятие решения в одиночку вступить в борьбу и победить любой ценой: «Я и одна найду себе дорогу. Я хочу видеть небо и солнце не сквозь эти решётки и стёкла, – и я увижу!» [с. 114], – обозначается завязка художественного конфликта произведения. Вольнолюбивую Attalea В. Гаршин противопоставляет растениям, примирившимся со своей стеклянной темницей: она призывает их выйти вместе с ней на свободу, но в ответ слышит: «Глупости! Глупости! Несбыточная мечта! Вздор! Нелепость! Рамы прочны и мы никогда не сломаем их…» [с. 114].
В связи с этим следует отметить, что лирико-романтические мотивы отчуждения, одиночества являются непременными элементами психологической характеристики большинства героев В. Гаршина, но если в романтической литературе начала XIX века отчуждение героев нередко доходит до самых крайних форм – бегства или изгнания из родного края, преступления и т. п., то отчуждение героев В. Гаршина вынужденное: они трагически переживают своё одиночество и стремятся восстановить связи с окружающими, так как осознают личную ответственность за совершаемое в мире зло. В полной мере всё это относится и к героине рассказа «Attalea princeps», которой, несмотря на то, что она остаётся в одиночестве, оказывается чуждо сознание превосходства над другими и презрение к окружающим – черты, свойственные романтическому герою эгоцентрического типа («байронический герой»). Характерно, что даже к Маленькой травке, которая сочувствует ей, но ничем не может помочь, Attalea не остаётся равнодушной («Отчего же, маленькая травка, ты не хочешь выйти вместе со мною? Мой ствол твёрд и крепок; опирайся на него, ползи по мне. Мне ничего не значит снести тебя…» [с. 115]). Как справедливо отметил Г. Бялый, «самодовольное рабство одних и робкое, бессильное сочувствие других – вот чем объясняется одиночество Attalea»6, а вовсе не её индивидуализмом, не тем, что «она борется лишь за себя», на что ошибочно указывали некоторые исследователи7. Закономерно, что после того, как решение принято («Теперь я знаю, что мне делать. Я оставлю вас в покое: живите, как хотите, ворчите друг на друга, спорьте из-за подачек воды и оставайтесь вечно под стеклянным колпаком. Я и одна найду себе дорогу…» [с. 114]), душевное состояние героини изменяется; на смену тоске приходит желание любой ценой достичь своей цели: «Я умру или освобожусь» [с. 116].
Отметим, что лиризм здесь сосредоточен как в романтико-героическом пафосе эмоционально насыщенных монологов Attalea, так и во внутренних монологах Маленькой травки, которая в отличие от остальных растений с сочувствием относится к главной героине: «Если я, ничтожная, вялая травка, так страдаю без своего серенького неба, без бледного солнца и холодного дождя, то что должно испытывать в неволе это прекрасное и могучее дерево!.. Зачем я не большое дерево? Я послушалась бы совета. Мы росли бы вместе и вместе вышли бы на свободу. Тогда и остальные увидели бы, что Attalea права» [с. 114]. При этом даже нейтральная лексика, включаясь в логически-смысловые отношения контекста, приобретает яркую экспрессивность. Созданию напряжённой тональности способствует и ритмическая структура повествования. Ритмизация достигается прежде всего за счёт элементов синтаксического параллелизма: «я знаю, что мне делать»; «я оставлю вас в покое»; «я и одна найду себе дорогу»; «я хочу видеть небо и солнце…» и т. д. Xарактерно, что ритмизация гаршинской прозы, её напряжённый интонационный облик соответствуют драматизму изображаемых событий.
Авторский протест против несвободы звучит и в контрастном по сравнению с Attalea описании Маленькой травки: «Это была самая жалкая и презренная травка из всех растений оранжереи: рыхлая, бледненькая, ползучая, с вялыми толстенькими листьями. В ней не было ничего замечательного, и она употреблялась в оранжерее только для того, чтобы закрывать голую землю» [с. 114]. В образе Маленькой травки воплощается авторский идеал человеческой личности романтического плана, особо предрасположенной к сопереживанию горя и страдания, способной отказаться от собственного благополучия во имя уничтожения зла и торжества общей правды. Это уже мотив «Красного цветка» – лирика жертвенной гибели, однако иначе освещённый: не свободолюбивый подвиг, а нравственная красота самоотречения привлекает В. Гаршина в образе Маленькой травки. Не обладая силой и целеустремлённостью главной героини, она, совершая свой подвиг самопожертвования, разделяет её трагическую судьбу.
Вторая часть – единственная, в которой повествование строится в форме диалога между растениями; во всех остальных частях превалирует описательный элемент, хотя драматизированные формы повествования полностью не исключаются. Так, составляющее третью условно выделенную нами часть рассказа описание борьбы Attalea за свободу трижды прерывается лирически окрашенными драматизированными эпизодами: самодовольным монологом директора ботанического сада; репликами растений, в которых ощущается недоумённо-пренебрежительное отношение к пальме; диалогом Attalea и Маленькой травки, единственной из растений с волнением и сочувствием следящей за её борьбой. Иногда отношение В. Гаршина к героям рассказа (сострадание к Attalea, неприязнь к директору ботанического сада и т. п.) прорывается и открыто – в лирически окрашенных восклицаниях: «О, если бы она могла стонать, какой вопль гнева услышал бы директор!» [с. 115]. Гротескно-ироничное изображение директора ботанического сада также можно рассматривать как один из способов выражения авторского лиризма.
Давно замечено, что художественной манере В. Гаршина присущ приём, при котором объектом внимания становится тщательно выписанная деталь. В концентрированной «малой прозе» каждая деталь особо весома, приобретает порой символическое значение, выражая наиболее характерные черты изображаемого явления. Самые важные лейтмотивные детали, как правило, совмещаются с узловыми моментами сюжета. Так, в рассказе «Attalea princeps» сюжетообразующую роль играет эпитет «гордый», выступающий и как одно из образных средств лиризации повествования. Уже в экспозиции автор отмечает, что пальма «на пять сажен возвышалась над верхушками всех других растений, и эти другие растения не любили её, завидовали ей и считали гордою» [с. 113]. Завершающее экспозицию замечание автора «… когда растения болтали между собою, Attalea всегда молчала» [с. 13], с одной стороны, характеризует окружающих Attalea растений как обывателей, не способных подняться выше уровня пустой болтовни, а с другой – поясняет, почему они считали пальму гордою.
После завязки художественного конфликта, которая происходит во время разговора обитателей оранжереи, цепочка лейтмотивных деталей за счёт их варьированного повторения продолжает наращиваться, углубляя действие: выслушав Attalea, растения не изменяют представления о ней, скорее, наоборот, они утверждаются в своей правоте («…саговая пальма тихо сказала соседке цикаде: «Ну, посмотрим, посмотрим, как тебе отрежут твою большую башку, чтобы ты не очень зазнавалась, гордячка!» Остальные хоть и молчали, но всё-таки сердились на Attalea за её гордые слова» – с. 114).
Особенно выразительна «рифмовка» деталей в описаниях, которые следуют за эпизодами, содержащими завязку и кульминацию художественного конфликта. Если в первом случае, в описании, которое следует сразу после того, как Attalea приняла решение в одиночку вступить в борьбу за свободу, выражается точка зрения автора («И пальма гордо смотрела зелёной вершиной на лес товарищей, раскинутый под нею» [с. 114])8, то в аналогичном описании Attalea после того, как она пробила стекло оранжереи и вырвалась на свободу («Над стеклянным сводом гордо высилась выпрямившаяся зелёная корона пальмы» [с. 116]), выражена точка зрения директора ботанического сада («Он отбежал от оранжереи и посмотрел на крышу…» [с. 116]), который в системе художественных образов произведения по отношению к Attalea занимает место в одном ряду с растениями-обывателями: бунт пальмы не находит у него сочувствия, что закономерно приводит к решению спилить дерево9.
Приводя здесь точку зрения директора ботанического сада, В. Гаршин сознательно, на наш взгляд, вводит в заблуждение читателя, у которого (поскольку он вправе, исходя из контекста произведения, приписать данное замечание автору-повествователю) создаётся ложное впечатление, что Attalea испытывает чувство гордости, так как добилась своей цели, хотя – как выясняется в дальнейшем – на самом деле она разочарована. Делается это для того, чтобы ярче выявить контраст между концовкой основной части произведения и началом финала. Несмотря на то что кульминационный момент конфликта рассказа (освобождение героини) в фабульном времени и пространстве совпадает с развязкой (разочарование и гибель Attalea), в композиционном отношении развязка выделена в отдельную, самостоятельную часть произведения – финал.
В финале В. Гаршин вводит в повествование завершающий психологическую характеристику Attalea мотив разочарования («Только-то? – думала она. – И это всё, из-за чего я томилась и страдала так долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшею целью?» [с. 116]), несущий в себе немалую долю пессимизма самого писателя10. В этом контексте развитие лирико-романтической темы рассказа завершается, с одной стороны, таким описательным компонентом, как пейзаж, в котором используются эпитеты, передающие субъективно-эмоциональное восприятие героиней природы чужого ей мира по контрасту с природой её родины: «Она должна была стоять на холодном ветре, чувствовать его порывы и острое прикосновение снежинок, смотреть на грязное небо, на нищую природу, на грязный задний двор ботанического сада, на скучный огромный город, видневшийся в тумане…» [с. 117]; а с другой стороны, обобщающим лирически окрашенным высказыванием автора, включающим в себя несобственно-прямую речь: «И Attalea поняла, что для неё всё было кончено. Она застывала. Вернуться снова под крышу? Но она уже не могла вернуться…» [с. 117]. Здесь авторское сознание свободно проникает в сознание персонажа, по сути, сливается с ним. Фабульно развязка зеркально отражает завязку: Attalea, добившись своей цели, испытывает разочарование и гибнет, так как реальность оказывается не такой, как она себе представляла – достигнутая свобода не соответствует мечте о ней.
Любопытно, что интерпретация произведения В. Гаршина его современниками во многом зависела от того, акцентировали ли они своё внимание на героическом звучании основной части «Attalea princeps» или пессимистических нотах её финала. Так, М. Салтыков отказался опубликовать рассказ В. Гаршина в «Отечественных записках», увидев в нём не символ человеческого порыва к свободе, а «самый беспощадный фатализм, губящий всякую энергию… всякий светлый взгляд на будущее…»11. Напротив, Алкандров (А. Скабичевский), защищая В. Гаршина от упрёков в ретроградстве, утверждал, что Attalea «олицетворяет собою передовую и лучшую часть интеллигенции»12. Неадекватная реакция современников, которые зачастую чересчур прямолинейно трактовали иносказательный план повествования в рассказе, не учитывая заложенного в нём парадоксального начала, отчасти объясняется тем, что В. Гаршину удалось соединить нравственную, социальную и политическую проблематику своего времени в форме философской притчи, и хотя её художественные образы не поддаются однозначному толкованию, финал произведения заставляет вспомнить романтизм начала XIX века, в котором стремление к свободе сочеталось с мировой скорбью13.
Так возникает сложная ассоциативность художественного мышления В. Гаршина, которая ведёт к символизации действительности, на что, выступая против аллегорического прочтения рассказа «Attalea princeps» как иносказания борьбы «Народной воли» (такое прочтение сильно обуживало его смысл), указывали многие исследователи14. Действительно, если видеть в пальме, пробивающей потолок оранжереи, символ неудержимого человеческого стремления к свободе, то следует говорить не об аллегории как специфическом свойстве эстетических поисков В. Гаршина, а о символе, который, по выражению С. Аверинцева, «нельзя дешифровать простым усилием рассудка, он неотделим от структуры образа, не существует в качестве некоей рациональной формулы, которую можно вложить в образ и затем извлечь из него»15.
«Attalea princeps» – не единственный рассказ В. Гаршина, в котором чётко обозначились два плана: реальный и символико-романтический. По методу с ним наиболее схож рассказ «КРАСНЫЙ ЦВЕТОК». Жажда свободы, подвига, бунт героя, его трагическая разобщённость с окружающими – эти традиционные лирико-романтические мотивы с одинаковой силой проявляются в обоих произведениях. Но если в «Attalea princeps», как отмечает Т. Маевская, «романтический и реалистический пласты художественной структуры подчас смещены, как бы входят один в другой, что отвечало законам сказочного жанра, то в «Красном цветке» они соприкасаются, порой перемежаются»16. Не случайно первые критические отзывы оценивали «Красный цветок» либо исключительно как этюд на психопатологическую тему, либо как политическую аллегорию, хотя на метафорическом уровне восприятия рассказ прочитывается несомненно шире17.
Исследователи творчества В. Гаршина единодушно отмечают мастерство писателя, сумевшего достоверно с медицинской точки зрения передать страдания человека от психического недуга. В связи с этим особого внимания, естественно, заслуживает мнение специалистов в области психиатрии и в первую очередь современников В. Гаршина, известных врачей-психиатров И. Сикорского и Н. Баженова, которые также указывали на точность писателя в изображении клинической картины маниакального состояния (в частности, И. Сикорский увидел в «Красном цветке» «правдивое, чуждое аффектации и субъективизма, описание маниакального состояния, сделанное в художественной форме»)18.
Сохранилось немало свидетельств и об автобиографической основе содержания этого произведения: известно, что ощущения героя «Красного цветка» почти буквально совпадают с ощущениями периода болезни самого В. Гаршина, зафиксированными в разного рода источниках («По-видимому, всё содержание «Красного цветка» – кроме конца, конечно, – носит в высокой степени автобиографический характер и есть художественная исповедь самого Всеволода Михайловича»)19.
В этом же ряду стоит и утверждение А. Латыниной, с которым нельзя не согласиться, что «Красный цветок» мог написать только В. Гаршин. Индивидуальность творчества и индивидуальность судьбы так сплелись в «Красном цветке», что их уже трудно расчленить»20. Да и в целом на субъективно-исповедальный характер творчества В. Гаршина, как отмечалось выше, современные исследователи указывали прямо: «В. Гаршин настолько сливается с героями своих произведений, что его рассказы в подавляющем большинстве случаев приобретают характер лирической исповеди автора…»21. В связи с этим представляется справедливым мнение авторов учебного пособия «Поэтика В. Гаршина» (1990), которые полагают, что сумасшедший для В. Гаршина – «вовсе не аллегория революционера: его интересует взаимодействие сознания безумца и реального, здорового окружающего мира»22. В то же время, поскольку душевное состояние гаршинского героя противоположно психологии корыстного эгоизма, кажется очевидным, что он близок противостоящему нормальному, обыденному типу человека, которого Ф. Достоевский называл «идиотом», а Ф. Ницше – «глупцом» или «простецом23.
Однако проблематику рассказа «Красный цветок», разумеется, нельзя сводить лишь к добросовестному описанию симптоматики одного из психических заболеваний. Душевная болезнь здесь выступает как выражение критического начала, неприятия действительности. Она изображается как результат беспредельного страдания человека от «зла жизни». При этом намечается вполне определённая связь с романтической традицией, поскольку в романтическом искусстве образы душевнобольных людей нередко становились своеобразной метафорой болезненности современного мира вообще. Для В. Гаршина, очевидно, важно было подчеркнуть наличие в рассказе двух планов, той сложной образности, которая придаёт каждому поступку героя ещё какой-то иной, никак не выводимый из объективной реальности смысл. В художественном мире «Красного цветка» все предметы экспрессивно переосмыслены, и хотя существует реальная мотивировка такого переосмысления (больное сознание героя), тем не менее сдвинутость, сгущённость, яркая экспрессивность повествования принадлежит автору и производит мощное эмоциональное воздействие.
Контур сюжета рассказа «Красный цветок» составляет иллюзорная, несуществующая борьба героя с «мировым злом». В отличие от «Attalea princeps», где возможно лишь условное разделение повествования на части, поскольку сам автор не выделяет их в тексте своего произведения, рассказ «Красный цветок», как это нередко бывает у В. Гаршина (например, «Xудожники», «Ночь», «Надежда Николаевна» и др.) разбит на отдельные главы, в которых соответственно описаны:
гл. 1: первый день пребывания героя в сумасшедшем доме;
гл. 2: первая ночь;
гл. 3: утро следующего дня;
гл. 4: одержимость маниакальной идеей борьбы с «мировым злом», первое испытание героя;
гл. 5: второе испытание;
гл. 6: третье испытание и гибель героя.
Завязка художественного конфликта происходит лишь в четвёртой главе рассказа, – ей предшествует обширная экспозиция (1–3 главы), включающая в себя как изобразительно-описательные (портрет героя, описание больницы – в первой главе), так и лирически окрашенные драматизированные (диалог героя с доктором – в третьей главе) фрагменты. Но лежащую в основе художественного конфликта произведения лирико-романтическую идею обновления мира, искоренения «мирового зла» в иносказательном плане несёт в себе уже первая реплика героя, с которой собственно и начинается повествование: «Именем его императорского величества, государя императора Петра Первого, объявляю ревизию сему сумасшедшему дому!» [с. 195].
Драматизация начала активно вовлекает в действие читателя: он как будто без помощи автора, следуя только голосу персонажа, входит в художественный мир произведения. Однако автор-повествователь незримо сопровождает героя, то «цитируя» его высказывания, произнесённые вслух или мысленно, то рассказывая о нём как бы в «его тоне и духе». Этому служит прежде всего несобственно-прямая речь – тоже своего рода цитата, но скрытая, «раскавыченная» (здесь: повествователь – субъект речи, герой – субъект сознания). В гаршинском тексте косвенная речь постепенно, незаметно переходит, перетекает в несобственно-прямую, которая играет существенную роль в создании лирического плана произведения.
Обратимся к фрагменту из первой главы рассказа, где приводится описание больницы. Два первых абзаца – косвенная речь, в которой отчётливо разграничены субъект (автор-повествователь) и объекты (различные помещения больницы): «Это было большое каменное здание старинной постройки. Два больших зала, один – столовая, другой – общее помещение для спокойных больных, широкий коридор со стеклянной дверью, выходившей в сад с цветником, и десятка два отдельных комнат, где жили больные, занимали нижний этаж; тут же были устроены две тёмные комнаты, одна обитая тюфяками, другая – досками, в которые сажали буйных, и огромная мрачная комната со сводами – ванная…» [с. 196]. Содержание – объективно-информационно, интонация – нейтральна.
Однако в третьем абзаце повествовательная точка зрения изменяется: здесь описание даётся сквозь призму больного воображения героя. В сознании больного комната с липким каменным полом и тёмно-красными сводами, где помещаются «две каменные ванны, как две овальные, наполненные водою ямы» и «огромная медная печь с цилиндрическим котлом (…) и целой системой медных трубок» ассоциируется с застенками инквизиции, местом тайной казни и даже адом: «он пришёл в ужас и ярость. Нелепые мысли, одна чудовищнее другой, завертелись в его голове. Что это? Инквизиция? Место тайной казни, где враги его решили покончить с ним? Может быть, самый ад? Ему пришло, наконец, в голову, что это какое-то испытание…» [с. 197]. Вклинившиеся в косвенную речь эмоционально насыщенные вопросы – это несобственно-прямая речь в точном смысле слова.
Во фрагментах из четвёртой главы рассказа, где при описании маниакального состояния больного осуществляется завязка художественного конфликта («Он понимал, что вокруг него все больные (…) Он сознавал, что он в сумасшедшем доме…» [с. 202]), и из пятой главы, где объясняется, почему герой сорвал цветок в больничном саду («Он сорвал этот цветок, потому что видел в таком поступке подвиг (…). Он знал, что из мака делается опиум…» [с. 206]), косвенная речь переходит в несобственно-прямую в тех предложениях, в которых опускаются начальные фразы «он сознавал», «он думал», «он понимал», «он знал» и т. п.: «Он видел себя в каком-то волшебном заколдованном круге, собравшем в себя всю силу земли, и в горделивом исступлении считал себя за центр этого круга. Все они, его товарищи по больнице, собрались сюда затем, чтобы исполнить дело, смутно представлявшееся ему гигантским предприятием, направленным к уничтожению зла на земле…»; «Он сорвал этот цветок, потому что видел в таком поступке подвиг (…) В этот яркий красный цветок собралось всё зло мира (…) Это было таинственное, страшное существо, противоположность богу, Ариман, принявший скромный и невинный вид…» [с. 202, 206]. В свою очередь, обилие параллельных синтаксических конструкций создает ритмическую напряжённость текста, усиливая его экспрессию.
Несколько иначе строится фрагмент из шестой главы рассказа, в котором развитие художественного конфликта достигает кульминации: «Была тихая, тёплая, тёмная ночь; окно было открыто…» [с. 209]. Здесь также осуществляется переход косвенной речи в несобственно-прямую, но при этом используются другие, более тонкие средства. В этом фрагменте предложения с косвенной речью обращены к прошлому и настоящему, а с несобственно-прямой речью – к будущему времени: «…он видел бесконечные лучи, которые они (звёзды. – И.Т.) посылали ему, и безумная решимость увеличивалась. Нужно было отогнуть толстый прут железной решётки, пролезть сквозь узкое отверстие в закоулок, заросший кустами, перебраться через высокую каменную ограду. Там будет последняя борьба, а после – хоть смерть…» [с. 209]24.
Благодаря тому, что косвенная речь в приведённых фрагментах переходит в несобственно-прямую, разъединённые как субъекты речи герой и автор-повествователь объединяются и воспринимаются читателями как носители единого сознания. Возникающий при этом лиризм гаршинского рассказа выражает эмоциональное состояние героя; но поскольку он передаётся не прямой, а несобственно-прямой речью, то он переносится и на автора-повествователя, который действительно не только описывает, но и разделяет переживания героя, сочувствует ему. Так в прозе В. Гаршина происходит совмещение, казалось бы, далеко отстоящих друг от друга качеств – объективности и лиризма. В результате объективность, связанная с эпической описательностью, бесстрастностью, и лиризм, выражающий стихию субъективности, эмоциональности, сливаются в проникнутой лиризмом (лиризованной) объективности.
Таким образом, в рассказе В. Гаршина «Красный цветок» драматизация повествования создаёт, а его лиризация усиливает эффект присутствия читателя в художественном мире произведения: сначала он ощущает себя рядом с героeм, а затем все глубже проникает в его сознание.
Из многочисленных форм выражения лирического начала в рассказе В. Гаршина наиболее яркой, глубокой, несомненно, является зкспрессивная символика, переводящая содержание произведения из реально-бытового плана в символико-романтический. В художественной структуре рассказа многие повторяющиеся детали приобретают символическое значение, причем гаршинские образы-символы, как правило, неоднозначны. Основная нагрузка, естественно, ложится на лирико-символический образ красного цветка, который олицетворяет собой силы зла и в сознании героя ассоциируется с персонажем персидской мифологии – Ариманом, принявшим «скромный и невинный вид»25. Именно образ цветка, создавая обобщающее представление об основной теме рассказа, привносит в повествование эмоциональное напряжение: «В этот яркий красный цветок собралось все зло мира (…), он впитал в себя всю невинно пролитую кровь (оттого он и был так красен), все слезы, всю желчь человечества» [с. 206]. Но символика красного цвета в художественной структуре произведения В. Гаршина двупланова: с одной стороны, она вводит в повествование лирико-романтический пафос неприятия мира, основанного на зле и крови (красный цветок), тем самым усиливая тревожную атмосферу гаршинского рассказа; а с другой стороны, оказывается связанной с темой добра и милосердия (красный крест).
Также в двух значениях в рассказе использована символика креста: крест – знак мученичества (больным выдавали колпаки с красными крестами, и герой рассказа «само собою разумеется, придавал этому красному кресту особое, таинственное значение» [с. 204]) и крест – знак силы, крестного знамения (трижды срывая цветы, герой рассказа, чтобы не дать им «при издыхании излить все своё зло в мир», прячет их у себя на груди, сжав на ней руки крестом). Аналогичным образом В. Гаршин проводит мысль о двоякой сущности огня: огонь уничтожающий (герой, протянув руку к цветку, не сразу решается сорвать его, так как чувствует «жар и колотье в протянутой руке, а потом и во всем теле, как будто бы какой-то сильный ток неизвестной ему силы исходил от красных лепестков и пронизывал все тело» [с. 204]26; остатки сорванного, увядшего за ночь и растоптанного цветка герой бросает в «раскаленную каменным углем печь» [с. 207]) и огонь очищающнй («горящие» глаза гаршинского героя являются признаком того душевного горения, которое в художественном мире писателя становится главным критерием оценки личности).
Лирико-символическое значение в рассказе В. Гаршина «Красный цветок» приобретает и заключительный пейзаж, привносящий в повествование ощущение космического масштаба предстоящей битвы героя с «мировым злом»: «Была тихая, теплая и темная ночь; окно было открыто; звезды блестели на черном небе. Он смотрел на них, отличая знакомые созвездия и радуясь тому, что они, как ему казалось, понимают его и сочувствуют ему. Мигая, он видел бесконечные лучи, которые они посылали ему, и безумная решимость увеличивалась (…) Звезды ласково мигали лучами, проникавшими до самого его сердца. «Я иду к вам», – прошептал он, глядя на небо…» [с. 209]. В этом описании расшифровывается характерная для миросозерцания В. Гаршина оценка мира как борьбы добра и зла, справедливости и несправедливости, счастья и страдания, в которой не могут одержать победу положительные ценности. Здесь сливаются воедино, суммируются все основные лирико-романтические мотивы, используемые автором для характеристики героя – ненависть к злу, сострадание к людям, готовность к самопожертвованию.
Важнейшим источником лирического плана рассказа «Красный цветок» является портрет гаршинского героя: «Он был страшен… Воспаленные, широко раскрытые глаза (он не спал десять суток) горели неподвижным горячим блеском; нервная судорога подергивала край нижней губы; спутанные волосы падали гривой на лоб…» [с. 195]. Авторское отношение к герою, отраженное в описании его портрета, разъясняется в диалоге больного с доктором, выявляющем резкую противоположность их мировоззрений. При этом лиризм звучит как в пафосе речей героя, с которым он доказывает необходимость искоренения зла («Зачем вы делаете зло? Зачем вы собрали эту толпу несчастных и держите ее здесь?..» [с. 199]), так и в авторской иронии по отношению к доктору («Никакое начальство не пользуется таким почетом от своих подчиненных, каким доктор-психиатр от своих помешанных» [с. 200]), холодность и беспристрастие которого резко контрастирует с возбужденностью больного.
Свойственная произведениям В. Гаршина резкость, острота, однозначность художественного конфликта в «Красном цветке» передается композиционным обрамлением – соотнесением лирически окрашенных портретных характеристик героя в экспозиции и финале рассказа. В экспозиции портрет центрального персонажа произведения дан дважды (по принципу контраста) – в первой и второй главах рассказа. Если в первой главе в портрете героя внимание читателя акцентируется на деталях, свидетельствующих о его безумии: «…длинные рукава прижимали его руки к груди накрест и были связаны сзади. Воспалённые, широко раскрытые глаза (он не спал десять суток) горели неподвижным горячим блеском; …он быстрыми шагами ходил из угла в угол» [с. 195], то во второй главе, напротив, описание внешнего облика героя, характеризующее его в редкий момент прояснения сознания, призвано утвердить читателя в мысли, что «в нём не было ничего безумного»: «Лунный свет освещал (…) измученное, бледное лицо больного с закрытыми глазами (…) Это был глубокий, тяжёлый сон измученного человека, без сновидений, без малейшего движения и почти без дыхания» [с. 198].
Детали первой портретной характеристики неоднократно повторяются в ходе повествования, особенно в кульминационные моменты развития художественного конфликта (таких моментов можно выделить как минимум три, поскольку В. Гаршин в построении сюжета произведения использовал приём троекратного испытания героя, традиционно присущий сказочному жанру), сообщая тексту высокое эмоциональное напряжение:
• концовка экспозиции: «Больной почти не спал и целые дни проводил в непрерывном движении» [с. 202];
• 1-й кульминационный момент: «Он ходил, судорожно сжав руки у себя на груди крестом: казалось, он хотел раздавить, размозжить спрятанное на ней растение» [с. 205]; «…он вскочил с постели и по-прежнему забегал по больнице» [с. 207];
• 2-й кульминационный момент: «Но больной, уже лежавший на постели в привычной позе со скрещенными руками…» [с. 207]; «Страшно бледный, с ввалившимися щеками, с глубоко ушедшими внутрь глазных впадин горящими глазами, он, уже шатающейся походкой и часто спотыкаясь, продолжал свою бешеную ходьбу и говорил, говорил без конца» [с. 208];
• 3-й кульминационный момент: «Он лежал, одетый в сумасшедшую рубаху, на своей постели, крепко привязанный широкими полосами холста к железным перекладинам кровати. Но бешенство движений не уменьшилось, а скорее возросло. В течение многих часов он упорно силился освободиться от своих пут» [с. 208].
В финале произведения, где осуществляется развязка художественного конфликта: герой гибнет с чувством выполненного долга, так и не осознав призрачности, иллюзорности своей борьбы с «мировым злом», – в описании внешности центрального персонажа повторяются основные детали второй из представленных в экспозиции портретных характеристик героя: «Лицо его было спокойно и светло; истощённые черты с тонкими губами и глубоко впавшими закрытыми глазами выражали какое-то горделивое счастье. Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цветок. Но рука закоченела, и он унёс свой трофей в могилу» [с. 210]. В результате создаётся впечатление, что после смерти – об этом свидетельствуют черты облика героя, соотнесённые с его портретной характеристикой в момент прояснения сознания – герой рассказа как бы выздоравливает, т. е. становится другим человеком, у с п о к а и в а е т с я.
Таким образом, хотя автор-повествователь не введён в сюжетное действие рассказа, именно его речь, насыщенная эмоционально-выразительной лексикой, содержит те субъективные оценки, которые придают изображаемому обобщённое лирико-символическое значение. Однако субъективный, лирический характер повествования в основной части рассказа резко контрастирует с подчёркнуто объективной манерой повествования в финале: «Утром его нашли мёртвым…» [с. 270]. Это привносит в содержание рассказа ироническое начало: идеальность сознания гаршинского героя, не находящая почвы в реальности, приводит его сначала к безумию, а затем и к гибели с выражением «горделивого счастья» на лице. В наличии и необходимости вечной борьбы добра и зла состоит существо той ситуации выбора, которая для человека, по мнению В. Гаршина, всегда оказывается трагической: «Таково равновесие мира, в котором нейтрализуются противоположные начала» [с. 200]. Эта мысль завершает развитие центральной лирико-романтической темы рассказа «Красный цветок» постановкой вопроса об истребимости зла вообще и отрицательным ответом на него.
Тем не менее финал рассказа не снимает героико-романтическо-го пафоса произведения – сквозь его символы просвечивает множество смыслов. Более того, несмотря на то что «Красный цветок» заканчивается смертью героя, затронутые в нём проблемы остаются до конца не разрешёнными, обращёнными в будущее, к читателю, – что позволяет говорить об открытом финале гаршинского рассказа. Сходную форму открытого финала использует В. Гаршин и в рассказе «Ночь» (1860), который также завершается смертью героя, но в отличие от «Красного цветка» эффект достигается здесь, главным образом, благодаря внезапному, неожиданному для читателя разрешению конфликта (по принципу «вдруг»).
В композиционном отношении рассказ «НОЧЬ» представляется одним из наиболее сложных произведений В. Гаршина. Связано это с тем, что в рассказе о судьбе отчаявшегося, решившегося на самоубийство человека, размышления и колебания центрального персонажа, имеющие непосредственное отношение к моменту повествования, переплетаются с его воспоминаниями о прошлом и мечтами о будущем. При этом внешние события жизни героя для писателя оказываются несущественными и заменяются историей его переживаний. Герой рассказа погружается в себя, вспоминает всю свою жизнь с её «кажущимся разнообразием: с горем и радостью, с отчаянием и восторгом, с ненавистью и любовью», и приходит к выводу, что «все эти огорчения, радости, восторги и всё случившееся в жизни – всё это бестелесные призраки» [с. 118]. Осознание бессмысленности прожитой жизни приводит героя к мысли о самоубийстве: «Он думал, что видел всю свою жизнь; он вспомнил ряд безобразных и мрачных картин, действующим лицом которых был сам; вспомнил всю грязь своей жизни, перевернул всю грязь своей души, не нашёл в ней ни одной чистой и светлой частицы и был уверен, что, кроме грязи, в его душе ничего не осталось…» [с. 119].
Лиризм, подчёркнуто субъективный характер повествования обнаруживается в том, что оно проникнуто определённым эмоциональным отношением автора к центральному персонажу: глубоким сочувствием к его переживаниям, к настойчивым усилиям разобраться в путанице личных и общественных отношений, к его стремлению определить, наконец, место в жизни, достойное настоящего человека. Предельная душевная обнажённость, сообщающая тексту высокое эмоциональное напряжение, свидетельствует о том, что перед нами художественно воплощённая авторская исповедь: акцентируя внимание читателя на нерешительности и колебаниях героя, на его неуверенности в собственных силах и моральных принципах, попытках самооправдания и углублённости в себя, В. Гаршин подчёркивает прежде всего те свойства характера Алексея Петровича, которые закономерно приводят его к утрате целостности мировосприятия. В результате в повествовании возникает своеобразное «многоголосие» – сочетание голоса автора-повествователя и раздробленного голоса героя: «Он дошёл до такого состояния, что уже не мог сказать о себе: я сам. В его душе говорили какие-то голоса: говорили они разное, и какой из этих голосов принадлежал именно ему, его «я», он не мог понять. Первый голос его души, самый ясный, бичевал его определёнными, даже красивыми фразами. Второй голос, неясный, но привязчивый и настойчивый, иногда заглушал первый. «Не казнись, – говорил он: зачем? Лучше обманывай до конца, обмани всех. Сделай из себя для других не то, что ты есть, и будет тебе хорошо». Был ещё третий голос… но этот голос говорил робко и едва слышно. Да он и не старался расслышать его» [с. 120]. Это часто ставили В. Гаршину в вину, не учитывая, что такой прием совершенно закономерно обусловливается преимущественно лирическим способом раскрытия характера главного героя произведения27. К тому же, благодаря «многоголосию» повествования в художественную структуру рассказа вводится звуковой лейтмотив, который, указывая на изменение душевного состояния героя (по мере того, как Алексей Петрович в своей жизни обнаруживает правду детства, любви, христианских истин, голос лжи в его душе затихает, а голос правды становится громче; в конце рассказа первый превращается в шёпот, а второй – гремит), несёт в себе метафорический смысл: приняв решение «отвергнуть себя», убить своё «я», преодолев замкнутость индивидуалистического сознания, Алексей Петрович обретает наконец собственный голос.
Контур сюжета «Ночи» составляет рассказ о духовной эволюции, или прозрении героя, переосмысливающего всю свою жизнь28. Сюжетно-событийный, конкретно-бытовой план здесь предельно сужен и всё время прерывается планом рефлексирующего сознания героя. В результате движение сюжета идёт не по однообразно ровной линии, как в «Attalea princeps» или «Красном цветке», а волнообразно: время от времени возникают гипотетические кульминации, которые не осуществляются, и своего рода сюжетные всплески, которые, однако, тут же спадают, ни один из них не достигает степени кульминации. Происходит это, главным образом, потому, что гаршинский герой не способен на активное действие. Истинной же кульминацией в развитии художественного конфликта рассказа «Ночь» становится своего рода духовный взрыв в сознании героя. Однако прозрение приходит к Алексею Петровичу слишком поздно – в момент его смерти, когда сделать он уже ничего не может. Таким образом, кульминационный момент в развитии конфликта (прозрение героя) в фабульном времени и пространстве совпадает с развязкой (смерть Алексея Петровича), но в композиционном отношении развязка, как и в ранее рассмотренных произведениях В. Гаршина, выделена в отдельную, самостоятельную часть – финал.
Хотя формально всё повествование делится на шесть глав, к которым, как указывалось выше, примыкает композиционно обособленный финал, по существу, рассказ строится на противопоставлении двух частей, включающих соответственно 1–3 и 4–6 главы, объединённые общим настроением. В первой части доминирует лирический мотив ненависти, наиболее сильно выраженный в предсмертном письме Алексея Петровича с безумными проклятиями в адрес всего человечества (гл. 3); во второй части злоба и ненависть в душе героя сменяются восторгом, который был рождён открытием «настоящей жизни». Противопоставление этих двух настроений и образует лирический план произведения.
Завязка художественного конфликта происходит в первой же главе, концовка которой («…он стал торопливо вытаскивать из бокового кармана шубы револьвер» [с. 121]), становится одной из мнимых, гипотетических кульминаций в развитии конфликта, казалось бы, подготавливающих, приближающих, а на самом деле отодвигающих развязку. В композиционном ряду произведения концовка первой главы соотносится с центральным фрагментом третьей главы: «Ничто не могло помешать смерти…» [с. 126], – где излагается содержание письма Алексея Петровича (вторая гипотетическая кульминация), и с концовкой третьей главы: «… в открытое окно раздался далёкий, но ясный, дрожащий звук колокола. «Колокол!» – сказал Алексей Петрович, удивившись, и, положив револьвер снова на стол, сел в кресло» [с. 127], – являющейся переломным моментом в развитии действия, ещё одной гипотетической кульминацией.
При этом лиризм главным образом сосредоточивается во внутренних монологах Алексея Петровича, интонационный строй и ритм которых во многом определяется экспрессивностью разговорных синтаксических форм, однако автор-повествователь постоянно комментирует размышления героя, уточняет характер его рефлексии: благодаря авторским комментариям читатель узнаёт об Алексее Петровиче больше, чем он сам знает о себе: «Он не замечал, что, называя всю свою жизнь обманом и смешивая себя с грязью, он и теперь лгал тою же, худшею в мире ложью, ложью самому себе. Потому что на самом деле он совсем не ценил себя так низко…» [с. 120].
Речь автора-повествователя как бы продолжает размышления героя, сохраняя тот же напряжённый ритм, ту же тревожную интонацию. Зачастую во внутренних монологах Алексея Петровича, данных в форме несобственно-прямой речи, автор-повествователь сливает свой голос с голосом героя. В этой связи показательно, что содержание письма Алексея Петровича (а это один из наиболее сильных по эмоциональной напряжённости фрагментов повествования) передаётся с помощью косвенной речи, насыщенной прямыми цитатами из текста письма, которые, наряду с многочисленными внутренними монологами и диалогическими сценами в драматизированных эпизодах рассказа, усиливают эффект субъективности повествования: «Он писал, что умирает спокойно, потому что жалеть нечего: жизнь есть сплошная ложь… тем не менее он не считает себя хуже «вас, остающихся лгать до конца дней своих», и не просит у них прощения…» [с. 127]. Таким образом, экспрессивный синтаксис также можно рассматривать как одно из средств лиризации гаршинского повествования.
Вторая глава рассказа «Ночь» – единственная, где действие, в котором наряду с главным героем участвуют и другие персонажи (извозчик, Дуняша), происходит за пределами комнаты Алексея Петровича, – представляет собой «задержанную» экспозицию. Здесь в большей степени проявляется реалистическое начало художественного метода В. Гаршина: достоверно изображаются различные реалии действительной жизни, фигуры прислуги и извозчика («…маленький, со сгорбленной старческой спиной, очень худой шеей, обмотанной цветным шарфом, вылезавшим из очень широкого воротника, и с изжелта-седыми кудрями, выступавшими из-под огромной круглой шапки…» [с. 121]), значительное место отводится реалистическим деталям («Тупое забытье охватило его; всё исчезло… Перед глазами была только зелёная дверь с чёрными тесёмками, прибитыми бронзовыми гвоздиками…» [с. 123]).
Но лирическую тему наиболее полно раскрывает композиционный параллелизм: вторая глава рассказа включает в себя вставную историю о самоубийце-извозчике, которая, если принять во внимание, что в рассказе центр тяжести перенесён на раскрытие отношения героя к миру, выполняет обобщающую функцию и призвана раздвинуть рамки обозначенного в первой главе конфликта, т. е. вывести его из сферы индивидуального, единичного в сферу общего, типичного.
При этом, поскольку в реалистических произведениях лиризм служит авторскому изображению поэтической действительности, а «в романтизме он выступает как принцип типизации»29, естественно, возникает вопрос о характере гаршинской типизации. Большинство исследователей творчества В. Гаршина, связывая своеобразие художественной манеры писателя с романтическим восприятием окружающего мира и романтическими формами изображения действительности, тем не менее безусловно утверждают реалистическую природу его творческого метода, указывая на то, что В. Гаршин отбирает жизненные факты, уже несущие в себе элемент обобщения, и, в свою очередь, типизирует их30. Однако в данном случае В. Гаршин использовал принципы и реалистической, и романтической типизации, поскольку, хотя все обстоятельства сохраняют реальность и конкретность, – здесь, как и в других произведениях писателя, в силу вступает поэтика исключительной ситуации.
Концовка третьей главы является одновременно и концовкой первой части рассказа. Звон колокола, пробудивший в душе героя светлые воспоминании о давно забытом мире детства, в художественной структуре рассказа соотносится – по принципу контраста – со стуком часов, который в сознании Алексея Петровича ассоциируется с пошлостью жизни. На идейно-функциональной роли этих звуковых образов-символов в рассказе «Ночь» акцентировали внимание многие исследователи творчества В. Гаршина31. Так, по мнению Г. Бялого, тиканье часов символизирует «гибель одиночества», звон колокола – призыв к жизни, к людям; Т. Маевская полагает, что в образе торопливого и однообразного постукивания часов заключён символ времени (с ним связана тема зла, а со звоном колокола – тема добра… etc). В целом их наблюдения представляются достаточно интересными, но в дополнение к ним хотелось бы отметить, что звуковая символическая линия в рассказе за счёт «рифмовки» сюжетных деталей (стук часов – звон колокола) создаёт своеобразное композиционное обрамление. Здесь начало произведения (первая фраза: «Карманные часы, лежавшие на письменном столе, торопливо и однообразно пели две нотки» [с. 118]) соотносится с концовкой заключительной (шестой) главы рассказа: «Тысячи колоколов торжественно зазвонили. Солнце ослепительно вспыхнуло, осветило весь мир и исчезло…» [с. 134]. Звуковой лейтмотив как один из организующих моментов всей композиции (стук часов символизирует зло, «пошлость жизни»; звон колокола – добро, «правду жизни») является в то же время и необыкновенно сильным средством лиризации повествования.
Не менее важную роль в создании лирического плана произведения играет пейзаж, который способствует раскрытию лирико-философской и психологической темы гаршинского рассказа. Особенно характерно в этом отношении лирическое описание в конце третьей главы: «…он встал, подошёл к окну и отпер форточку. Дымящаяся морозная струя пахнула на него. Снег перестал идти, небо было чисто; на другой стороне улицы ослепительно белый сад, окутанный инеем, сверкал под лунным светом. Несколько звёзд смотрело из далёкого чистого неба, одна из них была ярче всех и горела красноватым сиянием… «Арктур, – прошептал Алексей Петрович. – Сколько лет я не видел этого Арктура? Ещё в гимназии, когда учился…» Ему не хотелось отвести глаз от звезды…» [с. 127]. В этом описании, олицетворяющем чистоту природы, не только звучит авторский протест против грязи общественных отношений, но и выражается гаршинский идеал «общей людям правды». Обобщённый лирико-символический пейзажный образ создаётся здесь благодаря использованию экспрессивной доминанты, которая образуется в результате нагнетания, суммирования в пределах небольшого по объёму текста слов, стоящих в одном синонимическом ряду и передающих близкие по смыслу оттенки (снег, белый сад, иней, лунный свет, чистое небо и т. п.). Ряд ассоциативно близких, синонимических образов замыкается обобщающим лирически окрашенным образом-символом: поразившая воображение Алексея Петровича звезда Арктур в его сознании так же, как и звон колокола, ассоциируется с миром детства, который приобретает у В. Гаршина идиллический смысл: вспоминая своё детство, герой заново обретает утраченную ранее веру в себя, веру в необходимость жить32.
«Обратиться и сделаться как дитя!..» – эта евангельская реминисценция связана с духовной эволюцией героя: «…не могу я больше жить за свой собственный страх и счёт; нужно, непременно нужно связать себя с общей жизнью, мучиться, радоваться, ненавидеть и любить не ради своего «я», всё пожирающего и ничего взамен не дающего, а ради общей людям правды, которая есть в мире» [с. 133]33. Здесь с композиционной точки зрения наибольший интерес представляет пятая глава, состоящая, по сути, из четырёх фрагментов: границы между ними обозначаются переходом в новую речевую форму. При этом увеличение эмоциональной напряжённости, усиление лирического звучания, субъективности повествования сказывается в резком повышении ритмичности речи. В первом фрагменте структурообразующим становится периодически повторяющееся обращение Алексея Петровича, причём в данном случае голос героя сливается с голосом автора-повествователя, к самому себе: «Помнишь ли ты себя маленьким ребёнком, когда ты жил с отцом… Помнишь, как вы сидели вдвоём…» и т. п. [с. 129]. Второй фрагмент представляет собой внутренний монолог героя, в котором в повествование вводится мотив любви-разочарования («А эта? Тоже любил её? Нечего сказать, поиграли в чувство довольно…» [с. 129]). И лишь в третьем и четвёртом фрагментах начинает звучать непосредственно голос автора-повествователя, но и здесь благодаря ритмико-интонационному единству, создаваемому повтором однотипных синтаксических конструкций с глаголом «помнится» в третьем фрагменте («Помнится ему маленький домик… Помнится утро с запахом соломы…» и т. п. [с. 130]) и наречием «потом» в четвёртом («Потом – священная история…» – речь автора-повествователя; «Потом что ж такое? Потом звёзды, вертеп, ясли…» – речь героя [с. 130]), разъединённые как субъекты речи автор-повествователь и герой объединяются и воспринимаются читателем как носители единого сознания. Так создаётся особый ритм гаршинского рассказа, основанный на повторах и грамматико-синтаксическом параллелизме, – наряду с несобственно-прямой речью важнейшее средство лиризации повествования.
В конце пятой главы автор-повествователь и герой снова разъединяются: ««Да, тогда я заплакал, – проговорил Алексей Петрович, встав с кресла и начиная ходить взад и вперёд по комнате, – я тогда заплакал». Ему стало ужасно жалко этих слез шестилетнего мальчика, жалко того времени, когда он мог плакать оттого, что в его присутствии ударили беззащитного человека» [с. 131]. Первая фраза принадлежит герою, вторая – автору-повествователю, но в совокупности они выражают мысль «быть как дети», которая станет сюжетным лейтмотивом шестой, заключительной главы рассказа и сыграет решающую роль в прозрении героя. Отметим, что кульминационный момент в развитии художественного конфликта подготавливается введением в повествовательную ткань произведения повторяющейся детали – слез героя: «…слезы текли, облегчая, и не было стыдно слез… уносивших с собой ненависть» [с. 133]. Эта деталь даёт толчок к образованию лирической струи в концовке заключительной части рассказа.
Финал «Ночи» выдержан в строго объективной манере повествования и представляет собой описание комнаты Алексея Петровича на исходе ночи («… в комнате уже не было темно: начинался день» [с. 134]) – интерьер, где «выгоревшая в долгую ночь» лампа соседствует с лежащим на столе письмом «с безумными проклятиями» и человеческим трупом «с мирным и счастливым выражением на бледном лице» [с. 134]. В композиционном ряду произведения это описание соотносится – по принципу контраста – с описанием комнаты Алексея Петровича в начале шестой главы: «Большая низкая лампа с непрозрачным абажуром, стоявшая на письменном столе, горела ясно, но освещала только поверхность стола да часть потолка, образуя на нём дрожащее круглое пятно света; в остальной комнате всё было в полумраке. В нём можно было разглядеть шкап с книгами, большой диван, ещё кое-какую мебель, зеркало на стене с отражением светлого письменного стола и высокую фигуру, беспокойно метавшуюся по комнате из одного угла в другой…» [с. 131].
Противопоставление отдельных деталей в этих описаниях (дневной свет – полумрак; выгоревшая за ночь лампа – лампа, освещающая поверхность стола; неподвижный человеческий труп – человеческая фигура, мечущаяся по комнате и т. д.) и образует лирический план в финале рассказа, который, как и обычно у В. Гаршина, даёт основание для самых разных, в том числе и взаимоисключающих, интерпретаций. На это указывали как современники писателя (часто приводят слова И. Тургенева, высоко ценившего талант В. Гаршина: «Зачем у Вас в конце «Ночи» сказано: лежал «человеческий труп»? Ведь он себя не убил – да и не видно, чтобы он умер от других причин. Эта неясность производит в читателе впечатление недоумения, что особенно следует избегать»)34, так и более поздние исследователи его творчества: «Финал воспринимается как альтернатива: это и насмешка над прозрением героя, но и «преодоление в смерти лжи реальности»»35.
Действительно, подводя итог развитию лирико-философской темы рассказа, финал вводит в повествование ироническое начало: атмосфера трагической просветлённости, возникающая благодаря стремлению Алексея Петровича к «поступку» – от мрачных представлений о дисгармонии мира в завязке конфликта он переходит к радостному, восторженному переживанию открывшегося ему закона торжества «общей людям правды» в кульминации, – снимается в финале рассказа.
Таким образом, финал осознаётся в соответствии с заключённой в нём романтической иронией как утверждение невозможности воплощения мечты, идеала в действительность. Объективная манера повествования в финале произведения, резко контрастирующая с субъективным повествованием в предыдущих частях рассказа, в свою очередь, подчёркивает неспособность героя активным действием противостоять «пошлости» реальной действительности.
1.1.2. «Порыв к свету» – Владимир Короленко
«Слепой музыкант»
«Мгновение»
«Огоньки»
В художественной структуре произведений В. Короленко, как и в рассказах В. Гаршина, органически сочетаются реалистический и романтический планы повествования. Известно, что В. Короленко связывал свои творческие поиски с «романтическим дополнением» к реалистическому искусству. Это «романтическое дополнение» прежде всего относится к тому жизненному материалу, на котором создавались его «Сибирские рассказы», «Слепой музыкант» и лирико-символические произведения. Вместе с тем выбор материала обусловил романтические приёмы изображения (романтический портрет, пейзаж, символика и др.) и лирико-романтическое воплощение идеала. В его прозе утверждается бескомпромиссность и самоотверженность в борьбе за независимость и свободу («Соколинец», «Мгновение»), в соответствии с романтической героикой раскрываются философско-этические темы смысла жизни и счастья человека («Слепой музыкант», «Огоньки», «Парадокс»).
Во взаимодействии реалистического и романтического принципов отражения действительности в произведениях В. Короленко, несомненно, важнейшую роль играет лирическое начало. Ещё И. Пиксанов (один из первых литературоведов, специально рассматривавших лиризм писателя) подчёркивал, что В. Короленко глубоко лиричен и что «лиризм есть не только придаток к его эпическому повествованию, как «отступления», но являет собой истинную стихию его творчества, имманентен его поэзии».1. Объективизму натуралистов В. Короленко противопоставляет страстное утверждение гуманистических идеалов, однако степень лиричности его произведений различна: она меньше в эпико-публицистической прозе, увеличивается по мере возрастания в ней романтического начала и достигает максимального уровня в условных жанровых формах – легендах, сказках, лирико-символических произведениях. Чтобы чётче уяснить влияние лирического начала на жанрово-композиционную структуру произведений В. Короленко, рассмотрим лишь те из них, в которых наиболее полно проявляется специфика сугубо короленковского лиризма.
Самым знаменитым и наиболее характерным произведением зрелого В. Короленко является повесть «Слепой музыкант», повествующая о слепорождённом мальчике, для которого мир лишён красок и света, жизни и счастья. «Основной психологический мотив этюда, – пишет автор в публицистическом отступлении уже в начале повести, – составляет инстинктивное, органическое влечение к свету. Отсюда душевный кризис моего героя и его разрешение. И в устных, и в печатных критических замечаниях мне приходилось встречать возражение, по-видимому, очень основательное: по мнению возражающих, этот мотив отсутствует у слепорождённых, которые никогда не видели света и потому не должны чувствовать лишения в том, чего совсем не знают. Это соображение мне не кажется правильным: мы никогда не летали, как птицы, однако, все знают, как долго ощущение полёта сопровождает детские и юношеские сны…» [с. 149]2.
Окружающий мир показан в повести через восприятие слепого: сначала ребёнка, потом юноши, – действительность познаётся как сумма звуковых впечатлений, неясных сновидений и смутных догадок, порывов к свету и мучительных страданий. Читатель вместе с героем постепенно познаёт мир посредством тончайших, едва уловимых звуковых ассоциаций и образов. Инстинктивному, интуитивному стремлению слепого к свету посвящены целые страницы авторских размышлений, лирических медитаций и описаний, которые потрясают своей психологической глубиной и правдой3. В свою очередь, стремление истолковывать тончайшие душевные движения героя, открытое «включение» автора в сферу изображаемого придают повести В. Короленко лирическое звучание.
Многие современные исследователи указывают на то, что прозе В. Короленко присущ композиционный принцип повествовательных повторов, существенным образом определяющий характер развития художественного конфликта: главная тема, всё время повторяясь – трансформируясь и углубляясь – пронизывает произведение более или менее частыми и продолжительными импульсами4. «Слепой музыкант» является ярким примером подобной структуры лирического плана и всего произведения в целом. Центральная лирико-философская и психологическая тема повести В. Короленко – инстинктивное влечение к свету – получает в ходе повествования пунктирно-симфоническое развитие: она выступает не только в основных сюжетно-композиционных узлах, а пронизывает всю повесть, являясь тем центром, вокруг которого концентрируется содержание каждой главы. Художественную структуру повести «Слепой музыкант» характеризует непрерывное, сквозное и конфликтное развитие главной темы в философско-публицистических и лирических отступлениях, вкраплениях, лирически окрашенных пейзажах, портретах, монологах героев, авторских характеристиках ситуаций, чувств и поведения персонажей.
Вместе с тем следует отметить, что тема инстинктивного влечения к свету в ходе повествования приобретает символическое значение. Повесть выражает постепенно назревавшую в произведениях В. Короленко мысль о стремлении человека к счастью и недопустимости примирения со страданием5. Мучительное стремление слепого к свету, исключительное по своей силе и напряжённости, выражает в то же время и типичное стремление человека к полноте существования. Лирико-символическая тема стремления к счастью, к полноте существования пластично связана с развитием сюжета повести, эволюционирует вместе с ним, становясь всё более определённой, светлой, мажорной, по мере того, как меняется жизнь Петра, зреет и осуществляется его решение разорвать «замкнутый круг тихой усадьбы». В то же время, вырастая из эпического повествования, опираясь на него, в художественной структуре «Слепого музыканта» возникает ещё одна лирическая тема – вера в народные истоки положительного жизненного начала. Эта тема настолько значительна сама по себе и настолько чётко выделена в повествовательной ткани повести композиционно, что приобретает относительную самостоятельность.
Остановимся подробнее на структуре сюжета повести В. Короленко. Формально она состоит из семи глав и эпилога, но с точки зрения композиции сюжета её можно разделить на три части: первая часть включает в себя 1–4 главы, вторая часть – 5–7 главы и третья часть – эпилог.
Повествование строится по принципу примыкания эпизодов во времени. Автор периодически отмечает в тексте «бег времени» («ему шёл уже пятый год», «на шестом году», «однажды осенью», «пришла зима», «подошла весна», «тёплой июльской ночью» и т. п.), указывает, сколько прошло времени от одного эпизода до другого («на следующий день», «через три недели», «прошло ещё несколько лет» и т. п.). События первых четырёх глав охватывают около десяти лет; примерно такой же промежуток времени между событиями четвёртой и пятой глав; события пятой и шестой глав происходят в течение года; около года проходит между событиями первого и второго разделов седьмой главы; и наконец, между событиями седьмой главы и эпилога промежуток времени – три года. В повести говорится лишь о наиболее важных, поворотных моментах в судьбах героев; о времени, разделяющем эти эпизоды, сообщается бегло. Такая организация пространственно-временной структуры, обусловленная усилением лирического начала в повествовании, способствует смысловой ёмкости сюжета.
Контур сюжета составляют поиски героем своего места в жизни. Завязка художественного конфликта (решение разорвать заколдованный круг «тихой усадьбы» – гл. 5) и кульминация в его развитии (встреча со слепыми нищими – гл. 6) происходят во второй части произведения, – соответственно, вся первая часть (1–4 главы) представляет собой довольно обширную экспозицию, которая задаёт тон всему повествованию и локализует действие во времени и пространстве. В экспозиции намечаются основные сюжетные мотивы произведения. Многие фрагменты экспозиции соотносятся с выдержанными в тех же речевых формах эпизодами из основной части повествования.
Таким образом происходит «рифмовка» не отдельных деталей, как в рассказах В. Гаршина, а целых эпизодов: звуковые пейзажи (гл. 1, VI–VII и гл. 5, VIII; гл. 6, V), портреты Петра и Эвелины (гл. 3, I; гл. 3, III и гл. 5, IV), сны Петра (гл. 4, II и гл. 6, V), диалоги Петра и Эвелины (гл. 3, IV–VI и гл. 5, VIII), поиски соответствий между звуковыми и цветовыми ассоциациями (гл. 4, III и гл. 6, VII) и др.
Как лирический лейтмотив повести В. Короленко инстинктивное влечение к свету находит выражение прежде всего в многочисленных авторских отступлениях-комментариях, своеобразных рассуждениях-догадках, насыщенных эмоциями автора-повествователя, но в то же время содержащих в себе элементы анализа. Это или беглые замечания автора-повествователя по поводу того или иного лица или события, или дополнительные разъяснения, или, наконец, большие философско-публицистические рассуждения. Для большинства из них характерна яркая эмоциональная окрашенность. При этом отсутствие категоричности суждений автора-повествователя, комментирующего и эмоционально оценивающего изображаемые события, чувства и поведение персонажей, элемент сомнения, вносимый в его речь оговорками «по-видимому», «быть может» и т. п., наряду с прямыми обращениями к воображаемому читателю («Кто может сказать, какая часть нашего душевного склада зависит от ощущений света?» [с. 192] и т. п.), ставит читателя в положение собеседника, создаёт у него ощущение сопричастности к наблюдениям и умозаключениям.
В экспозиции представлены фрагменты с подобными рассуждениями автора-повествователя: «Над ним и вокруг него по-прежнему стоял глубокий, непроницаемый мрак; мрак этот навис над его мозгом тяжёлою тучей, и хотя он залёг над ним со дня рождения, хотя, по-видимому, мальчик должен был свыкнуться со своим несчастьем, однако детская природа по какому-то инстинкту беспрестанно силилась освободиться от тёмной завесы…» [с. 162]; «…жизнь должна пройти вся в темноте. Но значит ли это, что в его душе порвались навеки те струны, которыми душа откликается на световые впечатления? Нет, и через это тёмное существование должна была протянуться и передаться последующим поколениям внутренняя восприимчивость к свету. Его душа была цельная человеческая душа, со всеми её способностями, а так как всякая способность носит в самой себе стремление к удовлетворению, то и в тёмной душе мальчика жило неутолимое стремление к свету…» [с. 192] и т. п.) соотносятся как с другими эпизодами из экспозиции (первая весенняя прогулка – гл. 1, VI–VII; увлечение музыкой – гл. 2, III – Х; сны Петра – гл. 4, II и др.), с психологической точки зрения подготавливая завязку художественного конфликта, так и с аналогичными фрагментами из основной части повествования: «…свет он ощущал всем своим организмом, и это было заметно даже ночью: он мог отличать лунные ночи от тёмных и нередко долго ходил по двору, когда все в доме спали, молчаливый и грустный, отдаваясь странному действию мечтательного и фантастического лунного света (…) О чём он думал в эти долгие ночи, трудно сказать. В известном возрасте каждый, кто только изведал радости и муки вполне сознательного существования, переживает в большей или меньшей степени состояние душевного кризиса… У Петра этот душевный кризис ещё осложнялся; к вопросу: «зачем жить на свете?» – он прибавлял: «зачем жить именно слепому?»» Наконец в самую эту работу нерадостной мысли вдвигалось ещё что-то постороннее, какое-то почти физическое давление неутолённой потребности…» [с. 230] и др.). Подготавливая кульминацию и развязку художественного конфликта, эти эпизоды, в свою очередь, соотносятся с ключевыми эпизодами из второй части (споры о назначении человека – гл. 5, III–IV; посещение могилы Юрка-бандуриста – гл. 6, II; встреча со слепым звонарём – гл. 6, III; странствия со слепыми нищими – гл. 6, X и др.).
Таким образом, в повести «Слепой музыкант» автор-повествователь, сохраняя известную дистанцию между собой и героями, предположительно истолковывает их мысли, чувства и даже едва уловимые душевные движения. Зачастую он вкладывает в повествование своё определённое эмоциональное отношение к происходящему («Ребёнок родился слепым. Кто виноват в его несчастии? Никто! Тут не только не было и тени чьей-либо «злой воли», но даже сама причина несчастия скрыта где-то в глубине таинственных и сложных процессов жизни» [с. 154]), сам переживает то или иное состояние своих героев («Бедная мать! Слепота её ребёнка стала и её вечным, неизлечимым недугом» [с. 171–172]). И чем ощутимее его сочувствие к персонажам, тем меньше дистанция, их разделяющая. Так, при описании одной из музыкальных импровизаций Петра автор-повествователь подчёркивает в душевном мире героя то, что хорошо знакомо, близко ему самому, чем ещё больше усиливает субъективный тон повествования: «Тут были голоса природы, шум ветра, шёпот леса, плеск воды и смутный говор, смолкающий в безвестной дали. Всё это сплеталось и звенело на фоне того особенного глубокого и расширяющего сердце ощущения, которое вызывается в душе таинственным говором природы и которому так трудно подыскать настоящее определение… Тоска?.. Но отчего же она так приятна?.. Радость?.. Но зачем же она так глубоко, так бесконечно грустна?» [с. 211]. Здесь авторское сознание свободно проникает в сознание персонажа, сливается с ним.
Нередко в субъективно окрашенное повествование «Слепого музыканта» органически входит несобственно-прямая речь: «Да, у мужика Иохима истинное, живое чувство! А у неё? Неужели у неё нет ни капли этого чувства? Отчего же так жарко в груди и так тревожно бьётся в ней сердце и слезы поневоле подступают к глазам? Разве это не чувство, не жгучее чувство любви к её обездоленному, слепому ребёнку, который убегает от неё к Иохиму и которому она не умеет доставить такого же живого наслаждения?..» [с. 171] или: «Слепой слушал внимательно. Впервые ещё он стал центром оживлённых разговоров, и в его душе зарождалось гордое сознание своей силы. Неужели эти звуки, доставившие ему на этот раз столько неудовлетворённости и страдания, как ещё никогда в жизни, могут производить на других такое действие? Итак, он может тоже что-нибудь сделать в жизни…» [с. 212]. Автор-повествователь описывает события (музыкальное состязание между Иохимом и матерью Петра; первое публичное выступление Петра и реакция слушателей), а несобственно-прямая речь концентрированно выражает мысли и чувства героев, вызванные данными событиями. При этом, как и в рассказах В. Гаршина, многочисленные включения несобственно-прямой речи в речь автора-повествователя становятся у Короленко импульсами лиризации, объединяющими сознание героев и сознание автора-повествователя в единстве отношения к действительности.
До совершенства доведена в повести и ассоциативная связь образов. Поскольку мир реальной действительности, мир света и красок Петру недоступен, он вынужден жить в замкнутом, субъективном мире ощущений, звуков, намёков и догадок, познавая окружающий мир постепенно, посредством тончайших, едва уловимых звуковых ассоциаций и образов. Необычна сцена из четвёртой главы произведения, когда мать Петра, ударяя по клавишам рояля, пытается различием звуков передать мальчику цветовые оттенки оперения аиста: «Петрусь придерживал аиста одною рукой, а другою тихо проводил вдоль его шеи и затем по туловищу с выражением усиленного внимания на лице. В это самое время мать… быстро ударяла пальцем по клавише, вызывая из инструмента непрерывно звеневшую высокую ноту… Когда же рука мальчика, скользя по ярко-белым перьям, доходила до того места, где эти перья резко сменяются чёрными на концах крыльев, Анна Михайловна сразу переносила руку на другую клавишу, и низкая басовая нота раскатывалась по комнате» [с. 190–191]. В композиционном ряду произведения этот фрагмент соотносится с драматизированным эпизодом из шестой главы: спустя годы Максим страстно доказывает юноше-музыканту, что «настроение может быть вызвано известным сочетанием звуков. Вообще звуки и цвета являются символами одинаковых душевных движений» [с. 233]. Так, красный цвет – цвет страсти; голубой – спокойствия и ясности; белый – бесстрастия; чёрный – печали… 6
Тончайшие движения души героев (и прежде всего Петра) автор-повествователь передаёт не столько путём логических рассуждений и умозаключений, сколько в результате ассоциативного сопоставления разнородных явлений жизни человека и мира природы. Особую роль при этом играет лирически окрашенный пейзаж, изображённый в восприятии как автора-повествователя, так и героев произведения. Чтобы показать окружающий мир в восприятии слепого, В. Короленко приходилось создавать пейзаж исключительно средствами звуковых образов, однако в экспозиции каждому звуковому пейзажу предшествует зрительный: «В залитые светом окна глядело смеющееся весеннее солнце, качались голые ещё ветки буков, вдали чернели нивы, по которым местами лежали белые пятна тающих снегов, местами же пробивалась чуть заметною зеленью молодая трава… Он слышал, как бегут потоки весенней воды, точно вдогонку друг за другом (…), ветки буков шептались за окнами, сталкиваясь и звеня лёгкими ударами по стёклам. А торопливая весенняя капель от нависших на крыше сосулек (…) стучала тысячью звонких ударов (…) По временам сквозь этот звон и шум окрики журавлей плавно проносились с далёкой высоты…» [с. 156], т. е. сознание героя отделяется от сознания автора-повествователя.
В основной же части произведения представлены исключительно звуковые пейзажи: «В саду было совершенно тихо. Смёрзшаяся земля, покрытая пушистым мягким слоем, совершенно смолкла, не отдавая звуков: зато воздух стал как-то особенно чуток, отчётливо и полно перенося на далёкие расстояния и крик вороны, и удар топора, и лёгкий треск обломавшейся ветки…» [с. 228]; «Было тихо: только вода всё говорила о чём-то, журча и звеня. Временами казалось, что этот говор ослабевает и вот-вот стихнет; но тотчас же он опять повышался и опять звенел без конца и перерыва. Густая черёмуха шептала тёмною листвой; песня около дома смолкла, но зато над прудом соловей заводил свою…» [с. 207]. Здесь авторское сознание, по сути, сливается с сознанием героя. Таким образом, описание зрительного пейзажа в повести В. Короленко передаёт авторское восприятие природы, а описание звукового пейзажа соответствует восприятию окружающего слепым: конкретные, реальные предметы в его субъективном восприятии превращаются в смутные, неопределённо-таинственные образы, исполненные слуховыми ощущениями.
Пейзаж в «Слепом музыканте» выполняет функцию создания символического подтекста: посредством пейзажа здесь передаётся лирико-экспрессивный образ ожидаемого (определение В. Каминского)7, скрытый мотив движения к «свету», к полнокровной жизни. Характерно, что через образное, непосредственное восприятие слепого природа одухотворяется: «деревья в саду шептались», «глядело смеющееся весеннее солнце», «вода говорила о чём-то», «смёрзшаяся земля смолкла», «ночь глядела», «густая черёмуха шептала» и т. д. В свою очередь звуковые образы, придающие пейзажу оттенок одухотворённости, непосредственно реализуются в музыкальных импровизациях Петра, тем самым утверждается вера в торжество света над тьмой (основная идея произведения). Это особенно ощутимо в эпилоге: «Живое чувство родной природы, чуткая оригинальная связь с непосредственными источниками народной мелодии сказывались в импровизации, которая лилась из-под рук слепого музыканта. Богатая красками, гибкая и певучая, она бежала звонкою струёю, то поднимаясь торжественным гимном, то разливаясь задушевным грустным напевом. Казалось по временам: то буря гулко гремит в небесах, раскатываясь в бесконечном просторе, то лишь степной ветер звенит в траве, на кургане, навевая смутные грёзы о минувшем…» [с. 247–248], поскольку символика пейзажа перекликается в «Слепом музыканте» с иносказательным смыслом финала – духовным прозрением героя (««Он прозрел, да, это правда, – он прозрел», – думал Максим» [с. 248]).
Несомненно, одним из основных источников лиризма в повести В. Короленко служит портрет. Уже в экспозиции лиризм проступает в обрисовке портрета Петра: «Для своего возраста он был высок и строен; лицо его было несколько бледно, черты тонки и выразительны. Чёрные волосы оттеняли ещё более белизну лица, а большие тёмные, малоподвижные глаза придавали ему своеобразное выражение, как-то сразу приковывавшее внимание…» [с. 177–178]. Черты романтического героя развиваются и углубляются в портретной характеристике из пятой главы произведения: «Всякому, кто посмотрел бы на него в ту минуту, когда он сидел поодаль от описанной группы, бледный, взволнованный и красивый, сразу бросилось бы в глаза это своеобразное лицо, на котором так резко отражалось всякое душевное движение. Чёрные волосы красивою волной склонялись над выпуклым лбом, по которому прошли ранние морщинки. На щеках быстро вспыхивал густой румянец, и так же быстро разливалась матовая бледность. Нижняя губа, чуть-чуть оттянутая углами вниз, по временам как-то напряжённо вздрагивала, брови чутко настораживались и шевелились, а большие красивые глаза, глядевшие ровным и неподвижным взглядом, придавали лицу молодого человека какой-то не совсем обычный мрачный оттенок…» [с. 199]. Здесь душевные терзания слепого, мучительно переживающего свою физическую неполноценность, отчуждение от людей. Существенным моментом является то, что эмоции, чувства, о которых рассказывается, принадлежат не только герою, но и автору-повествователю.
Несмотря на то что Пётр отчужден от окружающих слепотой, при упоминании о нём В. Короленко практически не употребляет слово «одинокий» в качестве психологического эпитета, однако лирико-романтический мотив одиночества вводится им в повествование как разработанная тема биографии и психологического портрета героя. Уже в детстве, когда деревенские мальчишки «затевали игры, слепой как-то оставался в стороне и грустно прислушивался к веселой возне товарищей» [с. 179], со временем мало что изменилось. В юности наиболее остро горечь одиночества Пётр ощущает в обществе своих сверстников, охваченных волной «кипучих молодых запросов, надежд, ожиданий и мнений»: «…он не мог не заметить, что эта живая волна катится мимо него, что ей до него нет дела. К нему не обращались с вопросами, у него не спрашивали мнений, и скоро оказалось, что он стоит особняком, в каком-то грустном уединении, тем более грустном, чем шумнее была теперь жизнь усадьбы» [с. 200].
Одной из форм углублённого лиризма в повести В. Короленко является образ-параллель – слепой послушник-звонарь из монастыря. Его «как бы родственное» сходство с Петром поражает окружающих: «Трудно было не заметить в лице послушника странного сходства с Петром. Та же нервная бледность, те же чистые, но неподвижные зрачки, то же беспокойное движение бровей, настораживавшихся при каждом новом звуке и бегавших над глазами, точно щупальцы у испуганного насекомого… Его черты были грубее, вся фигура угловатее, – но тем резче выступало сходство…» [с. 219]. Желчность и озлобленность отчасти передаются Петру, изменяют его мироощущение: «Всякий раз, оставшись наедине или в минуты общего молчания, когда его не развлекали разговоры окружающих, Пётр глубоко задумывался, и на лице его ложилось впечатление какой-то горечи. Это было знакомое всем выражение, но теперь оно казалось более резким и (…) сильно напоминало слепого звонаря» [с. 225]. В ходе повествования писатель психологически достоверно и убедительно показывает, как изменяется душевное состояние Петра под влиянием тех или иных людей и обстоятельств в разные периоды его жизни: «Прежде он только чувствовал тупое душевное страдание, но оно откладывалось в душе неясно, тревожило смутно, как ноющая зубная боль, на которую мы ещё не обращаем внимания. Встреча со слепым звонарём придала этой боли остроту осознанного страдания» [с. 229]; после встречи со слепыми нищими и болезни «он сильно изменился, изменились даже черты лица, – в них не было заметно прежних припадков острого внутреннего страдания. Резкое нравственное потрясение перешло теперь в тихую задумчивость и спокойную грусть (…) Казалось, слишком острое и эгоистическое сознание личного горя, вносившее в душу пассивность и угнетавшее врождённую энергию, теперь дрогнуло и уступило место чему-то другому» [с. 240–241]. Отказ от индивидуализма, от эгоистического переживания собственных страданий, осознание своей социальной значимости, ответственности за жизнь тех людей, которых общество обрекло на страдание, помогает ему преодолеть своё отчуждение и обрести смысл жизни в музыке, в служении людям.
Наряду с портретом главного героя в повести «Слепой музыкант» представлены развёрнутые лирически окрашенные портретные характеристики Максима (гл. 1, III) и Эвелины (гл. 3, III; гл. 5, IV). Причём они сопровождаются пространными размышлениями автора-повествователя о свойствах человеческой личности, о смысле жизни, о месте человека в обществе и т. п., которые также имеют лирическую природу и образуют лирический сюжет, способствуя выражению гуманистического начала в творчестве В. Короленко. В частности, авторский комментарий к портретной характеристике Эвелины («Есть натуры, будто заранее предназначенные для тихого подвига любви, соединённой с печалью и заботой, – натуры, для которых эти заботы о чужом горе составляют как бы атмосферу, органическую потребность…» [с. 188–189] вводит в повествование лирико-романтические мотивы любви и самопожертвования.
Отметим, однако, что мотив любви у В. Короленко ослаблен и не относится к центральным8. Пётр, сосредоточенный на эгоистическом переживании своих страданий, не сразу отдаёт себе отчёт в тех чувствах, которые он испытывает к Эвелине: «Да, он никогда об этом не думал. Её близость доставляла ему наслаждение, но до вчерашнего дня он не сознавал этого, как мы не ощущаем воздуха, которым дышим…» [с. 213]. Нельзя сказать, что любовь поглощает Петра всецело после того, как к нему приходит осознание силы чувства, которое связывает его с Эвелиной, – В. Короленко значительно больше внимания уделяет описанию мучительных поисков героем своего места в жизни («к вопросу: «зачем жить на свете?» – он прибавлял: «зачем жить именно слепому?»» [с. 230]), чем изображению развития отношений между влюблёнными.
Эмоционально насыщенная речь автора в повести «Слепой музыкант» является основой повествования. С её помощью описывается пейзаж, портреты действующих лиц, она же определяет проникновенный лиризм, эмоциональный тон всего повествования. Своеобразный эмоциональный накал в повести В. Короленко создаётся за счёт подбора лексических средств, содержащих в своей семантике элемент возвышенности, высокой экспрессии (даль, печаль, грусть, гармония), за счёт употребления ярких эпитетов (необъятная тьма, непроницаемый мрак, заколдованный круг, горькая ошибка), типично романтических метафор (шёпот черёмухи, мраморные виски, зеркало души) и сравнений (один толчок – и всё душевное спокойствие всколеблется до глубины, как море под ударом внезапно налетевшего шквала…; даже клевета и сплетни скатываются по их белоснежной одежде, точно грязные брызги с крыльев лебедя…), лексики, заимствованной из украинского языка (панич, доля, думка, рушница, бандура, кобзари) и т. п.
Однако немаловажную роль в раскрытии характеров героев, движении сюжета играет и их собственная речь, для которой также характерна взволнованность интонации, насыщенность экспрессивной лексикой, метафоричность. Так, обострённый лиризм звучит в монологе слепого, который через несколько дней после посещения монастыря на вопрос Эвелины: ««Зачем ты мучишь меня?», – с яростью отвечает: «Мучу? Ну, да, мучу. И буду мучить таким образом всю жизнь, и не могу не мучить. Я сам не знал этого, а теперь знаю, и я не виноват. Та самая рука, которая лишила меня зрения, когда я ещё не родился, вложила в меня эту злобу… Мы все такие, рождённые слепыми..»» [с. 231]. А признание Петра: «Мне кажется, что я совсем лишний на свете» [с. 205], в свою очередь, воспринимается как приговор эгоцентризму героя, который вырос, как «тепличный цветок, ограждённый от резких сторонних влияний далёкой жизни» [с. 195].
И все же ощущение трагической безысходности, отчаяния от невозможности изменить свою судьбу, постепенно нарастающее в ходе повествования и с наибольшей силой выраженное в одной из реплик Петра в разговоре с Эвелиной («Я хочу видеть – понимаешь? хочу видеть и не могу освободиться от этого желания» [с. 231]), в эпилоге сменяется чувством духовного прозрения, внутреннего просветления героя, так что центральный лирико-психологический мотив произведения в финале получает логическое завершение.
Своеобразное композиционное обрамление повести В. Короленко создают размышления Максима о смысле жизни из первой главы и эпилога: «…изувеченный боец думал о том, что жизнь – борьба и что он навсегда выбыл из рядов и теперь напрасно загружает собою фурштат (…) Не малодушно ли извиваться в пыли, подобно раздавленному червяку; не малодушно ли хвататься за стремя победителя, вымаливая у него жалкие остатки собственного существования?» [гл. 1, III, с. 153]; «Кто знает, – думал старый гарибальдиец, – ведь бороться можно не только копьём и саблей. Быть может, несправедливо обиженный судьбой подымет со временем доступное ему оружие в защиту других, обездоленных жизнью, и тогда я не даром проживу на свете, изувеченный старый солдат…» [гл. 1, VIII, с. 160] и «…старый солдат всё ниже опускал голову. Вот и он сделал своё дело, и он не даром прожил на свете, ему говорили об этом полные силы властные звуки, стоявшие в зале, царившие над толпой. Максим опустил голову и думал: «Да, он прозрел и сумеет напомнить счастливым о несчастных…»» [эпилог, с. 249].
Если в первом фрагменте из экспозиции косвенная речь переходит в несобственно-прямую, а во втором представлен внутренний монолог героя, то в концовке эпилога используется и форма внутреннего монолога, и переход косвенной речи в несобственно-прямую, что, несомненно, многократно усиливает лиризм повествования. Заключительная фраза повести: «Так дебютировал слепой музыкант» [с. 249], выдержанная в подчёркнуто нейтральном, лишённом каких-либо эмоциональных оттенков ключе, снимает лирическое напряжение и служит созданию эффекта открытости финала. Лирическое напряжение, эмоциональный накал произведения также несколько снижаются и уступают место более чёткой, лаконичной и сжатой образности в главах, действие которых переносится из мира переживаний к реальным событиям жизни (например, споры о назначении человека, которые ведёт приехавшая в гости молодёжь – гл. 5, III–IV и др.).
Завершающий повесть В. Короленко «Слепой музыкант» эпилог-послесловие содержит оценку происшедшего, подведение итогов и, казалось бы, придаёт финалу законченность. Однако это впечатление оказывается в значительной степени мнимым, поскольку эпилог «Слепого музыканта», строго говоря, не является эпилогом9. По существу, от традиционного эпилога у В. Короленко остаётся только один признак – временная дистанция. Ни темп повествования, ни стиль не изменяются. Эпилог, включив в себя завершение сюжетной коллизии, её развязку, становится прямым продолжением сюжета и, завершая его, намечает перспективу будущего: герой оставлен на пороге нового этапа его жизни.
Открытые финалы в произведениях В. Гаршина и В. Короленко преобладают не случайно. В современном литературоведении сложилось представление, что эволюция финалов в направлении всё более нарастающей открытости выступает как устойчивая закономерность развития европейской литературы XIX – ХХ вв.: «Конфликты всё реже исчерпывают себя в изображаемом действии, перипетии оказываются не такими уж значимыми, финалы выступают как многоточия…»10
Подчёркнуто открытым финалом с излюбленным у В. Короленко многоточием завершается и лирико-символический рассказ «МГНОВЕНИЕ» (1900). Концовка («Сверкающие волны загадочно смеялись, набегая на берег и звонко разбиваясь о камни…» [с. 258]) переводит повествование из медитативного плана в изобразительный и одновременно из крупного – в общий. У читателя возникает ощущение пространственно-временной перспективы, позволяющее охватить в своём сознании всё происшедшее в контексте прозвучавшей в предваряющем концовку диалогическом эпизоде реплики-сентенции («…кто знает, не стоит ли один миг настоящей жизни целых годов прозябанья!..» [с. 258]) и вкрапления в речь автора-повествователя несобственно-прямой речи («Офицеры переглянулись… Что значило это непонятное оживление на позициях восставших туземцев?.. Ответ ли это на вопрос об участи беглеца?.. Или просто случайная перестрелка внезапной тревоги?.. Ответа не было…» [с. 258]).
Несмотря на то что судьба героя рассказа В. Короленко до конца не прояснена, финал «Мгновения» воспринимается как романтический гимн «безумству храбрых» и, в отличие от финалов гаршинской «Ночи» или «Attalea princeps», выдержан целиком в оптимистическом ключе. Впрочем, даже вероятная гибель героя не в состоянии изменить что-либо в общем настроении произведения: пессимизм В. Гаршина чужд В. Короленко, – как и в других произведениях писателя, в «Мгновении» утверждается романтическая вера в конечное торжество справедливости и свободы. При этом, как отмечает В. Гусев, притчевая конструкция рассказа не нуждается в документальной достоверности: действия и события, изображаемые в нём, «служат прежде всего для выражения лирического содержания и не имеют самостоятельного значения» 11.
Формально рассказ «Мгновение» состоит из семи глав, но условно его можно разделить на четыре части, каждая из которых включает в себя один из элементов сюжета:
1-я часть гл. 1–2: описание приближения бури (экспозиция);
2-я часть гл. 3–4: пребывание Диаца в тюрьме (завязка конфликта);
3-я часть гл. 5–7: побег из тюрьмы (кульминация);
4-я часть гл. 7: финал: поиски Диаца (развязка).
Контур сюжета составляют мотивы усыпления (за время пребывания в тюрьме) и пробуждения сознания героя. Тема сна нагнетается в повествовании до середины четвёртой главы: «Понемногу всё прошлое становилось для него, как сон. Как во сне дремал в золотистом тумане усмирившийся берег, и во сне же бродили по нём прозрачные тени давно прошедшего…» [с. 253]; «И ещё годы прошли в этой летаргии…» [с. 253]; «Время сна не существует для сознанья, а его жизнь уже вся была сном, тупым, тяжёлым и бесследным…» [с. 254] и т. п.). С середины четвёртой главы вводится мотив пробуждения усыплённого сознания» («Душа просыпается от долгого сна, проясняется сознание, оживают давно угасшие желания…» [с. 255] и т. п.).
Лирические мотивы усыпления и пробуждения сознания героя подготавливают развитие центральной лирико-психологической темы рассказа, связанной с основной линией сюжета: Диац в конце концов преодолевает тупое равнодушие: «Диац почувствовал, что всё внутри его дрожит и волнуется, как море… И вдруг он вспомнил ясно то, что видел на берегу несколько дней назад… Ведь это был не сон! Как мог он считать это сном? Это было движение, это были выстрелы… Это было восстание!..» [с. 255]. Он пытается бежать из тюрьмы («Диац кинулся к решётке и, в порыве странного воодушевления, сильно затряс её…» [с. 255]), но в какой-то момент страх смерти в его душе оказывается сильнее, чем стремление к свободе («Нет, море обманчиво и ужасно. Он войдёт в свою тихую келью, наложит решётку, ляжет в своём углу на свой матрац и заснёт тяжёлым, но безопасным сном неволи…» [с. 256]). Однако устыдившись собственной слабости, он всё-таки совершает побег, во время которого испытывает чувство «радости, безграничного восторга, пробудившейся и сознавшей себя жизни» [с. 257].
С движением сюжета рассказа, без которого невозможно верно проследить развитие характера героя, прочно связано авторское присутствие в произведении: автор-повествователь направляет развитие сюжета, эмоционально оценивает и комментирует изображаемое, вводит лирически окрашенные описания (портрет, пейзаж), романтическую символику и др., что позволяет ему постоянно держать читателя в плену авторских мыслей и чувств.
Отметим, что в организации повествования В. Короленко использовал приём композиционного параллелизма: характеристика психологического состояния героя рассказа постоянно соотносится с изображением моря. Наиболее отчётливо эта соотнесённость прослеживается в третьей главе «Мгновения», где описывается пребывание Диаца в тюрьме на протяжении многих лет: «Он знал, что его держит здесь не решётка… Его держало это коварное, то сердитое, то ласковое море…» [с. 254], – и настроение героя прямо связывается с состоянием моря («…когда поднимался восточный ветер, особенно сильный в этих местах, u волны начинали шевелить камнями на откосе маленького острова, – в глубине его души, как эти камни на дне моря, начинала глухо шевелиться тоска, неясная и тупая…» [с. 253]; «…когда море, успокоившись, ласково лизало каменные уступы острова, он также успокаивался и забывал минуты исступления…» [с. 254]). Однако и в других главах изображение характера героя, как впрочем и лирическая напряжённость, эмоциональное движение повествования, прямо соотносится с описанием моря, которое в этом рассказе доведено В. Короленко до высот подлинно поэтического искусства. При этом следует подчеркнуть, что описание моря даётся в рассказе по-разному: в одних случаях В. Короленко остаётся в рамках реалистического метода отражения действительности, в других – обращается к принципам романтической поэтики.
Так, в экспозиции, где точными, лаконичными штрихами писатель рисует приближение бури, преобладающей оказывается реалистическая манера изображения: «…близилась буря. Солнце садилось, ветер всё крепчал, закат разгорался пурпуром, и, по мере того, как пламя разливалось по небу, – синева моря становилась всё глубже и холоднее (…) Дальний берег давно утонул в тумане, брызгах и сумерках приближающегося вечера. Море ревело глубоко и протяжно, и вал за валом катился вдаль к озарённому горизонту» [с. 251, 252]. Здесь бросается в глаза отсутствие ярких, экспрессивных эпитетов и преобладание относительно простых синтаксических конструкций. Характерно, что Т. Маевская, выделяя в рассказе В. Короленко реалистический и романтический пласты повествования, указывает на двоякую функцию этого пейзажа: «…он предваряет романтическую историю трагической судьбы узника и символизирует надвигающуюся бурю, вернее, надежду на социальные перемены в общественной жизни»12.
Иным предстаёт пейзаж в основной части повествования и в финале. Здесь описания моря предельно насыщены романтическими метафорами и сравнениями, на смену точности и лаконичности приходит проникновенный лиризм и напряжённая эмоциональность: «Море было бесформенно и дико. Дальний берег весь был поглощён тяжёлою мглою. Только на несколько мгновений между ним и тучей продвинулся красный, затуманенный месяц. Далёкие, неуверенные отблески беспорядочно заколебались на гребнях бешеных валов и погасли… Остался только шум, могучий, дико сознательный, суетливый и радостно зовущий…» [с. 255]; «…наутро солнце опять взошло в ясной синеве. Последние клочки туч беспорядочно неслись ещё по небу; море стихало, колыхаясь и, как будто, стыдясь своего ночного разгула… Синие, тяжёлые волны всё тише бились о камни, сверкая на солнце яркими, весёлыми брызгами. Дальний берег, освежённый и омытый грозой, рисовался в прозрачном воздухе. Всюду смеялась жизнь, проснувшаяся после бурной ночи» [с. 258]. При этом в лирически окрашенных пейзажах метафоры и сравнения служат не столько для уточнения представлений о море или других явлениях природы, сколько для выражения определённого настроения героя и автора-повествователя, в результате чего предметный ряд насыщается субъективным, лирическим содержанием. Романтический колорит пейзажей, в свою очередь, вносит в повествование субъективно-лирическое начало.
Выражением субъективно-лирического начала в рассказе В. Короленко являются и многочисленные вкрапления в речь автора-повествователя несобственно-прямой речи героев произведения, главным образом, центрального персонажа. Это, например, размышления Диаца: «Диац только повёл плечами и решил лечь пораньше. Пусть море говорит, что хочет; пусть как хочет выбирается из беспорядочной груды валов и эта запоздалая лодка, которую он заметил в окно. Рабья лодка с рабьего берега… Ему нет дела ни до неё, ни до голосов моря…» [с. 254]; «Диац поднялся и, точно побитая собака, пошёл к этому огоньку… Нет, море обманчиво и ужасно. Он войдёт в свою тихую келью, наложит решетку, ляжет в своём углу на свой матрац и заснёт тяжёлым, но безопасным сном неволи. Надо будет только тщательно заделать решетку, чтобы не заметил патруль… Могут ещё подумать, что он хотел убежать в эту бурную ночь… Нет, он не хочет бежать… На море гибель…» [с. 256] и т. д.). Это эмоционально насыщенные вопросы: «Даже на дальний берег он смотрел уже с тупым равнодушием и давно уже перестал долбить решетку… К чему?..» [с. 253]; «И вдруг Диацу представилось, что на его постели лежит человек и спит тяжёлым сном. Грудь подымается тихо, с тупым спокойствием… Это он? Тот Диац, который вошёл сюда полным сил и любви к жизни и свободе?..» [с. 257], и восклицания: «И вдруг он вспомнил ясно то, что видел на берегу несколько дней назад… Ведь это был не сон!
Как мог он считать это сном? Это было движение, это были выстрелы… Это было восстание!» [с. 255] и т. д.
С помощью несобственно-прямой речи В. Короленко подчёркивает, выделяет те этапы борьбы узника с самим собой, которые особенно важны для развития центральной лирико-психологической темы рассказа. При этом повествование приобретает подчёркнуто субъективный, лирический характер: в авторском рассказе о чувствах, мыслях и переживаниях героя раскрывается не только его внутренний мир, но и проясняется отношение повествователя к своему персонажу. Автор-повествователь словно сам переживает то или иное состояние своего героя. Взволнованный голос автора звучит открыто, его сознание свободно проникает в сознание персонажа, сливается с ним.
Повышенная эмоциональность, взволнованность повествования выражается и в повышении ритмичности авторской речи. Рассматривая функции ритма в прозе, М. Гиршман подчёркивает, что ритмическая организация «выполняет экспрессивную функцию, эмоционально «заражая» читателя, пробуждая его к сопереживанию, к сотворчеству» 13. Так, в глубоко лиричных, наполненных истинно романтическим пафосом фрагментах из четвёртой главы рассказа В. Короленко своеобразное эмоциональное настроение создаётся повторением неопределённых местоимений (что-то), прилагательных (тихое, ласковое, незнакомое) и существительных (грохот, шипенье, свист). В размеренную, привычную жизнь узника вплетается мечта, хотя и неясная, о чём-то лучшем, несбыточном, желаемом – мечта о свободе («За окном неслись в темноте белые клочья фосфорической пены, и, даже когда грохот стих, камера была полна шипеньем и свистом… Казалось, что-то сознательно грозное пролетело над островом и затихает, замирает вдали… Хотя такие бури бывали не часто, но всё же он хорошо знал и этот грохот, и свист, и шипенье, и подземное дрожанье каменного берега. Но теперь, когда этот разнузданный гул стал убывать, под ним послышался ещё какой-то новый звук, что-то тихое, ласковое, незнакомое… Налетел ещё шквал, опять пронеслись сверкающие брызги, и опять из-под шипенья и плеска послышался прежний звук, незнакомый и ласковый. Диац кинулся к решётке и… сильно затряс её…» [с. 255]).
Таким образом, для повышения ритмичности повествования В. Короленко, наряду с различными формами грамматико-синтаксического параллелизма, широко использует звуковые и лексические повторы, хотя это и противоречит основным принципам прозаической речи, придавая ей искусственную напевность14, на что, в частности, указывал В. Жирмунский: «Основу ритмической организации прозы всегда организуют не звуковые повторы, а различные формы грамматико-синтаксического параллелизма»15.
Примером нарастания в прозе В. Короленко ритмической организованности в самых напряжённых моментах сюжета может служить и фрагмент из шестой главы рассказа «Мгновение», включающий краткое описание внешности героя, его психологический портрет, отдельные выразительные черты которого служат характеристике душевного состояния Диаца в заключительной части повествования: «Впереди были только хаос и буря. Кипучий восторг переполнил его застывшую душу. Он крепко сжал руль, натянул парус и громко крикнул… Это был крик неудержимой радости, безграничного восторга, пробудившейся и сознавшей себя жизни… Сбоку набегал шквал, подхватывая лодку… Она поднималась, поднималась… казалось, целую вечность… Хозе-Мария-Мигуэль-Диац с сжатыми бровями, твёрдым взглядом глядел только вперёд, и тот же восторг переполнял его грудь…» [с. 257]. Характерно, что портретная характеристика героя в этом фрагменте повествования завершается обобщающим, лирически окрашенным высказыванием автора: «Он знал, что он свободен, что никто в целом мире теперь не сравняется с ним, потому что все хотят жизни… А он… Он хочет только свободы» [с. 257].
Как видим, нагнетание однородных сказуемых и определений в лирически напряжённых моментах сюжета позволяет В. Короленко создавать взволнованный и прерывистый ритм повествования, по отчётливости приближающийся к стихотворному. Однако следует подчеркнуть, что писатель «нигде не переходит грань, отделяющую белый стих от ритмизированной прозы. Чутко поддерживая равновесие между лиризмом и повествовательным началом, он избегает и частого повторения синтаксико-ритмических сочетаний, которые могли бы привести к возникновению чёткого собственно стихотворного ритма», на что, обобщая наблюдения над ритмикой «Мгновения», справедливо указывает В. Гусев16. Тем не менее ритмизация прозаической речи в «Мгновении», несомненно, усиливает её экспрессивность, создаёт особый эмоциональный настрой, определяющий напряжённую и взволнованную интонацию повествования.
Наряду с лирически окрашенными изобразительно-описательными и ритмизированными фрагментами, в рассказе В. Короленко значительную роль играют не столь многочисленные драматизированные эпизоды. Их всего три: диалоги между часовым и капралом (гл. 1), между часовым и рыбаком (гл. 2) и между испанскими офицерами (гл. 7). Они выполняют двоякую функцию: с одной стороны, драматизация повествования активно вовлекает в действие читателя, а с другой – усиливает в произведении реалистическое начало, на что, в частности, обращает внимание Т. Маевская: «…диалог между капралом и часовым в первой главе и сцена во второй главе между часовым и рыбаком, которого приближающийся шторм заставил причалить лодку к испанскому форту, написаны в реалистической манере»17. Однако и здесь элементы романтического стиля органично сочетаются с общим реалистическим тоном повествования и настолько с ним переплетаются, что грани между реалистическим и романтическим зачастую едва уловимы.
С романтическим началом в рассказе «Мгновение» непосредственно связан постоянно встречающийся в произведениях В. Короленко лирико-романтический мотив одиночества, отчуждения. Герой рассказа обречён на одиночество: каменные стены башни, железные решётки на окнах тюремной камеры и море на многие годы оградили его от человеческого общества. Но здесь, в отличие от повести «Слепой музыкант», лирико-романтический мотив одиночества разрабатывается не в связи с психологической характеристикой героя (как сознательно выбранный образ жизни), а в связи с романтической фабулой. При этом мотив одиночества («В его каморке от угла к углу, по диагонали, была обозначена в каменном полу углублённая дорожка. Это он вытоптал босыми ногами камень, бегая в бурные ночи по своей клетке» [с. 253]) в художественной структуре произведения непосредственно подготавливает введение центрального лирико-психологического мотива стремления к свободе, который в данном контексте воспринимается как естественный протест против насилия над личностью героя.
Для создания романтического колорита автор прибегает и к контрастному изображению, которое, в свою очередь, становится одним из наиболее ярких средств лиризации повествования. По сути, весь рассказ, в соответствии с романтической концепцией двоемирия, построен на контрастном противопоставлении двух миров – свободы и несвободы. При этом В. Короленко широко использует романтическую символику, проходящую через всю повествовательную ткань произведения и способствующую созданию особого эмоционального накала: «дальний берег» – символ свободы; «бушующее море» – символ стремления к свободе; «ровный огонёк» – символ благоразумной покорности, «безопасного сна неволи». Приобретая символическое значение, повторяющиеся детали в рассказе В. Короленко, как и в произведениях В. Гаршина, совмещаются с узловыми моментами сюжета. Так, в основе экспозиции лежит контраст между тёмным морем, грозящим гибелью всему живому, и огнями испанского форта, влекущими к себе запоздалого рыбака обещанием тепла и покоя. Здесь детали окружающей действительности даны в восприятии ищущего спасения за стенами форта рыбака, который в художественной структуре произведения является антиподом главного героя, поэтому в начале повествования бушующее море символизирует гибель, а огни – спасение.
В композиционном ряду произведения представленное в экспозиции восприятие символических образов моря и огней форта соотносится с аналогичным их восприятием Диацем в пятой главе рассказа, когда страх смерти в его душе на некоторое время заглушает стремление к свободе: «Шквал налетел как раз в ту минуту, когда Диац выскочил из окна. Его сразу залило водой, оглушило и сшибло с ног… Несколько секунд он лежал без сознания, с одним ужасом в душе, озябший и несчастный, а над ним с воем неслось что-то огромное, дикое, враждебное… Только каменные стены форта оставались неподвижными и спокойными среди общего движения… Там, за стенами, казалось, замкнулось спокойствие. Огонёк в его башне светился ровным, немигающим светом. Диац поднялся и, точно прибитая собака, пошёл к этому огоньку…» [с. 256]). В то же время дается прямо противоположное восприятие Диацем этих образов в шестой главе, где развитие художественного конфликта достигает своей кульминации («…море кипело и металось во мраке… Диац взглянул назад, и ему показалось, что тёмный островок колыхнулся и упал в бездну, вместе с ровным огоньком, который до этого мгновения следил за ним своим мёртвым светом. Впереди были только хаос и буря. Кипучий восторг переполнил его застывшую душу…» [с. 257]). «Ровный огонёк» с его «мёртвым светом» ассоциируется здесь с гибельным прозябанием в мире несвободы, в то время как бушующее море даёт ощущение подлинной жизни.
Развязка художественного конфликта в рассказе В. Короленко, как и в произведениях В. Гаршина, в фабульном времени и пространстве совпадает с кульминацией, но в композиционном отношении выделена в самостоятельную часть произведения. Однако, в отличие от В. Гаршина, В. Короленко не обращается в своём повествовании к романтической иронии: финал рассказа окрашен в светлые, оптимистические тона. Здесь в сжатой, афористичной форме выражается идея рассказа («…кто знает, не стоит ли один миг настоящей жизни целых годов прозябания!»), но прежде всего обращает на себя внимание изменение самой атмосферы повествования. Если в основной части произведения за счёт подбора эмоционально насыщенных лексических средств, использования типично романтических метафор и ритмизации нагнеталась напряжённость, то в финале с помощью этих же художественных средств напряжённость снимается – достаточно сравнить выбор лексики в соотносимых друг с другом фрагментах из экспозиции и заключительной части рассказа («Дальний берег давно утонул в тумане, брызгах и сумерках приближающегося вечера, море ревело глубоко и протяжно…» (гл. 1) и «А наутро солнце опять взошло в ясной синеве… море стихало, колыхаясь и, как будто, стыдясь своего ночного разгула… Дальний берег, освежённый и омытый грозой, рисовался в прозрачном воздухе. Всюду смеялась жизнь, проснувшаяся после бурной ночи…» (гл. 7). Более того, ощущение тревоги сменяется чувством радости и веселья, которое естественно возникает из осознания одержанной героем рассказа нравственной победы.
Отметим также, что с традицией лирического изображения связана субъективизация художественного времени в прозе В. Короленко. Размышляя о поэтике художественного времени, Д. Лихачёв отметил, что «время в произведении может идти быстро или медленно, прерывисто или непрерывно, интенсивно наполняться событиями или течь лениво и оставаться «пустым», редко «населённым событиями»»18… Действие в произведениях В. Короленко предельно сгущается и уплотняется, по виду укладываясь в несколько часов, хотя на самом деле может вмещать и дни, и годы. Оно не растекается широко, а, напротив, сосредоточивается вокруг переломного, решающего момента, который переживает герой. Так, в «Мгновении» долгие годы, проведённые в заключении, в восприятии Диаца сливаются в один бесконечный день, – время как бы останавливается. Его движение начинается вновь в тот момент, когда узник узнаёт о восстании, причём мгновения свободы он ценит выше, чем десятилетия, проведённые в тюрьме.
По насыщенности экспрессивной лексикой, метафоричности и особой ритмической организации среди произведений В. Короленко, несомненно, выделяется его знаменитая миниатюра «ОГОНЬКИ» (1900), которая воспринимается как своего рода квинтэссенция короленковского лиризма. Не случайно в исследовательской литературе неоднократно указывалось на то, что по своей образной системе и жанровой структуре этот лирико-символический рассказ напоминает стихотворение в прозе19. От ранее рассмотренных произведений В. Короленко «Огоньки» отличаются и тем, что в этой миниатюре в сферу изображения введён автор-повествователь (персонифицированный рассказчик). Его размышления имеют лирическую природу и образуют лирический сюжет.
Условно «Огоньки» можно разделить на четыре части, которые включают в себя все основные элементы сюжета:
• в первой части (1 – 3-й абзацы) приводится краткое описание путешествия по сибирской реке, причём центральное место отводится диалогу между персонифицированным рассказчиком и гребцом (экспозиция);
• вторую часть (4-й абзац) составляют лирико-философские размышления рассказчика о свойствах ночных огней (завязка);
• в третьей части (5-й абзац) повествование снова переводится из медитативного плана в изобразительный: здесь завершается описание путешествия по реке;
• четвёртая часть (6 – 7-й абзацы) переводит повествование на символико-метафорический уровень восприятия и включает в себя размышления персонифицированного рассказчика о стремлении человека к счастью, к постижению истины (кульминация и развязка).
Двуплановость повествования придаёт всему произведению черты философской притчи, контур сюжета которой составляют поиски человеком истины о себе и мире. В основе композиции лежит принцип контраста, являющийся одним из главных источников лиризма произведения: вся миниатюра построена на противопоставлении образов тёмной реки и огоньков, которые в ходе повествования приобретают символико-метафорический смысл.
В первой части миниатюры огоньки ассоциируются только с радостью персонифицированного рассказчика («Ну, слава богу! – сказал я с радостью, – близко ночлег!» [с. 250]), а темнота – с апатичностью гребца («Гребец повернулся… и опять апатично налёг на вёсла…» [с. 250]), но во второй и третьей частях образы героев, а вместе с ними и намеченные ассоциации, приобретают обобщённый смысл: огоньки и темнота воспринимаются как две жизненные позиции. Одна из них воплощает в себе восприятие огней и темноты персонифицированным рассказчиком («Кажется, вот-вот ещё два-три удара веслом, – и путь кончен…» [с. 250]), вторая – гребцом («И долго мы ещё плыли по тёмной, как чернила, реке…» [с. 250]). Характерно, что ещё в экспозиции персонифицированный рассказчик признаёт правоту гребца («Я не поверил: огонёк так и стоял, выступая вперёд из неопределённой тьмы. Но гребец был прав: оказалось, действительно, далеко…» [с. 250]), так что завязка художественного конфликта происходит не на реально-бытовом, а на обобщённо-философском уровне развития сюжета.
В четвёртой части центральная лирико-философская тема рассказа приобретает предельно обобщённый, символический смысл: «Много огней и раньше и после манили не одного меня своею близостью. Но жизнь течёт всё в тех же угрюмых берегах, а огни ещё далеко…» [с. 250]. Несмотря на то что лирико-символические мотивы тьмы и света в данном контексте предполагают возможность самых разных интерпретаций – от конкретно-исторических до универсально-философских, – концовка произведения («Но всё-таки… всё-таки впереди – огни!..» [с. 250]) почти однозначно воспринимается как эмоциональное утверждение неизбежности торжества света.
Ритм последней строки, сохраняющий ощущение мерных ударов вёсел (четыре равных слова, указание повествователя: «И опять приходится налегать на вёсла…»), привносит в развитие центральной лирико-символической темы рассказа дополнительный смысл, на который справедливо указывает Е. Синцов, полагая, что последняя фраза выражает не только торжество света, уверенность в победе, но и является воплощением «упорного движения во тьме жизни к далёким огням»20. Благодаря этому скрытому смыслу снятие противопоставления темноты и света в концовке «Огоньков» оказывается лишь иллюзией, лишь провозглашением желаемого. И не суть важно, утверждает ли произведение В. Короленко «движение жизни вперёд, веру в конечную цель»21 или является «раздумьем о будущем, которое неодинаково представляется людям: одни смотрят на будущее с надеждой, другие с тоской, сомнением…»22. Очевидно, что писатель призывает к поиску истины, которая всегда впереди. Сам В. Короленко так определил основную идею «Огоньков»: «В очерке «Огоньки» я не имел в виду сказать, что после трудного перехода предстоит окончательный покой и всеобщее счастье. Нет, – там опять начинается другая станция. Жизнь состоит в постоянном стремлении, достижении и новом стремлении»23.
Доминирующее значение в художественной структуре миниатюры В. Короленко приобретают развёрнутые лирико-символические описания природы: «Как-то давно, тёмным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под тёмными горами мелькнул огонёк… Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь назади и теряясь, казалось, в бесконечной дали, а огонёк всё стоял впереди, переливаясь и маня, – всё так же близко, и всё так же далеко…» [с. 250]. Они не только играют важную роль в развитии центральной лирико-символической темы рассказа, но и вводят восприятие читателя в широкий круг ассоциативных сцеплений – от личных раздумий до философских представлений о счастье людей, о будущем, о вселенной24.
Лиризации повествования в «Огоньках» также способствуют многочисленные субъективно-оценочные эпитеты (угрюмая река, бесконечная даль), сравнения (тёмная, как чернила, река), метафоры (живой огонёк) и ритмическая организация речи, которая создаётся в основном за счёт грамматико-синтаксического параллелизма («Свойство этих ночных огней – приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своею близостью…») и поддерживается лексическим повтором, встречающимся практически в каждом абзаце (далеко, действительно далеко, в бесконечной дали, всё так же далеко, ещё далеко; мелькнул огонёк, огонёк так и стоял, свойство этих ночных огней, огонёк всё стоял впереди, живой огонёк, много огней, огни ещё далеко, впереди огни и др.).
* * *
Свойства личности В. Гаршина – чуткая отзывчивость на чужое страдание, болезненная совестливость, жажда правды и справедливости, – отразившись в его прозе, во многом определили как тревожное и дисгармоничное ощущение мира, которое неизменно поражает в рассказах писателя, так и тип гаршинского героя, разочаровавшегося и мучающегося интеллигента, «человека потрясённой совести», остро чувствующего зло и общественную несправедливость. Потрясённость мировым злом – одно из важнейших составляющих того гуманистического идеала, в свете которого в творчестве В. Гаршина ставились и решались важнейшие социальные и нравственные вопросы эпохи. Действительность с её злом, несправедливостью и ложью для В. Гаршина тяжела, и путь примирения с ней, путь конформизма – невозможен. Однако зло для В. Гаршина многозначно и не сопряжено лишь с социальной несправедливостью. В силу этого и отрицание зла носит в известной степени абстрактный характер. С нравственной точки зрения для него неприемлемо любое насилие, В. Гаршина всегда привлекали красота человеческого подвига, красота нравственного самопожертвования. Поэтому подвиг борьбы со злом у В. Гаршина всегда оказывается лишь актом свободной воли отдельного человека, его победой над собой – в мире же ничего не меняется. Протест против «всего зла мира» достигает особой силы в произведениях В. Гаршина во многом за счёт их субъективной исповедальности.
В центре внимания В. Короленко находится человеческая индивидуальность, её внутренний мир. Несмотря на то что изображение противоречий социальной действительности, конечно же, не исключалось из произведений писателя, их тематику главным образом определяют нравственно-философские вопросы: что такое человек, каково его назначение, в чём состоит смысл жизни и т. п. Как верно заметил Н. Пиксанов, «редкий из русских писателей так верит в человека, как В. Короленко»25. Формула его миросозерцания – «Человек рождён для счастья, как птица для полёта» («Парадокс»).
Оптимистическая вера В. Короленко в человека стала источником лирико-романтической составляющей в его творчестве. Стремясь обновить реалистическую систему, В. Короленко принцип художественной правды дополняет элементом героизма, который в его произведениях выступает в форме надежды, предчувствия, субъективного устремления художника. Воспевание героизма, стойкости, сопротивления злу, страстного стремления человека к свободе, к добру и общественной полезности – таковы основные лирические мотивы в творчестве писателя, дающие ощущение «возможной реальности» (термин В. Короленко) при изображении реальной действительности.
Темы для рефератов
1. Лирико-романтическое начало в прозе В. Гаршина.
2. Структура сюжета рассказа В. Гаршина «Attalea princeps».
3. Формы выражения авторской позиции в прозе В. Гаршина.
4. Эффект «многоголосия» в повествовательной структуре рассказа В. Гаршина «Ночь».
5. Тема счастья в прозе В. Короленко.
6. Лирико-символический подтекст в повести В. Короленко «Слепой музыкант».
7. Организация повествования в повести В. Короленко «Мгновение».
8. Миниатюра «Огоньки» – квинтэссенция лиризма в прозе В. Короленко.
1.2 Субъективно-объективная парадигма: «В человеке должно быть всё прекрасно» – Антон ЧехоВ
«Чёрный монах»
«Дом с мезонином»
«Без заглавия»
В современном литературоведении А. Чехова принято считать писателем объективного стиля. Большинство исследователей полагает, что принцип объективности в его произведениях находит выражение прежде всего в необычайной сдержанности авторской речи. Действительно, А. Чехов не только старательно избегает прямых авторских оценок, но и, в отличие от В. Гаршина и В. Короленко, стремится к предельной внеэмоциональности, беспафосности речи повествователя. Однако, как справедливо отметила Э. Полоцкая, чеховская сдержанность парадоксальным образом передаёт «широкий спектр эмоций, исходящий (…) от автора»1. По её мнению, феномен чеховского стиля состоит в том, что он и «субъективен», и «объективен»2. В связи с этим закономерно возникает вопрос о соотношении чеховской объективности и лиризма.
Одной из распространённых тенденций истолкования прозы А. Чехова, восходящей к импрессионистской её трактовке и дающей себя знать и в наше время, является противопоставление объективности и лиризма: полные, логически связанные картины действительности, характерные для классического реализма, в импрессионистской прозе заменяются отрывочными, часто малозначащими деталями, передающими субъективные мимолётные впечатления героев или автора-повествователя3.
В то же время объективность А. Чехова не воспринимается в том классическом виде, который им же самим был провозглашён как кредо: в своём стремлении к объективности он шёл по пути устранения открытого обнаружения авторского «я», желая стимулировать активность читателя. С этой целью А. Чехов избегал описания собственных переживаний по поводу того или иного действующего лица или события, что было отличительным признаком лиризма В. Гаршина и В. Короленко. Тем не менее при косвенном выражении авторского отношения к предмету, – а в творчестве А. Чехова лирическое начало получило очень сложную, скрытую форму существования: лирический план у него чаще всего прочитывается в подтексте произведений, – А. Чехов достигает лирического эффекта не меньше, чем это могло бы дать прямое его выражение. Поэтому, когда речь заходит о соотношении чеховской объективности и лиризма, наиболее справедливой представляется позиция М. Гиршмана, который предлагает говорить «о принципиальной двуплановости чеховского повествования, о взаимосвязи в нём эпического и лирического начала при доминирующей роли плана эпического»4.
С этой точки зрения особый интерес представляет рассказ А. Чехова «ЧЁРНЫЙ МОНАХ», который имеет давно установившуюся репутацию необычного, «загадочного» произведения. Можно назвать около двух десятков разборов этого рассказа в статьях и главах монографий о творчестве А. Чехова. Как правило, исследователи стремились в первую очередь выяснить сущность образа Чёрного монаха, а затем определяли позиции Коврина и Песоцкого и соотносили их с авторской позицией. Поэтому интерпретации рассказа чаще всего сводились к оправданию одного героя и обвинению другого, т. е., по сути, к отождествлению позиций того или иного персонажа с авторской позицией, что неизбежно вело к навязыванию А. Чехову несвойственной ему прямолинейности и упрощению реальной сложности авторской концепции произведения5.
Таким образом, авторское отношение к героям, авторская позиция стали главным предметом обсуждения в необъявленной дискуссии о «Чёрном монахе»6. Однако круг материала, вовлечённого в анализ, до сих пор не очень широк: в основе различных концептуальных суждений лежат прежде всего прямые высказывания персонажей (диалоги Коврина с Чёрным монахом, с Песоцким и др.), отдельные (почти всегда одни и те же!) эпизоды и образы (образ Чёрного монаха, образ сада). Другие аспекты поэтики «Чёрного монаха», в том числе и средства лиризации повествования, – не подвергались сколько-нибудь систематическому исследованию. В результате, несмотря на большую аналитическую работу этот рассказ А. Чехова не получил более или менее однозначного толкования.
Контур сюжета рассказа образует история болезни Коврина. Однако при толковании авторского отношения к герою часто упускается из виду, что А. Чехов с самого начала изображает его больным: писателю важно ввести героев произведения в действие задолго до того, как обнаружится сумасшествие Коврина (переломный момент в сюжетно-композиционной структуре рассказа)7. В связи с этим отметим, что исследователи, как правило, указывают на трёхчастность композиции «Чёрного монаха». Так, Н. Фортунатов, опираясь на мысль Д. Шостаковича, который утверждал, что «Чёрный монах» написан в сонатной форме8, полагает, что «общая композиционная схема «Чёрного монаха» выражается в формуле: А – Б – А', где Б – средняя часть, разработка (главы II–VIII), а А и А' – экспозиция (глава I) и заключительная часть, реприза (глава IX), характеризуемая значительными тематическими и композиционно-структурными сдвигами по сравнению с экспозиционной частью»9. В свою очередь, В. Максименко утверждает, что трёхчастность композиции рассказа обусловливается характером основного конфликта, который в своём развитии проходит три этапа, им соответствуют болезнь Коврина (1–7 главы), его выздоровление (8 глава) и смерть (9 глава)10. На композиционную трёхчастность «Чёрного монаха» («объединение противоположностей в итоговом гармоническом синтезе») указывает и М. Гиршман, выявляя связующие нити «макромира» и «микромира» чеховского повествования11.
Нам же представляется, что «Чёрный монах», исходя из места и времени действия, а также учитывая этапы развития болезни героя, логичнее делить не на три, а на четыре части, каждая из которых включает в себя один из элементов сюжета:
1-я часть гл. 1–6: действие происходит весной и летом в усадьбе Песоцких; в это время Коврин ещё не придаёт значения своей болезни (экспозиция);
2-я часть гл. 7: действие происходит зимой в городе; болезнь Коврина обнаруживается и, уступая желанию Песоцких, он соглашается лечиться (завязка конфликта);
3-я часть гл. 8: действие происходит следующим летом в усадьбе Песоцких; к этому времени Коврин выздоравливает (кульминация);
4-я часть гл. 9: действие происходит через два года в Крыму; рецидив болезни, Коврин умирает (развязка)12.
При этом нет смысла оспаривать мысль Д. Шостаковича о том, что архитектоника «Чёрного монаха» – «одного из самых музыкальных, – по его словам, – произведений русской литературы» имеет резко выраженные черты «сонатности»13. Напротив, нам она представляется заслуживающей внимания, тем более, что соната, как и некоторые другие циклические формы (например, симфония), чаще всего состоит не из трёх, а из четырёх частей: 1-я – быстрая, 2-я – медленная, 3-я – быстрая и 4-я – быстрая. Интересно, что в рассказе А. Чехова, соответственно, 1-я, 3-я и 4-я части многособытийны, причём по мере развития тех или иных событий писатель заставляет своего героя вспоминать прошлое и связывать происшествия давних лет с настоящим, т. е. в этих частях рассказа всю жизнь героя обрамляет субъективное время, тогда как 2-я часть диалогична (беседы Коврина с Чёрным монахом и Таней) и включает в себя лишь объективное время повествования.
Художественный конфликт «Чёрного монаха», очевидно, восходит к романтическому конфликту, одной из граней которого является противопоставление идеального и реального14. При этом, как справедливо отметил В. Катаев, «определяющую роль в истории героев «Чёрного монаха» сыграла ситуация «казалось» – «оказалось»15. Эту ситуацию отражают и условно выделенные нами части рассказа, в которых преобладают те или иные лирические мотивы (настроения), связанные с изменением внутреннего психологического состояния героев, и прежде всего Коврина, по мере развития основного художественного конфликта.
Первая часть рассказа (гл. 1–6) – период радости, счастья, любви героев. О мировосприятии Коврина в это время можно судить по следующим фрагментам: «…ему казалось, что в нём каждая жилочка дрожит и играет от удовольствия» [с. 189]; «Он сел на диван и обнял голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнившую всё его существо…» [с. 195]; «Я доволен, Таня, – сказал Коврин, кладя ей руки на плечи. – Я больше, чем доволен, я счастлив!» [с. 201] и т. п.16
Каждый из героев рассказа обладает индивидуальным взглядом на мир, своим пониманием целей и смысла жизни. Их позиции – сфера интересов, деятельности, представлений о мире и о своём месте в нём – определяются главным образом в лирически окрашенных диалогах. При этом позиция Коврина раскрывается опосредованно, через высказывания Чёрного монаха: Коврин верит, что смысл жизни в познании («Истинное наслаждение в познании…» [с. 199]), верит в свою избранность («Ты один из немногих, которые по справедливости называются избранниками божиими. Ты служишь вечной правде…» [с. 199]), верит, что людей ждёт великое будущее и он – один из тех, кому дано это будущее приблизить («Без вас, служителей высшему началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно; развиваясь естественным порядком, оно долго бы ещё ждало конца своей земной истории. Вы же на несколько тысяч лет раньше введёте его в царство вечной правды – и в этом ваша высокая заслуга…» [с. 199]).
Нездоровые претензии Коврина на собственную исключительность подкрепляются и отношением к нему окружающих: со слов Тани выясняется, что Песоцкий без рассуждений преклоняется перед Ковриным, слепо верит в его величие, в значимость того, чем тот занимается («…мой отец обожает вас. Иногда мне кажется, что вас он любит больше, чем меня. Он гордится вами. Вы учёный, необыкновенный человек, вы сделали себе блестящую карьеру…» [с. 187]). В свою очередь, для Тани Коврин является олицетворением её идеала, связанного с представлениями о другой, высокой и значимой жизни («Вы мужчина, живёте уже своею, интересною жизнью, вы величина… Вся, вся наша жизнь ушла в сад. Конечно, это хорошо, полезно, но иногда хочется и ещё чего-нибудь для разнообразия. Я помню, когда вы, бывало, приезжали к нам на каникулы или просто так, то в доме становилось как-то свежее и светлее, точно с люстры и с мебели чехлы снимали. Я была тогда девочкой и всё-таки понимала…» [с. 186–187]). Характерно, что все герои – и Коврин, и Песоцкий, и Таня – живут с иллюзорными, мнимыми представлениями о мире и своём месте в нём. Но они искренни в своем заблуждении и поэтому счастливы.
Во второй части рассказа (гл. 7) герои освобождаются от иллюзий. Осознание ими своего истинного положения приводит к завязке художественного конфликта, в результате чувство радости в мировосприятии героев сменяется ощущением страха: «Таня между тем проснулась и с изумлением и ужасом смотрела на мужа. Он говорил, обращаясь к креслу, жестикулировал и смеялся… Только теперь, глядя на неё, Коврин понял всю опасность своего положения, понял, что значат чёрный монах и беседы с ним. Для него теперь было ясно, что он сумасшедший… «Ты не бойся, Андрюша, – говорила Таня, дрожа, как в лихорадке, – не бойся…» Коврин от волнения не мог говорить…» [с. 205–206].
Третья часть (гл. 8) – период неудовлетворённости, разочарования и взаимной враждебности в жизни героев. Кульминацию в развитии художественного конфликта отражает монолог Коврина: «Зачем, зачем вы меня лечили? Бромистые препараты, праздность, тёплые ванны, надзор, малодушный страх за каждый глоток, за каждый шаг – всё это в конце концов доведёт меня до идиотизма. Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я был весел, бодр и даже счастлив, я был интересен и оригинален. Теперь я стал рассудительнее и солиднее, но зато я такой, как все: я – посредственность, мне скучно жить…» [с. 208].
Заключительная, четвёртая часть рассказа (гл. 9) включает в себя весь спектр лирических мотивов из предыдущих частей, но разворачивающихся в обратном порядке: от разочарования и ненависти к ощущению радости и счастья. Здесь и окончательное осознание Ковриным собственной посредственности: «Коврин теперь ясно сознавал, что он – посредственность, и охотно мирился с этим, так как, по его мнению, каждый человек должен быть доволен тем, что он есть…» [с. 213]; и полное ненависти письмо от Тани: «Я ненавижу тебя всею моею душой… Будь ты проклят. Я приняла тебя за необыкновенного человека, за гения, я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедший…» [с. 212]; и навязчивое, непокидающее ощущение страха: «Опять им овладело беспокойство, похожее на страх, и стало казаться, что во всей гостинице кроме него нет ни одной души…» [с. 213]; и, наконец, давно забытое чувство радости и счастья: «…чудесная, сладкая радость, о которой он давно уже забыл, задрожала в его груди… невыразимое, безграничное счастье наполняло всё его существо…» [с. 214]17.
Характерно, что в «Чёрном монахе» А. Чехов остаётся верен себе, стремясь, как точно подметил А.Чудаков, «прежде всего обозначить общую и вещно-пространственно-временную ситуацию и социальную принадлежность героя, сразу назвать его имя, отчество, фамилию»: «Андрей Васильич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы…»18. Повествование начинается в сдержанных, спокойных тонах, однако читатель с первых же страниц рассказа чувствует себя погружённым в лирическую стихию. И все же обманчивость впечатления несомненна: источник лиризма – состояние не автора, а героя, настроенного субъективно, поскольку, как справедливо отметила М. Семанова, в рассказе А. Чехова «вне воспринимающего сознания Коврина почти нет авторских описаний»19. Внутреннее психологическое состояние Коврина накладывает отпечаток на всё, о чём рассказывается в произведении, хотя формально повествование и не ведётся от его имени. В то же время видение героя как бы отягощено его внутренними противоречиями, соответственно, его чувствами оправдывается введение в основной – нейтральный – тон повествования иных тонов, в том числе лирических. Иными словами, авторская оценка в рассказе проявляется как бы исподволь, преломляясь через мировосприятие персонажа: речь героя и автора-повествователя сближаются и порой сливаются в труднорасчленимое стилевое единство20. Резкая разграничительная черта между сознанием автора и героя проведена лишь однажды, в сцене объяснения в любви Коврина и Тани. Восторженное, приподнятое настроение Коврина, его слова: «Как она хороша» — охлаждены трезвым взглядом автора: «Она была ошеломлена, согнулась, съёжилась и точно состарилась сразу на десять лет…» [с. 201]. Обычно же читатель угадывает уровни ковринского и авторского сознания лишь из всей структуры рассказа: проникновение субъективности восприятия героя в авторский нейтральный текст становится одним из важнейших средств лиризации чеховского повествования.
Уже в первой главе «Чёрного монаха», в описаниях парка и сада Песоцких оживают впечатления Коврина, связанные с его прошлым. Это определяет эмоциональную тональность не только начала рассказа, но отчасти и настроение всего произведения: ориентацию на память, на воспоминания с их характерной тенденцией поэтизировать и идеализировать реальность21. С исключительной чувствительностью, почти ностальгически А. Чехов передаёт ощущения Коврина, связанные с его воспоминаниями («Го, что было декоративною частью сада… производило на Коврина когда-то в детстве сказочное впечатление. Каких только тут не было причуд, изысканных уродств и издевательств над природой!..» [с. 185]), которые погружают его в мир, исполненный разнообразных аллюзий, запахов и красок, – в мир поэзии, где нормативные время и пространство перестают существовать. Экспрессивность эпитетов и метафор, характеризующих настроение Коврина, воспринимающего действительность субъективно, придаёт этим описаниям эмоциональную напряжённость, радостную взволнованность. Однако для того чтобы верно оценить их, следует учитывать, что сам А. Чехов стоит как бы поодаль от героя: он не идеализирует ни его субъективность в целом, ни тех образов и впечатлений, которые сквозь фильтр памяти наполняют Коврина трогательными эмоциями. У А. Чехова патетика всегда в той или иной степени ложно-серьёзна, авторитарна, и потому за ней всегда скрывается редуцированная авторская ирония, которая в данном случае связана с восприятием образов парка и сада как неких литературных шаблонов красоты. Не случайно весь строй тщательно подобранных деталей: «угрюмый и строгий» парк у реки с «обрывистым, крутым глинистым берегом», «сосны с обнажившимися корнями, похожими на мохнатые лапы», розы, лилии, камелии, тюльпаны, – лишён оригинальности, отдаёт шаблоном и потому подсвечивается едва приметной иронией, которая закономерно распространяется на образ Коврина, ведь читатель всё видит в свете его переживаний и оценок.
Характерно, что в описании коммерческого сада так же проступает авторская ирония (имеется в виду фраза «В большом фруктовом саду, который назывался коммерческим и приносил Егору Семёнычу ежегодно несколько тысяч чистого дохода, стлался по земле чёрный, густой, едкий дым и, обволакивая деревья, спасал от мороза эти тысячи…» [с. 186]), но здесь точка зрения А. Чехова совпадает с позицией Коврина, настроенного по отношению к коммерческой стороне деятельности Песоцкого столь же иронично, как и автор-повествователь. В результате уже в начале рассказа обозначается ироническая дистанция между автором и главными героями, которая в ходе повествования постепенно преобразуется, не исчезая окончательно, в элегичность сострадания22. Следовательно, абсолютно правы исследователи, полагающие, что авторский идеал в «Чёрном монахе» не совпадает ни с позицией Коврина, ни с позицией Песоцкого: авторская позиция в рассказе А. Чехова раскрывается через сложное сплетение позиций главных героев23. Таким образом, с точки зрения А. Чехова, постижение истины становится возможным только в диалоге различных сознаний: авторская ирония в данном случае указывает на то, что «правда» каждого героя относительна и недостаточна.
Иронический характер авторской речи проявляется и в постоянных указаниях на суетность жизни героев произведения. В частности, портретная характеристика Песоцкого заканчивается ремаркой автора-повествователя («Вид он имел крайне озабоченный, всё куда-то торопился и с таким выражением, как будто опоздай он хоть на одну минуту, то всё погибло!» [с. 188]), иронический эффект которой распространяется и на повторяющиеся реплики героя, – своеобразные эмоциональные константы его художественного образа: «Боже мой! Боже мой! Перепортили, перемерзили, пересквернили, перепакостили! Пропал сад! Погиб сад! Боже мой!» [с. 188]; «Черти! Пересквернили, перепоганили, перемерзили! Пропал сад! Погиб сад!» [с. 203]. Ту же ироническую функцию здесь выполняют контрастные восклицания («Боже мой!» – «Черти!») и авторские неологизмы («перемерзили», «пересквернили»).
Ироничность тона авторского комментария заметно усиливается в шестой главе рассказа:
• в описаниях, связанных с подготовкой к свадьбе Коврина и Тани («А тут ещё возня с приданым, которому Песоцкие придавали не малое значение; от звяканья ножниц, стука швейных машин, угара утюгов и от капризов модистки, нервной, обидчивой дамы, у всех в доме кружились головы…» [с. 202]);
• в характеристике внутреннего состояния Тани («То вдруг нахлынет такая радость, что хочется улететь под облака и там молиться богу, а то… бог весть откуда, придёт мысль, что она ничтожна, мелка и недостойна такого великого человека, как Коврин, – и она уходит к себе, запирается на ключ и горько плачет в продолжение нескольких часов…» [с. 202]);
• её отца («В нём уже сидело как будто два человека: один был настоящий Егор Семёныч, который, слушая садовника Ивана Карлыча, докладывавшего ему о беспорядках, возмущался и в отчаянии хватал себя за голову, и другой, не настоящий, точно полупьяный» [с. 203]);
• Коврина («А Коврин работал с прежним усердием и не замечал сутолоки. Любовь только подлила масла в огонь. После каждого свидания с Таней он, счастливый, восторженный, шёл к себе и с тою же страстностью, с какою он только что целовал Таню и объяснялся ей в любви, брался за книгу или за свою рукопись» [с. 203])
• и, наконец, в описании свадьбы («Съели и выпили тысячи на три, но от плохой наёмной музыки, крикливых тостов и лакейской беготни, от шума и тесноты не поняли вкуса ни в дорогих винах, ни в удивительных закусках, выписанных из Москвы» [с. 204])24.
Характерно, что именно в этих фрагментах рассказа наиболее чётко обозначено – прежде всего интонационно – отделение авторской точки зрения от кругозора Коврина.
Заключительный абзац седьмой главы («В девять часов утра на него надели пальто и шубу, окутали его шалью и повезли в карете к доктору…» [с. 206]) переводит Коврина на положение больного: сначала он утрачивает внутреннюю свободу, а вместе с ней – постепенно – и смысл жизни. Описание парка и сада Песоцких в восьмой главе рассказа («Он вышел в сад. Не замечая роскошных цветов, он погулял по саду…» [с. 207]) исчерпывающе отражает перемену, произошедшую в мироощущении Коврина после того, как и он сам, и окружающие стали воспринимать его как психически больного человека: если в период болезни жизнь Коврина «была полна красок, поэзии, красоты природы», то после его выздоровления «она превращается в унылое, бесцветное прозябание». Это особенно остро ощущается по контрасту с первыми главами, наполненными цветом: цветы, краски, природа в «Чёрном монахе» знаменуют радость и смысл существования.
Характерно, что в последней главе к Коврину возвращается способность адекватно воспринимать красоту природы: «Чудесная бухта отражала в себе луну и огни и имела цвет, которому трудно подобрать название. Это было нежное и мягкое сочетание синего с зелёным; местами вода походила цветом на синий купорос, а местами, казалось, лунный свет сгустился и вместо воды наполнял бухту, а в общем какое согласие цветов, какое мирное, покойное и высокое настроение!» [с. 212], – ведь перед смертью душа героя вновь пробуждается, и он от состояния унылого равнодушия снова поднимается к радости.
После выздоровления реальная действительность воспринимается Ковриным в искажённом виде, как некая параллель к тому, что было прежде, словно отражённая в «кривом зеркале». Вместо абсолютного счастья и полноты жизни он переживает постоянный душевный дискомфорт, живёт прошлым, без цели в настоящем и без веры в будущее.
Портретная характеристика Коврина в восьмой главе рассказа («…голова у него острижена, длинных красивых волос уже нет, походка вялая, лицо сравнительно с прошлым летом, пополнело и побледнело» [с. 207]) – своего рода ремарка повествователя к описанию пейзажа («Угрюмые сосны с мохнатыми корнями (…) не узнавали его»), – акцентируя внимание читателей на изменении внешнего вида Коврина, автор иронически переосмысливает перемену в его внутреннем состоянии. Отсутствие указаний в тексте рассказа на то, что во время болезни Коврин носил длинные волосы, лишь усиливает эффективность этой детали. А её повторение в конце восьмой главы («… она замечала, что на его лице уже чего-то недостаёт, как будто с тех пор, как он подстригся, изменилось и лицо» [с. 210]) усиливает авторскую иронию и порождает дополнительные смыслы, утверждая читателя в мысли, что с утратой иллюзий Коврин лишился и собственной индивидуальности, – ведь эта, на первый взгляд незначительная, случайная деталь явно соотносится с многочисленными указаниями на незаурядность Коврина в предыдущих главах рассказа («… все, гости и Таня, находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное, и что он очень интересен» [с. 192] и т. п.). Здесь необходимо отметить инверсированность чеховской иронии. Писатель обращает читателя к уже прочитанному, заставляет увидеть в новом свете тот или иной фрагмент повествования, переосмыслить, углубить его. Итак, одной из важнейших форм выражения лирического начала у А. Чехова служит иронический подтекст, скрытый вид иронии, который обнаруживается в ходе повествования в результате сопоставлений и ассоциаций, возникающих в читательском восприятии. Известная краткость, фрагментарность чеховского повествования заставляют читателя ощутить важность, неслучайность подтекстных элементов.
Ещё одно средство выражения авторского лиризма у А. Чехова – это экспрессивность символики. Концентрация лирико-символических тем и мотивов в «Чёрном монахе» необычайно высока, причём исследователи справедливо указывают на двойственность основных понятий и символов рассказа: через всё повествование проходят лирико-символические темы парка, сада (декоративного и коммерческого) и Чёрного монаха26. Двойная лирико-символическая перспектива образа сада, который является одним из основных источников лирического плана произведения, намечается уже в первой главе рассказа: если декоративная часть сада дана как воплощение красоты, идеального начала и включена в хронотоп парка, то коммерческий сад связан с материальными интересами героев, с объективной реальностью и входит в хронотоп дома. В этой связи следует отметить, что с самого начала повествования противопоставление Коврина и Песоцкого намечается через их отношение к разным частям сада: Песоцкий декоративную часть сада «презрительно обзывал пустяками», в то время как на Коврина она производила «сказочное впечатление», и напротив, коммерческий сад для Песоцкого был делом всей его жизни, а у Коврина вызывал скуку. Таким образом, между коммерческой частью сада и декоративной, между домом и парком проходит невидимая, но реально существующая ценностная граница, – по терминологии М. Бахтина, её можно обозначить как хронотоп порога.
Хронотопы парка и дома контрастны. В парке герои мечтают о будущем, объясняются в любви, переживают «светлые, чудные, неземные минуты»; в доме же господствует бытовое, циклическое время: точками его отсчёта служат еда, сон, работа («Однажды после вечернего чая…», «После ужина…», «Под утро…», «Под Ильин день вечером…» и т. п.). Связующими звеньями между домом и парком становятся открытые окна, сквозь которые в дом проникает аромат цветов, мотивируя ожидания и раздумья героя («… в открытые окна нёсся из сада аромат табака и ялаппы» [с. 209]), терраса и балкон, куда Коврин выводит Таню, чтобы рассказать ей легенду о Чёрном монахе («Когда пение прекратилось, он взял Таню под руку и вышел с нею на балкон…» [с. 190]).
Составляющие чеховского символа мироустройства Дом – Парк в восприятии читателей ассоциируются соответственно с упорядоченной, повседневной жизнью людей и стихийной жизнью природы. Объединяет их лирико-символический мотив циклического движения, образ которого становится в произведении метафорой человеческой судьбы. Осмыслению этой метафоры в значительной мере способствует ритмическая организация повествования, основанная на повторении лирических мотивов, символических образов, изобразительных деталей и др. Исследователи неоднократно отмечали, что «в каждой новой главе рассказа мы как бы возвращаемся к содержанию предшествующей»27. Ритм повторения особенно ощутим в заключительной, девятой главе «Чёрного монаха», где А. Чехов вводит в повествование все мотивы и символы предшествующих глав:
• письма от Тани как обрамление истории любви героев: «Кстати же пришло длинное письмо от Тани Песоцкой, которая просила его приехать в Борисовку и погостить» [гл. 1, с. 184] и «… он получил от Тани письмо… и мысль о нём приятно волновала его» [гл. 9, с. 211];
• символический образ «чужого человека» как угроза гибели сада: «…первый враг в нашем деле не заяц, не хрущ и не мороз, а чужой человек» [гл. 3, с. 193] и «Наш сад погибает, в нём хозяйничают уже чужие…» [гл. 9, с. 212];
• разорванные Ковриным письмо от Тани и диссертация как отражение гибнущей любви и несостоявшейся жизни: «Он встал из-за стола, подобрал клочки письма и бросил в окно, но подул с моря лёгкий ветер, и клочки рассыпались по подоконнику» [гл. 9, с. 213] и «…он вспомнил, как однажды он рвал на мелкие клочки свою диссертацию и все статьи, написанные за время болезни, и как бросал в окно, и клочки, летая по ветру, цеплялись за деревья и цветы» [гл. 9, с. 211];
• повышенная работоспособность, бессонница, пристрастие к вину и табаку, оказывавшим на него возбуждающее действие, как проявления болезненного состояния Коврина: «Он много читал и писал. Он спал так мало, что все удивлялись (…) Он много говорил, пил вино и курил дорогие сигары…» [гл. 2, с. 189] и «Обоих утомила дорога. Варвара Николаевна напилась чаю, легла спать и скоро уснула. Но Коврин не ложился (…) Он уже по опыту знал, что когда разгуляются нервы, то лучшее средство от них – это работа…» [гл. 9, с. 211, 213]28;
звуки скрипки и поющие голоса (звуковой лейтмотив), вызывающие у Коврина сонливость, как знак скорого появления Чёрного монаха: «Коврин слушал музыку и пение с жадностью и изнемогал от них, и последнее выражалось физически тем, что у него слипались глаза и клонило голову набок…» [2 гл., с. 189] и «Вдруг в нижнем этаже под балконом заиграла скрипка, и запели два нежных женских голоса…» [гл. 9, с. 213];
• серенада Брага, полная таинственного, мистического смысла, как отражение лирической темы Чёрного монаха: «…вслушавшись внимательно, он понял: девушка, больная воображением, слышала ночью в саду какие-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать их гармонией священной, которая нам, смертным, непонятна и потому обратно улетает в небеса» [2 гл., с. 190] и «В романсе, который пели внизу, говорилось о какой-то девушке, больной воображением, которая слышала ночью в саду таинственные звуки и решила, что это гармония священная, нам, смертным, непонятная…» [гл. 9, с. 213–214];
• портрет Чёрного монаха как пример кольцевой симметрии, несущей в себе огромную силу эмоционального воздействия на читателя: во второй и девятой главах портрет Чёрного монаха выдержан в стремительном ритме, отличается повышенной динамикой и напряжением, а в пятой главе та же, в сущности, портретная зарисовка даётся – по принципу контраста – в подчёркнуто спокойных, буднично-сниженных тонах: «На горизонте, точно вихрь или смерч, поднимался от земли до неба высокий чёрный столб. Контуры у него были неясны, но в первое же мгновение можно было понять, что он не стоял на месте, а двигался с страшною быстротой (…) Монах в чёрной одежде, с седою головой и чёрными бровями, скрестив на груди руки, пронёсся мимо…» [гл. 2, с. 191–192]; «…из-за сосны, как раз напротив, вышел неслышно, без малейшего шороха, человек среднего роста с непокрытою седою головой, весь в тёмном и босой, похожий на нищего, и на его бледном, точно мёртвом лице резко выделялись чёрные брови…» [гл. 5, с. 198] и «Чёрный высокий столб, похожий на вихрь или смерч, показался на том берегу бухты. Он с страшною быстротой двигался через бухту (…) Монах с непокрытою седою головой и с чёрными бровями, босой, скрестивши руки на груди, пронёсся мимо…» [9 гл., с. 214];
• лирический мотив счастья, радости, связывающий все три легенды, включённые в рассказ (серенада Брага, легенды о Чёрном монахе и Поликрате), как символ постижения героем смысла жизни. Обогащаясь лирическими ассоциациями, этот мотив приобретает множество значений (гармония, красота, природа, любовь, наука и др.), сконцентрированных вокруг символа-знака человеческого счастья – Поликрата, с которым сравнивает себя Коврин: «Он сел на диван и обнял голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнявшую всё его существо…» [гл. 3, с. 195]; «Я хочу любви, которая захватила бы меня всего, и эту любовь только вы, Таня, можете дать мне. Я счастлив! Счастлив!» [гл. 5, с. 201]; «… меня, как Поликрата, начинает немножко беспокоить моё счастье. Мне кажется странным, что от утра до ночи я испытываю одну только радость, она наполняет всего меня и заглушает все остальные чувства» [гл. 7, с. 205] и «… чудесная, сладкая радость, о которой он давно уже забыл, задрожала в его груди» [гл. 9, с. 214].
Итак, одним из основных принципов построения «Чёрного монаха» являются повторы, при этом авторское отношение к изображаемому выражается посредством сюжетно-композиционных элементов, сопоставлений и контрастов – через «переклички» отдельных эпизодов, реплик, описаний и т. д. Повторение ситуаций, образов-символов, деталей пейзажа и т. п., с одной стороны, позволяет А. Чехову избегать описательности, делает повествование предельно лаконичным и ёмким, а с другой, выполняет роль подтекстных «знаков», благодаря которым автор и без прямых оценок-комментариев даёт читателю почувствовать своё отношение к изображаемому.
Тема Чёрного монаха как важнейший источник лирического плана в художественной структуре чеховского рассказа передаёт движение от объективного к субъективному, от реального к идеальному: Коврин постепенно утрачивает способность ориентироваться в окружающей действительности и оказывается в собственноручно созданном солипсическом мире. Лирико-символический образ Чёрного монаха оценивается исследователями, как правило, двойственно: с одной стороны, как двойник Коврина, его неудовлетворённая потребность жить осмысленно, одухотворённо, иметь высокую цель в жизни (апостольский план), а с другой стороны, как олицетворение болезни, предвестник смерти (апокалипсический план)29.
Диалоги Коврина с Чёрным монахом (5, 7 и 9 гл.) – своеобразная анатомия его души: «…ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову, – сказал Коврин. – Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли…» [с. 200], – воспринимаются прежде всего как свидетельство того, что он тонет в своей субъективности. Содержательная сторона этого «раздвоенного монолога» до сих пор оценивается крайне противоречиво. Некоторые исследователи полагают, что беседы Коврина с Чёрным монахом полностью объектны, автор не имеет с ними ничего общего, дистанцируется от них. Другие усматривают в речах Чёрного монаха прямую связь с чеховским словом и оценкой30.
Действительно, в диалогах Коврина с Чёрным монахом затрагивается целый комплекс мотивов, которые в разной степени близки автору: проблемы бессмертия, избранничества, счастья и др. (сама настойчивость обращения к ним разных чеховских героев свидетельствует об этой близости). Однако отношение А. Чехова к содержанию диалогов Коврина и Чёрного монаха не проявляется в форме прямых оценок и комментариев и может быть выяснено только в художественной структуре рассказа в целом, в сцеплении диалогов Коврина и Чёрного монаха с другими композиционными компонентами повествования.
Особое внимание исследователи уделяют финальной сцене рассказа: «Он звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна…» [с. 214], – полагая, что именно здесь, в потоке сознания умирающего Коврина, звучит голос самого повествователя, даётся авторское понимание идеала, нормальной, здоровой жизни31. Нам же представляется, что в этом лирическом периоде, выделяющемся из окружающего текста интонационно и стилистически, автор-повествователь подводит читателей к мысли, что Коврин променял реальность живого человеческого контакта на воображение, мечту, воспоминания, и усматривает в данном состоянии героя трагедию.
Ключ к чеховскому мировоззрению, очевидно, следует искать в одном из заключительных фрагментов первой главы рассказа, который, несомненно, соотносится с финалом произведения: «Коврин вспомнил, что ведь это ещё только начало мая и что ещё впереди целое лето, такое же ясное, весёлое, длинное, и вдруг в груди его шевельнулось радостное молодое чувство, какое он испытывал в детстве, когда бегал по этому саду. И он сам обнял старика и нежно поцеловал его. Оба, растроганные, пошли в дом и стали пить чай из старинных фарфоровых чашек, со сливками, с сытными, сдобными кренделями – и эти мелочи опять напомнили Коврину его детство и юность. Прекрасное настоящее и просыпавшиеся в нём впечатления прошлого сливались вместе; от них в душе было тесно, но хорошо» [с. 189]. Если поток сознания героя в финале рассказа определяет вневременный мир Коврина, где всё потеряло реальное значение, то его первоначальная интуиция о гармонизирующем синтезе прошлого и настоящего, движущихся в будущее, приближает читателей к пониманию чеховского идеала. С точки зрения А. Чехова, смысл жизни находится не в изолированности, а в общении, человек должен быть не только погружён в себя, но и открыт вовне; прошлое должно течь в настоящее и направляться к будущему; объективное и субъективное должны пребывать в равновесии, – мечта о гармоничной личности была главным и постоянным источником лиризма А. Чехова32.
Таким образом, анализ лирического плана рассказа «Чёрный монах» показывает, что А. Чехова прежде всего интересуют границы субъективности в мировосприятии героя и опасность, сопряжённая с его бегством от объективной реальности32. Субъективизация реальности закономерно приводит Коврина к отчуждению от окружающих: в конечном счёте он отступает в прошлое, в мир воспоминаний и воображения, – уходит в солипсический, безумный мир и умирает подобно герою гаршинской «Ночи» с блаженной улыбкой на лице. Вместе с тем, как справедливо отмечает Э. Полоцкая, «романтическое звучание финала «Чёрного монаха» не заглушается мотивом душевной болезни… И символы, и подтекст, совмещая в себе противоположные эстетические свойства (конкретного образа и абстрактного обобщения, реального текста и «внутренней» мысли в подтексте), отражают общую тенденцию реализма, усилившуюся в творчестве А. Чехова, – к взаимопроникновению разнородных художественных элементов»33.
В отличие от «Чёрного монаха» рассказ А. Чехова «Дом с мезонином» никогда не называли «загадочным», но тем не менее в центре внимания практически всех исследователей, которые обращаются к его анализу, наряду с такими аспектами чеховской поэтики, как деталь, лейтмотив, принцип контраста и др., оказывается проблема специфики авторской позиции34. Одни интерпретаторы сводят её суть к развенчанию Лиды, к осуждению теории «малых дел», другие – к несостоятельности утопической программы Художника, третьи – к связанной с концепцией В. Катаева идее «равнораспределённости» позиции А. Чехова («равнораспределённость не позволяет видеть в рассказе намерения одну сторону обвинить, а другую оправдать»). В самом деле на уровне «идеологического спора», который ведут герои рассказа, трудно говорить об авторском предпочтении той или иной системы идей: позицию А. Чехова можно назвать диалогической, и с этой точки зрения концепция В. Катаева представляется наиболее приемлемой35. Однако поскольку повествование в рассказе ведётся от первого лица, т. е. сознание повествователя вносит существенные коррективы в изображаемое, нельзя не согласиться и с утверждением И. Сухих, который полагает, что читательские симпатии к непрактичному, мечтательному Художнику и неприязнь к красивой, деятельной Лиде «жёстко запрограммированы в художественном тексте»36. Более того, если попытаться абстрагироваться от сути спора между Художником и Лидой, то несложно заметить, что отдельные главы рассказа объединены лирико-философской темой осуждения узости воззрений и утверждения необходимости их широты для общественного и личного счастья. Столь же очевидно и то, что персонифицированный рассказчик в «Доме с мезонином» весьма близок автору, хотя, конечно, не тождествен ему, – их этические критерии совпадают37. Этим, на наш взгляд, во многом объясняется мягкий лиризм чеховского рассказа: лирическая стихия заполняет его от начала и до конца.
Контур сюжета «Дома с мезонином» образует история несостоявшейся любви Художника. Рассказ делится на четыре главы, каждая из которых содержит один из элементов сюжета, и эпилог:
глава 1 —характеристика внутреннего состояния Художника, его знакомство с семьёй Волчаниновых (экспозиция);
глава 2 —развитие взаимоотношений Художника с Лидой и Женей (завязка художественного конфликта);
глава 3 – спор между Художником и Лидой об отношении интеллигенции к народу (кульминация);
глава 4 – объяснение в любви, неожиданная разлука с Женей (развязка);
глава 5 —эпилог: осознание невозможности счастья…
В плане лирическом уже в экспозиции узость, догматизм отрицаются А. Чеховым с помощью поэтического пейзажа, создающего своеобразную увертюру к произведению: «Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрёл в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную красивую аллею…» [с. 57–58]38. Указание на субъективную близость Художнику этой картины («… на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве» [с. 58]) удаляет его от дома Белокурова, атрибутами которого являются бесцветность, неестественность, непрочность, неуютность, и приближает к дому с мезонином, который от усадьбы Белокурова отличается целым рядом контрастных признаков39.
В целом всё повествование в рассказе построено на контрастах, оттеняющих симпатии автора. Уже в самом начале рассказа обозначен скрытый контраст между сестрами Волчаниновыми, причём их сопоставительное описание включает не только портретную, но и психологическую характеристику: «А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами, стояли две девушки. Одна из них, постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание; другая же, совсем ещё молоденькая – ей было 17–18 лет, не больше – тоже тонкая и бледная, с большим ртом и большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась…» [с. 58]. При этом сходство (тонкость, бледность) лишь оттеняет различие: Лида подчёркнуто неконтактна, строга, она сознательно прячет свои чувства; Женя, напротив, вся открыта миру и не умеет скрывать эмоций.
Характерно, что почти все подробности короткого «двойного портрета» сестёр Волчаниновых в ходе повествования превращаются в лейтмотивные детали, которые, как обычно у А. Чехова, становятся главным характеризующим и оценочным средством: с их помощью в характере Лиды постоянно подчёркивается категоричность суждений, громкая речь, исключительный интерес к земским делам, а в Жене – детскость, непосредственность чувства и мыслей, преданность и подчинённость.
В свою очередь, неотъемлемой чертой психологического состояния Художника, ищущего в жизни цельности, устроенности, покоя, является отказ от работы, праздность. Лирический мотив праздности, возникнув в самом начале рассказа («Обречённый судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего…» [с. 57]), проходит, варьируясь, через первые главы и долгое время не получает никакого объяснения. Интересно, что по главному контрасту с Лидиной деятельностью повествователь и в облике Жени выделяет праздность («…не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я» [с. 62]). При этом из текста второй главы интонационно и стилистически выделяется лирический период – своего рода апология праздности, которая как бы отталкивает Художника от Лиды и связывает с Женей: «Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зелёный сад, ещё влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодёжь только что вернулась из церкви и пьёт чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такою…» [с. 62–73].
Этот фрагмент парадоксально сориентирован по отношению к позиции автора: герой так лирически проникновенен, что кажется, будто иронически нарисованная картина всеобщей праздности близка и автору. Между тем здесь позиции повествователя и автора расходятся в наибольшей степени, – автор дистанцируется от своего героя, чтобы затем снова сблизиться с ним («Призвание всякого человека в духовной деятельности – в постоянном искании правды и смысла жизни» [с. 68]).
С приведённым фрагментом из второй главы рассказа контрастно соотносится и лирический период из четвёртой главы – внутренний монолог Художника о любви к Жене: «Я любил Женю. Должно быть, я любил её за то, что она встречала и провожала меня, за то, что, смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно прекрасны были её бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, её слабость, праздность, её книги. А ум? Я подозревал у неё недюжинный ум, меня восхищала широта её воззрений, быть может, потому что она мыслила иначе, чем строгая, красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник, я победил её сердце своим талантом, и мне страстно хотелось писать только для неё, и я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарёю, этою природой, чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадёжно одиноким и ненужным» [с. 71–72]. В порыве увлечения герой говорит о своём желании работать, писать: возникшая любовь стимулирует творчество, придаёт жизни смысл. Характерно, что в следующем эпизоде образ дома с мезонином, влекущий к себе Художника обещанием гармонии и умиротворённости, сохраняя всю свою жизненную конкретность, приобретает символический смысл. В глазах героя он лирически преображается, одухотворяется, оживает: «… милый, наивный, старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина глядел на меня, как глазами, и понимал всё» [с. 72].
Но в финале рассказа, после того, как надежда на счастье рухнула, герой возвращается к своему первоначальному состоянию («Трезвое, будничное настроение овладело мной…» [с. 74]), которое контрастирует с центральным в его рассказе состоянием влюблённости. При этом грусть рассказчика, осознающего непоправимость потери любви, выражена и в ритмическом слоге «стихотворения в прозе», и в лирико-символическом образе дома с мезонином, и в заключительном пейзаже, овеянном настроением прощания.
Эпилог, в особенности его концовка: «Мисюсь, где ты?» [с. 74], – переводит сюжетный смысл рассказа в лирико-символический план. Полуриторический вопрос повествователя не предполагает конкретного, «географического» ответа: скорее он заключает в себе ожидание любви, способной привнести в серую будничную жизнь героя высший смысл, и, очевидно, осознание невозможности вернуть утраченное счастье. Пронзительный лиризм и открытость концовки, выход за пределы текста ещё больше усиливают значимость лирических фрагментов в художественной структуре рассказа (пейзаж, портрет, лирико-символические описания и др.), поскольку сознательная недоговорённость автора (лучше не досказать, чем пересказать) приводит к появлению сюжетных ситуаций, которые невозможно объяснить однозначно.
Недоговорённость, неоднозначность текста наиболее существенную роль играет в создании лирического плана чеховских произведений, написанных в форме притчи, к которым относятся рассказы «Без заглавия», «Сапожник и нечистая сила», «Пари», «Рассказ старшего садовника» и др. Лирико-романтический колорит этих произведений А. Чехова проявляется не только в их жанровом своеобразии, но и в специфике художественного конфликта, в пейзажной символике и др.40 С точки зрения лиризации повествования наибольший интерес из них представляет рассказ «БЕЗ ЗАГЛАВИЯ». Условно его можно разделить на четыре части, каждая из которых содержит один из элементов сюжета:
• в первой части (1—4-й абзацы) описывается повседневная жизнь монастыря и «необычайный дар» старика-настоятеля (экспозиция);
• центральное место во второй части (5 – 8-й абзацы) занимает лирически окрашенный монолог заблудившегося в пустыне и случайно оказавшегося у стен монастыря горожанина (завязка конфликта);
• третью часть (9—14-й абзацы) составляет рассказ настоятеля о соблазнах порочной городской жизни (кульминация);
• четвёртая часть (15-й абзац) – финал рассказа: выслушав разоблачительную речь настоятеля, все монахи убегают в город (развязка).
Контур сюжета этого чеховского рассказа образует лирический мотив борьбы добра и зла. В художественной структуре очевиден композиционный и смысловой параллелизм: в тексте произведения можно выделить два конструктивных центра – монастырь (обитель веры и правды) и город (средоточие разгула и разврата). Вместе с тем антитеза добра и зла, изнутри организующая всю повествовательную структуру рассказа, проявляется в виде контрастного противопоставления эмоционально-образных сфер: Бог – дьявол, монахи – грешники, монастырь – дом разврата, настоятель – блудница.
Лирическая тема добра сконцентрирована в двух первых частях рассказа, где описывается жизнь монастыря: «Монахи работали и молились богу…»41. Но при этом уже в самом начале повествования тщательным подбором на первый взгляд, казалось бы, случайных деталей лирически окрашенного пейзажа автор-повествователь создаёт у читателей представление об однообразии жизни монахов: «День походил на день, ночь на ночь. Изредка набегала туча и сердито гремел гром, или падала с неба зазевавшаяся звезда, или пробегал бледный монах и рассказывал братии, что недалеко от монастыря он видел тигра – и только, а потом опять день походил на день, ночь на ночь» [с. 305]42.
Лирический мотив однообразия жизни монахов, во многом предопределяющий характер развязки художественного конфликта произведения, поддерживается в ходе повествования прямыми авторскими указаниями («Бывало так, что при однообразии жизни им прискучивали деревья, цветы, весна, осень, шум моря утомлял их слух, становилось неприятным пение птиц…» [с. 306]; «Проскучали они месяц, другой, а старик не возвращался…» [с. 307] и т. п.), в том числе и трёхкратным повторением в первом и четвёртом абзацах рассказа идиомы «День походил на день, ночь на ночь», – которая становится своеобразным обрамлением экспозиции и придаёт ей завершённость.
Яркие эмоционально-экспрессивные эпитеты («зазевавшаяся звезда», «бледный монах») и метафоры («когда с росою целовались первые лучи») придают открывающей повествование пейзажной зарисовке лирико-романтический колорит, который затем проявляется в исключительности характера главного героя рассказа – старика-настоятеля, обладающего особым даром: «Когда он говорил о чём-нибудь, страстное вдохновение овладевало им, на сверкающих глазах выступали слезы, лицо румянилось, голос гремел, как гром, и монахи, слушая его, чувствовали, как его вдохновение сковывало их души…» [с. 306]. Описанию «необычайного дара» настоятеля посвящена большая часть экспозиции, при этом лирические интонации, как всегда у А. Чехова, осложняются мягкой иронией: контрастируя, они углубляют и дополняют друг друга («… в такие великолепные, чудные минуты власть его была безгранична, и если бы он приказал своим старцам броситься в море, то они все до одного с восторгом поспешили бы исполнить его волю» [с. 306]).
Во второй части рассказа лиризм сосредоточен в монологе горожанина, «обыкновенного грешника, любящего жизнь». Его речь насыщена эмоционально-выразительной лексикой и отличается подчёркнутой ритмичностью, которая создаётся повторением тождественных в интонационном отношении восклицаний и вопросов: «Поглядите-ка, что делается в городе! Одни умирают с голоду, другие, не зная, куда девать своё золото, топят себя в разврате и гибнут, как мухи, вязнущие в меду. Нет в людях ни веры, ни правды! Чьё же дело спасать их? Чьё дело проповедовать? Не мне ли, который от утра до вечера пьян? Разве смиренный дух, любящее сердце и веру бог дал вам на то, чтобы вы сидели здесь в четырёх стенах и ничего не делали?» [с. 307]. Ответная реплика настоятеля выражает идею проповедничества абсолютных истин («…бедные люди по неразумию и слабости гибнут в пороке и неверии, а мы не двигаемся с места, как будто нас это не касается. Отчего бы мне не пойти и не напомнить им о Христе, которого они забыли?» [с. 307]), которая парадоксальным образом обыгрывается в третьей и четвёртой частях рассказа, где при описании жизни города получает развитие лирическая тема зла.
Характерно, что рассказ настоятеля о порочной жизни горожан даётся не в форме прямой речи, а строится как авторское повествование «в тоне и духе героя». Такое повествование буквально излучает лиризм, проявляющийся, с одной стороны, в деталях портретной характеристики персонажа, которые даются как прямое выражение его эмоций, а с другой – в характере метафор, сравнений, синтаксисе и особой ритмической организации речи, создаваемой нагнетанием однородных членов предложения и сходных синтаксических конструкций: «Собрав вокруг себя всех монахов, он с заплаканным лицом и с выражением скорби и негодования начал рассказывать о том, что было с ним в последние три месяца. Голос его был спокоен, и глаза улыбались, когда он описывал свой путь от монастыря до города. На пути, говорил он, ему пели птицы, журчали ручьи, и сладкие, молодые надежды волновали его душу; он шёл и чувствовал себя солдатом, который идёт на бой и уверен в победе (…) Но голос его дрогнул, глаза засверкали, и весь он распалился гневом, когда стал говорить о городе и людях (…). Опьянённые вином, они пели песни и смело говорили страшные, отвратительные слова, которых не решится сказать человек, боящийся бога (…) На столе, среди пировавших, говорил он, стояла полунагая блудница. Трудно представить себе и найти в природе что-нибудь более прекрасное и пленительное. Эта гадина, молодая, длинноволосая, смуглая, с чёрными глазами и с жирными губами, бесстыдная и наглая, оскалила свои белые, как снег, зубы и улыбалась, как будто хотела сказать: «Поглядите, какая я наглая, какая красивая!' Шёлк и парча красивыми складками спускались с её плеч, но красота не хотела прятаться под одеждой, а, как молодая зелень из весенней почвы, жадно пробивалась сквозь складки» [с. 308].
Добавочную эмоциональную окраску рассказу настоятеля даёт один из наиболее ярких фрагментов третьей части произведения, выделяющийся из окружающего текста интонационно и стилистически: «А вино, чистое, как янтарь, подёрнутое золотыми искрами, вероятно, было нестерпимо сладко и пахуче, потому что каждый пивший блаженно улыбался и хотел ещё пить. На улыбку человека оно отвечало тоже улыбкой и, когда его пили, радостно искрилось, точно знало, какую дьявольскую прелесть таит оно в своей сладости» [с. 308]. Здесь вино становится равноправным партнёром персонажа в эмоциональном общении: вино не только выражает чувства героя, – впитывая их, оно само начинает светиться его эмоциями43.
Авторское отношение к привлекательной, но наивной идее проповедничества, не проявляясь в форме прямых оценок и комментариев, выражается в отчётливой анекдотичности финала чеховского рассказа: «Когда он (настоятель. – И.Т.) на другое утро вышел из кельи, в монастыре не оставалось ни одного монаха. Все они бежали в город» [с. 309]. Таким образом, ещё одним средством выражения чеховского лиризма становится взаимопроникновение анекдотического и притчевого начал44. Характерно, что лирический мотив бессилия, а значит практической бесполезности проповеди, звучит и в других произведениях писателя («Огни», «Припадок»).
* * *
В произведениях А. Чехова, как правило, изображаются события обычные, повседневные. Казалось бы, жизнь неудержимо течёт по раз и навсегда проложенному руслу, но чеховские герои неожиданно осознают своё истинное положение в мире, вступают в конфликт со своим социальным окружением, упорно ищут путь к какой-то иной действительности. При этом в центре внимания писателя постоянно оказывается человеческая индивидуальность, её внутренний мир.
В то же время поиск новых приёмов психологического анализа приводит к возрастанию роли подтекста в художественной структуре его произведений, а отказ от прямых форм оценки изображаемого – к более сложным формам выражения авторской позиции. Так, С. Шаталов отмечает, что для прозы А. Чехова была характерна установка на «как бы помимо аналитический психологизм: впечатление о процессе внутренней жизни складывается не из признаний героя и авторского комментария к ним, а на основе тех ассоциаций, которые возникают у читателя в связи со специально отбираемыми деталями»45.
Гуманистическая доминанта творчества А. Чехова – утверждение внутренней ценности человеческой жизни – была постоянным источником чеховского лиризма, основанного на вере в человека, в его душевную и духовную «готовность» к иной, лучшей жизни. Отсюда романтический пафос целого ряда произведений А. Чехова, откровенно лирической тональности («Чёрный монах», «Дом с мезонином», «Невеста» и др.). Не случайно 3. Паперный увидел приближение А. Чехова к романтизму в том, что в его рассказах «сквозь план – жизнь, как она есть, настойчиво пробивается второй план – жизнь, как она представляется в вере, ожидании, внутреннем устремлении»46.
Темы для рефератов
1. Специфика чеховского лиризма.
2. Способы выражения авторской позиции в рассказе А. Чехова «Черный монах».
3. Тема Черного монаха в художественной структуре чеховского рассказа.
4. Роль контраста в повествовательной системе рассказа А. Чехова «Дом с мезонином».
5. Антитеза добра и зла в художественной структуре рассказа А. Чехова «Без заглавия».
Глава 2 «Реализм + модернизм» Художественный синтез в русской прозе начала ХХ века
Диалог между реализмом и модернизмом в русской прозе ХХ века приводит к их синтезу. Иначе говоря, на реалистической основе образуется модернистская стилевая тенденция, которая, в свою очередь, распадается на несколько стилевых разновидностей (парадигм): импрессионистическо-натуралистическую, экзистенциальную, мифологическую, сказово-орнаментальную и др.
В современном литературоведении импрессионизм и натурализм нередко рассматриваются как кульминационные пункты развития реализма XIX века. Отмечается, что импрессионизм в русской литературе проявил себя преимущественно как «течение, пограничное с символизмом в поэзии и с реализмом и неоромантизмом в прозе»1. Вместе с тем импрессионистическая художественная система обнаруживает очевидное тяготение к элементам натурализма. Натурализм, в свою очередь, зафиксировал сближение литературы с естественными науками: здесь эстетическое переживание рождается из совпадения материала с действительностью, при этом сочетаются «новизна материала, смелость в затрагивании той или иной темы – и шаблонность, эпигонская вторичность в способах организации этого материала»2. Как самостоятельные явления ни импрессионизм, ни натурализм в русской литературе не сыграли сколько-нибудь значительной роли, но тем не менее оказали существенное влияние на формирование творческого метода таких писателей, как И. Бунин, Б. Зайцев, М. Арцыбашев, А. Куприн и др. Импрессионистическо-натуралистические тенденции проявляются на разных этапах их творчества и постоянно привлекают внимание исследователей.
Формирование синтетического типа образности, стиля художественного мышления представляет особый интерес в ракурсе сближения литературы с философией: принципиально новый характер философии с элементами художественной словесности (неофилософский ряд представлен именами таких русских философов начала XX века, как Вл. Соловьёв, В. Розанов, Л. Шестов, П. Флоренский, Е. Трубецкой, Н. Бердяев) обусловил неразрывность философского и эстетического начал прозы М. Горького, Л. Андреева, В. Брюсова, Ф. Сологуба, А. Ремизова и других писателей, чьё творчество даёт возможность говорить об экзистенциальной традиции в русской литературе ХХ века. Экзистенциальное сознание формирует достаточно устойчивую модель мира: её параметры (катастрофичность бытия, кризисность сознания, онтологическое одиночество человека) задают универсальную эмоциональную доминанту литературы экзистенциальной ориентации – она рождается между страхом смерти и страхом жизни. В то же время экзистенциальное сознание вариативно – оно вырабатывает оригинальные принципы поэтики3.
Одним из проявлений синтеза философии и литературы является мифотворчество. Исследователи выделяют различные варианты неомифологизма Серебряного века: онтологический (Вл. Соловьёв), гносеологический (Д. Мережковский), теургический (Вяч. Иванов), историософский (А. Блок) и др.4 Нас привлекают не только попытки создания сущностно новых, индивидуально-авторских мифов (Ф. Сологуб, А. Ремизов, М. Пришвин), достаточно обстоятельно рассмотренные в ряде современных работ5, но и примеры демифологизации, в частности, антимиф Л. Андреева, который представляет собой одну из разновидностей экзистенциальной неомифологической прозы.
Синтетичность (ассоциативность) – важнейшая черта сказово-орнаментальной поэтики, совмещающей в себе признаки прозы и поэзии: ничто не существует само по себе, всё связано, переплетено, объединено по ассоциации, иногда лежащей рядом, иногда очень далёкой6. Сюжет утрачивает свою традиционную организующую роль – его функцию выполняют лейтмотивы: фрагменты повествования скрепляются ассоциативными связями. Повествовательная система орнаментальной прозы нередко включает в себя имитацию сказа; если сказ в чистом виде ориентирован на формы устной речи, которые находятся за пределами литературного языка, то в сказовом стиле А. Белого, Е. 3амятина, И. Шмелёва отталкивание от нормативной наррации выражается сознательным подчёркиванием условности, искусственности повествования.
2.1 Импрессионистическо-натуралистическая парадигма: Б. Зайцев – А. Куприн – М. Арцыбашев
2.1.1. «Поэт прозы» – Борис Зайцев
«Волки»
«Голубая звезда»
Термин «литературный импрессионизм» по отношению к русским писателям применяется главным образом в связи с творчеством В. Гаршина, А. Чехова, И. Бунина и Б. Зайцева1. Из них наиболее последовательно импрессионистскую технику использовал Б. Зайцев. Однако если в первом сборнике его рассказов «Тихие зори» (1906) импрессионизм подчинял, растворял в себе иные художественные системы, то в последующих книгах писателя – «Полковник Розов» (1909), «Сны» (1911), «Усадьба Ланиных» (1913), «Земная печаль» (1915) – импрессионизм лишь вкрапливался отдельными штрихами в общую картину лирического повествования. Характерно, что сам писатель в 1910-е годы наметил несколько этапов в своём литературном развитии: «… ко времени выступления в печати – увлечение так называемым «импрессионизмом», затем выступает момент лирический и романтический. За последнее время чувствуется растущее тяготение к реализму»2. Тем не менее выделить чёткие, классически завершённые периоды дореволюционного творчества Б. Зайцева невозможно, так как практически во всех его произведениях этого времени возникали импрессионистические «реминисценции». Поэтому трудно согласиться как с попытками рассмотрения раннего творчества Б. Зайцева лишь в рамках модернизма (Е.А. Колтоновская, М. Морозов), так и с противоположным стремлением анализировать его произведения исключительно с позиций реалистической поэтики (П. Коган)3.
Вместе с тем следует отметить, что уже в русской дореволюционной критике было высказано немало справедливых суждений о ранней прозе Б. Зайцева. Особенно в статьях А.Г. Горнфельда,
Ю. Соболева, Н. Коробки, которые акцентировали внимание на пантеистической основе мировосприятия писателя4. В художественном мире Б. Зайцева, указывали они, земля, травы, звери, люди живут в особенной атмосфере панпсихизма (термин А.Г. Горнфельда – своеобразный синоним пантеизма), где много невысказанного; вместо твёрдого, чёткого реалистического рисунка событий и характеров акварельно размытые контуры, а главное, всё имеет общую, единую Мировую душу5.
В то же время современники писателя критиковали его раннюю прозу за религиозность («христианская кротость»), пессимизм («мрачное жизнечувствование», «ужас одиночества и отчуждённости»), поэтизацию беспомощности человека перед судьбой и смертью («поэзия без действия и умирания»). В советском литературоведении специальных работ, посвящённых творчеству Б. Зайцева, не создано. Наиболее точная характеристика его творчества, на наш взгляд, дана В.А. Келдышем, но она отличается предельной краткостью. Исследователь видит в творчестве Б. Зайцева типичное «пограничное» явление, где реализм осложнён импрессионистической тенденцией: «Обновление реализма средствами «лирики» – одна из характерных художественных тенденций в 900-е годы. Но у Б. Зайцева это – импрессионистическое преломление»6. К сожалению, В.А. Келдыш не раскрывает художественных принципов этого импрессионистического «преломления», не анализирует его поэтики. Более основательно поэтику зайцевского импрессионизма рассматривает Л.В. Усенко, намечая пути дальнейшего исследования его творчества.
Элементы импрессионизма можно найти практически во всех произведениях Б. Зайцева дореволюционного периода, но наиболее существенное влияние поэтика импрессионизма оказала на жанрово-стилевую структуру его рассказов из сборника «Тихие зори», которые являются своеобразным ключом к пониманию ранней прозы писателя: вся система художественно-изобразительных средств в них направлена на то, чтобы запечатлеть сиюминутное настроение или мгновенные оттенки восприятия героев; стиль повествования отрывочен, подчёркнуто лаконичен, широко включает красочные эпитеты, нередко выражающие синкретизм ощущений.
Сборник «Тихие зори» открывается рассказами «Волки» и «Мгла», которые отличаются поистине зрелым художественным мастерством. Объединяет эти рассказы тема смерти – от её закона «нельзя бежать»: она одинаково карает и мир природы (волки), и мир человека. Каждый из этих рассказов проникнут болью, ужасом и страхом, но в них нет ни «эстетизации животной злобы», ни «эстетизации человека-зверя» (в чём зачастую упрекали Б. Зайцева современные ему критики). Ведь хотя писатель и не осуждает открыто эгоизм и злобу, у читателей рождается не только ощущение ужаса, но и чувство боли от царящего в мире равнодушия. Пожалуй, точнее других исследователей суть этих рассказов определил Н. Коробка, указав, что в них «воскресает первобытная душа охотника, ведшего неустанную борьбу со зверями и творившего о них мифы»7.
Предельный лаконизм рассказа «ВОЛКИ» связан с глубоким подтекстом: в нём как бы воплощено вечное противостояние жизни и смерти. Природой жанра – а эта миниатюра носит ярко выраженный притчевый характер – обусловлена двуплановость повествования. Художественный конфликт рассказа развивается на двух уровнях: конкретно-реальном и отвлечённо-метафорическом. Причём второй план куда более важен, – он ирреален, подчинён не логике событий, а безличным законам вечности: зимний пейзаж, волчья стая, преследуемая охотниками, и её гибель символизируют путь, по которому движется к смерти всё живое, т. е. жизнь в рассказе Б. Зайцева характеризуется как движение к смерти.
Поэтика зайцевского импрессионизма проявляет себя прежде всего в особой цветописи, усиливающей ощущение зыбкости и даже призрачности происходящего. При полной конкретности зрительных образов в рассказе Б. Зайцева удивительно передано двуцветное противостояние – чёрная ниточка волков поглощается белым безмолвием вечности: «Они обратились в какую-то едва колеблющуюся чёрную ниточку, которая по временам тонула в молочном снеге…» [c. 34]8. Но для Б. Зайцева импрессионистическая цветопись не имеет самодовлеющего значения – она подчинена созданию определённого психологического настроения. Как указывалось выше, рассказ «Волки» весь проникнут атмосферой взаимной злобы и ненависти перед лицом опасности: волки разобщены и эгоистически отстаивают лишь своё право на существование; вожака стаи, готового вести за собой остальных, но не знающего дороги, разрывают на куски и т. п.
Характерно, что даже мир природы у Б. Зайцева «очеловечен» и враждебен всему живому: «Тёмное злое небо висело над белым снегом, и они угрюмо плелись к этому небу, а оно безостановочно убегало от них и всё было такое же далёкое и мрачное» [с. 32]. В результате возникает своеобразная живопись настроения, и эта метафора, может быть, точнее всего выражает суть художественного метода Б. Зайцева.
Ещё одна импрессионистическая черта в повествовательном стиле Б. Зайцева – большое количество слов «казалось» etc., а также преобладание неопределённых местоимений и наречий («кто-то», «что-то», «почему-то»). На особую, специфическую роль в творчестве писателей-импрессионистов слова «казалось» и его синонимов обратил внимание американский славист П. Генри: «слово «казалось» указывает на условность, субъективность, возможную ошибочность высказываемого, однако у импрессионистов оно часто трактуется как объективно случившееся, т. е. читатель подвергается своеобразному «обману»»9.
Подобно другим писателям-импрессионистам, Б. Зайцев затушёвывает границу между воображаемой, т. е. обманчивой правдой и объективным фактом действительности: «… волкам казалось, что отставший товарищ был прав, что белая пустыня действительно ненавидит их; ненавидит за то, что они живы, чего-то бегают, топчутся, мешают спать; они чувствовали, что она погубит их, что она разлеглась, беспредельная, повсюду и зажмёт, похоронит их в себе…» [с. 34]. Такой приём устранения, затушёвывания границы между реально существующим и тем, что кажется героям повествования, – одна из типичных черт импрессионистического видения, подобная слиянию действительности и сновидения. Этот приём отчасти предвосхитил поэтику писателей-модернистов Л. Андреева, А. Белого, А. Ремизова и др.
Приметы пейзажа в рассказе Б. Зайцева в целом переданы с реалистической ясностью, но и они подчинены законам импрессионизма. Во главе угла – не картины природы сами по себе, а моменты их восприятия: «… волки поёжились и остановились. За облаками взошла на небе луна, и в одном месте на нём мутнело жёлтое неживое пятно, ползшее навстречу облакам; отсвет его падал на снега и поля, и что-то призрачное и болезненное было в этом жидком молочном полусвете» [с. 33]. Пейзаж как бы сливается с психологическим состоянием героев, при этом реалистическая графика преображается в импрессионистическую размытость цвета: обращает на себя внимание какая-то безжизненность свето-воздушной среды – мутный свет луны отражается ещё более призрачным жидким полусветом. Мертвенность пейзажа (а мертвенно-снежная белизна является лейтмотивной деталью пейзажа в рассказе «Волки»), в свою очередь, символизирует неизбежность смерти в конце жизненного пути.
Повесть Б. Зайцева «ГОЛУБАЯ ЗВЕЗДА» (1918), завершающая ранний – дореволюционный – период его творчества, пожалуй, как ни одно другое произведение писателя отражает эволюцию в 1910-е годы не только его стиля, но и творческого метода: с одной стороны, повесть написана в традициях русского классического реализма с его пристальным интересом к человеческим судьбам, к психологии личности, но вместе с тем на её жанрово-стилевую структуру существенное влияние оказала поэтика импрессионизма10. Повесть «Голубая звезда» построена на плавной, спокойной, даже несколько описательно-статичной смене бытовых картин, эпизодов. Контур её сюжета образует цепь взаимосвязанных событий из жизни главных героев, но движение сюжета здесь куда менее интересно, чем движение характеров.
Действие повести происходит в течение одного года: этапы жизни героев вписаны в календарь природы, символизирующий краткость, быстротечность жизненного круговорота («карнавала бытия»). Повествование ведётся от третьего лица, но автор постоянно меняет ракурс изображения: сочетая безличную, объективную манеру повествования с повествованием в аспекте одного или нескольких героев, он стремится выявить индивидуальность характера и своеобразие точек зрения как центральных, так и второстепенных персонажей. При этом ему удаётся передать не только тонкость человеческих отношений, сложность характеров героев (всё это, безусловно, реалистические тенденции), но и их субъективные мимолётные ощущения и впечатления в те или иные моменты действия, – а это уже тенденции импрессионистические.
В художественной системе Б. Зайцева значительное место занимают такие традиционные изобразительные средства, как портрет, пейзаж, интерьер. Но писатель сознательно отказывается от характерных для классического реализма обстоятельных описаний. Его стилистической манере свойственна предельная экономия языковых средств, краткость, сгущённость, свежесть повествования.
Подобно импрессионистической живописи, повесть Б. Зайцева воздействует на читателя суггестивно, заражая его субъективным настроением, а не объективно-информативным смыслом изображаемого. Этому, в частности, способствуют такие элементы импрессионистического стиля, как фрагментарность синтаксиса и распад описания на ряд небольших предложений. Характерный пример – описание поездки Натальи Григорьевны и Машуры в имение под Звенигородом: «Вечерело. Из-за поворота в лесу вдруг открылся вид на Москву-реку, луга и далёкий Звенигород. В густой зелени горела золотая глава монастыря. Закатным светом, лёгкой, голубеющей дымкой был одет пейзаж. Коляска взяла влево, песчаным берегом; лошади перешли в шаг. Подплывал паром. Кулик летел над водой…» [с. 323].
Особая роль в поэтике Б. Зайцева принадлежит художественной детали. Как отмечает Е.С. Добин, «смысл и сила детали заключается в том, что в бесконечно малое вмещено целое»11. Примером подобной смысловой насыщенности могут служить импрессионистические детали в портретных характеристиках героев повести «Голубая звезда». Полных портретных характеристик, присущих классическому реализму, в повести Б. Зайцева практически нет. Как правило, они складываются из отрывочных описаний с акцентом на какой-нибудь одной детали. Причём этой деталью – импрессионистической по своей сути, так как все портреты в повести Б. Зайцева даются в ситуативном восприятии того из персонажей, в чьём аспекте в данный момент ведётся повествование, – чаще всего становится указание на выражение глаз героя. В результате образуются цепочки лейтмотивных деталей, с помощью которых Б. Зайцев выстраивает динамику внутреннего состояния героев по мере движения сюжета. Так, развитие сюжетной линии Христофоров – Машура – Антон характеризуется постоянными колебаниями, сомнениями Машуры: с одной стороны, она сомневается в подлинности, искренности тех чувств, которые испытывает к ней Христофоров, а с другой – ей не сразу удаётся определить истинный характер своего отношения к Антону. Эти колебания Машуры чётко прослеживаются в характере импрессионистических деталей портретных характеристик героев в разные периоды их взаимоотношений:
1) «Он (Христофоров. – С.Т.) странный, но страшно милый. И страшно настоящий, хотя и странный…»:
«Христофоров смотрел куда-то вдаль, в одну точку. Голубые глаза его расширились…» [с. 321];
«Случалось ей видеть, как в знойный полдень подолгу он сидел над гусеницей, ползшей по листу; без шляпы бродил по саду, с расширенными зрачками…» [с. 329];
«… с глазами расширенными и влажными он действительно показался ей странным» [с. 351].
2) «… мне иногда казалось, что вас забавляет играть… игра в любовь, что ли… И я бывала даже оскорблена. Я вас временами не любила»:
«Машура привстала, явное неудовольствие можно было в ней прочесть. Даже глаза нервно заблестели…» [с. 330];
«Машура подошла к нему, взглянула прямо в лицо. Его глаза как будто фосфорически блестели…» [с. 330];
«Машура взглянула на него. Его глаза были слегка влажны, блестели…» [с. 349].
3) «… вы, по-моему, очень чистый, и не такой, как другие… да, очень чистый человек. И в то же время, если бы вы были мой, близкий мне, я бы постоянно мучилась… ревновала»:
«В лунном свете Христофоров заметил, что глаза её полны слёз…» [с. 351];
• «Машура была бледна, тиха. Когда задул он лампу, в голубоватой мгле блеснули на него влажные, светящиеся глаза…» [с. 373].
4) «А всё-таки, – сказала она через минуту, резко, – я никого не люблю, кроме Антона. Никого, – прибавила она упрямо»:
• «Антон с просохшими, сияющими в полумгле глазами, ходил из конца в конец залы…» [с. 355];
• «Когда Машура вышла, в белом платье, оживлённая с темно-сверкающими глазами на остроугольном лице, она показалась ему (Антону. – С.Т.) прекрасной…» [с. 355].
5) «… именно в эти минуты я поняла, что ваша любовь, как ко мне, так и к этой звезде Веге… ну, это ваш поэтический экстаз, что ли… Это сон какой-то, фантазия, и, может быть, очень искренняя, но это… это не то, что в жизни называется любовью»:
• «Она открыла глаза, взгляд её вначале напоминал лунатика. Понемногу он прояснился…» [с. 374];
• «Машура слегка побледнела, но лицо её, как обычно худенькое, остроугольное, имело печать спокойствия. Лишь в огромных глазах слабо трепетало что-то…» [с. 390].
Аналогичным образом лейтмотивные цепочки импрессионистических деталей портретных характеристик героев, обозначая динамику их внутреннего состояния в ходе действия, характеризуют развитие сюжетных линий Ретизанов – Лабунская и Никодимов – Анна Дмитриевна.
Главное в ранней, дореволюционной, прозе Б. Зайцева – поиск смысла жизни. Писатель видит его в поэтизации «спокойной и мудрой жизни»: итог исканий выражен в довольно неопределённой формуле «терпеть и жить». Очевидно, это связано с тем, что в 1910-е годы у него окончательно формируется осознанное религиозное чувство. Всем своим творчеством Б. Зайцев утверждает идеалы милосердия, добра, всепрощения: он призывает людей быть внимательнее и добрее друг к другу, поскольку в конечном счёте «все мы – странники, путники в этой жизни, неведомо зачем и во имя чего бредущие, скитающиеся по земле»12. Б. Зайцев – «поэт прозы» по словам Ю.И. Айхенвальда: в его произведениях нет социального протеста, он далёк от сатиры, повествование Б. Зайцева проникнуто мягким, грустным лиризмом. Не случайно В.П. Полонский, рецензируя его книгу «Земная печаль», заметил, что этими словами «можно было бы озаглавить всё творчество Б. Зайцева»13.
В сущности, «Голубая звезда» – это и произведение о несвершившемся: «карнавал бытия», «живая жизнь» не приносит счастья никому из героев. Однако, как ни парадоксально, философию повести, её общее настроение, основанное на глубокой религиозности писателя, точнее всего передаёт понятие «просветлённый оптимизм»: герои Б. Зайцева тоскуют от неудовлетворённости, страдают, но не посягают на отрицание жизни, они верят в жизнь и поддерживают друг в друге эту веру. Основная идея повести «Голубая звезда» связана с лирико-философской концепцией всеобъемлющей пантеистической любви, которая роднит небо и землю. Носителем этой идеи является главный герой повести Христофоров. Для него эта идея персонифицируется в образе «мерцающей голубым сиянием звезды»: «Для меня она – красота, истина, божество. Кроме того, она женщина. И посылает мне свет любви…» [с. 373]. Христофоров пребывает в «возрасте вечного детства» (слова Иванова-Разумника); это человек естественного и светлого сознания. Характерно, что наивысшую радость он получает не от общения с людьми, а, напротив, в уединённом созерцании мира природы. Мысль о гармоничном слиянии человека и природы («очеловечивание природы») закономерно приводит Христофорова к принятию жизни такой, какова она есть. Позиция героя повести всецело отражает жизненную концепцию Б. Зайцева, которая выражается в чувстве христианского примирения с миром и надежды на то, что когда-нибудь в будущем посеянная красота даст свои всходы (= «очищение красотой»).
Христофоров – кроткий, чистый, надмирный человек14. Рыцарь голубой звезды, искатель Гармонии и Красоты, – он ведёт скромную, полубедную, не скреплённую бытом, семьёй или какими-либо другими узами жизнь интеллигента-мечтателя. Следует отметить, что образ Христофорова генетически связан с лирическим героем ранних рассказов Б. Зайцева, чья пассивная созерцательность также окружалась поэтическим ореолом. Вместе с тем Христофоров, несомненно, символический, знаковый образ, вызывающий множество ассоциаций – от Евангелия до Ф. Достоевского: прежде всего имя героя реализуется одновременно и как «новый Христос», и как «Христоносец»15, причём образ Христофорова сознательно ориентирован на князя Мышкина, от которого его отличает разве что разительная оторванность от земли16.
Мифологическому сознанию Христофорова свойственна вера в «оживший» космос: «Закат гас. Вот разглядел уже он свою небесную водительницу, стоявшую невысоко, чуть сиявшую золотисто-голубоватым светом. Понемногу всё небо наполнилось её эфирной голубизной, сходящей и на землю. Это была голубая Дева. Она наполняла собою мир… Была близка и бесконечна, видима и неуловима. В сердце своём соединяла все облики земных любвей, все прелести и печали, всё мгновенное, летучее – и вечное. В её божественном лице была всегдашняя надежда. И всегдашняя безнадежность» [с. 407]. Личностное переживание Космоса и себя как его части приводит героя Б. Зайцева к пророчеству «надежды-безнадежности» на будущее: «…довольно одного дыханья, чтобы, как стая листьев, разлетелись… во тьму» все, кто находится на краю вечности [с.407]; и в то же время к осмыслению вечности как соединения отдельного (человеческого) с общим (космическим) в каждом мгновении жизни. Сквозь импрессионистическую размытость оценочных эпитетов в повести Б. Зайцева рождается мотив таинства природного космоса – зайцевский пантеизм приобретает мистический оттенок: мистическое начало как проявление одухотворённости поднимает, возвышает создаваемые им образы и картины жизни до уровня надмирности, космичности, общезначимости.
2.1.2. «Магия здоровой наивности» – Александр Куприн
«Яма»
В советском литературоведении творчество А. Куприна подгонялось под стандарты идеологических мифов1. История советского куприноведения напоминает плохой детектив: оценка его творчества меняла знак «плюс» на знак «минус» и наоборот в точном соответствии с различными периодами его жизни2. До революции (читай: до эмиграции) А. Куприн, по логике «литературных следователей», в жёстких и нелицеприятных тонах описывал окружающую его «буржуазную» действительность – в «Поединке» обнажил, в «Яме» разоблачил, в «Молохе» осудил, в «Анафеме» пригвоздил. В годы эмиграции А. Куприн становится «врагом советской России», согласно спискам Наркомата просвещения, рассылаемым в библиотеки, его книги, наряду с сочинениями Ф. Достоевского и других «неудобных» писателей, предлагалось сжигать. А. Куприна обвиняют в «социальной слепоте», «эпигонстве», «мелкотравчатости», «реакционной пошлости», «проповеди под Ницше» и т. п. После возвращения А. Куприна в Москву (1937) в его творчестве обнаружился лишь один недостаток: он следовал традиционному, а не социалистическому реализму – книги его, те же самые, написанные до революции, ещё недавно запрещённые, переиздаются стотысячными тиражами. Последующие полвека можно охарактеризовать как апофеоз советского куприноведения, к сожалению, с потерей не только чувства исторической реальности, но и простой стеснительности; – при этом недоступны были (хотя приводились выгодные цитаты) труды западных авторов о А. Куприне: Глеба Струве, Александра Дынника, Георгия Адамовича, Стефана Грэхема, Лидии Норд, Ростислава Плетнёва, многочисленные мемуары о нём и западные издания, в которых он печатался3.
Под влиянием критики в окололитературных кругах со временем утвердилось мнение, что книги А. Куприна следует прочесть, прожить в юности, так как это – своего рода «энциклопедия здоровых, нравственно безупречных человеческих желаний и чувств»4. Действительно, уступая многим своим современникам – русским писателям первой трети ХХ века – в цельности мировоззрения, в последовательности и продуманности жизненных убеждений, А. Куприн – вплоть до эмиграции оставался самым жизнелюбивым и жизнерадостным среди них. Магия А. Куприна («магия здоровой наивности»), его нравственная энергия стала убывать лишь с возрастом, с накоплением усталости, с исчезновением витального, едва ли не физиологического по своей природе умения как праздник встречать каждое новое жизненное впечатление5.
Человек настроения, А. Куприн легко поддавался влиянию обстоятельств, совершал экстравагантные поступки, писал лихорадочно, запоями – так же, как и жил. Его лучшие произведения – повести и рассказы «Поединок» (1905), «Гамбринус» (1907), «Листригоны» (1907–1911), «Суламифь» (1908), «Яма» (1909–1915), «Гранатовый браслет» (1911) и др. – объединяет не только зрелость таланта, но и вовлечённость в единый круговорот праздника и похмелья, похмелья и праздника. Может быть, эта метафора – ключ к пониманию купринского дарования, совмещающего в себе интерес ко всякого рода физио-, психо-и социопатологии (от половой невоздержанности до животного антисемитизма) со светлым мироощущением. В связи с этим становится понятным, почему даже трагические финалы многих произведений А. Куприна парадоксальным образом не оставляют по прочтении тягостного впечатления: любовь, концентрирующая, собирающая в единый пучок всё лучшее, всё здоровое и светлое, чем жизнь награждает человека, превозмогает, оправдывает любые лишения и тяготы – так в «Олесе», в «Поединке», в «Суламифи», в «Гранатовом браслете»…
Редкое исключение в этом ряду представляет повесть «ЯМА» (самое скандальное и наиболее спорное произведение А. Куприна6: попытка правдиво, без слащавой сентиментальности и пошлого словоблудия, рассказать о жизни публичных домов, в которых женщины «с равнодушной готовностью, с однообразными словами, с заученными профессиональными движениями удовлетворяют, как машины» желаниям клиентов, чтобы «тотчас же после них, в ту же ночь, с теми же словами, улыбками и жестами принять третьего, четвёртого, десятого мужчину, нередко уже ждущего своей очереди в общем зале» [с. 90]7.
В русской литературе разработка этой темы широко представлена в произведениях Н. Гоголя («Невский проспект»), Н. Помяловского («Брат и сестра»), А. Левитова («Нравы московских девственных улиц»), В. Крестовского («Погибшее, но милое создание»), Ф. Достоевского («Униженные и оскорблённые»), В. Гаршина («Надежда Николаевна»), А. Чехова («Припадок»), Л. Толстого («Воскресение»), М. Арцыбашева («Бунт») и др. Продолжая традиции этих писателей, А. Куприн в повести «Яма», как всегда (ср.: «Олеся», «Поединок», «Листригоны» и др.), опирается на обширный документальный материал, собранный в процессе работы над произведением и вводит в повествование автобиографический персонаж. Газетный репортёр Сергей Иванович Платонов – «самый ленивый и самый талантливый из газетных работников» [c. 129], вынашивает мысль о книге из жизни проституток: «Чтобы написать такую колоссальную книгу, мало чужих слов, хотя бы и самых точных, мало даже наблюдений, сделанных с записной книжечкой и карандашиком. Надо самому вжиться в эту жизнь, не мудрствуя лукаво, без всяких задних писательских мыслей. Тогда выйдет страшная книга». Более того, в разговоре со студентами он предсказывает, что рано или поздно «придёт гениальный и именно русский писатель, который вберёт в себя все тяготы и всю мерзость этой жизни и выбросит их нам в виде простых, тонких и бессмертно-жгучих образов» [с. 143–144]. Собственно, «Яма» А. Куприна и воспринимается как обещанная страшная книга, где сквозь художественную условность просвечивает неприкрашенная нагота «игрушечной жизни» русской проститутки.
Название повести приобретает метафорический оттенок: в центре повествования район города, получивший наименование Ямы потому, что здесь «жили из рода в род ямщики» [с. 88], но со временем, когда Ямская слобода оказалась занята домами терпимости, название района стало восприниматься как символ нравственного падения его обитателей. В названии своей повести А. Куприн метафорически обыгрывает эту символику: здесь яма – знак низости не только женщин-проституток, зачастую лишённых выбора («… поглядите на меня, – что я такое?» – говорит Женька. – Какая-то всемирная плевательница, помойная яма, отхожее место» [с. 303–304]), но и мужчин, буднично покупающих их любовь. Город, где происходят события, о которых рассказывается в повести, не назван, – автору важно придать архетипическое значение месту действия; в то же время повествование насыщено многочисленными бытовыми деталями, которые не только позволяют идентифицировать город (Киев), но и придают повести оттенок документальности. Это отражает замысел А. Куприна максимально правдиво – вплоть до натуралистичности – показать жизнь «клоаки для избытка городского сладострастия» [с. 90].
Город как архетип несёт обширную смысловую нагрузку, которая включает в себя определённое представление о человеке и обществе. Городское, замкнутое, пространство определяет неизбежную зависимость человеческой личности от сложившихся в обществе стереотипов мировосприятия и накладывает свой отпечаток на поведение героев повести в предлагаемых обстоятельствах, – все они изначально несвободны.
Отсутствие внутренней свободы объединяет героев А. Куприна и становится причиной их жизненной несостоятельности. Единое жизненное пространство формирует внутренний мир обитателей Ямы. Все женщины – наивная, простая и добрая, некрасивая, но крепкая и свежая телом Любка; прыткая, лупоглазая, напоминающая белого пасхального сахарного ягнёночка Нюра; самая кроткая и тихая, а временами дерзкая и вспыльчивая Манька Маленькая, или Манька Скандалистка; круглолицая, круглобровая Зоя; жиденькая, с испитым лицом Вера; толстая, ленивая и холодная Катька; болезненно-сладострастная, странная и несчастная Паша; самая старшая по годам, ко всему притерпевшаяся Генриетта; курносая, гнусавая, деревенская девушка Нина; еврейка с кроткими и печальными глазами Сонька Руль; цинично-злая, гордая красавица Женя; спокойная, уравновешенная, хорошо образованная Тамара, – живут с выжженным в душе тавром изгоя, «неправдоподобной жизнью, выброшенные обществом, проклятые семьёй…» [с. 90].
Структурная модель повести А. Куприна «Яма» обладает рядом устойчивых признаков, складывающихся на основе мифологической традиции:
• замкнутое пространство: город – Ямская слобода – публичный дом Анны Марковны;
• ряд однотипных частей, расположенных по нисходящей градации, – более 30 публичных домов: «Самое шикарное заведение – Треппеля, где берут за визит три рубля… Три двухрублёвых заведения – Софьи Васильевны, «Старо-Киевский» и Анны Марковны – несколько поплоше, победнее. Остальные дома по Большой Ямской – рублёвые, они ещё хуже обставлены. А на Малой Ямской, где берут за время 50 копеек и меньше, совсем уж грязно и скудно…» [с. 88–89], и низшая ступень – уличная проституция;
• утрата иллюзий, связанных с надеждой изменить жизнь;
• фатальный исход.
Сущность этой модели можно понять, исходя из учения К.Г. Юнга об «архетипах» как носителях древних культурных идей, закреплённых на бессознательном уровне8. Одно из таких представлений обусловлено чувством ущербности бытия, вовлечённого в круговращение времени: достаточно вспомнить идею упадка эпох в античной легенде о золотом, серебряном и бронзовом веке, регрессивную смену периодов (юг) в философии древней Индии или пророчество о конце времён в Ветхом и Новом Заветах. Воплощение данной модели можно найти во многих произведениях, созданных в разное время в условиях различных культурных традиций. Нам представляется, что подробное описание сети публичных домов в первой главе повести «Яма», схематично фиксирующее этапы пути русской проститутки – её движение по нисходящей с легко прогнозируемым финалом, и апокалипсическая концовка (разгром и закрытие домов терпимости), находясь на разных полюсах текста, ассоциативно соотносятся и восходят к мифологическим представлениям о жизни как поэтапному приближению к смерти.
Жанровая структура повести А. Куприна включает в себя некоторые признаки романа – большой объём (260 стр.), многогеройность, многособытийность. Поэтому ряд исследователей полагает, что А. Куприн написал «роман «Яма», который принято называть повестью»9, оппоненты указывают на наметившуюся в конце XIX – начале XX в. общую тенденцию к романизации малых и средних повествовательных жанров. Inter utrumque vola (лети посередине): повесть «Яма» издавалась частями, работа над ней растянулась на годы, что для А. Куприна, предпочитающего писать быстро, экспромтом, было равносильно насилию над собственным дарованием. Быть может, поэтому – как это ни парадоксально – так бросается в глаза неупорядоченность композиции произведения: создаётся ощущение, что автору не удалось справиться с материалом, объём которого несопоставим с жанром повести, а романная форма для А. Куприна неорганична. Проще говоря, здесь мы сталкиваемся с не совсем удачной попыткой втиснуть жанровое содержание романа в форму повести.
Отсюда размытость композиции: повествование делится на три части, но их соотношение не продумано – в результате единая сюжетная линия не просматривается. Сюжет разваливается на относительно самостоятельные эпизоды, которые группируются вокруг главных героинь произведения – Любки, Женьки, Тамары. Каждый эпизод представляет собой отдельную новеллу: посещение публичного дома студентами (ч. 1, VII–XII гл.) и певицей Ровинской со спутниками (ч. 2, VI–VII гл.), промысел «торговца женщинами» Горизонта (ч. 2, II–V гл.), история отношений Любки и Лихонина (ч. 2, IX–XVII гл.), Женьки и Коли Гладышева (ч. 3, – гл.), смерть и похороны Женьки (ч. 3, VI–VIII гл.), судьба Тамары (ч. 3, IX гл.) и др. Но через все эпизоды (звенья цепи, которая называется узаконенной проституцией) настойчиво и последовательно проводится мысль о том, что торгующие собой женщины менее всего виноваты в том, что стали проститутками. Эта мысль определяет магистральный сюжет всего произведения, очевидно, писатель хорошо понимал как социальную, так и физиологическую обусловленность проституции. По А. Куприну, источник всех зол – не столько материальная необеспеченность и бесправие женщин в обществе, сколько присущие мужчинам «петушиные любовные инстинкты», требующие постоянного удовлетворения и сдерживаемые лишь существующими в обществе условностями, а узаконенная проституция – попытка преодолеть одну из таких условностей: «Человек, в сущности, животное много – и даже чрезвычайно – многобрачное…» [с. 164].
Замысел А. Куприна – описать судьбу русской проститутки: «Судьба русской проститутки – о, какой это трагический, жалкий, кровавый, смешной и глупый путь! Здесь всё совместилось: русский бог, русская широта и беспечность, русское отчаяние в падении, русская некультурность, русская наивность, русское терпение, русское бесстыдство…» [с. 143). Этот замысел раскрывает Платонов в разговоре со студентами: «… материал здесь действительно огромный, прямо подавляющий, страшный… И страшны вовсе не громкие фразы о торговле женским мясом, белых рабынях, о проституции, как о разъедающей язве больших городов, и так далее и так далее, старая, всем надоевшая шарманка! Нет, ужасны будничные, привычные мелочи, эти деловые, дневные, коммерческие расчёты… В этих незаметных пустяках совершенно растворяются такие чувства, как обида, унижение, стыд… В этом-то весь и ужас, что нет никакого ужаса! Мещанские будни – и только» [с. 136].
Эта идея находит отражение в структуре повествования: основные события разворачиваются в течение полутора-двух месяцев в одном из публичных домов, дневной распорядок которого подробно описывается в самом начале повести (ч. 1, II–VII гл.), причём акцент сразу же делается на рассказе о жизни проституток «без предубеждения, без громких фраз, без овечьей жалости, во всей её чудовищной простоте и будничной деловитости» [с. 141]10. Интерес к «будничным, привычным мелочам» определяет и мозаичность сюжета, отказ от динамичного развития действия, преобладание описательных и драматизированных фрагментов повествования. Каждая часть повести содержит ключевой эпизод: в первой части – это посещение публичного дома студентами (VIII–XII гл.), во второй – социальный эксперимент Лихонина (IX–XVII гл.), в третьей – смерть и похороны Женьки (VI–VIII гл.). Именно в этих эпизодах сконцентрированы важнейшие сюжетные мотивы произведения.
Как бы предвидя возможные упрёки в отсутствии художественной правды и эпатаже читателей, А. Куприн подводит целую базу психологических мотивировок, чтобы пояснить (снять вопрос), почему студенты, проведя весь день «по-юношески целомудренно, не пьяно» на пикнике в компании «умных, ласковых, чистых и красивых девушек из знакомых семейств» [с. 123], вдруг решают посетить публичный дом. При этом в подборе сравнений и метафор («инстинктивная чувственность молодых игривых самцов зажигалась от нечаянных встреч их рук с женскими руками»; «в человеке, в бесконечной глубине его души, тайно пробуждается …древний, прекрасный, свободный, но обезображенный и напуганный людьми зверь»; «у каждого из них пылала голова и сердце тихо и томно таяло от неясных желаний»; «целый день, проведённый вместе, сбил всех в привычное, цепкое стадо» [с. 123]) настойчиво подчёркивается торжество животного (звериного) начала в человеке, когда он остаётся один на один с собственной природой.
В публичном доме студенты затевают разговор о проституции11. Собственно, активная роль в этом разговоре принадлежит Платонову – он развивает авторские мысли: «Зло это не неизбежное, а непреоборимое… Пока существует брак, не умрёт и проституция… Кто всегда будет поддерживать и питать проституцию? Это так называемые порядочные люди… Проституция для них – оттяжка чужого сладострастия от их личного, законного алькова» и т. п. [с. 163–164]. Остальные слушают его, кто со вниманием (Лихонин), кто рассеянно (Рамзес), а кто с раздражением (Собашников). Постепенно все студенты, кроме Лихонина, уединяются с девушками, при этом ни один из них не делает это открыто («У каждого оставался ещё в душе тёмный след сознания, что вот сейчас они собираются сделать нечто ненужно-позорное» [с. 129]), стыдясь друг друга, они по очереди под благовидным предлогом исчезают из кабинета и подолгу не возвращаются. Повинуясь «блудливому сердцу», они берут женщин без любви, за деньги, как бы подтверждая тезис Платонова о непреоборимости зла проституции. А. Куприну важно показать, что слова Платонова не способны остановить студентов, – в сущности, разделяя его взгляды, понимая низменность своих побуждений, они тем не менее становятся заложниками человеческой природы, толкающей их в «помойную яму», где им безучастно отдаются «говорящие, ходящие куски мяса» [с. 304].
Нечто подобное происходит и с Лихониным, который решается на социальный эксперимент: загоревшись идеей «спасти хоть одну живую душу» [с. 165], забрать из публичного дома одну из девушек, чтобы помочь ей начать новую жизнь, он увозит из публичного дома Любку. Но недолго «умиляла его красота и возвышенность собственного поступка» [с. 210], в первую же ночь уступив «инстинктивной чувственности самца» («Боже мой, кто же не падал, поддаваясь минутной расхлябанности нервов?» [с. 223]), он начинает испытывать «колючую стыдливую неловкость и что-то враждебное против… своей случайной любовницы» [с. 227]. А вскоре ему с трудом удаётся скрывать всё возрастающую ненависть к этой девушке, – в то время как она «привязалась к Лихонину всем своим женским существом, любящим и ревнивым, приросла к нему телом, чувством, мыслями» [с. 255]. Романтический порыв Лихонина: «учить Любу чему можно, водить в театр, на выставки, на популярные лекции, в музеи…» [с. 240], – быстро угасает, и ей ничего не остаётся, как вернуться в публичный дом12. Закономерно, что ни Любке, ни какой-либо другой девушке так и не удаётся выбраться из «помойной ямы» проституции. В финале повести А. Куприн моделирует разные ситуации их квази-освобождения: вслед за Женькой её подруги попадают из одной ямы в другую – в могилу (Женька, Вера, Манька Маленькая), в тюрьму (Тамара), в сумасшедший дом (Паша).
А. Куприн идеализирует героинь повести: «… ведь все они – дети. Судьба толкнула их на проституцию, и с тех пор они живут в какой-то странной, феерической, игрушечной жизни, не развиваясь, не обогащаясь опытом, наивные, доверчивые, капризные, не знающие, что скажут и что сделают через полчаса – совсем как дети» [с. 143]. Они – жертвы: их «светлая детскость» противопоставлена в повести лживому миру «порядочных людей», которые высокомерно судят тех, кого сами толкают в «яму проституции», за ханжеской маской добропорядочности скрывая низкие мысли, тайные пороки или пошлое «потреблятство».
Этот мир в повести А. Куприна представлен целой галереей психологически точных, детально выписанных портретов: здесь околоточный надзиратель Кербеш (ч. 1, II гл.), многочисленные посетители («гости») публичного дома – преподаватель гимназии (ч. 1, VI гл.), землемер Ванька-Встанька (ч. 1, VII гл.), студенты – Лихонин, Рамзес, Собашников и др. (ч. 1, VIII гл.), Платонов (ч. 1, IX гл.), торговец женщинами Горизонт (ч. 2, II гл.), певица Ровинская со своими спутниками – баронессой Тефтинг, адвокатом Рязановым и Володей Чаплинским (ч. 2, VI гл.), друзья Лихонина, «учителя» Любки – Нижарадзе (ч. 2, X гл.), Соловьёв (ч. 2, XIII гл.), Симановский (ч. 2, XIV гл.), любовник Женьки Коля Гладышев (ч. 3, II гл.), доктор Клименко (ч. 3, V гл.), нотариус (ч. 3, IX гл.) и т. д. Все они – обвиняемые, к ним всем относятся слова Тамары, брошенные ею в лицо модной певицы Ровинской, затеявшей из снобизма («начинается обозрение зверинца» [с. 196]) экскурсию по публичным домам: «Мы – падшие, но мы не лжём, не притворяемся, а вы все падаете и при этом лжёте…» [с. 201].
Особая роль в повести отводится Женьке: «по отношению к другим девицам заведения она занимает такое же место, какое в закрытых учебных заведениях принадлежит первому силачу, второгоднику, первой красавице в классе – тиранствующей и обожаемой» [с. 97]. Автор также явно симпатизирует ей; не случайно, «переступив порог» публичного дома читатель застаёт Женьку за чтением книги, в то время, как другие девушки заняты более прозаичными делами: Любка во дворе кормит обрезками мяса цепного пса Амура; Нюра судачит с ней обо всех, кто проходит по улице; Манька Маленькая и Зоя играют в карты; Тамара сидит за шитьём и т. д. Давая краткую характеристику героиням повести, А. Куприн отмечает, что Женька «трезва умом, насмешлива, практична и цинично зла» [с. 97]. Вместе с тем выбор книги («сочинение г. Дюма») подчёркивает романтичность её натуры, склонность к авантюризму, нравственный максимализм, из которого в сознании Женьки однажды вместе с ненавистью рождается мысль о мести, а позже и мысль о самоубийстве, – каждая из них реализуется в поступках.
Озлобленность Женьки выделяет её среди других бездумно-покорных – героинь повести («Я, может быть, одна из них всех, которая чувствует ужас своего положения, эту чёрную, вонючую, грязную яму» [с. 304), парадоксальным образом лишь усиливая её привлекательность в глазах мужчин: «… никогда он (Платонов. – С.Т.) не видел Женю такой блестяще-красивой, как в эту ночь. Он заметил также, что все бывшие в кабинете мужчины, за исключением Лихонина, глядят на неё – иные откровенно, другие украдкой и точно мельком, – с любопытством и затаённым желанием» [с. 144]. Сознательно заражая мужчин сифилисом («… я решила заражать их всех – молодых, старых, бедных, богатых, красивых, уродливых, – всех, всех, всех!.. Я с наслаждением отмечала их, точно скотину, раскалённым клеймом» [с. 305–306]), Женька мстит им за свою исковерканную жизнь, за то, что она никогда не знала любви, что из неё – по её же словам – сделали «половую тряпку, какую-то сточную трубу для пакостных удовольствий» [с. 305]. При этом она не испытывает ни жалости, ни раскаяния («Во мне была только радость, как у голодного волка, который дорвался до крови…» [с. 306]). Даже самоубийство одного из заражённых ею студентов (Рамзес) оставляет Женьку равнодушной: «Подумай, Платонов, ведь тысячи, тысячи человек брали меня, хватали, хрюкали, сопели надо мной, и всех тех, которые были, и тех, которые могли бы ещё быть на моей постели, – ах! как ненавижу я их всех! Если бы могла, я осудила бы их на пытку огнём и железом!..» [с. 304]. Но её мечта «заразить их всех, заразить их отцов, матерей, сестёр, невест, – хоть весь мир» [с. 306] рассыпается, как карточный домик: «бешеная ненависть» Женьки утихла, «мрачный огонь» в её глазах погас при виде «цветущего юношеского тела» кадета Гладышева – её постоянного любовника, вернувшегося возмужавшим из военного лагеря («И вот я его сейчас заражу, как и всех других, – думала Женька, скользя глубоким взглядом по его стройным ногам, красивому торсу будущего атлета и по закинутым назад рукам, на которых выше сгиба локтя выпукло, твёрдо напряглись мышцы. – Отчего же мне так жаль его?.. Оттого, что он – мальчик? Ведь ещё год тому назад с небольшим я совала ему в карман яблоки, когда он уходил от меня ночью… А то, что он покупал меня за деньги, – разве это простительно?» [с. 290–291]).
Жалость к Коле Гладышеву («Мне казалось, что это всё равно что украсть деньги у дурачка, у идиотика, или ударить слепого, или зарезать спящего…» [с. 306] нивелирует, обессмысливает месть Женьки – последнее, что давало ей силы жить. Наверное, мог бы удержать её от рокового шага Платонов, перед которым она раскрывает душу за день до самоубийства, но этот герой А. Куприна, при всей его привлекательности, не способен на поступок. Он представляет собой разновидность излюбленного героя писателя – рефлектирующего интеллигента (Бобров, Ромашов, Назанский и др.): в нём есть любовь к правде, справедливости, уважение к человеку, но нет силы воли превозмочь вражду и ненависть в окружающих людях13.
Смерть Женьки и её похороны – кульминационный момент в повествовании. Здесь сходятся все сюжетные линии и единым потоком устремляются к развязке: певица Ровинская и адвокат Рязанов помогают Тамаре с организацией похорон, но сами (впрочем, как и Платонов) на похороны не приходят; Любка, обманутая и брошенная Лихониным, в сердцах отвергает любовь готового на ней жениться Соловьёва («Уйди! Уйди! Не могу вас всех видеть! – кричала с бешенством Любка. – Палачи! Свиньи!» [с. 339]); Тамара вместе со своим любовником совершает ограбление нотариуса и покидает публичный дом, чтобы, спустя год, оказаться в тюрьме…
Резко изменяется темп повествования – события (смерти, несчастья, скандалы), подобно «кровавым сценам в шекспировских трагедиях», с калейдоскопической скоростью сменяют друг друга, словно смерть Женьки нарушила зыбкое равновесие в мире, и он, утратив опору, сползает в небытие… Апокалипсис?!.. В одной яме с Женькой оказываются похороненными одинаково иллюзорные надежды: интеллигенции – на духовное возрождение русского народа; героинь повести – изменить жизнь.
В заключительной главе повествование распадается на отдельные новеллы-некрологи: арест Тамары, смерть Веры, смерть Маньки Маленькой, разгром публичных домов в Ямской слободе. И завершается оно авторским посвящением юношеству и матерям, которое возвращает читателю надежду (иллюзию?) на обновление мира14. В этом магия А. Куприна, но в данном случае она оказывается бессильной: по-настоящему финальным аккордом повести звучит не назидательное посвящение, а реплика Тамары на похоронах Женьки: «… ей в её яме гораздо лучше, чем нам в нашей» [с. 338].
2.1.3. «Реалист пола»? – Михаил Арцыбашев
«Ужас»
«Жена»
«Смерть Ланде»
В последние обозримые десятилетия М. Арцыбашева знали в нашей стране в основном понаслышке и упоминался он в литературоведении лишь как автор «порнографического» романа «Санин» (1907), в своё время принёсшего ему широкую известность. Но писатель в течение всей своей жизни работал и в области малой прозы, в разных жанрах – от небольшого очерка до повести. Лучшие из них – «Смерть Ланде» (1904), «Жена» (1904), «Ужас» (1904), «Кровавое пятно» (1906), «Рабочий Шевырев» (1909), «У последней черты» (1910–1912) и др. – объединяет стремление писателя дать целостное представление о месте человека в современном мире, о столкновении личного начала с общественным.
Как правило, в своих произведениях М. Арцыбашев обращается к методам и приёмам социологического исследования: обобщающая, рассуждающая, ищущая мысль автора становится доминирующим принципом их построения. Поэтому для М. Арцыбашева вполне органичны очерковые принципы организации повествования: акцент делается на анализе взаимоотношений героя, обладающего собственным, индивидуальным мироощущением, с окружающими его людьми, которые всецело подвержены влиянию общественных предрассудков или животных инстинктов, – что, в сущности, для М. Арцыбашева одно и то же, поскольку жизнь общества он пытается объяснить биологическими законами.
Значение творчества М. Арцыбашева до сих пор до конца не выявлено, оценки колеблются от резко отрицательных до умеренно положительных: одни критики называли его «реалистом пола, проникающим в самые низы человеческой природы», «пропагандистом социального пессимизма и аморализма», «натуралистом, которому мог бы позавидовать Золя»; другие – «тонким психологом», «прекрасным живописцем природы», «крупной литературной величиной» и т. п.1 Тем не менее полускандальная известность и поверхностная однобокая оценка М. Арцыбашева, не учитывающая полемической направленности его творчества, как автора прежде всего романа «Санин» надолго возобладали, оформившись в репутацию «бульварного писателя», «литературного ремесленника», «модного представителя упаднической литературы»2. И только в наши дни, когда появилась возможность прочитать произведения М. Арцыбашева заново и непредубеждённо, такой взгляд на его творчество был несколько поколеблен: «Произведения некогда забытого автора вызывают неоднозначное к себе отношение. Не всё написанное им художественно равноценно. Но, несомненно, его значение не исчерпывается сложившейся литературной репутацией… Совершенно очевидно, что без Арцыбашева, как и без других художников, несправедливо забытых, пришедших к читателю с опозданием, наши представления о русской литературе начала века не могут быть объективными и полными»3.
Идейные оппоненты, в которых у М. Арцыбашева никогда не было недостатка, многократно вменяли ему в вину беспросветно пессимистический взгляд на жизнь, пристрастие к изображению разных форм физического страдания, умирания, распада. И эти обвинения, разумеется, не были безосновательными: в некоторых его произведениях и в самом деле превалируют смерть, насилие, разрушение, а финалы программных повестей «Смерть Ланде», «Ужас», «Кровавое пятно», «У последней черты» трудно прочитать иначе, как апофеоз тщеты и бренности человеческих устремлений, воплощаемых в метафорах увядающей, угасающей, конвульсивно расстающейся с жизнью плоти. Но если внимательнее вглядеться в суть, в своего рода мировоззренческий урок даже этих, казалось бы, не оставляющих места надежде произведений, если попытаться проникнуть в логику авторского замысла, нетрудно понять, что, как ни парадоксально, интерес М. Арцыбашева состоит главным образом в том, чтобы запечатлеть процесс противостояния человека злу, насилию и бездуховности, процесс личностного самоопределения во всей его остроте и своеобразном величии.
Как бы то ни было, но в шумном хоре социальных, политических и эстетических пристрастий, в сумятице амбиций и споров, в соперничестве претензий на новое слово в искусстве – во всём том нестройном многоголосье, каким представляется литературная жизнь России начала XX века, голос М. Арцыбашева легко узнаваем. С одной стороны, на его поэтику несомненное влияние оказала теория и практика натурализма:
• ему свойственен научный подход к изображению действительности, фактографичность, повествование в его произведениях строится не на воображении, а на анализе;
• для него не существует запретных тем, он вторгается в разные стороны жизни, даже самые низменные, прежде считавшиеся «неэстетическими»;
• он избегает давать открытую авторскую оценку изображаемому, в его произведениях преобладает объективная, бесстрастная манера повествования;
• психологизм он зачастую подменяет физиологизмом;
• синтаксис в его произведениях предельно упрощён, повествование отличается сжатостью и лаконичностью.
С другой стороны, М. Арцыбашев широко использует – особенно в портретных и пейзажных описаниях – импрессионистические приёмы изображения действительности. Этим определяется своеобразие творческого метода М. Арцыбашева, который можно охарактеризовать как позитивистский реализм, осложнённый импрессионистической тенденцией.
И ещё одно замечание о художественной манере писателя, о его отношении к слову. «Я могу утверждать одно, – писал М. Арцыбашев, – что никогда не произносил ни одного слова, которое не родилось бы в слиянии моего сердца и ума, не было бы моим искренним убеждением»4. Главный принцип своего творчества М. Арцыбашев определяет следующим образом: «Я – художник, я не имею права обманывать, не имею права «творить легенду»… Я хочу творить только правду»5. Однако реальная жизнь так сложна, контрастна, болезненна для восприятия и осмысления, что правда, которую говорит писатель, чаще всего жестока. И сам он, как правило, испытывает гнев, горечь, ненависть, упрямое желание спорить, опровергать, срывать все и всякие покровы лицемерия, ханжества, а подчас – благоприличия, рассеивать иллюзии и самообманы, одним словом, говорить «нет».
Говорят «нет» своим образом жизни и персонажи произведений М. Арцыбашева – бунтующие, страдающие, взыскующие справедливости. Это старик Иволгин («Ужас»), проститутка Саша («Бунт»), начальник железнодорожной станции Анисимов («Кровавое пятно»), рабочий Шевырев («Рабочий Шевырев»), студент Ланде («Смерть Ланде») и др. Противостоит им толпа – обезличенная человеческая масса, из которой изредка выделяются отдельные вполне заурядные люди, наделённые стандартным мышлением и поведением. Всматриваясь в калейдоскоп их лиц, приходится констатировать, что по большей части они почти неотличимы друг от друга: внутренний мир, внешний облик и образ жизни этих людей различаются только в зависимости от среды, в которой они живут, и от места, где служат. Причина в том, что, как правило, жизнь этих людей строится не на их собственной инициативе; стремление к самореализации не является их настоятельной потребностью, идеалом действия и борьбы. Они живут в мире готовых социальных форм и до поры безропотно им подчиняются.
Но в обезличенности и конформизме, по М. Арцыбашеву, проявляется не исконная природа человека, а глубочайшее искажение этой природы. Несомненное обезличивание «человека толпы», полагает писатель, не является фатальной неизбежностью, с которой невозможно бороться: вина за нивелировку личности лежит не только на внешних обстоятельствах, но и на самих людях, поддавшихся давлению извне и тем самым совершивших предательство по отношению к собственному «я», которое при первом удобном случае пытается пробиться наружу и заявить о себе.
В критических, так называемых пограничных ситуациях у обезличенных героев М. Арцыбашева пробуждается голос совести (индивидуальное начало), но они заглушают в себе, казалось бы, естественные для каждого человека чувства, подчиняясь «невидимой, мёртвой, давящей силе» общественных норм и предрассудков: «Оба десятские проворно бросили шапки за дверь и, осторожно топоча лаптями, подошли к кровати. Руки у них дрожали, и ужас и жалость видны были даже на согнутых напряжённых спинах, но дыхание их было тупо и покорно…» («Ужас»); «Лицо мужика сьёжилось, как будто ушло куда-то внутрь, и тупой страх микроцефала выступил на его лице из-за светлой и прозрачной жалости…» («Ужас»); «Воцарилось короткое молчание, и вдруг у офицера явственно задрожали губы. Анисимов тихо повёл глазами и встретился со странным, как будто чего-то не понимающим и растерянным взглядом. Но так же мгновенно лицо офицера резко изменилось. «Ну!..» – коротко и страшно грубо выкрикнул он, порывисто дёрнув головой к двери…» («Кровавое пятно») [с. 14, 15]6.
Зло и насилие, по М. Арцыбашеву, не являются чем-то фатальным: они торжествуют над добром и радостью потому, что человеческую личность легко подчиняют условности «придуманной жизни». Отсюда мрачный колорит большинства произведений М. Арцыбашева, усугубляющийся безысходностью их финалов:
• обесчещенная Ниночка кончает жизнь самоубийством, старик Иволгин и другие жители деревни, пытаясь восстановить справедливость, погибают от рук жандармов: «В сарае при волости на помосте лежали рядами неподвижные мёртвые люди и смотрели вверх остановившимися навсегда белыми глазами, в которых тускло блестел вопрошающий и безысходный ужас» («Ужас»);
• пытающаяся начать новую жизнь проститутка Саша снова оказывается на панели: «…ночью, в его объятиях, от вина и бесшабашного угара Саше было приятно, шумело в голове и казалось, что весело. Утро встало серое, мёртвое, бесконечно и безнадёжно печально» («Бунт»);
• войска подавляют восстание, а его участников, в том числе и начальника железнодорожной станции Анисимова, расстреливают: «Кровавое пятно забросали снегом, но оно опять просочилось. Долгая зима покрыла его снегами, но весною они стаяли, и побуревшее пятно снова появилось ненадолго, чтобы вместе со снегом, под радостными лучами яркого солнца, растаять и уйти в рыхлую живую землю» («Кровавое пятно») [c. 26, 96].
Несмотря на то что для произведений М. Арцыбашева характерны пессимистические финалы, он не утрачивает веру в человека, поскольку убеждён в его огромной внутренней сопротивляемости. М. Арцыбашев стоит на стороне тех, кто отвергает саму идею «поражения личности». В человеке он видит существо, имеющее не только отвлечённое право, но и реальную возможность быть индивидуальностью, сохранить себя как внутри жизненного круга, так и путём «бегства» из него. Упустит человек эту возможность или воспользуется ею, зависит лишь от него самого.
Проблема нравственного выбора стоит перед героями большинства произведений М. Арцыбашева, но может быть, наиболее пронзительно и остро она заявлена в повести «УЖАС», название которой говорит само за себя7. Эта повесть М. Арцыбашева экспериментальна по своей художественной природе. В ней, как в кинофильме, чередуются общие и крупные планы. Обобщённо, суммарно передаётся сила массового движения, которого не могут остановить ни полицейские кордоны, ни выстрелы солдат. Но в центре внимания автора всего несколько человек: с одной стороны, юная Ниночка и старик Иволгин; а с другой – безымянные (обезличенные) становой, следователь, доктор и другие представители власти.
То, что случилось с Ниночкой – изнасилование и самоубийство, представляется нелепым и противоестественным. Тем более что в начале повествования М. Арцыбашев сознательно рисует её образ в ореоле света, радости и веселья: «… от молодости, радости и надежд, наполнявших её с ног до головы, ей везде было весело. Всё время она болтала о том, как удивительно ей хочется жить и веселиться»; «… ей представлялось что-то весёлое и светлое, впереди мелькали какие-то интересные лица, открывался какой-то широкий и яркий простор, и губы её тихо и радостно улыбались потемневшим задумчивым глазам» [с. 5, 8]. Но «маленькое счастье», как говорит о ней старик Иволгин, оказывается разрушенным в порыве «накатившей злобы безудержного, сорвавшегося вожделения…» тремя потерявшими человеческий облик негодяями: («Вместо рубашки на Ниночке были одни лохмотья, и она лежала голая, вся в ссадинах и синяках, извивалась, билась, плакала и кричала и была уже не красива, а жалка и страшна, может быть, даже омерзительна» [с. 11]).
Оставаясь верным себе, М. Арцыбашев сохраняет внешнюю объективность, бесстрастность повествования, но натуралистические подробности в описаниях изнасилования и смерти Ниночки подспудно, по контрасту с её психологической характеристикой в начале повествования, несут в себе такой эмоциональный накал, который не позволяет читателю ни усомниться в позиции автора, ни самому остаться равнодушным: «Ниночка в чистой белой рубашке, с ещё неразгладившимися складочками и ещё пахнущей мылом, висела в углу комнаты на вешалке, с которой было снято всё платье. Тоненькие руки, уже зеленоватые и беспомощные, висели вдоль тела, ноги в чёрных чулках с голубыми подвязками неестественно выгнулись, точно мучительно стремясь к земле, а голова была закинута назад, огромная, раздутая, синяя, с нечеловеческими стеклянными глазами, с шершавым синим языком, горбом вставшим в мёртвом холодном рту, с застывшей грязно-кровавой пеной на синих губах и с выражением ужаса и боли, уже непонятных, невообразимых живому человеку» [с. 13].
О том, насколько последовательно М. Арцыбашев применяет в этой повести (впрочем, как и в других произведениях) приём контраста, можно судить хотя бы по следующему, очень характерному для него, фрагменту: «Белое небо уже стало прозрачным, и иней призрачно белел на крышах, на земле, на заборах. Одинокая звезда на востоке бледнела тонко и печально. Чёрная толпа, медленно свивая чёрные кольца, тронулась и поползла за гробом по тихой длинной улице. Было так чисто, прозрачно и изящно вверху в небе и так беспокойно грубо внизу, на чёрной земле! Гроб быстро донесли до церкви и медленно стали заворачивать к погосту» [с. 20]. Контраст цвета (белый – чёрный), пространства (вверху – внизу) и скорости движения (быстро – медленно) в данном контексте, на наш взгляд, ассоциируется как с поруганной небесной чистотой Ниночки, так и с растущим в толпе озлоблением против несправедливости, против безнаказанности виновных в её смерти.
Решение Ниночки уйти из жизни в сложившейся ситуации представляется оправданным и заслуживающим уважения как сознательно сделанный нравственный выбор, как единственно возможная для неё, существа слабого и наивного, форма протеста против социального зла. Протест старика Иволгина и других жителей деревни, на первый взгляд, представляется более действенным («Дико кричал старик Иволгин, безумно кричали, бестолково говорили точно внезапно сошедшие с ума люди, ходил по улице тяжёлый слышимый вздох и расплывался в сплошной чёрной массе народа, навалившегося на крыльцо. Не было конца и меры ужасу и омерзению, и росла ищущая месть…» [с. 13]), но на поверку оказывается столь же губительным. И всё же – пусть даже ценой собственной жизни – они отстаивают право каждого человека быть самим собой, а не стандартным, легко заменимым «винтиком» огромного безликого целого.
Власть быстро расправляется с жителями деревни, но это – как показывает М. Арцыбашев – оказывается возможным лишь потому, что социальное зло опирается на обезличивание «человека толпы», на нивелировку личности, на людей, совершающих предательство по отношению к собственному «я». Они – и становой, и следователь, и доктор, и урядник, и все остальные представители власти, – бездумные и бесчеловечные. Не случайно, характеризуя их, М. Арцыбашев постоянно прибегает к «звериным» эпитетам и сравнениям: «как дикие звери в клетке» (о докторе, следователе и становом), «как придавленное животное царапает землю» (о докторе), «иступленный восторг спасшегося зверя» (о следователе), «звериное бешенство» (о становом), «похожи на каких-то огромных безобразных зайцев» (об исправнике и старшине) и т. п. [с. 8, 13, 18, 23, 24].
Как обычно, в повести «Ужас» М. Арцыбашев остается тонким психологом. Характерна в этом смысле пятая глава, в которой насильники, становой, следователь и доктор, под пером писателя предстают в своём истинном виде. Рисуя их психологические портреты, писатель выбирает очень точные, ёмкие детали; скрупулёзно и психологически достоверно моделирует ход мыслей, заставляя их испытывать самые разные чувства – от животного ужаса, безысходного страха до стыда (доктор), бешенства (следователь) и холодной расчётливости (становой). Но в целом психологизм М. Арцыбашева граничит с физиологизмом: прежде всего его интересует биологическое начало в человеке, его естественное, природное состояние.
Проблема удаления человека от его естественного, природного бытия – одна из главных в творчестве М. Арцыбашева. Наиболее отчетливо она заявлена в романе «Санин», но и в последующих своих произведениях писатель не прекращает ее разрабатывать. Одним из таких произведений стала повесть «ЖЕНА». В ней фактически нет сюжета в обычном смысле слова, нет динамично развивающихся событий. Повествование ведётся от первого лица, но это не повесть-исповедь, поскольку акценты направлены не столько на раскрытие психологического состояния героя, сколько на то, чтобы дать как можно более полную характеристику драматической ситуации столкновения духа личности с атмосферой семьи, где личность, как правило, постепенно засасывается тиной семейных нужностей и необходимостей и в конце концов совершенно атрофируется. По форме изложения текст представляет собой соединение психологического этюда с социологическим очерком. Но социология служит здесь лишь средством заострения и углубления психологического конфликта, в основе которого лежит протест «неподчиняющегося индивидуального начала» против подавляющего свободу личности начала семейного: «… я ясно и сознательно увидел, что мне незачем возвращаться к жене, что то, что она чувствует, что «надо» любить и жалеть её, что надо заботиться о будущем ребёнке именно потому, что это надо, – вовсе не касается меня, не имеет никакой связи с тем жгучим и могучим любопытным желанием жить, которое прекрасно, сильнее меня, есть я сам» [с. 111].
Контур сюжета повести М. Арцыбашева составляет история взаимоотношений героя-рассказчика с женой, – условно всё повествование можно разделить на четыре части:
• в первой части (гл. I—2) изображается любовь-страсть, которую герои повести испытывают друг к другу до женитьбы (экспозиция);
• во второй части (гл. 3–6) анализируется процесс превращения в период женитьбы их чувства в «любовь собственника» (завязка и кульминация художественного конфликта);
• в третьей части (гл. 7) описывается разрыв между героями (развязка художественного конфликта);
• в четвёртой части (гл. 8) рассказывается об их последней встрече (эпилог).
Соответственно, повествование включает в себя два контрастных эмоционально-стилистических плана, характеризующих душевное состояние героя-рассказчика в разные периоды жизни: чувство свободы до женитьбы и после разрыва с женой наполняет его «жгучим, неизъяснимо прекрасным, могучим и смелым наслаждением жизни» (гл. I—2, 7–8), а женитьба и связанное с ней ощущение несвободы вызывает в нём «чувство озлобленного протеста» (гл. 3–6). Двуплановостъ повествования реализуется на всех уровнях жанрово-стилевой структуры произведения. Первый повествовательный план отличается в целом несвойственной для М. Арцыбашева поэтичностью. Описывая любовные свидания со своей будущей женой, рассказчик не может сдержать переполняющего его восторга: «Внутри меня всё пело и тянулось куда-то с неодолимой живой силой. Мне хотелось взмахнуть руками, закричать, ударить всей грудью о землю, и казалось странным и смешным уступать дорогу встречным поездам с их мёртвыми огненными глазами, грохотом и свистом…» [с. 99]. Но ощущения героя здесь раскрываются не столько в его внутренних монологах и диалогах (их больше во второй части произведения, где рассказчик анализирует перемены, произошедшие в его жизни после женитьбы), сколько в портретных и пейзажных описаниях, которые, по сути своей, импрессионистичны: во главе угла не внешность героев и не картины природы сами по себе, а характер их восприятия.
Особенно велика в повести М. Арцыбашева роль природы, которая изображается всесторонне, в неисчерпаемом богатстве красок, запахов, звуков. Пейзажные зарисовки у М. Арцыбашева служат одним из главных средств раскрытия внутреннего мира героя. Создавая созвучные настроению героя картины природы, автор передаёт различные нюансы его чувств и переживаний. Чрезвычайно показательны в этом отношении контрастные описания из 1-й и 6-й глав повести: «Трава была мокрая и брызгала холодной, приятной росой на голое тело, странно теплевшее в прохладном и влажном воздухе. Как будто на всю рощу разносились торжествующие удары наших сердец, но нам казалось, что во всём необъятно-громадном мире нет никого, кроме нас, и никто не может прийти помешать нам среди этих сдвинувшихся берёзок, ночных теней, влажной травы и одуряющего запаха сырого, глубокого леса. Время шло где-то вне, и всё было наполнено одним жгучим, неизъяснимо прекрасным, могучим и смелым наслаждением жизнью…» [с. 98], – герои пока ещё свободны, их чувства ничем не скованы, а любовь-страсть даёт им ощущение полноты жизни. С этим описанием соотносится пейзажная зарисовка из второй части повести: со смутной надеждой вернуть утраченную полноту ощущений герои приходят на место своих прежних свиданий, но они любят друг друга уже «новой, спокойной, неинтересной любовью собственника, в которой больше потребности и привязанности, чем страсти и силы»: «Трава уже завяла, и на ней толстым, мягко и тихо шуршащим слоем лежали опавшие листья. Берёзки наполовину осыпались и от того будто раздвинулись и поредели; стало пусто, и вверху просвечивало пустое, холодное небо. Мы сели на насыпь, смотрели на тихо и беззвучно кружащиеся между берёзками жёлтые листья, долго молчали, не двигаясь, и тихо поцеловались… Становилось холодно и неуютно. Стал накрапывать дождь. Мы пошли назад, не оглядываясь, и нам было больно и хотелось плакать о чём-то похороненном» [с. 101]. Таким образом, картины природы в повести М. Арцыбашева наполнены глубоким лирико-философским смыслом: за внешне простыми пейзажными зарисовками – размышления автора о силе жизни, о праве людей на счастье, радость и красоту.
Второй повествовательный план повести М. Арцыбашева «Жена» в целом отличается большей сжатостью изложения, большей сдержанностью интонаций и более высокой плотностью художественной мысли. Лаконизм здесь достигается своеобразным сочетанием приёмов психологического и социологического анализа, используется и приём реалистической символики. Примечательно в этом отношении, что герои повести не имеют имён: они как бы олицетворяют собой абстрактную, среднестатистическую семью. Поэтика названия повести, за реальным содержанием которого скрывается и другой, символический смысл, – намёк на барьер отчуждения, возникающий во взаимоотношениях даже самых близких людей, – придаёт изображаемому явлению широкий обобщающий характер: «…слияние между людьми невозможно. Оно было невозможно всегда, но чем дальше, чем больше усложняется душа человека, тем слияние невозможнее… Мы можем временно соединяться для общего дела, но вне его всё-таки остаёмся чужими и враждебными. Человек не нарушает интересов другого только тогда, когда отдаёт своё, т. е. нарушает интересы свои»8. Об этом долго в кратких, но содержательных внутренних монологах и диалогах размышляет герой М. Арцыбашева, прежде чем приходит к выводу, что «все люди, не одна жена, по какому-то праву хотят подчинить его мысли своим, заставить его верить и чувствовать так, как верят и чувствуют они» [с. 109]. Вывод этот ставит его в один ряд с Саниным, наиболее цельным и энергичным из героев-индивидуалистов М. Арцыбашева.
Прямым антагонистом Санина предстаёт главный герой повести «СМЕРТЬ ЛАНДЕ», выражающий идею религиозного подвижничества. Эта повесть стоит несколько особняком в творчестве М. Арцыбашева, – на первый взгляд даже может показаться, что она в определённой мере созвучна идеям толстовства9. Однако на самом деле и здесь М. Арцыбашев остаётся верен идеалам индивидуализма, а «толстовец» Ланде нужен ему лишь для того, чтобы доказать правоту, превосходство «саниных», так сказать, от противного.
Смысловой доминантой повести «Смерть Ланде» является попытка проиллюстрировать несостоятельность толстовской концепции непротивления злу насилием. Этой цели служат все основные компоненты художественной структуры произведения и прежде всего композиция: в центре повествования находится Ланде, а остальные герои интересуют автора лишь с точки зрения того, насколько они подвержены его влиянию, и лишь до тех пор, пока их судьбы связаны с его судьбой. Соответственно, в ходе повествования автор постоянно даёт Ланде возможность и словом, и делом утвердить свои взгляды на жизнь: «Не надо вражду встречать враждою! – говорил Ланде, блестя глазами, как будто не думая о том, что говорит, точно и не говорил, а пел, выливая песню прямо из сердца – этим она побеждается! И никогда не чувствуется такой радости, такой лёгкости, такого удовлетворения, как тогда, когда вы побеждаете вражду в себе, не отвечая ею на чужую вражду!..» [с. 135], – и показывает, как постепенно меняется к нему отношение других героев, не понимающих и не принимающих его образ мысли.
Действие повести М. Арцыбашева происходит в течение полугода – с конца весны (студент-математик Иван Ланде приезжает в родной город на каникулы) до середины осени (Ланде, получив письмо от находящегося в отчаянии Семёнова и не найдя денег, решает отправиться к нему пешком, но, простудившись, умирает в лесу). Все события излагаются от третьего лица, но повествование дробится на фрагменты и ведётся с позиции одного из героев, – чаще всего Ланде, иногда Молочаева (гл. 12), Марьи Николаевны (гл. 13) или кого-нибудь другого. Такое «самоустранение» автора, с одной стороны, способствует тому, что в структуре повествования заметную роль играют импрессионистические принципы изображения действительности: отсутствие структурной иерархии в подаче фактов; преобладание субъективных мимолётных впечатлений; звукопись, цветопись, светотень; фрагментарность, лаконизм, недосказанность; косвенный, уклончивый стиль повествования и др.10, а с другой стороны, создаёт ощущение объективности изображения, поскольку поведение Ланде оценивается не с авторской точки зрения, а с позиции других героев произведения.
В экспозиции (гл. I и 2) практически все герои повести, за исключением, может быть, Молочаева, относятся к Ланде с симпатией, хотя и считают его «блаженным»: «Все радостно и оживлённо пожимали его худую руку…» [с. 118]. Однако затем странное поведение Ланде, его всепрощение и последовательная реализация идеи непротивления злу, несмотря на свою истинно христианскую красоту, начинают вызывать у близких ему людей раздражение и озлобление (мать: «Она встала и ушла от него с холодной и тупой злобой в душе, хлопнув дверью» [с. 208]; Марья Николаевна: «Ради бога, оставьте меня! Может, я дурная, гадкая, но вы меня мучите. Я не могу, я вас ненавижу, вы мне противны… как гадина!» [с. 197]; Шишмарёв: «Чёрт с тобой, болван… блаженный! – с мучительным ему самому озлоблением бормотал он» [с. 191]; Ткачёв: ««Юродивый, несчастный» – с лютой злобой прошептал он» [с. 200]; Семёнов: «Оставь меня пожалуйста, в покое! Я умираю, и мне не до тебя…» [с. 202] и др.). К концу повествования Ланде остаётся в одиночестве, от него все отворачиваются: «Жизнь Ланде становилась всё более одинокой, и в этом чудилось что-то неизбежное… В последние дни он постоянно был один» [с. 202].
Трагизм жизни Ланде состоит в том, что он на всё смотрит сквозь розовые очки «жизни внутри человека»: «Правда в самом человеке, – скорбно сказал Ланде… – Надо любить и жалеть прежде всего друг друга, а остальное потом всё будет» [с. 216]. Действующий с жестокой необходимостью как в природе, так и в человеческом обществе закон борьбы за существование кажется ему совершенно ненужным, вредным: «Мне представляется, что люди в погоне за счастьем толпятся у какой-то двери, как толпа во время пожара. Каждому кажется, что спасение в том, чтоб силой, как можно скорее, раньше всех пробиться к выходу, и в страшной давке все гибнут!» [с. 185]. Однако сознательное пренебрежение биологическими законами, отказ от борьбы – по мысли М. Арцыбашева – с неумолимой необходимостью ведёт к самоуничтожению, вымиранию. Так что трагическая смерть Ланде в финале повести парадоксальным образом воспринимается как победа жизни, но жизни в «санинском» смысле11.
Оставаясь и в этой повести на позициях натурализма, М. Арцыбашев большое внимание уделяет биологическому началу в человеке. Этот мотив связан прежде всего с образами Молочаева и Марьи Николаевны. Их влечение друг к другу происходит лишь на физиологическом уровне: «Молочаев тихо протянул руку, скользнул по вздрогнувшему мягкому телу и обнял его, тонкое, нежное, жгучее и бессильное. Она медленно закинула голову, так что невидимые, мягкие волосы упали на плечи и на руку Молочаева. В сумраке мутно и близко-близко блеснули полузакрытые глаза и задрожали влажные горячие губы. И казалось, неодолимая сила слила их в одно и нет между ними ничего, кроме бесконечного, сладкого и мучительно-трепетного желания» [с. 172]. Но хотя Марья Николаевна понимает, что её связывает с Молочаевым исключительно «физиологическое любопытство», ей трудно сопротивляться животным инстинктам: «Она вспоминала Молочаева, и он представлялся ей грубо-красивым, отталкивающе-разнузданным зверем. Это было страшно интересно, хотя, казалось ей, только гадко. Она думала о нём с отвращением и страхом, в которых было томительное любопытство, раздувавшее ноздри, подымавшее и напрягавшее грудь, расширявшее страстные глаза» [с. 183]. В свою очередь, Молочаева раздражает её «дикая боязнь и любопытное желание», он живёт инстинктами и даже не пытается их сдерживать: «Всё существо его знало, что она хочет так же, как и он, и только боится, дразнит, упрямится. И жгучее желание смешалось с внезапной сладострастной ненавистью, жаждой грубого насилия, бесконечного унижения и бесстыдной боли…» [с. 172–173]. Из героев этой повести М. Арцыбашева, пожалуй, именно Молочаев наиболее близок к санинскому типу, олицетворяющему жизненный идеал писателя.
* * *
Борис Зайцев – «поэт прозы»: его повествование проникнуто мягким, грустным лиризмом. Мироощущение Б. Зайцева глубоко религиозно, всем своим творчеством он утверждает идеалы милосердия, добра, всепрощения. Религия Б. Зайцева космогонична: зайцевская космогония – а в его прозе присутствует не только религия Космоса, но и поэзия Космоса – находит выход в чувстве христианского примирения с миром. Своеобразие художественного метода Б. Зайцева («камерный реализм») во многом определяется тем, что его повествовательный стиль тяготеет к импрессионизму. Черты импрессионизма присутствуют практически во всех произведениях Б. Зайцева дореволюционного периода, но наиболее существенное влияние поэтика импрессионизма оказала на жанровости-левую структуру повести «Голубая звезда», которую можно считать своеобразным ключом к пониманию ранней прозы писателя.
Её основная идея связана с лирико-философской концепцией всеобъемлющей пантеистической любви, носителем которой является главный герой повести – Христофоров, вызывающий множество ассоциаций: от Евангелия («новый Христос») до Ф. Достоевского (князь Мышкин). Личностное переживание Космоса и себя как его части приводит героя Б. Зайцева к принятию жизни такой, какова она есть. В целом вся система художественно-изобразительных средств в повести «Голубая звезда» направлена на то, чтобы запечатлеть сиюминутное настроение или мгновенные оттенки субъективного восприятия героя. Стиль повествования отрывочен, подчёркнуто лаконичен, широко включает красочные эпитеты, нередко выражающие синкретизм ощущений. Писатель сознательно отказывается от присущих классическому реализму обстоятельных описаний: его стилистическую манеру отличает предельная экономия языковых средств, краткость, сгущенность, свежесть повествования. Совмещая в себе черты лирической прозы и поэтики романа, повесть «Голубая звезда», подобно импрессионистической живописи, воздействует на читателя суггестивно: в жанровом отношении она приближается к «камерному роману» – романизируется.
Проза А. Куприна совмещает в себе интерес писателя ко всякого рода физио-, психо-и социопатологии со светлым мироощущением: трагические финалы многих его произведений («Олеся», «Поединок», «Суламифь», «Гранатовый браслет» и др.) парадоксальным образом не оставляют по прочтении тягостного впечатления. Редкое исключение в этом ряду – повесть «Яма»: попытка правдиво рассказать о жизни публичных домов. В её основе лежит «экзистенциальная ситуация: человек, летящий в пропасть; человеческая жизнь – ничто перед невидимым и непреодолимым не-что»12. Символико-метафорический контекст повествования (яма – знак низости, нравственного падения не только женщин-проституток, но и мужчин, буднично покупающих их любовь) порождает мифо-литературный дискурс, восходящий к мифологическому представлению о жизни как поэтапному нисхождению к смерти. Все герои А. Куприна – и жертвы (женщины-проститутки), и обвиняемые («порядочные люди») – проходят путь утраты иллюзий, связанных с надеждой изменить жизнь. Но если для первых, воплощающих идеал писателя («светлая детскость»), знаком гибели (нравственной и физической) становится поступок: Женька (болезнь – месть – самоубийство), Любка (уход из публичного дома – возвращение обратно), Тамара (монастырь – публичный дом – тюрьма); то для вторых, олицетворяющих мир лжи и лицемерия, – это неспособность к поступку: Платонов (разговор со студентами о проституции – они покупают женщин-проституток; беседа с Женькой – её самоубийство), Лихонин («социальный эксперимент» – возвращение Любки в публичный дом), певица Ровинская и адвокат Рязанов (обещание помощи Женьке и Тамаре – смерть Женьки, арест Тамары). Иллюзорная надежда на обновление мира сохраняется лишь в авторском посвящении повести юношеству и матерям, но оно, – не снимая постановку проблемы «человек в бездне бытия», – воспринимается лишь как импрессионистическая составляющая магии А. Куприна. Жанровая структура повести «Яма» включает в себя некоторые признаки романа: большой объём, многособытийность, многогеройность etc.
Лучшие произведения М. Арцыбашева объединяет протест против социального насилия: писатель последовательно отстаивает право каждого человека быть самим собой. Здесь нерв всего творчества М. Арцыбашева: выстраивая парадигму («встреча невстреча») взаимоотношений героев, он постоянно ведёт мелодию и контрмелодию. Больше всего его тревожит внутренняя ущербность, дефектность, которая, подобно болезни, развивается в человеке с годами, мешая разорвать одиночество, преодолеть отчуждение, сохранив вместе с тем необходимое пространство духовной автономии. Личность – по М. Арцыбашеву – утверждает себя не «центробежно», а «центростремительно»: верность своему «я» не разъединяет, а, напротив, объединяет людей, позволяет надеяться на торжество общезначимых этических ценностей.
Неореалистическая природа прозы М. Арцыбашева очевидна: с одной стороны, на его поэтику несомненное влияние оказала теория и практика натурализма (фактографичность, отсутствие запретных тем, объективность повествования, физиологизм и др.), а с другой – М. Арцыбашев широко использует импрессионистические приёмы изображения действительности (отсутствие структурной иерархии в подаче фактов, преобладание мимолётных впечатлений, фрагментарность, лаконизм, недосказанность). Краткие, малосодержательные, «скучные» заглавия повестей М. Арцыбашева – «Ужас», «Бунт», «Жена» и т. п. – в свою очередь, воспринимаются как дань импрессионизму13. Жанровая специфика произведений М. Арцыбашева прямо соотносится с его художественным методом: повести писателя представляют собой соединение психологического этюда с социологическим очерком.
Темы для рефератов
1. Место повести в системе эпических жанров.
2. Черты импрессионизма в прозе Б. Зайцева.
3. Мифологический дискурс в повести А. Куприна «Яма».
4. Специфика художественного метода М. Арцыбашева.
5. Жанровое своеобразие и типология героев прозы М. Арцыбашева.
2.2 Экзистенциальная парадигма: М. Горький – Л. Андреев – В. Брюсов
2.2.1. «А был ли мальчик?» – Максим Горький
«Городок Окуров»
Сложность любого обращения к М. Горькому в наше время обусловлена резким падением читательского интереса к его творчеству вследствие лавинообразного появления поверхностно-панегирических работ в литературоведении 50—70-х годов ХХ века. Тиражированное суесловие создало своеобразную лжетрадицию восприятия М. Горького как «великого пролетарского писателя», «основоположника литературы социалистического реализма», «инициатора создания и первого председателя правления Союза писателей СССР». Декларативные панегирики в его адрес на фоне замалчиваемых моментов биографии («секрет Полишинеля») были не просто уязвимыми, малоубедительными, но и вызывали обратный предполагаемому эффект скрытой неприязни к плакатно-упрощённому образу писателя. В результате за последнюю четверть ХХ века выросло несколько поколений потенциальных читателей, для которых М. Горький оказался скучен или даже чужд.
Пожалуй, без особого риска вызвать упрёк в необъективности можно предположить, что М. Горького сегодня читают, за редким исключением, только специалисты: горьковский канон, включающий с незначительными вариациями несколько ранних произведений, автобиографическую прозу и портреты-воспоминания («Лев Толстой», «Леонид Андреев»), в научных исследованиях расширяется главным образом за счёт пьесы «На дне», повести «Мать», романа «Жизнь Клима Самгина» и публицистики1. Но подход к освещению творчества М. Горького в литературоведении во многом зависит от взгляда на официальную, близкую к лубочной, биографию писателя.
Для одних исследователей М. Горький – подлинно трагическая фигура нашей послеоктябрьской истории, человек, пытавшийся в рамках сложившегося режима выстраивать более разумную, гуманистическую модель развития культуры; для других – апологет сталинской политики, олицетворение «материализованной бесовщины», поездками на Соловки и Беломорский канал, статьями-лозунгами «Если враг не сдаётся, его уничтожают» (1930) и т. п., с высоты своего огромного авторитета благословивший «большой террор». Соответственно, первые заявляют о назревшей необходимости предложить целостную концепцию творчества писателя («Но она должна быть по-новому целостна…»), а вторые приходят «к отрицанию или почти отрицанию каких бы то ни было ценностей в его наследии»2.
Особенно остро это размежевание – не только среди филологов, но и в окололитературной среде – обозначилось в последнее десятилетие XX века, когда широкому читателю стали доступны книги А. Солженицына, воспоминания В. Ходасевича, Е. Кусковой, Н. Вольского и других представителей русского зарубежья, а также после публикации на страницах популярных изданий ряда сенсационно-разоблачительных материалов об обстоятельствах последних лет жизни и смерти М. Горького3. Свой вклад в развенчание «мифа о Горьком» внесло и телевидение4.
Чрезмерная политизированность современного общества способствовала созданию специфического контекста вокруг личности и творчества М. Горького: в период очередного fin de siecle в центре внимания исследователей оказалась – несомненно существенная, но не главная – проблема отношений писателя с властью5, в то время как его творчество оставалось в тени. Быть может, поэтому в пылу полемики («А был ли мальчик?») всё чаще стали высказываться для многих странные суждения о Горьком как о художнике заурядном6, а то и откровенно парадоксальные тезисы: «Настоящий Горький – в его публицистике и переписке: они намного интереснее всего – или почти всего, – что он написал… в художественном плане»7. Оценка такого рода высказываниям дана в горьковедении рубежа XX–XXI вв.: «Современная критическая мысль утратила общемировоззренческие ориентиры в подходе к анализу наследия Горького…»8.
В лучших работах последнего десятилетия осуществляются новые подходы к творчеству М. Горького, пересматриваются традиционные представления, – исследователи стремятся «открыть иного, нового Горького, писателя, с которым можно и даже нужно спорить, но вместе с тем писателя с правом на уважение»9. Именно эти работы стали ориентиром для нашего исследования.
Жанр повести был органичен для М. Горького10. Обращение к повести у него совпало с увлечением марксизмом и сближением с теоретиками «богостроительства» – А. Богдановым, А. Луначарским, В. Базаровым. Их идеи составили основу повестей М. Горького «Мать», «Исповедь», «Жизнь ненужного человека» и др., получивших неоднозначную оценку в критике 1900-х годов. Набатом в полемике прозвучала мысль о «конце Горького», спровоцировавшая нескончаемую дискуссию, смысл которой в общих чертах сводился к резкому противопоставлению Горького-публициста, сохраняющего тенденциозную заданность мысли, и Горького-художника, демонстрирующего значительно более широкий и свободный взгляд на действительность. Об эволюции Горького-мыслителя, художника и публициста, о философской проблематике его произведений существует обширная литература11. Общий вывод таков:
– на протяжении всего творчества М. Горький исповедовал urbi et orbi (городу и миру) свою приверженность ницшеанско-экзистенциалистским идеям, при этом в русской философии – пусть со сложными чувствами и оговорками – выделял фигуры: В. Розанова и Н. Фёдорова;
– по М. Горькому, «евразийское» положение России обусловило роковую «двойственность» русского человека, химерическое сращение в нём «Запада» и «Востока»: «У нас, русских, две души: одна – от кочевника-монгола, мечтателя, мистика, лентяя… а рядом с этой бессильной душою живёт душа славянина, она может вспыхнуть красиво и ярко, но недолго горит, быстро угасая…»12;
– изначальная «патология души» («патология культуры») русского народа ставит его перед экзистенциальной проблемой выбора: необходимостью акта самоотречения, который, согласно М. Горькому, должен быть совершён в пользу Запада: «Отношение человека к деянию – вот что определяет его культурное значение, его ценность на земле» 13;
– в горьковском миропонимании розаново-фёдоровское активное христианство с их призывом к действию преобразуется в культ индустриального покорения природы, в человеко-божеский прометеизм: русские марксисты – А. Луначарский, А. Богданов, В. Базаров и Горький в том числе – отвергали христианского Бога как иллюзорное средоточие человеческой мечты о всемогуществе, ставя на его место «титанически гордого Человека»; прометеизм, культ «Человека с большой буквы», в творчестве М. Горького оборачивается своеобразным иносказанием для индустриальной «вестернизации» России.
Поиск Человека – метаметафора в творчестве М. Горького. В связи с этим следует указать на одну из основных художественных оппозиций у М. Горького: через всё его творчество проходят два типа человека – человек «пёстрой души» (выражение писателя) и цельная личность. Первый свои качества почерпнул «от Азии, с её слабой волей, пассивным анархизмом, пессимизмом, стремлением опьяняться, мечтать»; второй – «от Европы, насквозь активной, неутомимой в работе, верующей только в силу разума, исследования, науки»14. Разномыслие М. Горького проявилось в том, что «пестрота души» (противоречивость) чаще всего воспринималась им как ущербность, национальный порок, но иногда – как внутреннее богатство, духовное достояние народа. Отсюда особая объёмность человека «пёстрой души», который присутствует уже в ранних рассказах писателя, затем – в «окуровском» цикле и в автобиографической прозе 1910-х годов (повести «Детство», «В людях», сборнике рассказов «По Руси»), произведениях начала 1920-х годов («Заметки из дневника. Воспоминания», отдельные рассказы – например, «Отшельник»), а позднее в итоговом романе «Жизнь Клима Самгина». Второй тип – цельной, гармоничной личности, имеющей ясные ответы на «проклятые» вопросы, – более схематичен, рационалистически выстроен и связан с горьковским идеалом, с так называемым положительным героем. Именно его долгое время почитали высшей ценностью исследователи творчества М. Горького, между тем как сейчас предлагается «основным художественным завоеванием писателя» считать образ человека «пёстрой души»: «Этот обширный пласт горьковского творчества остаётся и поныне самой живой частью его наследия…»15.
Антитеза «Запада» и «Востока», одержимость «русской идеей» («фетишистом идеи» называли М. Горького современники) определила замысел, организацию повествования, систему оппозиций целого ряда произведений М. Горького предоктябрьского десятилетия, в том числе «окуровской дилогии»: повести «Городок Окуров» (1909–1910) и романа «Жизнь Матвея Кожемякина» (1910–1911)16. Предшествующие произведения М. Горького вызвали множество откликов в критике 1900-х годов. В развернувшейся накануне выхода «окуровского цикла» полемике не раз упоминалась мысль Д. Философова о «конце Горького» (1907), высказанная при оценке его «рационализирующей беллетристики» («Мать», «Исповедь» «Лето» и др.). Но после опубликования повести «Городок Окуров» большинство участников спора этот вывод отвергло, разделив суждение обозревателя газеты «Новое время» П. Перцова: «Горький продолжается».
Между тем «неуловимость» авторской точки зрения предопределила сложность интерпретации повести «Городок Окуров»: критикой предлагались разные, зачастую диаметрально противоположные, варианты её прочтения, при этом основное внимание акцентировалось на националистических исканиях (П. Перцов, «Новое время»), развитии традиций Ф. Достоевского (А. Горнфельд, «Русское богатство»), концепции народной интеллигенции (Иванов-Разумник, «Русские ведомости»), социальном пафосе, критике мещанства (А. Измайлов, «Русское слово») и марксистской основе творчества (М. Морозов, «Новый журнал для всех»), а в антигорьковской критике – на проповеди коллективизма и осуждении индивидуализма, «покаянии» писателя в его ранних «ницшеанских грехах» (В. Кранихфельд, «Современный мир»), догматизме (К. Чуковский, «Речь»), тенденциозности и «порнографизме» (В. Буренин, «Новое время»), отсутствии художественной правдивости (С. Адрианов, «Вестник Европы») и т. п.17
В современном горьковедении повесть «ГОРОДОК ОКУРОВ» считается рубежной (знаковой), с ней связывают начало нового этапа в творчестве писателя: «После ««окуровских» повестей возникает представление о «новом Горьком», которое упрочивается с появлением автобиографических сочинений» и (или) «В 1910-е годы его Человек начинает превращаться в «Русского Человека»…»18. Тем не менее, несмотря на постоянный интерес исследователей к повести «Городок Окуров», она разделила общую судьбу произведений М. Горького: в течение длительного времени в горьковедении преобладали общие тенденции в толковании, а не конкретные интерпретации отдельных произведений.
В последнее время ситуация начала изменяться, всё чаще исследователи предлагают новые, оригинальные варианты прочтения наиболее спорных произведений писателя19. Как ни странно, но повесть «Городок Окуров» всё ещё выпадает из этого ряда: в современном горьковедении она по-прежнему рассматривается лишь в ракурсе изображения мещанского быта, при этом внимание исследователей акцентируется главным образом на вопросах проблематики и стиля20.
Мы предполагаем несколько сместить акценты: повесть «Городок Окуров» нами рассматривается в контексте программной статьи М. Горького «Две души», постулирующей принципы его «западничества» и поясняющей «этнологические» мотивы в произведениях 1910-х годов («окуровский цикл», сб. «По Руси»), как модель, отражающая жанровую доминанту в прозе М. Горького.
Прежде всего хотелось бы указать на то, что приступая к созданию цикла произведений, объединённых единым хронотопом, М. Горький дал ему название «Городок Окуров. Хроника». Однако логика повествования в хронике предполагает движение от события к событию – соответственно, изначально каждое произведение цикла рассматривалось как продолжение предыдущего. Именно характер первоначального замысла спровоцировал в читательском восприятии установку на «незавершённость» повести «Городок Окуров», в то время как сам М. Горький уже в период работы над «Жизнью Матвея Кожемякина» рассматривал «Городок Окуров» как «нечто целое», у которого «нет продолжения»21. Можно предположить, что относительная самостоятельность произведений «окуровского цикла» обозначилась в процессе работы над ними помимо воли автора и послужила главной причиной того, что цикл не получил ожидаемого продолжения: повесть «Большая любовь» известна лишь по опубликованному фрагменту, а «Записки d-r'a Ряхина» трансформировались в «Жизнь Клима Самгина».
Представление о цельности, завершённости повести «Городок Окуров» вытекает и из особенностей её композиции (кольцевая композиция): мотив несвободы, замкнутого пространства, определяющий развитие центрального конфликта произведения, на композиционном уровне – в зачине и концовке – реализуется соответственно в образе множества дорог на равнине, дающих горожанам (= читателю) ощущение свободы выбора, и в образе города, на который набит крепкий обруч («город-тюрьма»). Поэтому мы не можем согласиться с утверждением, что «с точки зрения композиционной структуры… «Городок Окуров» – это повесть, образно говоря, без начала и конца»22. Напротив: композиция повести «Городок Окуров» жёстко сконструирована (структурализована), а ассоциативная связь между началом и концом повествования – лишь один из элементов этой конструкции (структуры).
Анализ повести «Городок Окуров» затрудняется тем, что повествование дробится на фрагменты: они не пронумерованы и не озаглавлены, – для удобства мы будем обозначать их начальными фразами с параллельной условной нумерацией. Фрагментарность повествования не мешает наметить структуру сюжета.
Экспозиция – «Волнистая равнина вся исхлёстана серыми дорогами…» (1) и «Первой головою в Заречье был единодушно признан…» (2): описание городка Окурова и характеристика его жителей23. Двучастность экспозиции согласуется с общим замыслом произведения – осмысление мира посредством мифа, сквозь призму бинарных оппозиций. В первой части конструируется модель хронотопа, он строится по законам экзистенциальной прозы: здесь доминируют мотивы двоемирия и границы между мирами («Из густых лесов Чернораменья вытекает ленивая речка Путаница; извиваясь между распаханных холмов, она подошла к городу и разделила его на две равные части: Шихан, где живут лучшие люди, и Заречье – там ютится низкое мещанство…» [с. 7]); намечается не менее важный с точки зрения развития сюжета мотив вражды между городом и слободой, провоцируя читательское ожидание связанного с ним конфликта: «Между городом и слободою издревле жила вражда: сытое мещанство Шихана смотрело на заречан, как на людей никчемных, пьяниц и воров, заречные усердно поддерживали этот взгляд и называли горожан «грошелюбами», «пятакоедами»…» [с. 11]; параллельно в повествование вводится массовый герой – мещане: жители уездного городка Окуров (читай: России), по М. Горькому, суть русского народа.
Во второй части из их числа выделяются «антигерои», носители «негативной правды» – Яков Тиунов («…ходит человек не торопясь, задумчиво тыкает в песок черешневой палочкой и во все стороны вертит головой, всех замечая, со всеми предупредительно здороваясь, умея ответить на все вопросы» [с. 16]), Вавило Бурмистров («Его писаное лицо хмуро, брови сдвинуты, и крылья прямого крупного носа тихонько вздрагивают… Рубаха на груди расстёгнута… крепкое, стройное и гибкое тело его напоминает какого-то мягкого, ленивого зверя» [с. 22–23]), Сима Девушкин («На его тонком сутулом теле тяжело висит рваное ватное пальто, шея у него длинная, и он странно кивает большой головой, точно кланяясь всему, что видит под ногами у себя» [с. 21]), Лодка («… женщина лет двадцати трёх, высокая, дородная, с пышной грудью, круглым лицом и большими серо-синего цвета наивно-наглыми глазами» [с. 37]).
Этот фрагмент, в свою очередь, состоит из двух частей. В первой дано краткое, ретроспективное жизнеописание Тиунова – он единственный из героев повести, надолго покидавший городок Окуров, с юности странствовавший по Руси, потерявший в этих странствованиях глаз (лейтмотивная деталь, подтекстный смысл которой сводится к авторской характеристике узости, односторонности его взглядов и суждений), но приобретший твёрдые жизненные принципы, основанные на русофильских идеях, суть которых он неутомимо излагает при каждом удобном случае в кратких афористичных изречениях, иногда созвучных представлениям автора («Что ж – Россия? Государство она, бессомненно, уездное. Губернских-то городов – считай – десятка четыре, а уездных – тысячи, поди-ка! Тут тебе и Россия…» [с. 17]), но чаще противоречащих им. Во второй части – драматизированная сценка на берегу реки: «Собираясь под ветлами, думающие люди Заречья ставили Тиунову разные мудрые вопросы. Начинал всегда Бурмистров…» [с. 17]. Здесь даётся портретная и речевая характеристика героев, а также всплывает лейтмотивная тема неприязни Вавилы к Тиунову: «… он чувствовал, что кривой затеняет его в глазах слобожан, и, не скрывая своей неприязни к Тиунову, старался чем-нибудь сконфузить его» [с. 17], – на фоне которой происходит завязка и развитие художественного конфликта повести М. Горького.
При анализе экспозиции зачастую остаётся без внимания – в том числе и в специальных исследованиях – первая фраза, своеобразный зачин повести: «Волнистая равнина вся исхлестана серыми дорогами, и пёстрый городок Окуров посреди неё – как затейливая игрушка на широкой сморщенной ладони» [с. 7]24. Дело в том, что эта фраза в стилевой структуре повести существует как бы сама по себе, – её искусственность, сделанность, излишняя красивость осознавалась и самим писателем25. Но слегка раздражающая (или ласкающая) слух читателя изысканность зачина оправдана уже тем, что подчёркивает его самостоятельное значение в структуре экспозиции (и шире: в структуре всей повести), контрастируя с доминирующим в первом фрагменте ритмом повествования, который задаётся «логикой списка», перечнем всего, что представляется повествователю сколько-нибудь значимым в жизни окуровцев – от городских построек до разного рода занятий и развлечений в среде мещан («Город имеет форму намогильного креста: в комле – женский монастырь и кладбище, вершину – Заречье – отрезала Путаница, на левом крыле – серая от старости тюрьма, а на правом – ветхая усадьба господ Бубновых… На Шихане числится шесть тысяч жителей, в Заречье около семисот… Мещане в городе юркие, но – сытенькие; занимаются они торговлей красным и другим товаром на сельских ярмарках уезда, скупают пеньку, пряжу, яйца, скот и сено для губернии… По праздникам молодёжь собиралась в поле за монастырём играть в городки, лапту, в горелки…» [с. 8–9]. Зачин контрастирует и с эпиграфом, который не менее важен с точки зрения формирования читательского ожидания, поскольку не только и не столько задаёт эмоциональный градус восприятия (= осознания) М. Горьким положения России в мире: «… уездная, звериная глушь» [с. 7], но вводит в контекст повествования парадигму Ф. Достоевского (и прежде всего представление о «русской широкости», позиционируемое М. Горьким как «пестрота души»)26.
В первой фразе повести, построенной как сравнительный оборот, ассоциативно связаны три пары образов: волнистая равнина ~ широкая ладонь; перекрестье дорог ~ сеть морщин; пёстрый городок ~ затейливая игрушка. Первый ряд (равнина – дороги – город) вводит в повествование ключевые оппозиции: «открытое пространство – замкнутое пространство», «активное начало – пассивное начало», «свободный выбор – отсутствие выбора»; второй ряд (ладонь – морщины – игрушка) переводит повествование в иронично-метафорический план: в подсознании читателя всплывает полукарикатурный образ – сидя на облаке, Бог перекатывает в ладони земной шарик… Здесь и абсурдность существования, и – как это ни парадоксально звучит – открытость в будущее, игра случая: может быть, иллюзорная, но надежда на возможность перемен, преодоления «пестроты».
Завязка художественного конфликта – «Когда разразилась эта горестная японская война…» (3): разговор в трактире о мещанстве («Кто есть в России мещанин?..» [с.30]). Художественный конфликт повести «Городок Окуров» прямо связан с размышлениями М. Горького о судьбе России («игрушка на ладони»). В судьбе русского народа есть рационально неразрешимая загадка, тайна: образ России традиционно двоится, в нём смешаны взаимоисключающие противоположности. Россия – противоречива, антиномична. Она стоит в центре восточного и западного миров, поэтому принято считать, что разгадка её тайны возможна лишь в свете проблемы Востока и Запада: русская мысль обречена вращаться вокруг споров славянофильства и западничества – является ли европейская культура универсальной и не может ли быть другого, более высокого типа культуры?
Для М. Горького ответ на этот вопрос очевиден и заложен в основу замысла «окуровского цикла», но в силу «затушёванности» авторской позиции для читателей повести «Городок Окуров», включая литературных критиков, он оказался не столь очевидным, – вероятно, поэтому самим писателем повесть длительное время воспринималась как творческая неудача. А всё дело в приверженности реципиентов стереотипам восприятия, которые возникли в раннюю пору творчества М. Горького, что проявилось в стремлении видеть в героях повести porte-parole (авторский рупор) – эманацию горьковского Человека. Между тем персонажи повести «Городок Окуров» не могут нести в себе черт положительного героя М. Горького, у них разновекторные полюсы. Идеальным географическо-философским пространством в миропонимании М. Горького предстаёт Запад, а вектор героев (читай: «антигероев») повести «Городок Окуров» направлен на Восток. Они – люди «пёстрой души»: Яков Тиунов, Вавило Бурмистров, Сима Девушкин и Лодка, выделены из мещанской среды, но рассматривать их следует как эманацию не «западной», а «восточной» души русского народа, им не дано достичь цельности Человека.
Авторская позиция прочитывается в подтексте повести «Городок Окуров»: «вестернизация» России, отказ от созерцательности Востока в пользу действенности Запада27. Окуров – городок мещанских нравов и мещанских добродетелей («пёстрый городок») олицетворяет провинциально-замкнутое, а не мировое бытие России. Поражение в войне с Японией пробуждает национальное сознание окуровцев, стремление вывести Россию из замкнутого провинциального существования в ширь («на равнину») мировой жизни. Путей («дорог на равнине») много, – тем сложнее сделать правильный выбор. «Антигерои» повести М. Горького выбирают разные пути: проповедь (Тиунов), бунт (Вавило), молитва (Сима), покаяние (Лодка). Но все эти пути, по мысли автора, гибельны для России, бесперспективны… Все они упираются в стену непонимания, которая вырастает в сознании обывателя на почве страха свободы.
Развитие действия – повествование включает в себя несколько сюжетных линий, которые развиваются параллельно:
«Вавило – Тиунов» («На другой день утром…» (4), «Во тьме…» (13));
«Вавило – Лодка» («Лодка – женщина лет двадцати трёх…» (5), «Во тьме…» (13));
«Сима – Лодка» («Однажды под вечер…» (6), «Слава Симы Девушкина перекинулась через реку…» (7), «Рыжая девица Паша…» (9));
«Сима – Тиунов» («Вечерами на закате и по ночам…» (8));
«окуровская революция» («Город был весь наполнен осторожным шёпотом…» (10), «Понедельник был тихий, ясный…» (11), «Ходил по улицам Тиунов…» (12)).
Автор раскладывает персонажный пасьянс:
В центре повествования мир мещанства (квинтэссенция России), нехитрая метафизика окуровцев – разобщённость, зоологическая борьба всех против всех, идиотизм животно-природной жизни, скука и отупение. Они живут в рабски суеверном преклонении перед стихийным ходом вещей, во всём следуя принципу бондаря Кулугурова, ревностного охранителя существующих порядков: «…что на краю земли-то – нас не касаемо» [с. 74].
Обывательская психология мещан исчерпывающе характеризуется при описании их реакции на уличные волнения во время «окуровской революции» (10). Не дослушав Тиунова, который развивал перед ними свои излюбленные мысли («Решено призвать к делам исконных русских людей…» [с. 74]), они расходятся по домам: «…кривой плохо выбрал время: каждого человека в этот час ждал дома пирог, – его пекут однажды в неделю, и горячий – он вкуснее. А ещё Тиунов забыл, что перед ним люди, издавна привыкшие жить и думать одиноко – издревле отученные верить друг другу. На улицу, к миру, выходили не для того, чтобы поделиться с ним своими мыслями, а чтобы урвать чужое, схватить его и, принеся домой, истереть, измельчить в голове, между привычными тяжёлыми мыслями о буднях, которые медленно тянутся из года в год; каждый обывательский дом был темницей (выделено мной. – С.Т.), где пойманное новое долго томилось в тесном и тёмном плену, а потом, обессиленное, тихо умирало, ничего не рождая» [с. 75]. Миру мещанства (массовое сознание) в повести М. Горького противопоставлен мир героев – Тиунов, Вавило, Сима и Лодка (индивидуальное сознание), они выделены из мещанского окружения, но не утрачивают с ним связь. В массовом сознании за каждым из них закрепляется статус лидера: Тиунов – «первая голова в Заречье»; Вавило – «первый герой»; Сима – «первый поэт»; Лодка – «первая красавица».
Некоторая интрига заключается в том, кто из них «первый человек в слободе»? (= кто главный герой повести?). На это звание в первую очередь претендует Вавило: всё в его поведении (роль певца и хулигана, любовь к Лодке, соперничество с Тиуновым, убийство Симы, участие в «окуровской революции») в конечном счёте преследует одну цель – утвердить своё первенство. Основным способом самоутверждения для него становится позёрство, самолюбование, игра, – ему не важно, чем заниматься, главное быть в центре внимания, вызывать всеобщее восхищение: «Бурмистров был сильно избалован вниманием слобожан, но требовал всё большего и, неудовлетворённый, странно и дико капризничал: разрывал на себе одежду, ходил по слободе полуголый, валялся в пыли и грязи, бросал в колодцы живых кошек и собак, бил мужчин, обижал баб, орал похабные песни, зловеще свистел…» [с. 31].
Игра – доминирующее состояние Вавилы на протяжении всего повествования:
• на берегу реки – дуэт слободских певцов пытается перепеть хор горожан: «Вавило играет песню: отчаянно взмахивает головой, на высоких, скорбных нотах – прижимает руки к сердцу, тоскливо смотрит в небо и безнадёжно разводит руками… Лицо у него ежеминутно меняется: оно и грустно и нахмурено, то сурово, то мягко, и бледнеет и загорается румянцем…» [с. 25];
• в трактире – привычные выходки Вавилы («…он вскочил, опрокинул стол, скрипнув зубами, разорвал на себе рубаху, затопал, затрясся, схватил Тиунова за ворот и, встряхивая его, орал: «Яков! Не бунтуй меня!»») вызывают раздражение у окружающих («Дай послушать серьёзный человечий голос…»), и Бурмистров чувствует себя «проигравшим игру» [с. 29];
• в комнате Тиунова – покаяние в филистёрстве: «… войдя в комнату Тиунова, сбросил на пол мокрый пиджак и заметался, замахал руками, застонал, колотя себя в грудь и голову крепко сжатыми кулаками… Он – играл, но играл искренно, во всю силу души: лицо его побледнело, глаза налились слезами, сердце горело острой тоской» [с. 34–35];
• в притоне – любовь к Лодке: «Бурмистров является красиво растрёпанный, в изорванной рубахе, с глазами, горящими удалью и тоской. «Глафира!» – орёт он, бия себя в грудь, – «Вот он я, – твой кусок! Зверь жадный, на, ешь меня!»» [с. 40];
• на базарной площади – участие в «окуровской революции»: «Братья!» – захлёбываясь и барабаня кулаками в грудь, пел Бурмистров. – «Душа получает свободу! Играй, душа, и – кончено!'» [с. 83];
• в комнате Лодки – убийство Симы: «Нечаянно это! Так уж – попал он под колесо, ну и… Что мне – он?» [с. 92] и т. д.
Нередко Вавила по-детски «заигрывается»: «…увлечённый игрою, он сам любовался ею откуда-то из светлого уголка своего сердца» [с. 35], – но некогда спасительный инфантилизм в конце концов губит его. На «нечаянное убийство» Вавилу толкает двойное предательство: во-первых, предательство Тиунова, который убежал от полупьяного Вавилы, восторженно переживавшего – и нуждавшегося в сопереживании – свой недавний триумф на охваченных бунтарскими волнениями улицах Окурова («Я – всех выше, и говорю, и все молчат, слушают, ага-а! Поняли? Я требую: дать мне сюда на стол стул! Поставьте, говорю, стул мне, желаю говорить сидя! Дали! Я сижу и всем говорю, что хочу, а они где? Они меня – ниже! На земле они, пойми ты, а я – над ними!..» [с. 87], и во-вторых, предательство Лодки, изменяющей Бурмистрову с Симой. Создавая пародийный по отношению к русской литературной традиции образ «добродетельной проститутки», М. Горький заставил её – женщину, в сущности, неумную, лживую, не способную никого полюбить – замаливать грехи не только стоя на коленях перед образом Богородицы, но и одаривая Симу – юродивого со взглядом «робкого нищего» – «спешно-деловой лаской», «отдаваясь ему торопливо, без радости и желания» [с. 46–47, 51, 66–70]. Склонность к предательству выражает доминирующее в личности горьковских героев эгоистическое начало. Эта черта, по М. Горькому, чуть ли ни в крови у окуровцев. Так, Вавила доносит исправнику на Тиунова («Мы, говорит, мещане – русские, а дворяне – немцы, и это, говорит, надо переменить…» [с. 32]), Четыхер рассказывает Вавиле об измене Лодки («… там у неё Девушкин» [с. 89]), Лодка пускает по городу слух о богохульстве Жукова и Ряхина («Сначала, – прищурив глаза, подумала она, – пойду я к Зиновее. Уж она прозвонит всё, что скажешь, всему городу…» [с. 110]), Кулугаров с мещанами после драки на площади отводят Вавилу в полицию («Они начали злобно дёргать, рвать, бить его, точно псы отсталого волка…» [с. 122]) и т. д.
Кульминация и развязка художественного конфликта – «Бурмистров валялся на нарах арестантской…» (15): стычка между горожанами и слобожанами на площади у собора (страх свободы). На арестантских нарах в горячке самооправдания Вавило меньше всего думает о Симе: его душит «злая горечь», он кипит от злости и на Лодку, и на Тиунова: «Он плевал в стену голодной горячей слюной и, снова вспоминая Лодку, мысленно грозился: «Ладно, собака!» Вспоминал Тиунова, хмурился, думая: «Чай, с утра до вечера нижет слово за словом, кривой чёрт! Опутывает людей-то… Кабы он, дьявол, не покинул меня тогда, на мосту, – ничего бы и не было со мной!»» [с. 112, 115].
Анархический порыв к свободе неожиданно оборачивается для него утратой сначала внешней (социальной), а затем – и внутренней (экзистенциальной) свободы, изменой самому себе: «…бывало, говоря и думая о свободе, он ощущал в груди что-то особенное, какие-то неясные, но сладкие надежды будило это слово, а теперь оно отдавалось в душе бесцветным, слабым эхом и, ничего не задевая в ней, исчезало» [с. 113]. После квазиосвобождения пёстрая душа Вавилы снова мечется в эгоистическом стремлении самоутверждения: «Православные! Все вы… собрались… и вот я говорю, я! Я!» [с. 119]. Импульсивно принятое решение («И вдруг в нём вспыхнул знакомый пьяный огонь – взорвало его, метнуло…» [с. 116]) перейти на сторону Кулугарова, горожан – помочь им и заручиться их поддержкой, – на уровне подсознания выглядит логичным продолжением соперничества с Тиуновым и поначалу не осознаётся им как измена, как попытка ценой предательства купить личную свободу («Сквозь гул толпы доносились знакомые окрики Стрельцова, Ключникова, Зосимы… «Наши здесь!' – подумал Вавило, улыбаясь пьяной улыбкой; ему представилось, как сейчас слобожане хорошо увидят его» [с. 119]). Но его покаяние, отказ от идеи свободы («Я ли, братцы, свободе не любовник был?..» [с. 117]) представляет собой жалкое зрелище. Затем ирреальное, напоминающее исступленность юродивого, поведение в кульминационном эпизоде повести: на соборной площади он бьёт своих, слобожан, отсутствие привычного куража во время драки («Вавило бил людей молча, слепо… Люди, не сопротивляясь, бежали от него, сами падали под ноги ему, но Вавило не чувствовал ни радости, ни удовольствия бить их» [с. 120]) и после неё («Он как будто засыпал, его давила усталость…» [с. 121]) – здесь, кажется, впервые ему не до игры, – наконец, предательство Кулугарова приближают страшное и мучительное прозрение: «… ему всё казалось, что земля сверкает сотнями взглядов и что он идёт по лицам людей» [с. 121].
Не предательство обывателей, ведущих его обратно в полицейский участок, но запоздалое осознание собственного предательства, измены самому себе – а судьба Вавилы естественно проецируется на судьбу России – гибельно для Вавилы, впервые не оставляет ему выбора: «Удавлюсь я там, в полиции! – глухо и задумчиво сказал Вавило» [с. 121]. В концовке повести возвращение Вавилы в арестантскую (социальная несвобода) ассоциативно соотносится с гротескно-метафорическим образом города-тюрьмы, на который набит тесный обруч (экзистенциальная несвобода).
Итак, в повести «Городок Окуров» М. Горький использует романные принципы организации повествования: многосюжетность, многогеройность, полифоничность и др. («повесть-роман»). В центре внимания писателя – судьба России. Автор занимает позицию ad marginem: вводит в повествование вместо героя-протагониста «антигероев». Единый сюжет распадается на отдельные сюжетные линии, – они развиваются параллельно и имеют самостоятельное значение, связанное с мотивами двоемирия, выбора, свободы, страха, соперничества, любви, национального и креативного начал.
Графически каждая сюжетная линия может быть представлена в виде пунктира или как цепь, звенья которой образуют ключевые эпизоды повести: на берегу реки (2) – в трактире (3) – в кабинете исправника (4) – в доме Тиунова (4) – в комнате Лодки (5) – в саду (6) – на загородной дороге (8) – в комнате Лодки (9) – на базарной площади (10) – на мосту (13) – в комнате Лодки (13) – в арестантской (15) – на соборной площади (15).
В хронотопе повести последовательно реализуется тема несвободы, страха свободы – только в одном повествовательном фрагменте действие происходит на открытом пространстве (на загородной дороге), дважды местом действия становится «пограничное пространство» (берег реки, мост).
В основном же действие сосредоточено в замкнутом пространстве города, которое постоянно сужается до размеров площади, дома, комнаты, при этом символический образ обывательского «дома-темницы» ассоциативно перекликается с «душным сумраком» комнаты Лодки (место убийства) и оцепеняющей атмосферой арестантской. Завершается этот ассоциативный ряд гротескно-метафорическим образом города-тюрьмы с набитым на него тесным обручем. Образ подготовлен в ходе повествования звуковым лейтмотивом, который по мере движения сюжета звучит всё более настойчиво, угрожающе: «…бухали бондари по кадкам и бочкам» [с. 33], «Гулко и мерно бухали бондари, набивая обручи…» [с. 76], «Кое-где раздавались глухие удары бондарей: Тум-тум-тум! тум-тум!» [с. 78], «Ненадёжная, выжидающая тишина таилась в городе, только где-то на окраине работал бондарь: мерно чередовались в холодном воздухе три и два удара: Тум-тум-тум…
Тум-тум…» [с. 110] и наконец – «…всё работал неутомимый человек, – где-то на Петуховой горке, должно быть; он точно на весь город набивал тесный крепкий обруч, упрямо и уверенно выстукивая: Тум-тум-тум… Тум-тум…» [с. 122].
Выбор окуровцев утопической формулы: счастье = несвобода – оказался пророческим для судьбы России, для всех нас: мы все, до тех пор, пока не сумеем преодолеть страх свободы, рискуем однажды обнаружить себя там, внутри «горьковской прозы», внутри той скорлупы, в которую сами себя закупорили.
2.2.2. «Русский сфинкс» – Леонид Андреев
«Мысль»
«Бездна»
«Красный смех»
«Иуда Искариот»
Основную и наиболее значительную часть творчества Л. Андреева составляют лирико-философские произведения. Лучшие из них – рассказы «Стена» (1901), «Бездна» (1902), повести «Мысль» (1902), «Жизнь Василия Фивейского» (1903), «Красный смех» (1904), «Иуда Искариот» (1907), пьесы «Жизнь Человека» (1906), «Анатэма» (1909), роман «Дневник Сатаны» (1919) и др. – вызывали у критиков и читателей весь спектр эмоций – от восторга до отвращения. Объясняется это, с одной стороны, содержательной направленностью творчества Л. Андреева (многие критики видели в его приверженности однажды освоенным темам игру на публику: в частности, Д. Мережковский сравнивал «избалованный талант» Л. Андреева с «ребёнком, которого насмерть заласкала обезьяна»1) и проблематикой его произведений, которую теперь с уверенностью можно определить как экзистенциальную: переклички Л. Андреева с М. де Унамуно, Л. Пиранделло, Ж. – П. Сартром и А. Камю достаточно очевидны2. С другой стороны, сказалась обособленность Л. Андреева от всех существовавших тогда литературных течений. Своё положение в литературном мире сам Л. Андреев определил так: «для благороднорождённых декадентов – презренный реалист, для наследственных реалистов – подозрительный символист»). Это, в свою очередь, оказало существенное влияние на характер восприятия его творчества современниками; для многих из них он так и остался «сфинксом российской интеллигенции и непонятым писателем»3.
Мировоззренческую основу большинства произведений Л. Андреева составляет анализ взаимосвязи между судьбой отдельного человека и судьбой всего человечества, осмысление космогенеза. Решение этой задачи в творчестве Л. Андреева во многом связано с проблемой «человек и рок», которая объединяет большую группу его произведений. Открывает этот ряд рассказ «Стена», положивший начало нескончаемой полемике между сторонниками и противниками писателя, а завершает итоговый роман «Сашка Жегулёв». В понятие «рока» герои Л. Андреева вкладывают представление о тех социальных и биологических препятствиях, которые стоят на жизненном пути каждого человека и существенно ограничивают его свободу, – зачастую лишь смерть равносильна для них освобождению.
Иначе относится к проблеме смерти автор: по Л. Андрееву, человек не может перешагнуть через себя, через свою несвободу в смерти. Как отмечает Иванов-Разумник, «признание объективной бессмысленности человеческой жизни идёт у Л. Андреева рядом с сознанием её субъективной осмысленности»4. Последнюю писатель понимал как нескончаемость борьбы, самоценность поединка свободного человеческого разума с непреодолимыми для него препятствиями – абсурдом, роком.
И всё же Л. Андреев не считал, что нескончаемая борьба, «бунт ради бунта» является ответом на вопрос о смысле жизни, для него это скорее некая альтернатива, некое позитивное начало, делающее существование хоть сколько-нибудь приемлемым: «Кто я? До каких неведомых границ дойдёт моё отрицание? Вечное «нет» – сменится ли оно хоть каким-нибудь «да»? И правда ли, что «бунтом жить нельзя»? Не знаю. Не знаю… Смысл, смысл жизни – где он?.. А ответа нет, всякий ответ – ложь. Остаётся бунтовать пока бунтуется, да пить чай с абрикосовым вареньем».
Квинтэссенция такого мироощущения (трагедия человеческого разума, измученного «проклятыми» вопросами, перед лицом абсурда) в полной мере отразилась в повести Л. Андреева «МЫСЛЬ». Контур сюжета повести определяет авторское восприятие окружающего мира как безумного, иррационального, абсурдного: «Безумный, счастливый в своём безумии мир…». Для выражения концепции безумия, абсурдности реальной действительности Л. Андреев использует целостную систему экспрессивных стилистических средств, в значительной степени усиливающих эмоциональное воздействие произведения.
Одним из основных изобразительных приёмов в повести «Мысль» является контраст. Повествование строится на столкновении антиномий: разум – безумие, свобода – тюрьма, господин – раб, палач – жертва. Холодный расчёт героя оборачивается безумием («… всю жизнь я был безумцем, как тот сумасшедший актёр, которого я видел на днях в соседней палате. Он набирал отовсюду синих и красных бумажек и каждую из них называл миллионом… Не с этим ли миллионом я жил?» [т. 1, с. 401]); свобода – несвободой («… я любил свою человеческую мысль, свою свободу» [т. 1, с. 417]; «Мне живо представилось, как я чужд всем этим людям и одинок в мире, я, навеки заключённый в эту голову, в эту тюрьму…» [т. 1, с. 395]). Господин над своей мыслью превращается в её раба («…самое страшное, что я испытал, – это было сознание, что я не знаю себя и никогда не знал. Пока моё «я» находилось в моей ярко освещённой голове, где всё движется в закономерном порядке, я понимал и знал себя, размышлял о своём характере и планах, и был, как думал, господином. Теперь же я увидел, что я не господин, а раб, жалкий и бессильный…» [т. 1, с. 410]); палач – в жертву («Для себя вы можете решать, но для меня никто не решит этого вопроса: Притворялся ли я сумасшедшим, чтобы убить, или убил потому, что был сумасшедшим?» [т. 1, с.419)]5.
Уже современники говорили о стилистических контрастах в произведениях Л. Андреева. В последующих литературоведческих исследованиях, значительно углубивших представление о функциональном аспекте андреевской стилистики, неоднократно высказывалось мнение о двойственности андреевского стиля. Так, Л.А. Иезуитова справедливо указывает на то, что «тональность всех произведений Л. Андреева отличается сочетанием размеренной, чуть стилизованной эпичности с нервной экспрессивностью»6.
В повести «Мысль» два стилистических плана отчётливо выражены. С одной стороны, ровное эпическое повествование, характеризуемое краткостью, лаконичностью авторской речи, констатирующей факты: «Одиннадцатого декабря 1900 года доктор медицины Антон Игнатьевич Керженцев совершил убийство. Как вся совокупность данных, при которых совершилось преступление, так и некоторые предшествовавшие ему обстоятельства давали повод заподозрить Керженцева в ненормальности его умственных способностей…» [т. 1, с. 382]; «На суде доктор Керженцев держался очень спокойно и во всё время заседания оставался в одной и той же, ничего не говорящей позе. На вопросы он отвечал равнодушно и безучастно…» [т. 1, с. 420]. С другой стороны, исповедь героя, где короткие фразы информационного характера сменяются сложной системой экспрессивных стилистических средств, призванных создать доминирующую атмосферу безумия, иррациональности, абсурда. При этом кольцевая композиция – небольшой зачин (сообщение о факте убийства) и такая же лаконичная концовка (краткая зарисовка сцены суда перед вынесением приговора) – выражает идею замкнутого круга, из которого нет выхода.
Исповедь героя, в свою очередь, включает в себя два эмоционально-стилистических плана, написанных резко-контрастными, чёрно-белыми красками. Смысловой доминантой первого плана становится восприятие героем собственной мысли как послушной исполнительницы его воли: «Как она была послушна, исполнительна и быстра, моя мысль, и как я любил её, мою рабу, мою грозную силу, моё единственное сокровище!» [т. 1, с. 392]. Образно-смысловая доминанта второго плана – сюрреалистическая метафора («пьяная змея»), передающая ужас героя, утратившего контроль над собственной мыслью: «Вообразите себе пьяную змею, да, да, именно пьяную змею: она сохранила свою злость; ловкость и быстрота её ещё усилились, а зубы всё так же остры и ядовиты. И она пьяна, и она в запертой комнате, где много дрожащих от ужаса людей. И, холодно-свирепая, она скользит между ними, обвивает ноги, жалит в самое лицо, в губы, и вьётся клубком, и впивается в собственное тело. И кажется, будто не одна, а тысячи змей вьются, и жалят, и пожирают сами себя. Такова была моя мысль… Это была бежавшая мысль, самая страшная из змей, ибо она пряталась во мраке. Из головы, где я крепко держал её, она ушла в тайники тела, в чёрную и неизведанную его глубину. И оттуда она кричала, как посторонний, как бежавший раб, наглый и дерзкий в сознании своей безопасности» [т. 1, с. 409].
Соответственно, и эпитеты, будучи средством субъективной оценки внутреннего состояния героя, резко контрастны: с одной стороны, его мысль характеризуется как ясная, точная, твердая, острая, упругая, светлая, энергичная, превосходная, послушная, торжествующая, непогрешимая; а с другой – как жалкая, бессильная, лгущая, ничтожная, изменчивая, призрачная, враждебная, страшная, подлая. При этом, с характерной для него тенденцией к лейтмотиву эпитета, Л. Андреев неоднократно повторяет эпитеты «ясная», «точная», «жалкая», «подлая», «ничтожная». В то же время поставленные рядом существительные зачастую подменяют эпитеты или образуют, в своей совокупности, подразумеваемые эпитеты: «И веки мои стали тяжелеть, и мне захотелось спать, когда лениво, просто, как все другие, в мою голову вошла новая мысль, обладающая всеми свойствами моей мысли: ясностью, точностью и простотой» [т. 1, с. 408].
В целом роль эпитетов в повести Л. Андреева связана с резко выраженным авторским началом повествования, со стремлением достичь предельного эмоционального воздействия. Посредством нагнетания и сочетания эпитетов писатель добивается экспрессии изображаемого: «Как ужасно, когда человек воет… Рот кривится на сторону, мышцы лица напрягаются, как верёвки, зубы по-собачьи оскаливаются, и из тёмного отверстия рта идёт этот отвратительный, ревущий, свистящий, хохочущий, воющий звук…» [т. 1, с. 392]. Однако, как справедливо полагает Л.В. Чичерин, «грамматическая форма нагнетания однородных членов имеет смысловое значение…»7. Здесь нагнетание, накопление эпитетов является не простым перечислением однородных членов предложения, а заключает в себе (как в грамматической форме) своего рода превосходную степень, смысл которой – в передаче страха героя перед приближающейся неизбежностью признания собственного безумия.
Важной составной частью экспрессивного стиля повести «Мысль» является её ритмико-синтаксическая структура. Характерная примета андреевского экспрессивного синтаксиса – так называемые паратаксические конструкции, представляющие собой «нанизывание» простых предложений, словосочетаний и отдельных слов, скрепляемых анафорическим союзом «и»: «А мир спокойно спит: и мужья целуют своих жён, и ученые читают лекции, и нищий радуется брошенной копейке»; «Разве я не был и велик, и свободен, и счастлив?» [т. 1, с. 418]. Большое значение паратаксические конструкции приобретают в создании экспрессии ритма. Их роль усиливается разветвлённой системой повторов, среди которых наиболее важное место занимают лексико-синтаксические параллелизмы: «И я наслаждался своею мыслью. Невинная в своей красоте, она отдавалась мне со всей страстью, как любовница, служила мне, как раба, и поддерживала меня, как друг» [т. 1, с. 404].
Повторы разных типов, которые выполняют различные функции, – неотъемлемая часть стиля Л. Андреева. Хотя объём повторяющихся отрезков в прозе Л. Андреева обычно не превышает фразы, именно повтор фразы, как справедливо отмечает Н.А. Кожевникова, – один из источников повышенной экспрессивности его стиля8. В повести «Мысль», как и в других произведениях писателя, повторяются фразы, важные в смысловом отношении, определяющие смысловой центр сцены («Мне тяжело. Мне безумно тяжело…» [т. 1, с. 388]) или всего произведения («Он думал, что он притворяется, а он действительно сумасшедший…» [т. 1, с. 408, 409, 410]). Совершенно особый характер повествования создаётся системой повторов в пределах одной фразы. Эти повторы, – как правило, троекратные, – позволяют автору заострить переживание героя, задержать на нём внимание читателя: «И я это знал, знал, знал…»; «Я очень рад, что вспомнил его, очень, очень рад…»; «… мне стало так смешно от этой нелепости, что я уселся тут же на полу и хохотал, хохотал, хохотал…» [т. 1, с. 392, 400, 415].
Особое место в художественной структуре повести «Мысль» занимают развёрнутые ассоциативные сравнения. Некоторые из них, подчёркивая полярные психологические состояния героя (ясность сознания – безумие), становятся своеобразным лейтмотивом повествования: «И разве я не чувствовал своей мысли, твёрдой, светлой, точно выкованной из стали и безусловно мне послушной? Словно остро отточенная рапира, она извивалась, жалила, кусала, разделяла ткани событий; точно змея, бесшумно вползала в неизведанные и мрачные глубины, что навеки сокрыты от дневного света, а рукоять её была в моей руке, железной руке искусного и опытного фехтовальщика…»; «Подлая мысль изменила мне, тому, кто так верил в неё и её любил. Она не стала хуже: та же светлая, острая, упругая, как рапира, но рукоять её уж не в моей руке. И меня, её творца, её господина, она убивает с тем же тупым равнодушием, как я убивал ею других» [т. 1, с. 392, 418].
Сближение конкретных и абстрактных понятий («Сумасшествие – это такой огонь, с которым шутить опасно…» [т. 1, с. 392]) служит основным принципом андреевских сравнений, позволяющим драматизировать повествование, переключая конкретно-бытовые явления в ирреальную атмосферу кризисной ситуации. В ряде случаев в повести «Мысль» образ конкретного явления утрачивает свою предметную определённость и приобретает символическое значение. Такими символами, в частности, становятся сравнения человеческого разума с неприступным замком («Разве я не был и велик, и свободен, и счастлив? Как средневековый барон, засевший, словно в орлином гнезде, в своём неприступном замке, гордо и властно смотрит на лежащие внизу долины, – так непобедим и горд был я в своём замке, за этими чёрными костями. Царь над самим собой, я был царём над миром» [т. 1, с. 418]) и тюрьмой («И мне изменили. Подло, коварно, как изменяют женщины, холопы и – мысли. Мой замок стал моей тюрьмой…»; «Мне живо представилось, как я чужд всем этим людям и одинок в мире, я, навеки заключённый в эту голову, в эту тюрьму…» [т. 1, с. 418, 395]). Таким образом, художественное содержание повести Л. Андреева «Мысль» реализуется с помощью её сложной жанрово-стилевой организации. При этом авторское начало является тем стержнем, который создаёт соизмеримость и единство элементов жанра и стиля.
В несколько ином аспекте проблема рока рассматривается в рассказе Л. Андреева «БЕЗДНА»: здесь в центре внимания писателя оказывается не безумие и абсурд окружающего мира, подавляющие человеческую мысль, человеческое сознание, а не поддающаяся контролю «бездна подсознания», которая, в свою очередь, давит на разум человека, – только не снаружи, а изнутри. Этот аспект до Л. Андреева недооценивался в русской литературе, возможно, именно поэтому «эпатирующий» финал рассказа «Бездна» произвёл столь ошеломляющее впечатление. Читатели и критики, воспитанные на целомудренной классике XIX века, оказались не готовы к восприятию идей, восходящих, в частности, к учению З. Фрейда. Из многочисленных откликов на рассказ Л. Андреева самым корректным было, пожалуй, суждение Е. Колтоновской: «То, что разыгралось в «Бездне», вероятно, невозможно в действительности, а если и возможно, то так исключительно, что в обыденном смысле слова не типично. Но сущность интеллигентской психологии, её основная болезнь замечательно угадана художником. Задатки Андреевской бездны существуют в большинстве раздвоенных интеллигентских душ, и с внутренней точки зрения безразлично, проявятся ли они реально или нет»9. Она сумела найти ту грань, за которой начинались бессмысленные споры: возможно – невозможно, типично – нетипично, реально – нереально и т. п., создававшие лишь никому не нужный шум вокруг рассказа, и поддержала Л. Андреева в его праве на эксперимент.
Основные упрёки в адрес Л. Андреева со стороны критики – отсутствие художественной правды, «физиологический абсурд», заигрывание с читателями, искусственное стремление «сгустить ужас» и т. п.10 Среди осудивших рассказ «Бездна» был и Л. Толстой («Ведь это ужас!.. Какая грязь, какая грязь!.. Чтобы юноша, любивший девушку, заставший её в таком положении и сам полуизбитый – чтобы он пошёл на такую гнусность… Фуй!.. И к чему это всё пишется? Зачем?..»). Это особенно огорчило Л. Андреева («Напрасно это он – «Бездна» родная дочь его «Крейцеровой сонаты», хоть и побочная…»). В конце концов, признав неудачу эпатирующего финала, он опубликовал своеобразную «анти-бездну» – «Письмо Немовецкого», где предложил другой вариант развязки: Немовецкий с омерзением отталкивает обесчещенную Зиночку, которая ищет у него поддержки, – более правдоподобный («Если бы я совершил гнусность, которую он мне приписал, это был бы редкий и даже исключительный случай. Это было бы какое-то минутное затемнение рассудка животной страстью и только. То же, что совершилось со мной, именно потому и страшно, что оно не чуждо никому…»), но парадоксальным образом не менее убедительный в плане оценки человеческой природы: «Все мы – звери и даже хуже, чем звери, потому что те, по крайней мере, искренни и просты, а мы вечно хотим и себя и ещё кого-то обмануть, что всё звериное нам не чуждо. Мы хуже, чем звери… мы подлые звери…» [т. 1, с. 615, 616].
В рассказе «Бездна» ровное эпическое повествование сочетается с системой экспрессивных стилистических средств, призванных усилить необходимые автору смысловые и психологические акценты. Его событийная схема несложна: молодые люди, студент-технолог Немовецкий и гимназистка Зиночка, совершают загородную прогулку; трое пьяных бродяг, избив Немовецкого, насилуют девушку; Немовецкий находит бесчувственное тело Зиночки и в свою очередь насилует её. Рассказ состоит из двух частей, написанных резко-контрастными, чёрно-белыми красками: первая – светлая, радостная, чистая (прогулка влюблённых); вторая – чёрная, мрачная, натуралистически-отталкивающая (сцена изнасилования). Контраст белого и чёрного – цвето-световая символика рассказа – является метафорическим выражением противоречивости природы человека, внутри которого борются свет и тьма, добро и зло, духовное и животное, созидательное и разрушительное начала.
Повествование в рассказе «Бездна» ведётся от третьего лица, причём Л. Андреев, как всегда, избегает открытого авторского вмешательства в виде рассуждений или оценок, основным средством выражения авторской позиции является повышенная экспрессивность стиля. Главным средством экспрессии становится свет, он обогащает семантику сцен и описаний, создаёт эмоциональную глубину. Игра света окрашивает первые же страницы повествования: свет делает призрачной или похожей на мираж обыденность («… красным раскалённым углем пылало солнце, зажигало воздух и весь его превращало в огненную золотистую пыль. Так близко и так ярко было солнце, что всё кругом словно исчезало, а оно только одно оставалось, окрашивало дорогу и ровняло её» [т. 1, с. 355]) и, наоборот, придаёт правдоподобие, осязаемость фантазии («Оба они прочли много хороших книг, и светлые образы людей, любивших, страдавших и погибавших за чистую любовь носились перед их глазами… Печальны были вызванные образы, но в их печали светлее и чище являлась любовь. Огромным, как мир, ясным, как солнце, и дивно-красивым вырастала она перед их глазами, и не было ничего могущественнее её и краше» [т. 1, с. 357]). Все события первой части рассказа изображаются в свете чистой любви, которая переполняет героев, освещая им путь: их разговор был «всё об одном: о силе, красоте и бессмертии любви» [т. 1, с. 355]. Благодаря свету в рассказе открываются смысловые перспективы: сгущающаяся тьма усиливает волнующую, тревожную атмосферу повествования.
Первая глава рассказа Л. Андреева завершается символическим описанием заката солнца, который в иносказательной форме передаёт дальнейшее развитие действия: «Свет погас, тени умерли, и всё кругом стало бледным, немым и безжизненным… Тучи клубились, сталкивались, медленно и тяжко меняли очертания разбуженных чудовищ и неохотно подвигались вперёд, точно их самих, против их воли гнала какая-то неумолимая, страшная сила…» [т. 1, с. 358]. Здесь особенно остро ощущается внутренняя несвобода, слабость человека, его неспособность сопротивляться воле рока – «неумолимой и страшной силе», влекущей его к краю бездны.
Характерно, что все пейзажные зарисовки, отражающие борьбу тьмы и света в душе человека, во второй части рассказа даются с учётом восприятия героя. При этом природные явления, как всегда у Л. Андреева, персонифицируются и изображаются при помощи психологических эпитетов: «свет погас, тени умерли, и всё кругом стало бледным, немым и безжизненным»; «без солнца, под свежим дыханием близкой ночи, она (местность. – С.Т.) казалась неприветливой и холодной»; «тьма сгущалась так незаметно и вкрадчиво, что трудно было в неё поверить, и казалось, что всё ещё это день, но день тяжело больной и тихо умирающий» [т. 1, с. 358, 360], которые повторяются в конце рассказа при описании Зиночки: «рука его попала на обнажённое тело, гладкое, упругое, холодное, но не мёртвое»; «тело было немо и неподвижно» и т. п. [т. 1, с. 365, 366]. С помощью нагнетания и сочетания эпитетов Л. Андреев достигает предельного эмоционального воздействия: повторяющиеся эпитеты становятся средством его субъективной оценки изображаемого.
Финал рассказа, казалось бы, не содержит обычной для Л. Андреева двуплановости, – Немовецкий полностью утрачивает человеческий облик: «На один миг сверкающий огненный ужас озарил его мысли, открыв перед ним чёрную бездну. И чёрная бездна поглотила его» [т. 1, с. 367]. Однако мотив возвышенной, чистой любви не исчезает из рассказа бесследно, а уходит в подтекст, образуя второй план повествования. Намеренная психологическая неразработанность образа Немовецкого компенсирована экспрессивной выразительностью последней главы рассказа, создаваемой во многом за счёт контрастных сопоставлений, выражающих суть, основную идею произведения («С глубокой нежностью и воровской, пугливой осторожностью Немовецкий старался набросать на неё обрывки её платья, и двойное ощущение материи и голого тела было остро, как нож, и непостижимо, как безумие. Он был защитником и тем, кто нападает, и он искал помощи у окружающего леса и тьмы, но лес и тьма не давали её. Здесь было пиршество зверей, и, внезапно отброшенный по ту сторону человеческой, понятной и простой жизни, он обонял жгучее сладострастие, разлитое в воздухе, и расширял ноздри» [т. 1, с. 366]): животное, первобытное начало прячется в каждом человеке; прикрытое рассудочными императивами, этическими нормами, убеждениями и принципами, оно таит в себе силы, не поддающиеся контролю.
Немовецкий – один из многих героев Л. Андреева, которых он подводит к роковому краю: Сергей Петрович («Рассказ о Сергее Петровиче»), отец Василий («Жизнь Василия Фивейского»), доктор Керженцев («Мысль»), Савва («Савва») – среди тех, кого Л. Андрееву не удалось (или не захотелось) отвести от края бездны. Заглядывая их глазами в её глубины, он одного за другим сталкивает их с обрыва. Недостижимость мечты о прекрасном и свободном человеке, выраженная как в стилевой атмосфере произведения, так и в особом соотношении сознаний автора и героя, в символическом звучании подтекста, трактуется Л. Андреевым метафизически – как непреодолимый закон бытия. Психологический рисунок сюжета рассказа «Бездна» подсказывает именно такую его интерпретацию.
В повести «КРАСНЫЙ СМЕХ», которая явилась откликом Л. Андреева на русско-японскую войну, поразившую его своей бессмысленной жестокостью, смысловой доминантой стало авторское восприятие войны как «безумия и ужаса». Произведение имеет подзаголовок «Отрывки из найденной рукописи» – всего их девятнадцать – и делится на две части. В первой повествование ведётся от лица офицера, который, не выдержав «безумия и ужаса» войны, сходит с ума и умирает; вторую часть составляют размышления и наблюдения его брата, также постепенно теряющего рассудок. Соответственно, в первой части воспроизводятся главным образом эпизоды войны, «некоторые отдельные картины», которые «неизгладимо и глубоко вожглись в мозг» рассказчика: многочасовое отступление по энской дороге (1-й отр.), трёхдневный бой (2-й отр.), офицерский пикник (4-й отр.), поездка за ранеными (5-й отр.), пребывание в лазарете (6-й отр.) и т. д.; а во второй части действие переносится в его родной город. Параллелизм, соотнесённость двух частей проявляется в характере повествования, которое буквально пронизано атмосферой войны: в болезненном сознании рассказчиков реальные события приобретают ирреальный, – фантасмагорический оттенок, оборачиваются страшным гротеском. Фрагментарность повествования максимально усиливает иллюзию хаотичности логически неупорядоченного потока сознания героев.
Для выражения концепции «безумия и ужаса» войны Л. Андреев использует целую систему образных и стилистических средств, в значительной степени усиливающих экспрессивность повествования. В названии повести – как это нередко бывает у Л. Андреева (например, «Мысль», «Тьма» и др.) – обозначен центральный символический образ произведения. В первой же фразе, выполняющей кодирующую роль зачина, называются его основные черты: безумие и ужас, которые затем развиваются и варьируются на всех уровнях жанровой структуры: повествовательном, сюжетно-композиционном, пространственно-временном и предметно-образном.
Гротескно-символический образ Красного смеха является одним из самых содержательно ёмких, структурно сложных и эмоционально выразительных в прозе Л. Андреева. Как отмечает И.И. Московкина, «он складывается из всех доступных человеческому восприятию ощущений и впечатлений: зрительных, слуховых, осязательных, обонятельных и т. п.»11 Постоянно повторяясь, образ Красного смеха создаёт ритмико-смысловой центр отдельных частей повести, обнаруживая в разных отрезках повествования различные оттенки смысла. В финале повести образ мифологизируется, что не только увеличивает степень экспрессивности повествования, но и создаёт возможность для философско-мифологического осмысления конфликта12.
Важной составной частью жанрово-стилевой структуры повести Л. Андреева является её ритмико-синтаксическая конструкция. Разрозненные отрывочные впечатления, разорванные психологические движения, характеризующие потрясённое сознание героев, усиливают ирреально-фантасмагорический оттенок изображаемой действительности. Сгущённую экспрессивную манеру повествования создают повторяющиеся бытовые, портретные и пейзажные подробности, расположенные по принципу градации эпитеты, а также детали, выполняющие роль символов.
Разного рода словесные и фразеологические повторы, как правило, в пределах одной фразы, позволяют автору заострить переживания героев, задержать на них внимание читателя: «Мы решили собраться вечером и попить чаю, как дома, как на пикнике, и достали самовар, и достали далее лимон и стакан, и устроились под деревом – как дома, на пикнике» [т. 2, с. 30]. Иногда система повторов придаёт повествованию своеобразный ритмический рисунок: «Я узнал его, этот красный смех. Я искал и нашел его, этот красный смех. Теперь я понял, что было во всех этих изуродованных, разорванных странных телах. Это был красный смех. Он в небе, он в солнце, и скоро он разольётся по всей земле, этот красный смех!» [т. 2, с. 27–28].
В создании экспрессии ритма большое значение приобретают так называемые паратаксические конструкции: «Эти дети, эти маленькие, невинные дети. Я видел их на улице, когда они играли в войну и бегали друг за другом, и кто-то уже плакал тоненьким детским голосом – и что-то дрогнуло во мне от ужаса и отвращения. И я ушёл домой, и ночь настала, – и в огненных грёзах, похожих на пожар среди ночи, эти маленькие ещё невинные дети превратились в полчище детей-убийц» [т. 2, с. 60].
Излюбленными тропами Л. Андреева являются сравнения. Они занимают огромное место в художественной структуре повести «Красный смех» как при характеристике образов, так и в создании эмоциональной атмосферы. Характерно, что для образов солдат, убивающих друг друга, постоянными становятся сравнения с животными: «Сообщают, что у некоторых частей не хватало снарядов, и там люди дрались камнями, руками, грызлись, как собаки. Если остатки этих людей вернутся домой, у них будут клыки, как у волков, – но они не вернутся: они сошли с ума и перебьют всех…» [т. 2, с. 62]. Подобными сравнениями Л. Андреев подчёркивает бессознательность, инстинктивность их поведения. В целом система экспрессивных стилистических средств в повести призвана создать атмосферу ирреальности, фантасмагории, олицетворяющую безумие насильственной смерти.
Этому же способствует символико-мифологическая природа хронотопа, который, в свою очередь, во многом определяет своеобразие жанровой структуры этого произведения. Пространственно-временную модель повести «Красный смех» можно представить в виде двух пространственных («горизонтальной» и «вертикальной») и двух временных («психологической» и «эсхатологической») подсистем. Основу горизонтальной пространственной подсистемы составляет оппозиция «война – дом». Она реализуется и в композиции произведения, и в движении сюжета: безумие войны (Красный смех) постепенно распространяется на весь мир, переходит на улицы и площади городов, проникает в дома; в финале повести рядами лежащие трупы покрывают всю обезумевшую землю.
Важнейшим средством экспрессии при изображении безумия и ужаса войны становится цветовая символика, усиливающая необходимые автору смысловые и психологические акценты. Как правило, Л. Андреев в своих произведениях, избегая реалистической многокрасочности, использует ограниченное количество цветов. В повести «Красный смех», пытаясь символически выразить квинтэссенцию изображаемого явления, Л. Андреев насыщает пространство войны красным цветом: «…всё кругом было красно от крови. Само небо казалось красным, и можно было подумать, что во вселенной произошла какая-то катастрофа, какая-то странная перемена и исчезновение цветов: исчезли голубой и зелёный и другие привычные и тихие цвета, а солнце загорелось красным бенгальским огнём» [т. 2, с. 29]. Рядом с красным – различные оттенки жёлтого и чёрного цвета, которые соотносятся друг с другом и создают полихромное единство, являющееся метафорическим выражением, символом смерти: «…всё было чужое. Дерево было чужое, и закат чужой, и вода чужая, с особым запахом и вкусом, как будто вместе с умершими мы оставили землю и перешли в какой-то другой мир – мир таинственных явлений и зловещих пасмурных теней. Закат был жёлтый, холодный; над ним тяжело висели чёрные, ничем не освещённые, неподвижные тучи, земля под ним была черна, и наши лица в этом зловещем свете были желты, как лица мертвецов» [т. 2, с. 30–31]. С образом дома у рассказчика ассоциируются голубой и зелёный цвета («привычные и тихие»), с которыми Л. Андреев связывает представление о счастье, любви, покое и безмятежности.
Вертикальная пространственная подсистема представлена оппозицией «земля – космос». Одной из ипостасей Красного смеха в повести Л. Андреева становится неведомая, чуждая, нечеловеческая сила, управляющая миром, людьми, их жизнью и их поступками – «оно»: «И тут не я один, а все мы, сколько нас ни было, почувствовали это. Оно шло на нас с этих тёмных, загадочных и чуждых полей; оно поднималось из глухих чёрных ущелий, где, быть может, ещё умирают забытые и затерянные среди камней, оно лилось с этого чуждого, невиданного неба. Молча, теряя сознание от ужаса, стояли мы вокруг потухшего самовара, а с неба на нас пристально и молча глядела огромная бесформенная тень, поднявшаяся над миром» [т. 2, с. 32]13. Эта ипостась Красного смеха, варьируясь, проходит через всё повествование («Он в небе, он в солнце, и скоро он разольётся по всей земле, этот красный смех!» [т. 2, с. 28]; «Какой-то кровавый туман обволакивает землю, застилая взоры, и я начинаю думать, что действительно приближается момент мировой катастрофы…» [т. 2, с. 56]) вплоть до финала повести, где Красный смех объективируется, начинает жить самостоятельной жизнью и становится олицетворением обезумевшего мира.
Две временные подсистемы повести условно можно определить как психологическую и эсхатологическую. Психологическая подсистема представляет собой оппозицию «переживаемого» и «фонового» времени. Переживаемое время идентично реальному, – это, в сущности, время смены событий, переживаний, настроений рассказчиков. Оно подчинено своему ритму, имеет свой строй, свои опорные точки. Его ход подчёркивается как посредством прямых указаний («…мы шли по энской дороге, – шли десять часов непрерывно, не останавливаясь» [т. 2, с. 22]; «Уже двадцать часов мы не спали и ничего не ели, трое суток сатанинский грохот и визг окутывал нас тучей безумия…» [т. 2, с. 25] и др.), так и при помощи косвенных временных определителей («…к счастью, он умер на прошлой неделе, в пятницу» [т. 2, с. 51] и др.).
Фоновое, довоенное время постоянно вторгается в переживаемое: «…внезапно я вспомнил дом: уголок комнаты, клочок голубых обоев и запыленный нетронутый графин с водою на моём столике – столике, у которого одна ножка короче двух других и под неё подложен свёрнутый кусочек бумаги. А в соседней комнате, и я их не вижу, будто бы находятся жена моя и сын…» [т. 2, с. 23]; «Мы решили собраться вечером и попить чаю, как дома, как на пикнике…» [т. 2, с. 30] и др. Именно воспоминания о прошлой, довоенной жизни вызывают у героев повести ощущение безумия происходящего.
Сразу отметим, что психологическое время в повести Л. Андреева соотносится с горизонтальной пространственной моделью. На уровне переживаемого времени реален только мир войны, мир безумия и смерти, в котором нарушаются все нормальные представления людей. Характерно, что героями произведения этот мир воспринимается как «чужой», «перевёрнутый». Сходящий с ума доктор показывает это наглядно: «С гибкостью, неожиданною для его возраста, он перекинулся вниз и стал на руки, балансируя в воздухе ногами. Белый балахон завернулся вниз, лицо налилось кровью, и, упорно смотря на меня странным перевёрнутым взглядом, он с трудом бросал отрывистые слова: «А это… вы также… понимаете?»» [т. 2, с. 42].
Образ дома, напротив, нереален («Какой дом, разве где-нибудь есть дом?..» [т. 2, с. 82]). Он существует только в воображении рассказчика и даёт лишь иллюзорную надежду на спасение, поскольку, хотя внешние атрибуты дома остаются без изменений («В кабинете я снова увидел голубенькие обои, лампу с зелёным колпаком и столик, на котором стоял графин с водою. И он был немного запылён… И маленькими глотками, наслаждаясь, я пил воду, а в соседней комнате сидели жена и сын, и я их не видел…» [т. 2, с. 45]), изменяется сам герой – из молодого, красивого, полного жизненных сил человека он превращается в немощного, безумного, умирающего калеку, который даже не в состоянии осознать всю трагичность своего положения. В финале произведения образ дома полностью отождествляется с чуждым героям повести миром войны: «…дом, в котором я жил столько лет, казался мне чужим на этой странной, мёртвой улице» [т. 2, с. 70]. На уровне фонового, довоенного времени, наоборот, реален только образ дома, а мир войны, где «непрестанно из людей делают трупы», представляется невозможным: «И вдруг на один безумный, несказанно счастливый миг мне ясно стало, что все это ложь и никакой войны нет…» [т. 2, с. 67].
Эсхатологическая временная подсистема включает в себя «историческое» и «мифологическое» время. Но здесь дана уже не оппозиция, а ироническая сцеплённость временных пластов: историческое, текущее время в повести Л. Андреева уживается с мифологическим. Эсхатологическое время соотносится с вертикальной пространственной подсистемой: в финале повести в потрясённом сознании рассказчика возникает картина Апокалипсиса: «От самой стены дома до карниза начиналось ровное огненно-красное небо, без туч, без звёзд, без солнца, и уводило за горизонт. А внизу под ним лежало такое же ровное темно-красное поле, и было покрыто оно трупами… по-видимому, их выбрасывала земля. И все свободные промежутки быстро заполнялись, скоро вся земля просветлела от бледно-розовых тел, лежащих рядами…» [т. 2, с. 72]. Образ Красного смеха мифологизируется: в своей последней ипостаси он олицетворяет гибель мира, конец истории.
Среди произведений Л. Андреева, написанных на евангельские мотивы («Бен-Товит», «Елеазар», «Иуда Искариот» и др.), выделяется повесть «ИУДА ИСКАРИОТ», за основу которой взят широко известный сюжет о предательстве и гибели Христа. Она также даёт основания для сближения с отдельными сторонами различных модернистских течений: стилистика и отчасти поэтика повести во многом соответствуют стилистике и поэтике экспрессионизма и символизма; а философия жизни героя сближает её с художественными произведениями экзистенциализма.
Современниками Л. Андреева повесть «Иуда Искариот» была осмыслена как апология предательства и воспринята в основном негативно, поскольку вариации на тему Иуды в те годы не выходили за пределы этико-политической модели расплаты за предательство общественных идеалов: подразумевалась известная часть русской интеллигенции, отошедшая от революционных идей после поражения революции 1905 года14.
Однако в наше время повесть Л. Андреева воспринимается вне её соотнесённости с идеями первой русской революции и, очевидно, может быть прочитана как философская притча экзистенциальной ориентации. Известно, что все понятия, вводимые экзистенциализмом, сосредоточены вокруг проблемы личности. Причём личность в эстетике экзистенциализма рассматривается как нестабильная: отмечается деление «я» на истинное (личное) и неистинное (социальное) – в каждом человеке неотъемлемо одно от другого уживаются добро и зло, любовь и насилие и т. д. Экзистенциализм смотрит на человека сквозь призму конкретной ситуации его существования. В «пограничных ситуациях», которые определяются ощущением страха, неискупимой вины, тяжёлой болезни, смерти и т. д., человеком осуществляется свободный выбор самого себя. Нравственная высота личности в экзистенциализме измеряется глобальностью ситуации, в которой ей предстоит сделать свой выбор, но разговор о человеке всегда ведется на уровне общезначимых сюжетов: любви, ненависти, смерти…
Очевидно, что в центре повести «Иуда Искариот» – проблема личности, исследуемая в духе экзистенциальных антиномий: свобода – несвобода, палач – жертва и т. д. По сути, Л. Андреев предлагает неканонический вариант классической ситуации предательства. Проводя свой излюбленный психологический эксперимент – проверку личности человека кризисной ситуацией, – он показывает персонажей разной духовной и интеллектуальной организации: Иуду, Иоанна, Петра, Фому и, анализируя их поведение во время казни Иисуса, решает поставленную задачу: разоблачить не столько предательство Иуды, сколько предательство апостолов, не сумевших защитить своего учителя15.
Характерно, что на протяжении всего повествования, начиная с момента появления Иуды среди учеников Христа и заканчивая их последней встречей, герои повести сталкиваются с проблемой выбора: каждый из них пытается доказать своё право быть рядом с Иисусом. При этом Иуда постоянно противопоставляется другим апостолам, но всегда оказывается неизмеримо выше их. Однако все его попытки доказать свою преданность Христу лишь отдаляют от него Иисуса: «Почему он не с Иудой, а с теми, кто его не любит? Иоанн принёс ему ящерицу – я бы принёс ему ядовитую змею. Пётр бросал камни – я гору бы повернул для него! Но что такое ядовитая змея? Вот вырван у неё зуб, и ожерельем ложится она вокруг шеи. Но что такое гора, которую можно срыть руками и ногами потоптать? Я дал бы ему Иуду, смелого, прекрасного Иуду!..» [т. 2, с. 226].
Художественный конфликт повести Л. Андреева строится на столкновении жизненных позиций Иуды и Иисуса: «…что бы он (Иисус. – С.Т.) не говорил, хотя бы сегодня одно, а завтра совсем другое, хотя бы даже то самое, что думает и Иуда, – казалось, однако, что он всегда говорит против Иуды» [т. 2, с. 213]. Они внутренние антагонисты: Иуда никому и ни во что не верит, для него ложь – форма существования мира; Иисус, напротив, верит в людей и надеется любовью преобразить мир. Жизненный опыт подсказывает Иуде, что проповедь любви не способна повернуть человечество в сторону добра, поэтому ему нелегко поверить в идею Христа. Не случайно он постоянно задает себе вопрос: «Кто обманывает Иуду? Кто прав?» [т. 2, с. 251, 253 и т. д.]. Именно на него долго и мучительно ищет ответ, прежде чем сделать свой выбор: «…долго плакал, корчась, извиваясь, царапая ногтями грудь и кусая плечи. Ласкал воображаемые волосы Иисуса, нашёптывал тихо что-то нежное и смешное и скрипел зубами. Потом внезапно перестал плакать, стонать и скрежетать зубами и тяжело задумался, склонив на сторону мокрое лицо, похожий на человека, который прислушивается. И так долго стоял он, тяжёлый, решительный и всему чужой, как сама судьба» [т. 2, с. 237–238].
Исследователи творчества Л. Андреева неоднократно отмечали, что образ Иуды как бы ускользает от однозначной трактовки. Между тем двойственность этого персонажа, – а она проявляется и в его внешнем облике, и в поведении, – задана изначально и продиктована логикой построения образа. Ведь особенность андреевского героя в том, что он лишь отчасти создан воображением автора, Л. Андрееву нельзя было не считаться с теми качествами, которые присущи Иуде в Евангелии: ложь, лицемерие, корыстолюбие.
Однако формальные атрибуты библейского Иуды в трактовке Л. Андреева подчас получают совершенно неожиданное освещение. Так, согласно тексту Евангелия, воля к предательству была вложена в Иуду дьяволом: «Вошёл же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати, И он пошёл и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его предать им…» (Лук., 22, 3–4). Освободившись из-под власти сатаны, Иуда раскаивается и совершает самоубийство: «Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осуждён, и раскаявшись, возвратил тридцать серебренников первосвященникам и старейшинам… пошёл и удавился» (Матф., 27, З – 5)16.
В интерпретации Л. Андреева Иуда совершает предательство также против своего желания, но повинуясь воле Христа. В понимании философско-этических мотивов предательства андреевского Иуды ключевой является сцена из третьей главы повести: «Так стоял он (Иуда. – С.Т.), загораживая дверь, огромный и чёрный, и говорил Иисус… Но вдруг Иисус смолк – резким незаконченным звуком… Иуда вздрогнул и даже вскрикнул слегка от испуга; и всё у него – глаза, руки и ноги – точно побежало в разные стороны, как у животного, которое внезапно увидело над собою глаза человека. Прямо к Иуде шёл Иисус и слово какое-то нёс на устах своих – и прошёл мимо Иуды в открытую и теперь свободную дверь» [т. 2, с. 225–226]. В завуалированной форме, метафорически сцена выражает мысль о необходимости привлечь внимание к личности Христа («открыть дверь»), для того чтобы его учение стало понятно и доступно людям.
Философско-этические мотивы предательства в повести Л. Андреева тесно сплетаются с психологическими: Иуда – единственный из апостолов, кто не верит в идею Христа, – решает предать его, чтобы доказать и ему, и себе самому свою правду о жизни и людях. Но в глубине души он хочет опровергнуть самого себя так же сильно, как и утвердить («Одною рукой предавая Иисуса, другой рукой Иуда старательно искал расстроить свои собственные планы…» [т. 2, с. 239]): предавая, Иуда надеется, что прав окажется всё-таки Иисус, и люди – прежде всего апостолы – не допустят его гибели, хотя прекрасно понимает, насколько иллюзорна эта надежда («Своего учителя они всегда любят, но больше мёртвым, чем живым. Когда учитель жив, он может спросить у них урок, и тогда им будет плохо. А когда учитель умирает, они сами становятся учителями, и плохо делается уже другим…» [т. 2, с. 234]). Тем не менее сомнения не оставляют Иуду вплоть до смерти Христа, которая расставляет все точки над формально в их споре о сущности человека побеждает Иуда, но это пиррова победа, – любовь к Иисусу толкает его на самоубийству. Своей смертью Иуда утверждает правоту Христа: он мечтает вернуться вместе с Иисусом на землю, чтобы продолжить его дело – переустройство мира на началах добра17. Таким образом, в финале повести Л. Андреев, по сути, возвращается к мысли Ф. Достоевского: «Красота Христа спасёт мир».
2.2.3. «Русский Эдгар По» – Валерий Брюсов
«Республика Южного Креста»
«Последние страницы из дневника женщины»
«Рея Сильвия»
Биографами В. Брюсова обычно создаётся портрет человека, с юности мечтавшего о всероссийской славе: не беспринципного, но и ни в чём полностью не убеждённого; разносторонне, даже блестяще образованного, но не преодолевшего механистичности восприятия мира; одержимого эротикой, но не способного отдаться страсти1.
Быть может, отсюда его бесконечные колебания («принцип маятника») между двумя творческими началами: новаторством и традицией. Их соотношение изменяется на разных этапах эволюции В. Брюсова. Так, до середины 1890-х годов в художественном мире поэта довлеет установка на новизну, эпатажность – в это время он приобретает славу мэтра русского символизма (сб. «Русские символисты», 1894–1895; «Chefs d'oeuvre» («Шедевры»), 1895; «Me eum esse» («Это – я»), 1896). А с конца 1890-х – до середины 1900-х годов соотношение традиции и новаторства в творчестве В. Брюсова находится в равновесии, именно тогда были созданы общепризнанно лучшие книги его стихов «Tertia vigilia» («Третья стража») 1900, «Urbi et orbi» («Городу и миру») 1903, «Stepha-nos» («Венок»), 1906; «Все напевы», 1909. В это же время выходят первый роман «Огненный ангел» (1905–1906) и первый сборник повестей и рассказов «Земная ось» (1907). В конце 1900-х – 1910-е годы В. Брюсов сознательно погружается в стихию классики: в его поэзии (сб. «Зеркало теней», 1912; «Семь цветов радуги», 1916 и др.) и прозе (второй сборник повестей и рассказов «Ночи и дни», 1913; «римская» трилогия – «Алтарь Победы», 1912; «Рея Сильвия», 1914; «Юпитер поверженный», 1918) возрастают реалистические тенденции; 1920-е годы – период творческого кризиса, новый поворот к экспериментальной, «научной поэзии» (сб. «Mea» («Спеши»), 1924 и др.) и драматургии (пророческая трагедия «Диктатор», запрещённая цензурой и впервые опубликованная только в 1986 г.)2.
Дифференцированный подход к В. Брюсову – поэту, драматургу, прозаику – стал в литературоведении нормой3. Проза В. Брюсова представляет наименее исследованную часть его творческого наследия. Общепризнанно, что он первым из русских писателей ХХ века начал сознательно опираться на опыт европейской (А. Франс, Г. Уэллс) и американской (Э. По) новеллистики. Всемирная отзывчивость В. Брюсова-прозаика одних современников раздражала (З. Гиппиус: «…писать, как Эдгар По – значит не быть ни Эдгаром По, ни самим собой»)4, других восхищала (С. Ауслендер: «Нигде не изменяя своей строгой точности, он умеет совсем незаметно согласовать внешнюю форму с внутренним содержанием»)5. О В. Брюсове вообще было сказано слишком много крайностей: его называли «вторым поэтом» после А. Пушкина и саркастически «героем труда»6.
Современное брюсоведение стремится разрушить, сложившиеся вокруг имени В. Брюсова легенды и стереотипы («сальери», «морфинист», «продался большевикам»)7. Но в наши дни, когда к нему многие относятся с предубеждением, бездумно повторяя фразу О. Мандельштама о том, что у В. Брюсова нельзя найти ни одной строчки, заслуживающей включения в антологию русской поэзии, или цитируя явно несправедливых к нему мемуаристов (3. Гиппиус – М. Цветаева – В. Ходасевич), он всё чаще превращается в объект постмодернистских издевательств: в политической иерархии русских классиков В. Брюсов вместе с А. Толстым разделяет последнее и предпоследнее места.
Психологически мы далеко отстоим от эпохи русского символизма: поиски мифической духовной родины, «магическое понимание нордизма» – вот что, по мнению В. Молодякова, определило становление В. Брюсова как символиста, сделало его причастным великой традиции8. Нордизм В. Брюсова был, конечно, не более чем игрой, маской, приросшей к лицу: «внутренний мир В. Брюсова – монада без окон на окружающий мир»9. С одной стороны, в нём смущает приверженность к театрализации жизни, самолюбованию и экзальтации; с другой – он кажется чересчур серьёзным, даже мрачным.
Любовь В. Брюсова к мистификации, его способность создавать себе разнообразные литературные маски реализуется в обращении к стилизации, – в его прозе этот повествовательный принцип превращается в символистскую игру с реальным и ирреальным мирами. В этом отношении его первый прозаический сборник «3емная ось» – последовательно проведённый эксперимент: все входящие в него произведения сознательно ориентированы на конкретные образцы повествовательного искусства (от романтизма – до эстетизма). Несхожие по сюжету повесть «Республика Южного Креста» и рассказы («Теперь, когда я проснулся…», «В зеркале», «Мраморная головка» и др.) объединяет идея взаимопроникновения иллюзии и действительности, порождающая фантастические метаморфозы во внутреннем мире человека.
Повесть «РЕСПУБЛИКА ЮЖНОГО КРЕСТА» (1904–1905) можно назвать мостом между Э. По и современной антиутопией, предвосхищением романов Е. Замятина, О. Хаксли и Дж. Оруэлла. По сути, она открывает новый этап развития литературной утопии, связанный с её психологизацией: «с первого десятилетия ХХ века классическая утопия Нового времени сосредоточилась на программах психологического раскрепощения – «спиритуализации» или «либидоизации», связанных, в первую очередь с обнажением «иррациональной изнанки» человека в работах З. Фрейда и культуры в трудах М. Вебера; а в утопическом зазеркалье – антиутопии – восторженная интонация, с которой прежние островитяне демонстрировали путешественнику свои достижения, сменилась ожесточённым иррациональным антиутопизмом – ненавистью к сытой, спокойной, надёжной жизни»10.
Повесть В. Брюсова написана в форме журнальной статьи, – установка на стилизацию прямо обозначена в подзаголовке к названию произведения: статья в специальном номере «Северо-Европейского Вечернего Вестника». Повествователь (автор статьи) – безымянный корреспондент (впрочем, им вполне мог быть г. Андрю Эванс, отправившийся в столицу Республики Южного Креста с намерением продолжить серию репортажей, – о чём упоминается в концовке повести), спешащий по горячим следам сообщить читателям «д о с т о в е р н ы е сведения» (разрядка – в тексте) о катастрофе, постигшей Звёздный город. Это брюсовский вариант рационализированного почти до абсурда «нового мира».
Акцент на достоверность повествования (при том, что он ориентирован на виртуальных читателей статьи, а для читателей повести всего лишь элемент игры) – не случаен. Здесь пересекаются сразу несколько литературных традиций – от собственно-утопической (авторы классических утопий последовательно убеждают читателей в реальности атлантов (Платон), утопийцев (Т. Мор), телемитов (Ф. Рабле), соляриев (Т. Кампанелла), бенсалемцев (Ф. Бэкон) и т. п.) до романтической (у Э.Т.А. Гофмана, Э. По, Н. Гоголя и др. фантастика вводится в реальную действительность, приобретает признаки внешнего правдоподобия). В свою очередь, очерковая форма (бесстрастное журналистское расследование), точнее, её пародийная парадигма, идеально отвечает авторскому замыслу дискредитировать не только утопическую идею общества, построенного на рационалистическом отрицании противоречивости человеческой природы и берущегося обеспечить всеобщую гармонию, но и собственно культ разума, «требующего несвободы каждого и всех в качестве гарантии счастья»11.
Контур сюжета повести В. Брюсова составляет история гибели Звёздного города в результате «болезни противоречия» – mania con-tradicens12. Условно повествование можно разделить на четыре части, каждая из которых включает в себя один из элементов сюжета:
• подробное описание образа жизни в Республике Южного Креста и Звёздном городе (экспозиция) [с. 76–80];
• начало эпидемии mania contradicens (завязка конфликта) [c. 80–82];
• хроника эпидемии (развитие действия) [с. 82–89];
• оргия отчаяния (кульминация) [c. 89–91];
• последствия эпидемии (развязка) [c. 91–94]13.
Многие исследователи отмечают, что антиутопические произведения обладают устойчивыми сюжетно-композиционными признаками, более того, используя интертекстуальный подход – как это делает, к примеру, А. Жолковский – можно наметить их типовую схему или «архисюжет»: изображаемое общество прокламирует себя счастливым – главный герой встречает любимую женщину, под влиянием которой перестаёт доверять системе, становится «вероотступником» – спор главного героя со своим идейным антагонистом – трагический финал, констатирующий поражение героя14.
Повесть В. Брюсова, в отличие, например, от антиутопии Н. Фёдорова «Вечер в 2217 году» (1906)15, лишь отчасти вписывается в эту схему: бунт личности против всеобщей стандартизации, единомыслия у В. Брюсова парадоксально происходит в массовом порядке. Рассказчик (репортёр), выполняющий роль путешественника из классической утопии, подробно описывает «новый мир», его устройство:
• географическое: «Республика Южного Креста возникла из треста сталелитейных заводов, расположенных в южнополярных областях (…) Главный город Республики, получивший название Звёздного, был расположен на самом полюсе. В той воображаемой точке, где проходит земная ось (выделено нами. – С.Т.)16 и сходятся все земные меридианы, стояло здание городской ратуши (…) Улицы города расходились по меридианам от ратуши, а меридиональные пересекались другими, шедшими по параллельным кругам (…) Ввиду суровости климата над городом была устроена непроницаемая для света крыша…» [с. 76–77];
экономическое: «Всё население Республики, исчислявшееся в 50 000 000, сосредоточивалось вокруг портов и заводов (…) Заводы эти были государственной собственностью. Жизнь работников на заводах была обставлена не только всевозможными удобствами, но даже роскошью (…) Число рабочих часов в сутки было крайне незначительно. Воспитание и образование детей, медицинская и юридическая помощь (…) было государственной заботой…» [с. 77–78];
политическое: «Конституция Республики, по внешним признакам, казалась осуществлением крайнего народовластия. Единственными полноправными гражданами считались работники металлургических заводов (…) Из среды тех же работников, путём всеобщего голосования, избирались представители в Законодательную Палату Республики (…) Однако демократическая внешность прикрывала чисто самодержавную тиранию членов-учредителей бывшего треста (…), они неизменно проводили своих кандидатов в директора заводов. В руках Совета этих директоров сосредоточивалась экономическая жизнь страны (…) Законодательная Палата, в сущности, являлась лишь покорным исполнителем воли Совета…» [с. 78–79].
Геометрически организованное пространство брюсовской Республики Южного Креста (в пределах полярного круга) и Звёздного города (улицы, расходящиеся от центра – южного полюса по меридианам, пересекают идущие по параллельным кругам) символизирует утопический идеал совершенства, не поддающийся дальнейшему усовершенствованию:
Здесь же намечается знаковая для классических антиутопий оппозиция «мир природы – мир цивилизации» (= «мир свободы – мир несвободы»). На враждебность искусственного мира людей естественному миру природы указывает не только замкнутость утопического пространства (купол над Звёздным городом), но и контраст между однообразной необитаемой пустыней («…дикие животные были давно истреблены, а человеку нечем было существовать там» [с. 77]), какой осталась большая часть территории страны, и напряжённой жизнью портовых городов и заводских центров («…достаточно сказать, что за последние годы около семи десятых всего металла, добываемого на земле, поступало на обработку в государственные заводы Республики» [с. 77–78]). В связи с этим интересным представляется указание на петербургский прототип Звёздного города17, – выраженные в условной форме эсхатологические предсказания В. Брюсова вполне отвечают эстетике «петербургского мифа».
Характерно, что В. Брюсовым, как и другими создателями ранних антиутопий (Е. Замятин, О. Хаксли), «ещё не ставится под сомнение материальный достаток и блеск будущего возможного общества, так сказать, хрустальность «хрустального дворца» – тесного для жизни духа, словно «курятник» или «казарма», но тем не менее надёжно выстроенного и предлагающего всем свои богатства»18. В основе процветания брюсовской Республики Южного Креста – культ разума: жизнь «нового мира» строго регламентирована. Унификации подвергается всё без исключения: «Здания всех городов Республики строились по одному и тому же образцу, определённому законом. Убранство всех помещений, предоставляемых работникам, при всей его роскоши, было строго единообразным. Все получали одинаковую пищу в одни и те же часы. Платье, выдававшееся из государственных складов, было неизменно, в течение десятков лет, одного и того же покроя. После определённого часа (…) воспрещалось выходить из дома. Вся печать страны подчинена была зоркой цензуре…» [с. 79]. Здесь свойственная всем утопиям тенденция к уничтожению различий между людьми. Как показывает Д. Штурман, «одинаковость – есть, по убеждению утопистов, высшая, абсолютная форма равенства, а значит, и справедливости, предел того и другого (…) Утопии стремятся (…) к всепроникающей равнокачественности людей, к одинаковости их труда, поведения, поступков и свойств, а главное – их обеспеченности житейскими благами»19.
Утопическое мировоззрение основывается на идее тождества внешнего и внутреннего: «предельный идеал равноправия – абсолют одинаковости», по Д. Штурман, рассматривается как средство перестройки внутреннего мира человека, достижения е д и н ом ы с л и я. В повести В. Брюсова этот принцип лишь доводится до логического конца: всеобщая унификация – материализованный способ отрицания личности20.
Бунт против насильственно сформированного единомыслия, обезличивания человека у Брюсова принимает форму метафоры: Звёздный город (столицу Республики Южного Креста) охватывает эпидемия болезни противоречия – mania contradicens («Своё название болезнь получила от того, что больные ею постоянно сами противоречат своим желаниям, хотят одного, но говорят и делают другое…» [с. 80]). Рассказчик отмечает, что единичные случаи заболевания встречались и раньше, но им не придавали особого значения. Тем беззащитнее оказались жители города в период эпидемии (май – август); бесстрастное репортёрское перо восстанавливает хронику событий – от комических эпизодов («Заболевший кондуктор метрополитена, вместо того чтобы получать деньги с пассажиров, сам платил им…» [с. 81]) до массовой гибели людей («… две няньки в городском детском саду, в припадке «противоречия», перерезали горло сорок одному ребёнку (…) В тот же день (…) милиционеры выкатили митральезу и осыпали картечью мирно гулявшую толпу. Убитых и раненых было до пятисот человек» [с. 82]) и повального бегства из города («Началось бегство из Звёздного города (…) Стремление бежать, в свою очередь, стало манией (…) Станции электрических дорог осаждались громадными толпами. Билеты в поездах покупались за громадные суммы и получались с бою. За места на управляемых аэростатах, которые могли поднять всего десяток пассажиров, платили целые состояния…» [с. 82–83]), пока не оборвалась связь с внешним миром («…все шесть магистралей, связывающих Звёздный город с миром, оказались испорченными (…) Население города, доходившее в то время до 600 000 человек, оказалось отрезанным от всего человечества» [с. 87]).
Эти описания даны со ссылками на местные газеты, телеграфные сообщения и, главным образом, на найденный в разгромленной Ратуше дневник председателя Городского Совета Ораса Дивиля, который в течение полутора месяцев боролся с возрастающей анархией… Психологически очень точно В. Брюсов рисует гротескные картины гибели города и его жителей: «…из-за недостатка служащих остановилось движение по метрополитену, была прекращена служба на городском телефоне, были закрыты все аптеки (…), прекратилась подача электроэнергии и весь город, все улицы, все частные жилища погрузились в абсолютный мрак (…) С наступлением мрака пала последняя дисциплина в городе. Здоровые перестали отличаться от больных. Началась страшная оргия отчаявшихся людей (…) В эти дни Звёздный город был громадным чёрным ящиком, где несколько тысяч ещё живых человекоподобных существ (…) истребляли друг друга, убивая кинжалами, перегрызая горло, умирали от ужаса, умирали от голода и от всех болезней, которые царствовали в заражённом воздухе» [с. 87–91].
Необходимо указать на вероятность (из-за условности избранной формы повествования) слияния в читательском сознании образов автора и рассказчика21. Между тем если рассказчик, увлечённый перечнем событий с фиксацией дат, цифр, процентов, сконцентрирован исключительно на описании последствий катастрофы и не задумывается о её причинах, то для автора, моделирующего апокалипсическую структуру сюжета, ключевой является мысль о невозможности воплощения в реальность утопической идеи всеобщего равенства и благоденствия: быть может, людям и нужен образ хрустального дворца, виднеющегося где-то вдали, но это не значит, что они сумеют жить в нём. По сути, В. Брюсов вступает в диалог с Ф. Достоевским, который вывел универсальную формулу антиутопического сознания: человек не сможет жить в мире, где несвобода приравнивается к счастью. Желания человека иррациональны, он может желать даже страдания, хаоса и самоуничтожения, он хочет жить по-своему, поэтому самые лучшие условия жизни станут ему ненавистны, если будут кем-то навязаны22.
Мотив болезни в повести В. Брюсова следует рассматривать в контексте формулы Ф. Достоевского как иррациональный порыв к свободе, синоним инакомыслия, а не воплощение агрессивной злобы толпы. Трудно понять логику исследователя, который утверждает, что картина «конца всеобщего счастья» в повести «Республика Южного Креста» во многом предвосхищает риносерит Э. Ионеско: «Звёздный захлёстывает волна людей-носорогов – убийства, насилия, грабежи, поджоги. Люди возвращаются к животному состоянию, орды маньяков мечутся по городу, предаваясь вакханалии смерти…»23. Люди-носороги («одинокая толпа» (Э. Фромм)) жили в Звёздном городе до начала эпидемии mania contradicens: в финале повести те из них, кто остался в живых, возвращаются в надежде вернуть «утраченный рай» и, как прежде, «раствориться в единомыслии» – вот что, на наш взгляд, должно вызывать настоящий страх, почище любой «вакханалии смерти».
В финале повести В. Брюсов почти цитирует Великого Инквизитора (из вставной новеллы в романе Ф. Достоевского «Братья Карамазовы»), который утверждал, что нельзя стать счастливым, не поборов свободы. Но если допустить, что «свобода связана с несовершенством, с правом на несовершенство» 24, то тогда следует признать, что «страсть» к разрушению и хаосу (= ненависть к сытой и спокойной жизни), о которой – вслед за Ф. Достоевским – пишет В. Брюсов, связана с присущим человеку страхом перед всякой завершённостью и окончательностью. Эта аргументация доведена до крайности А. Камю в «Мифе о Сизифе»: по-настоящему счастлив только Сизиф, так как вся его жизнь протекает в стремлении, которому не грозит удовлетворение25. Формула А. Камю как одна из составляющих антиутопического контекста созвучна и брюсовским представлениям о человеческом счастье – «пиджачный» уклад жизни «среднего европейца» всегда был для него символом пошлости. Может быть, отсюда и эстетическое принятие революции: как известно, В. Брюсов не сразу и далеко не по тем причинам, о которых писали в официальных историях литературы, принял диктатуру большевиков (в неопубликованных стихотворениях января-февраля 1918 г. «Страшных зрелищ зрителями мы…», «Рушатся царства. Народы охвачены…» он недвусмысленно говорит о новой власти как о насилии и бесовщине, как о наказании за исторические грехи России, выражает протест, но более всего – отчаяние), – впрочем, очень скоро пришло отрезвление и вернулось отчаяние26.
Подобно героям своей повести В. Брюсов не смог жить в «новом мире» и умер от «болезни противоречия», – в этом смысле «Республика Южного Креста» выполнила изначально предназначавшуюся ей роль пророчества (повесть-антиутопия).
Одним из самых совершенных произведений В. Брюсова по праву считается повесть «ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА ЖЕНЩИНЫ» – genius loci его книги «Ночи и дни», включающей в себя этюды из современной жизни, объединённые, как указывается в авторском предисловии, общей задачей – «всмотреться в особенности психологии женской души»27. В целом сборник «Ночи и дни» представляет собой новый шаг в развитии В. Брюсова-прозаика: фантастические и условно-символические картины вытесняются здесь сюжетами, выдержанными в рамках бытовой конкретности и жизненного правдоподобия, на смену стилизации приходит «собственно брюсовский стиль тщательно выверенной и достоверной во всех частностях психологической новеллы»28.
Новый прозаический сборник В. Брюсова сразу же привлёк внимание читателей, особенно много отзывов вызвала повесть «Последние страницы из дневника женщины», за которую писатель даже подвергся судебному преследованию по обвинению в безнравственности. Современники же хвалили её за «классическую строгость языка, искусное распределение повествовательного материала и внешнюю занимательность фабулы» (без подписи), «совершенство формы… обилие подробностей и сильно отчеканенный язык» (С. Венгеров), «строгую архитектурность» (А. Альвинг), «яркий и живой образ женщины» (А. Закржевский). В то же время в адрес В. Брюсова раздавалось немало упрёков за «эскизность персонажей» (П. Струве), «односторонность миропонимания» (Д. Агов), «безвкусие «ассирийской» сцены» (С. Адрианов) и др.29
Повесть В. Брюсова написана в форме дневника молодой женщины из высшего света по имени Nathalie. Записи включают в себя события с момента убийства её мужа до суда над убийцей и в общей сложности охватывают чуть больше месяца. Дневник завершается небольшой припиской, сделанной через год после последней записи и выполняющей роль эпилога. Повествование фрагментарно и делится на 19 глав-микроэпизодов: большинство таких микроэпизодов разделяет 2–3 дня, т. е. героиня старается не упустить ничего более или менее важного из случившегося с ней в этот период жизни; но некоторые записи относятся к одному и тому же дню, в этом случае события одного дня дробятся надвое, а то и натрое, как бы накладываясь друг на друга, но не сливаясь, – тем самым подчёркивается экспрессивный характер героини.
С первых же строк обращает на себя внимание стиль повествования. Предложения краткие, односложные. Мысль выражается лаконично, вернее, просто констатируются факты, относящиеся к совершённому убийству. Рассказчица как бы самоустраняется от всех происходящих в доме событий – для неё более чем неприятных не столько из-за потери (гибели) нечужого для неё человека – как-никак муж! – сколько из-за того, что неожиданно нарушен привычный распорядок дня («…когда я спросила кофе, на меня посмотрели как на клятвопреступницу» [с. 115]). Более всего её раздражает то, что в доме распоряжаются «чужие люди» (полицейские): «Чужие люди ходили по нашим комнатам, передвигали нашу мебель, писали на моём столе, на моей бумаге…» [с. 115]. Дополняет общее впечатление абсурдности происходящего диалог героини со следователем, переданный опять-таки без каких-либо ремарок: на все вопросы относительно её мужа (Сколько он хранил дома денег? Где был накануне вечером? С кем чаще всего встречался?) у неё один ответ – «не знаю».
Пожалуй, читатель мог бы разделить точку зрения следователя, подозревающего её, если не в самом убийстве, то как минимум в соучастии в нём, но избранная автором повести форма дневника, предполагающая предельную искренность героини перед самой собой, делает подобное предположение несостоятельным. Более того, как это ни странно на первый взгляд, положение, в котором оказалась героиня, начинает вызывать у читателя сочувствие. Особенно, когда, после её разговора с матерью – женщиной, несомненно, лицемерной и корыстолюбивой («Maman – злой гений всей нашей семьи. С раннего детства она учила меня и сестёр лицемерию. Мать готовила меня к одному: к разврату и к торговле собой» [с. 134]), – выясняется, что Nathalie ничего не знает о завещании мужа: «Я брала те деньги, которые мне давал Виктор на дом и на мои личные расходы, и больше ни во что не вмешивалась» [с. 116], хотя впоследствии оказывается, что она унаследовала немалое состояние.
Вместе с тем разговор с матерью уводит читателя от возникшего было соблазна сопоставления героини В. Брюсова с «посторонним» А. Камю (смерть близкого человека, чашка кофе у тела покойного, «нулевой градус письма» и т. д.). Nathalie не столь бескомпромиссна, как Мерсо: «…нельзя же нарушать установившиеся формы общежития» [с.117], что, впрочем, не мешает ей описание похорон мужа ограничить фразой: «Все говорили, что в трауре я была очень эффектна» [с. 121]. Внешний цинизм героини на самом деле таковым не является – это скорее попытка отстоять свою внутреннюю свободу, жить в соответствии со своими чувствами, а не по правилам, навязываемым извне («Благовоспитанность состоит в том, чтобы ничем не отличаться от других» [с. 134]).
Вскоре проясняется и более чем прохладное отношение Nathalie к смерти мужа. Оказывается, уже много лет каждый из них жил своей жизнью, не вмешиваясь в жизнь другого. Более того, у Nathalie имеется два любовника – опытный ловелас, художник Модест и юный романтик, студент Владимир: «В Володе я люблю его любовь ко мне. В Модесте – возможность моей любви к нему» [с. 121]. Собственно, контур сюжета повести и сводится к этому любовному треугольнику, а смерть мужа Nathalie лишь способствует завязке художественного конфликта, суть которого определяет сама героиня: «Любовь и страсть прекрасны, но свобода – лучше вдвое!» [с. 128]. После смерти мужа каждый из любовников предъявляет на неё свои права, не считаясь с тем, что она прежде всего хочет принадлежать самой себе: «… я молода, хороша собой, богата – зачем же я отдам всё это в чужие руки?.. Я хочу иметь и право, и все возможности любить того, кто ещё мне понравится и кому я понравлюсь. Как бы ни была глубока и разнообразна любовь одного человека, он никогда не заменит того, что может дать другой. Иногда один жест, одно слово, одна интонация голоса стоят того, чтобы ради них кому-то «отдаться»» [с. 132].
Художественный конфликт в повести В. Брюсова приобретает характер экзистенциального. Героиня оказывается перед выбором, который отягощён чувством ответственности за жизнь любовников, – каждый из них готов пойти на самоубийство в случае её отказа выйти за него замуж. Нежелание замужества, с одной стороны («…как только кончатся хлопоты по введению в наследство, я уеду за границу, на Ривьеру или в Швейцарию, и год или другой отдохну от своей замужней жизни. Мне надо стряхнуть и смыть с себя всю эту грязь, что пристала ко мне за годы вынужденного разврата» [с. 136]), и боязнь невольно стать виновной в чьей-либо смерти – с другой («Всем я предоставляла свободу любить меня или нет, быть мне верными или покидать меня. Почему же мне не дают такой же свободы, требуют, чтобы я непременно любила такого-то, любила именно так, как ему угодно, и столько времени, сколько ему угодно, т. е. вечно? А если я отказываюсь, он убивает себя, и мне весь мир кричит: ты – убийца» [с. 160]), на самом деле не оставляют ей выбора. Поэтому события сами по себе, помимо её воли, идут к легко предсказуемой развязке: самоубийство Владимира, арест и суд над Модестом. C'est la vie.
Но В. Брюсов не был бы В. Брюсовым, не заверши он повествование казалось бы невозможным, невероятным финалом в стиле боготворимого им Эдгара По. Для этого потрясающего эффекта ему и понадобился эпилог. Ещё в ходе повествования любовный треугольник почти мистическим образом приобретает форму пирамиды (гл. Х):
когда Nathalie неожиданно для себя узнаёт, что в неё страстно влюблена ещё и младшая сестра Лидочка, но отвечать на её любовь в то время она ещё не готова: «Всегда связи между женщинами мне были отвратительны» [с. 139]. Тем невероятнее, на первый взгляд, финал повести: «Лидочка едет со мной. Её преданность, её ласковость, её любовь – последняя радость в моём существовании. О, я очень нуждаюсь в нежном прикосновении женских рук и женских губ» [с. 164]. Здесь отразился так называемый «протеизм» В. Брюсова – стремление к утверждению всех возможных путей поиска истины о мире.
В заключение отметим, что многие современники в повести В. Брюсова «Последние страницы из дневника женщины» усматривали заимствование сюжетных ситуаций из скандального судебного дела М. Тарновской, слушавшегося в 1910 г. в Италии. Хотя сам писатель не признавал никакого сходства, можно предположить, что в основе брюсовского повествования лежит реальный эпизод из повседневной жизни, облечённый в форму дневника-исповеди главной героини описываемых событий. Выбор исповедальной формы повествования для В. Брюсова не случаен – она таит в себе неисчерпаемые возможности вариаций стиля: «нулевой градус письма» в одних микроэпизодах (I, II, IV и др.) чередуется с проникновенным лиризмом в других текстуальных фрагментах (III (описание чувства любви к Владимиру); V (загородная поездка с Модестом); XVIII (скорбь после смерти Владимира) и др.), что становится одним из жанрообразующих принципов брюсовской прозы (повесть-исповедь).
Особое место в брюсоведении занимает тема «В. Брюсов и античность», постоянно привлекающая внимание исследователей. В её разработке несомненными корифеями являются А. Малеин и М. Гаспаров. Последний выделяет два периода в творчестве В. Брюсова, когда античный мир всецело определял его поэтику, – это 1890-е и 1910-е годы: ранние стихи, юношеские драмы, первые переводы из Овидия и Вергилия, монография «Нерон»; и поздняя проза – романы «Алтарь Победы», «Юпитер поверженный», повесть «Рея Сильвия», серия новых переводов из римских поэтов и др.30
Первое, что бросается в глаза – интерес В. Брюсова к римской (в ущерб греческой) литературе. Права была М. Цветаева, когда после смерти поэта записала: «В. Брюсов был римлянином. Только в таком подходе – разгадка и справедливость (…) За его спиной (…) Капитолий, а не Олимп»31. Рим – Вечный Город – «олицетворение державности и символ мировой любви, ибо в зеркальном отражении Roma есть Лшог»32 – становится доминантой существования Децима Норбана Юния, главного героя «римской дилогии» В. Брюсова («Алтарь Победы», «Юпитер поверженный») и Марии, героини повести «Рея Сильвия», которую можно считать своего рода этюдом на полях «римских романов» писателя.
При всей художественной достоверности, точности и яркости бытового, археологического и архитектурного фона эпохи, изображённой в этих произведениях (IV и VI века), – они не лишены определённых недостатков, затрудняющих их восприятие. Имеется в виду перенасыщенность текста (особенно это касается романов) экзотическими латинизмами. Но «декоративный историзм» В. Брюсова (М. Гаспаров) не всегда и не всеми рассматривается как недостаток. В 1910-е годы В. Брюсову было чуждо понятие прогресса, в этот период он склоняется к теории самозамкнутых цивилизаций, каждая из которых интересна не тем, что в ней общего с другими, а тем, что в ней отлично от других. То есть, изображая ту или иную эпоху, В. Брюсов всеми силами подчёркивает её экзотичность, отдалённость от современности и поэтому насыщает и перенасыщает свою «римскую прозу» археологическими реалиями и лексическими латинизмами.
Дух Вечного города пронизывает словесную ткань «римской прозы» В. Брюсова и целой системой мифологических и исторических образов, она порождает прочные интертекстуальные связи, тот культурно-исторический контекст, посредством которого создаётся эффект восприятия Рима как «всемирного», «вселенского» города. Рим у В. Брюсова самодостаточен и не требует для своей репрезентации вмешательства писательского вымысла – в этом аспекте своеобразной «нитью Ариадны», ведущей читателя лабиринтами «римской прозы» В. Брюсова, должен стать мифологический словарь.
В нашей книге мы не будем подробно останавливаться на анализе романов В. Брюсова, тем более, что этим занимались многие исследователи творчества писателя задолго до нас, поэтому ограничимся рассмотрением малоизученной повести «РЕЯ СИЛЬВИЯ», отразившей эпоху заката и гибели Римской империи, которая привлекала к себе пристальное внимание В. Брюсова на протяжении всей его творческой жизни33.
Повесть состоит из семи глав и эпилога, который включает в себя развязку художественного конфликта. Завязка конфликта происходит в момент, когда полубезумная Мария отождествляет себя с Реей Сильвией – весталкой, матерью близнецов Рема и Ромула, легендарных основателей Рима. Завязке конфликта предшествует пространная экспозиция: в ней предстаёт Рим, захваченный готами: разруха, грабежи, пожары, голод; жители то покидают город, то возвращаются. На этом фоне развёртывается судьба Марии, дочери бедного каллиграфа, переписчика рукописей: девушка немного не в себе, она живёт в мире преданий, мифов, видений прошлого и бродит среди руин Вечного города.
Схематично структуру сюжета повести «Рея Сильвия» можно представить следующим образом:
гл. 1–2: экспозиция – разорение Рима; детство Марии;
гл. 3–4: завязка конфликта – мечта о возрождении былого величия Рима;
гл. 5: развитие действия – любовь-страсть Марии = Реи Сильвии и Агапита = Марса;
гл. 6–7: кульминация – беременность Марии; смерть Агапита;
эпилог: развязка – смерть Марии; лирическое отступление: миф и мир.
Двойственность пространственно-временного положения Рима VI столетия (в прошлом – великолепие, в будущем – обречённость) становится источником «клинического» раздвоения личности героини повести: «Мало-помалу Мария в мечтах создала свою историю Рима, ничем не похожую на ту, которую рассказывал когда-то красноречивый Ливий, а потом другие историки и анналисты… Она создавала легенду за легендой, миф за мифом и жила в их мире, как в более подлинном, чем мир, описанный в книгах, а тем более чем тот жалкий мир, который окружал её» [с. 264]. Рим описываемого в повести периода утрачивает свой статус Вечного Города: римляне живут «скудной, подавленной жизнью» и его будущее – «полчища диких лангобардов» [с. 284]. «Полуразрушенный, полупокинутый город», современный Марии, – не более чем ирреальное, «мёртвое» пространство («… своим мечтам верила она больше, чем действительности» [с. 284]): оно оживает и населяется по-настоящему живыми образами только в воображении девушки («…домой она возвращалась в уверенности, что сегодня повстречалась с богиней Вестой, а сегодня – с диктатором Суллою. Она вспоминала то, что пережила в мечтах, как бывшее на самом деле» [с. 268]), так римская культура оживает в подсознании героини.
Композиционным центром повествовательного пространства повести становится одна из доминант римской архитектуры – остатки знаменитого дворца Нерона – domus aurea («Золотого дома»), который, по свидетельству А. Малеина, «применительно к нашему времени, должен был воспроизводить прежнее Царское Село в центре Петербурга или Версаль в середине Парижа, но, конечно, в более грандиозных размерах…»34. Именно в подземном дворце Мария находит символ возможного возрождения Вечного города – барельеф с изображением Реи Сильвии, матери близнецов, основавших Рим: «…Мария мечтала о пышности будущего Рима, который будет основан новыми Ромулом и Ремом» [с. 277]. «Диалог с мёртвыми» достигает своего апогея – Вечный город возрождается в Человеке, принося девушке мучительную, но счастливую смерть.
Концовка повести – лирическое отступление автора: он обращается к своей героине («Бедная девочка!..» [с. 284]), надеясь, что в своём заблуждении она обрела счастье, недоступное более никому, – счастье видеть, как два полюса реальности, миф и мир, сливаются в единое целое.
Такой предстаёт повесть В. Брюсова при беглом чтении: смысл её в целом вроде бы ясен, но остаётся неприятное ощущение «непрояснённости» чего-то главного… И это ощущение заставляет читателя возвращаться к брюсовскому повествованию: ставить вопросы (Почему Рим?.. VI век?.. Мария?..) – искать ответы… И в конце концов прийти к очевидной мысли: в повести В. Брюсова преломляются все ключевые мотивы «петербургской повести» А. Пушкина «Медный всадник», – а главное, её катастрофическое мироощущение. По А. Пушкину, Петербург – город двоевластия: здесь разыгрывается противостояние природы и культуры. Брюсовский Рим – аналог пушкинскому Петербургу: главное событие повести А. Пушкина – наводнение, бунт природы против порабощающей её цивилизации, – у В. Брюсова перемещается в экспозицию и реализуется как нашествие варварских племён, превращающих Вечный город в руины. Сюжетный диалог «Медный всадник – Евгений» также находит своё продолжение в диалоге «барельеф Реи Сильвии – Мария». Системы образов в произведениях А. Пушкина и В. Брюсова, в свою очередь, пронизаны общими смыслами («цитируют и окликают друг друга»): образы статуи (Петра I) и барельефа (Реи Сильвии) метонимически замещают Петербург и Рим, воплощая их величие. Не вызывает сомнения и типологическое родство образов Евгения и Марии – безумие героев изображается как погружение в ирреальный мир, деформирующий действительность:
Евгения поглощает мания преследования, Марию – мания величия. Участь «безумцев бедных» заранее предрешена: окончательная утрата рассудка и смерть в водах Невы и Тибра.
Особо следует подчеркнуть, что образ Марии создаётся В. Брюсовым в соответствии с его пониманием места образа Евгения в структуре «Медного всадника». В пушкиноведении определились три основные парадигмы интерпретации этой «петербургской повести»: «парадигма Петра I» – апология государственности, «парадигма Евгения» – защита личности и «парадигма X» – примиряющая эти концепции. В последнее время участились попытки «нового», непредвзятого прочтения пушкинского текста: особый интерес у исследователей сегодня вызывает «парадигма стихии» – апокалипсическое (антиутопическое) пророчество35.
Общепризнанно, что для В. Брюсова поиски «парадигмы автора» в «Медном всаднике» свелись к «парадигме Евгения»36. Естественно предположить, что в повести «Рея Сильвия» пушкинское сочувствие Евгению проецируется на брюсовское сочувствие Марии: отсюда авторское «Бедная девочка…» в концовке произведения. Но более существенным, на наш взгляд, оказывается то, что финал повести В. Брюсова (в минуту смерти героини на Рим «уже двигались с Альп полчища диких лангобардов!» [с. 284]) позволяет рассматривать это произведение не только как «столкновение между действительной историей (жизнью) и историей (жизнью) мифологизированной, вернее – мифом, обретшим самостоятельное существование в реальном мире»37, но и в контексте пушкинского дискурса как апокалипсическое (антиутопическое) пророчество. Судьба Рима (гибель в результате нашествия варваров) в сознании В. Брюсова проецируется на судьбу России: здесь эстетский призыв «Где вы, грядущие гунны…» сменяется ожиданием – 1917 год рядом! – разрушительных перемен, как «в дни революции Петра».
* * *
Антитеза Востока и Запада – важная грань историко-философских взглядов М. Горького, нашедшая отражение в его публицистике и художественном творчестве: писатель «рассматривал русскую историю как вечный поединок между Западом и Востоком»38. Негативно воспринимая такие качества восточной ментальности, как созерцательность, пассивность, фатализм и пессимизм, М. Горький объяснял восточным влиянием чуть ли не все пороки русского народа, – «универсальное лекарство», панацею от всех бед он искал на Западе, в Европе39.
Художественный конфликт, система оппозиций повести «Городок Окуров» прямо связаны с размышлениями М. Горького о судьбе России. Авторская позиция (отказ от созерцательности Востока в пользу действенности Запада) прочитывается в подтексте повести: Окуров – городок мещанских нравов и мещанских добродетелей («пёстрый городок») олицетворяет провинциально замкнутое бытие России. Поражение в войне с Японией пробуждает национальное сознание окуровцев, стремление вывести Россию из замкнутого провинциального существования в ширь («на равнину») мировой жизни. Путей («дорог на равнине») много, тем сложнее сделать правильный выбор. «Антигерои» повести М. Горького выбирают разные пути, но их вектор направлен на Восток: проповедь (Тиунов), бунт (Вавило), молитва (Сима), покаяние (Лодка), – все эти пути, по мысли автора, гибельны для России… Все они упираются в стену непонимания, которая вырастает в сознании обывателя на почве страха свободы.
Л. Андреев – один из наиболее спорных, противоречивых русских писателей: с одной стороны, он близок к тенденции, которая идёт от Ф. Достоевского, А. Стриндберга и Ф. Ницше к немецкому экспрессионизму; с другой стороны, разделяет взгляды на человеческое существование с Ф. Кафкой и французским экзистенциализмом. Проза Л. Андреева сориентирована на отображение неразрешимых философских дилемм и сложных психологических состояний. В центре его произведений – проблема личности, исследуемая в духе экзистенциалистских антиномий: сознание – подсознание, свобода – несвобода, палач – жертва и т. п. Сосредоточившись на изображении опасностей солипсизма, Л. Андреев разрушительному напору самолюбования противопоставляет бесконечный поиск выхода из порочного круга человеческого отчуждения (замкнутости). Лирико-философский сюжет большинства его произведений составляет поединок свободного человеческого разума с непреодолимыми для него препятствиями – абсурдом, роком. Недостижимость мечты о прекрасном и свободном человеке трактуется Л. Андреевым метафизически, как непреодолимый закон бытия. Психологический рисунок прозы Л. Андреева подсказывает именно такую её интерпретацию.
В своём повествовании Л. Андреев воспроизводит не последовательность внешних событий во времени, а последовательность особых, специфических событий внутренней жизни героев: отдельные вырванные из памяти эпизоды соединяются при помощи, казалось бы, случайных воспоминаний, неожиданных ассоциаций При этом авторское сознание зачастую сливается с сознанием героев. Проза Л. Андреева фиксирует мир, опрокинутый в сознание, – точнее: сознание, отражающее и одновременно творящее мир по своим законам.
В. Брюсов позиционирует себя «русским европейцем». Отличительная особенность прозы В. Брюсова – сочетание рассудочности и иррациональности, логики и абсурда: экзистенциальное начало у В. Брюсова приобретает черты дионисийского мифа40, который просвечивает сквозь неореалистическое мировосприятие писателя. Обычно в феномене брюсовского дионисийства исследователи видят «две составляющие – традиционно-мифологическую и ницшеанскую»41. Нам представляется, что в основе мифотворческих построений В. Брюсова лежит экзистенциальная парадигма.
Повествовательная модель произведений В. Брюсова всегда включает яркий образ дионисийской вакханалии: безумие противоречия («Республика Южного Креста»), любовное безумие («Последние страницы из дневника женщины»), безумие страсти («Рея Сильвия»). Этот образ находит отражение в экзистенциальном конфликте; в свою очередь, проблема экзистенциального выбора между свободой и несвободой реализуется как апокалипсическое (антиутопическое) пророчество.
Темы для рефератов
1. Художественная структура повести М. Горького «Городок Окуров»: специфика художественного конфликта, особенности сюжета и композиции.
2. Типология героев, хронотоп, способы организации повествования в повести М. Горького «Городок Окуров».
3. Способы выражения авторской позиции в прозе Л. Андреева.
4. Жанрово-стилевые особенности повести Л. Андреева «Мысль».
5. Хронотоп повести Л. Андреева «Красный смех».
6. Система оппозиций в художественной структуре повести-антиутопии В. Брюсова «Республика Южного Креста».
7. Развитие художественного конфликта в повести В. Брюсова «Последние страницы из дневника женщины».
8. Пушкинский дискурс в повести В. Брюсова «Рея Сильвия».
2.3 Мифологическая парадигма: Ф. Сологуб – А. Ремизов – М. Пришвин
2.3.1. «Дон-Кихот XX века» – Фёдор Сологуб
«Красногубая гостья»
«Звериный быт»
Ф. Сологуб – один из интереснейших поэтов и прозаиков начала XX века. Ещё при жизни писателя в издательствах «Шиповник» и «Сирин» вышли двенадцатитомные собрания его сочинений: стихи, рассказы, повести, романы, пьесы. Но двадцатитомное собрание не было завершено… Мало того, за исключением самого известного романа Ф. Сологуба «Мелкий бес», его прозаические произведения – романы «Тяжёлые сны», «Заклинательница змей», дилогия «Слаще яда», тетралогия «Творимая легенда», книги повестей и рассказов «Тени», «Жало смерти», «Дни печали», «Недобрая госпожа», «Земные дети» и др. – не переиздавались более 60 лет. Поэтому не удивительно, что у нас в стране Ф. Сологуб больше известен как поэт. Однако его творчество далеко выходит за пределы поэзии; сегодня с уверенностью можно сказать, что проза Ф. Сологуба не менее значительна, чем лирика.
Исследователями неоднократно отмечалась тематическая ограниченность творчества Ф. Сологуба (мотивы одиночества человека в мире, утраты смысла жизни, её враждебности человеку, поэтизации смерти и др.), а также то, что истоки трагического мироощущения писателя лежат в его биографии. Тяжёлое детство (ранняя смерть отца, жестокость матери) нашло отражение во многих произведениях Ф. Сологуба, особенно в тех, где главными героями являются подростки: «Свет и тени» (1896); «К звёздам» (1896); «Прятки» (1898); «В плену» (1905); «Елкич» (1906); или высоко ценимый Т. Манном рассказ «Белая берёзка» (1909). Не случайно большинство произведений о детях заканчивается трагически: бросается в Неву недавний «бедный мальчик» Игумнов («Улыбка», 1897), гибнет раздавленный тупой и бессмысленной толпой пятнадцатилетний гимназист Лёня («В толпе», 1907), умирает после простуды прелестная маленькая Лёлечка, а её мать сходит с ума («Прятки», 1898), уходит из жизни сиротка Лёша, от которого стремится избавиться его «чёрная мама» – свирепая мачеха («Белая мама», 1907) и т. д. Суть в том, что смерть как мифологема несёт смысловую нагрузку наказания, которое многократно усиливается, когда умирают безвинные, а виновные продолжают творить зло. Здесь даёт себя знать влияние А. Шопенгауэра, согласно учению которого миром движет злая слепая саморазвивающаяся воля, чуждая причинности, времени и пространству: мир – только зеркало этой воли, а человеческая судьба – лишение, горе, плач, мука и смерть.
В сущности, можно согласиться с широко распространённым мнением, что все произведения Ф. Сологуба посвящены «солипсической» теме соотношения «я» и «сверх-я», раскрывающегося в любви, смерти, природе, и воспринимать их следует как современные мифы, покоящиеся на «анимистическом» понимании мира: действие их часто происходит по ту сторону границы, отделяющей действительность от мечты, в свете которой повседневная жизнь выступает как «злое марево»1. Соответственно исходной точкой для возникновения и развития художественного конфликта во всех произведениях Ф. Сологуба становится ощущение, что «жизнь есть сплошное мещанство, сплошная передоновщина». По справедливому замечанию Иванова-Разумника, пугающее его мещанство Ф. Сологуб видит везде и во всём: «Тем-то и страшна для Ф. Сологуба жизнь, что она – мещанство и передоновщина сама по себе, что её делают люди, делает человечество, эта милионноголовая гидра пошлости»2.
Реальная действительность отрицается Ф. Сологубом на всех этапах его творчества. Изменяются лишь предлагаемые им пути спасения для оказавшихся в ситуации смыслоутраты жизни героев: блаженное безумие («Тени», 1896), одиночество («Улыбка», 1897), красота («Красота», 1899), смерть («Жало смерти», 1903; «Голодный блеск», 1907), мечта («Мудрые девы», 1908; «Два Готика», 1908), самоусовершенствование («Неутомимость», 1914) и т. д. Однако следует подчеркнуть, что все эти варианты предлагаются им не в какой-то определённой последовательности, а одновременно, – хотя в разные периоды творчества тот или иной из них выступает на первый план. Этой особенностью своего мировоззрения Ф. Сологуб резко отличается от большинства других писателей, развитие мировоззрения которых может быть условно представлено одной длинной постепенно распутывающейся нитью, в то время как мировоззрение Ф. Сологуба предстаёт в виде целого ряда отдельных нитей, развивающихся одновременно и то переплетающихся, то расходящихся. Поэтому уже в первых его произведениях намечаются мотивы, которые затем, в какой-то период его творчества, становятся главенствующими.
Основной принцип раннего творчества писателя: смерть – как цель жизни, избавление от её тягот – с предельной ясностью сформулирован в философской сказке «Пленённая смерть»3. Там же подведён итог эволюции этого принципа от открытого стремления к самоубийству до поэтизации смерти – отождествления её облика с прекрасной Лилит, противопоставленной грубой и ясной Еве-жизни. Жизнью, по Ф. Сологубу, управляет тёмная злая воля, стихия бессмысленности, косности, пошлости, жестокости.
Абсолютизация зла реальной действительности закономерно приводит писателя к выводу о бессмысленности жизни и к признанию смерти единственной подлинной ценностью этого мира. Отсюда апелляция к смерти как к спасительнице, избавляющей человека от тягот и мучений земной жизни, поэтизация смерти. Но, как справедливо отметил Иванов-Разумник, «ответить словом смерть на вопросы о смысле жизни – значит не ответить на них совершенно»4. И надо сказать, что у Ф. Сологуба (в этом его отличие от многих других декаденствующих символистов) проблема смерти не подменяет проблему жизни, а ставится в рамках общего вопроса о предназначении человека. С одной стороны, Ф. Сологуб верил, что человек в ином мире, после смерти, проходит ряд превращений по ступеням, восходящим к совершенству, т. е. идеи реинкарнации, метемпсихоза не были чужды миросозерцанию, философским воззрениям писателя; с другой стороны, он не переставал искать оправдания мира с точки зрения солипсизма (т. е. существования только субъективного). Так или иначе, но герои сологубовских произведений 1900-х годов нередко преодолевают искушение смертью, ищут или находят пути примирения с жизнью («Земле земное», 1903; «Красногубая гостья», 1909).
В солипсической концепции Ф. Сологуба «всё и во всём – Я, и только Я, и нет иного, и не было, и не будет», – как отмечает И. Хольтхузен, – «Я» – не утверждающий свою волю, активный исторический субъект, а в шопенгауэровском смысле «свободный от воли субъект познания», интерес которого направлен на «суть мира»5. Но поскольку над миром господствует воля, которая порождает зло, образ мира у Ф. Сологуба дуалистичен, – человек находится в центре противоположных сил, борющихся за его душу: «Только Я и не-Я, – Я, Человек, единый и вечный, и не-Я, демоническая сила, враждебная Мне, насколько она выдаёт себя за благую и потому требует себе поклонения, и помогающая Мне, когда она прельщает меня и соблазняет меня соблазнами земных прельщений…»6.
Тема искушения со стороны злых сил, особенно сильно дающая о себе знать в стихотворениях Ф. Сологуба, становится сюжетообразующей в повести «КРАСНОГУБАЯ ГОСТЬЯ» (1909). Главный герой повести Николай Аркадьевич Варгольский попадает под влияние своей новой знакомой Лидии Ротштейн, женщины, мягко говоря, необычной, чтобы не сказать эксцентричной. Вот как описывает её внешность Виктор, лакей Варгольского: «Туалет чёрный, парижский, в стиле танагр, очень изящный и дорогой. Духи необыкновенные. Лицо чрезвычайно бледное. Волосы чёрные, причёсаны, как у Клео де Мерод. Губы до невозможности алого цвета, так что даже удивительно смотреть. Притом же невозможно предположить, чтобы употреблена была губная помада»7. Лидия Ротштейн зачаровывает Николая Аркадьевича «обаянием смертной тишины», постепенно лишая его воли к жизни. И лишь божественное вмешательство Отрока в белом хитоне помогает герою преодолеть искушение смертью.
Обращает на себя внимание композиция повести: в повествование вводятся, – что в принципе не характерно для Ф. Сологуба, – элементы ретроспекции. Первая глава играет роль торжественного зачина, стилизованного под зачин средневековых или романтических баллад: «Хочу ныне рассказать о том, как спасён был в наши дни некто, хотя и малодостойный, но всё-таки брат наш, спасён от злых чар ночного волхвования словами непорочного Отрока. Тёмной вражьей силе дана бывает власть на дни и часы, – но побеждает всегда Тот, Кто родился, чтобы оправдать жизнь и развенчать смерть» [с. 260]. Этот зачин прямо соотносится с концовкой повести (гл. XVI), предупреждая читателя о решающей роли в судьбе героя непорочного Отрока.
Во второй главе описываются изменения, произошедшие в мироощущении Варгольского после нескольких месяцев знакомства с Лидией Ротштейн (по принципу контраста – прежде // теперь): «П р е ж д e (разрядка моя. – С.Т.) Николай Аркадьевич любил все прелести весёлой, рассеянной жизни. Он любил светское общество, зрелище, музыку, спорт. Бывал везде, где бывают обыкновенно все. Живо интересовался всем тем, чем все в его кругу интересуются, чем принято интересоваться. Был он молод, независим, богат, в меру окружён, и в меру одинок и свободен, весел, счастлив и здоров. А т е п е р ь вдруг всё это странно и нелепо изменилось. Многокрасочная прелесть жизни потеряла свою над ним власть. Забылась пестрота впечатлений и ощущений разнообразной, весёлой жизни… Всё, что п р е ж д е перед его глазами стояло ярко и живо, т е п е р ь заслонилось бледным, жутко-прекрасным лицом его красногубой гостьи» [с. 261]. В гл. III–XII прослеживается история их взаимоотношений на протяжении этих нескольких месяцев, и только начиная с гл. XIII повествование приобретает характер проспекции (кульминационный момент в развитии сюжета: «Николаю Аркадьевичу вспомнились зелёные, жуткие пламенники неживых глаз его белолицей гостьи с чрезмерно-красными губами. Сердце его вдруг сжалось ужасом и страстною тоскою по шумной, радостной, многоцветной, многообразной жизни» [с. 270]).
Основная оппозиция произведений Ф. Сологуба «жизнь – смерть» в повести «Красногубая гостья» реализуется через любимые писателем библейские образы: Евы – праматери всех людей на земле и Лилит – первой жены Адама. В повести сразу обращают на себя внимание многократно встречающиеся авторские описания внешности Лидии Ротштейн, в которых акцент делается на противопоставлении безжизненной бледности её лица (смерть) и чрезмерной алости губ (жизнь): «Только на бледном лице чрезмерная алость губ была живою»; «…бледноликая, зеленоокая, с чрезмерно яркими, как у вампира, устами, вся холодная, как неживая»; «красноустая гостья с неживыми глазами»; «знойные, жадные губы, только одни живые в холоде её тела» и т. п. [с. 263, 267, 268]. В целом постоянно повторяющиеся детали портретных характеристик героини (бледное лицо, холодное тело, неживые зеленоватые глаза, чрезмерно алые губы вампира и т. п.) способствуют созданию специфической ауры смерти и переводят повествование из реального в мистический план.
Постепенно образ героини повести утрачивает черты реальной женщины Лидии Ротштейн и начинает ассоциироваться у читателя с мифической Лилит, тем более, что с ней идентифицирует себя и сама героиня: «Во мне душа Лилит, лунная, холодная душа первой эдемской девы, первой жены Адама…» [с. 266], а вслед за ней – герой и автор-повествователь. Характерно, что «земное» имя героини, Лидия Ротштейн, после того, как она впервые называет себя Лилит, употребляется повествователем лишь однажды (гл. XI). Об этом следует сказать особо, поскольку употребление реального или мифического имени героини в художественной структуре повести, безусловно, имеет знаковое, символическое значение и отражает характер восприятия её образа как героем, так и повествователем. Это тем более важно, что повествование, как указывалось выше, носит двуплановый характер. Реальный и мистический (мифический). Соответственно, изменяется и стиль повествования. Реальному плану соответствует внешне холодный и лишённый эмоций стиль, который закрепил за сологубовской любовью к человеку определение «милосердная жестокость»8. Повествователь создаёт дистанцию между собой и изображаемым и с педантичной точностью воспроизводит, казалось бы, непостижимые происшествия9. Мистическому (мифическому) плану соответствует лирический стиль – дистанция между повествователем и героями сокращается, вплоть до слияния их в едином восприятии действительности.
Закономерно, что наиболее лирическими являются центральные главы повести (VIII и IX), в которых Лилит, искушая и зачаровывая Варгольского, рассказывает ему о губительности своей любви. Монологи Лилит строятся по законам поэтической речи: «Пеленою мечтаний, которые слаще ароматнейших из земных благоуханных отрав, я застилаю безобразный, дикий мир дневного бытия. Многоцветною, яркою пеленою застилаю я этот тусклый мир перед глазами возлюбленных моих. Крепки объятия мои, и сладостны мои лобзания. И у того, кого я полюблю, я прошу в награду за безмерность и невозможность моих утешений только малого дара, скудного дара. Только каплю его жаркой крови для моих холодеющих вен, только каплю крови прошу я у того, кого полюбила…» [с. 266].
Прежде всего следует отметить, что изменяется ритмический рисунок повествования, которое по своей ритмико-синтаксической структуре начинает напоминать стихотворения в прозе. Речь Лилит струится плавно, её «тихие, золотом звенящие слова», наполненные «очарованием великой печали и тоски», усыпляют сознание Николая Аркадьевича, обезволивают его. В монологах Лилит ощущаются напевные интонации. Важную роль в создании экспрессии ритма играют разнообразные повторы, необычные сочетания ярких, контрастных эпитетов, инверсия и т. п. За счёт использования различных стилистических средств Ф. Сологуб добивается необходимого ему лирического эффекта: монологи Лилит приобретают мистический оттенок.
Что же касается финала повести, то он, как нам представляется, несколько двусмысленен: с одной стороны, его можно (следует!) воспринимать как апологию христианства; с другой стороны, такой вариант прочтения не может не вызывать чувства противоречия, поскольку христианство не отвечало мировоззрению Ф. Сологуба. По его мнению, зло существует и может оказывать воздействие на человека, пока он внутренне не освобождён, а в догмах христианства ему виделся элемент несвободы, который может и должен быть преодолён. Примечательно, что в знаменитом споре с Д. Мережковским освобождению через христианство Ф. Сологуб противопоставляет освобождение через самоусовершенствование отдельной личности.
Если с этой позиции взглянуть на героя повести «Красногубая гостья», то образ Отрока в белом хитоне приобретает метафорический оттенок: абстрагируясь от христианского учения и учитывая особое отношение Ф. Сологуба к детям («Живы дети, только дети… Мы мертвы, давно мертвы…»), можно предположить, что Христос в контексте гл. XIII повести («Первый же раз, когда он увидел младенца Николая, которого ему надо было назвать своим крестником, он почувствовал нежное умиление к этому слабопопискивающему, красному, сморщенному комочку мяса, завёрнутому в мягкие, нарядные пелёнки. Глаза малютки ещё не умели останавливаться на здешних предметах – но земная, вновь сотворённая из тёмного земного томления душа, радостно мерцая в них, трепетала жаждою новой жизни…» [с. 270]) символизирует чистоту детской души, которая одна только, по Ф. Сологубу, позволяет разгадать, познать истинную сущность человека, свободную от пошлых наслоений жизни. И которая заново пробуждает в герое «Красногубой гостьи» жажду жизни.
Среди разнообразных путей спасения человека от мещанства, от передоновщины, которые предлагает Ф. Сологуб, несомненно, выделяется путь романтический – мечта: пошлой, несправедливой, бессмысленной действительности он противопоставляет идеальный мир, созданный фантазией художника. Этот вымышленный, утешительный, желанный для человека мир был воплощён Ф. Сологубом уже в целом ряде ранних рассказов, вошедших в сборник «Очарование печали» (1908): «Мудрые девы», «Опечаленная невеста», «Два Готика» и др.). Но как основная альтернатива пошлости жизни мечта, творческое преображение мира выступает в лучшем романе Ф. Сологуба «Творимая легенда» (1914) и в произведениях 1910-х годов («Путь в Дамаск», 1910; «Турандина», 1912; «Звериный быт», 1912 и др.).
Любопытно, что оппозиция «реальная действительность – мир мечты» так же, как и оппозиция «жизнь – смерть» в творчестве Ф. Сологуба реализуется через литературно-мифологические образы, но женские типы, образующие символически-противопостав-ленную пару, здесь другие – Альдонса и Дульцинея. Эстетическая позиция Ф. Сологуба, связанная с мотивом преображения Альдонсы в Дульцинею, предельно ясно выражена в статье «Искусство наших дней» (1915). Вечным выразителем лирического отношения к миру, по мнению писателя, является Дон-Кихот, который из данной ему в реальном мире Альдонсы творит романтический облик Дульцинеи Тобосской: «Дон-Кихот знал, конечно, что Альдонса – только Альдонса, простая крестьянская девица с вульгарными привычками и узким кругозором ограниченного существа. Но на что же ему Альдонса? И что ему Альдонса? Альдонсы нет. Альдонсы не надо. Альдонса – нелепая случайность, мгновенный и мгновенно изживаемый каприз пьяной Айсы…»10. И Ф. Сологуб (Дон-Кихот XX века) так же относится к реальной действительности: он полагает, что действительность – нелепая случайность, каприз пьяной Судьбы, но чувствуя своё бессилие изменить что-либо в реальном мире, скрывается от вульгарной Альдонсы, «румяной и дебелой бабищи» жизни, за поэтическим обликом Дульцинеи, от передоновщины реальной действительности – за красотою вымысла.
Характерный пример «дульцинирования» мира в творчестве Ф. Сологуба представляет рассказ «Турандина» (1912)11. Главному герою этого рассказа начинающему юристу Петру Антоновичу Буланину жизнь представляется «скучною прозой, тяжко скованною цепью причин и следствий, тягостным рабством, от которого не спастись человеку» [с. 326]. Он мечтает о том, чтобы «сказка вошла в его жизнь», хотя бы на короткое время расстроила размеренный ход предопределённых событий. Его мечта сбывается: он встречает лесную волшебницу Турандину, дочь легендарного короля Турандона. И хотя жизнь оказывается не приспособленной к принятию сказки («жизнь, которою жил молодой юрист и все его близкие и родные, трудно мирилась со сказкою. Боролась с нею, ставила ей всяческие ловушки» [с. 332]), она всё-таки даёт сказке место («Купила сказка место в жизни, – очарованием своим и сокровищами волшебного мешка…» [с. 334]). Даже несмотря на то что через несколько лет, когда пришло назначенное время, ушла из жизни сказка («…услышала Турандина громкий зов: «Турандина, приходи. Турандоне простил тебя». Ушла Турандина, и не вернулась…» [с. 335]), счастливые годы остались в благодарной памяти человека. Да и сын Турандины не забыл своей матери: «Иногда он уходил от людей далеко. Когда он возвращался к людям, на лице его было такое выражение, что жена филолога тихо говорила мужу: «Он был у Турандины»» [с. 335]. Финал рассказа, несомненно, символичен: по Ф. Сологубу, жизнь постепенно омертвляет человека, лишает его надежд и идеалов, лишает его способности мечтать, – чисты в этом мире только дети, ещё не вкусившие в полной мере его яда.
Такие наиболее важные мотивы творчества Ф. Сологуба, как одиночество, отчаяние, страх перед жизнью и поэтизация смерти, чистота детской души и мечта о преображении мира, переплетаются в повести «ЗВЕРИНЫЙ БЫТ». Её сюжет развивается на бытовом (фабульном) и философском (символико-мифологическом) уровнях. Бытовой план раскрывает характер взаимоотношений между членами одной семьи: Алексеем Григорьевичем и его женой Шурочкой, Алексеем Григорьевичем и его сыном Гришей. Событийный ряд связан с получением наследства сыном Алексея Григорьевича и с разворачивающимися вокруг этого интригами, в которые в той или иной мере оказываются втянутыми все герои повести (Кундик-Разноходский, воспитательница Гриши Елена Сергеевна, Татьяна Павловна и др.). В результате повествование на бытовом уровне приобретает признаки детектива: Дмитрий Николаевич подготавливает убийство Гриши, а Алексей Григорьевич пытается спасти сына. Но бытовое, злободневное оказывается лишь поводом для разговора о вечном – основная смысловая нагрузка приходится на философский, символико-мифологический план повествования.
Следует отметить тщательную продуманность архитектоники повести, – в её сюжетно-композиционной структуре можно выделить пять частей, каждая из которых включает в себя семь глав:
1-я часть (гл. 1–7) – экспозиция: жизнь Алексея Григорьевича до смерти жены;
2-я часть (гл. 8—14) – завязка художественного конфликта: интриги вокруг наследства сына Алексея Григорьевича;
3-я часть (гл. 15–21) – развитие действия: «маскарад»;
4-я часть (гл. 22–28) – кульминация: разговор Алексея Григорьевича с Еленой Сергеевной и Татьяной Павловной;
5-я часть (гл. 29–35) – развязка: маски сорваны.
Каждая часть повести представляет собой один логически завершённый эпизод. Между собой они связаны цепью ассоциаций. Повествование ведётся от третьего лица, но с позиции героя, чьё мировосприятие приближается к авторскому. Непосредственное действие происходит в течение одного дня в доме Алексея Григорьевича (гл. 8 – 14, 25–27, 34–35) и на квартире Татьяны Павловны (гл. 29–33). Во всех остальных главах повествование носит ретроспективный характер и в какой-то степени проясняет ситуацию утраты смысла жизни, в которой оказывается Алексей Григорьевич. В третьей, центральной, части повести (гл. 15–21) реализуются наиболее значимые для Ф. Сологуба мифологемы: город-Содом, зверь, Лилит, ребёнок и др., формирующие философский план повествования.
В центре повествования – Алексей Григорьевич: его жизнь, мысли, опасения и надежды. С первых же строк повести вводится мотив «рока»: «…среди людских существований бывают такие, которые как бы заранее обречены кем-то недобрым и враждебным человеку на тоску и на печаль бытия» [с. 364]). Это одно из ключевых звеньев в цепи ассоциативных связей: герой изначально выделен из окружающего его мира обывателей, «жалких людей, вся жизнь которых – внешняя и сводится почти к механическому усвоению и повторению того, что делают другие люди их круга» [с. 385], на нём лежит печать о б р е ч ё н н о с т и «всегда томиться душою» [с. 365]. Вместе с тем автор подчёркивает, что его герой «один из многих» подобным образом отмеченых судьбою [c. 365]. Такая ремарка повествователя представляет жизненную ситуацию Алексея Григорьевича как типичную для людей, наделённых даром совестливости (совесть – печать обречённости). В мире Ф. Сологуба господствует воля, которая порождает зло. Пытаясь противостоять ей, Алексей Григорьевич вырабатывает ряд жизненных принципов, один из них – «не делать лишних уступок злу и безобразию грубой жизни» [с. 367]. Такая позиция способствует отчуждению героя, развивает в нём «комплекс изгоя»: он переходит с одной службы на другую, нигде не задерживаясь надолго…
На некоторое время примиряет Алексея Григорьевича с окружающим миром женитьба на Шурочке («В Шурочкином нежном и задумчивом лице было что-то, что напоминало лучшие портреты Генсборо…» [с. 365]), но после её смерти «тягостное умиление жизнью» перерастает в открытый конфликт: «…всё чаще приходило к нему желание переменить жизнь» [с. 371], истоки которого в абсолютизации героем (читай: автором) зла. Выбор у Алексея Григорьевича небольшой: по сути, перед ним стоит дилемма – отказаться от жизни или принять её («…колебался он между двумя влияниями, – жены отошедшей, тихой, зовущей к успокоению, – и жены чаемой, зовущей к жизни шумной, торопливой, широкой» [с. 372]). Между этими полюсами оказывается оппозиция «зверь – ребёнок»: с образом зверя в повести Ф. Сологуба отождествляется тёмная, а с образом ребёнка – светлая сторона жизни. В этом контексте борьба за жизнь ребёнка, в которую вступает герой, на символико-мифологическом уровне повествования прочитывается как борьба между силами Зла и Добра.
Зло в повести Ф. Сологуба ассоциируется с образом города-Содома и царящего в нём зверя («… в городе наших дней, великолепном Содоме, возрождается древний зверь и хочет властвовать» [с. 372])12. Зверь вездесущ, его «лик» проступает в разговорах, поступках, намерениях людей: «Дыханием Зверя была отравлена вся жизнь» [с. 396], – он проникает в сердца людей («Алексею Григорьевичу казалось, что человека здесь нет, что человеческое сердце здесь умерло и что в оболочке человека диким рёвом ревёт дикий зверь» [с. 396]), превращая их в своих «приспешников», которые «прикрывшись личинами свободомыслия, правдивости и научного исследования, с великой злобой повторяли его нечестивые слова, проклинали Слово и влекли его на Голгофу» [с. 396]. Тем же, кто не принял в своё сердце Зверя, по Ф. Сологубу, остаётся выбор: идти на «вольную смерть» или, подобно Алексею Григорьевичу, всю жизнь нести на себе «печать обречённости».
Образ умершей жены в сознании Алексея Григорьевича ассоциируется с мифической Лилит, которая в трактовке Ф. Сологуба предстаёт не как «злая и порочная… мать всех злых чародеек и ведьм» (традиционная мифологическая трактовка), а как «услада горьких одиночеств, щедрая подательница нежных мечтаний, сладчайшая утешительница» [с. 388]. Раздумья о Лилит и о своей умершей жене («в самом своём отречении от жизни хранила она такую дивную власть, преодолеть которую не может никакая земная сила» [с. 388]) приводят героя повести к признанию смерти единственно подлинной ценностью этого мира. Здесь в полной мере реализуется любимая мысль Ф. Сологуба об апелляции к смерти как к спасительнице, избавляющей человека от тягот и мучений земной жизни, – мотив поэтизации смерти.
Но отказ от жизни для Алексея Григорьевича означал бы снятие ответственности за судьбу сына (и шире: за судьбу мира, в котором он живёт) – путь для него неприемлемый, так как после смерти жены (а свою жизнь Алексей Григорьевич делит на две части: граница – смерть Шурочки), «если было счастье в жизни Алексея Григорьевича, то оно было только в жизни его сына, в заботах о нем каждый день» [с. 372]. В сыне Алексей Григорьевич видит «радость жизни, неложное оправдание всему, что было, родник великих надежд и неистощённых возможностей». По Ф. Сологубу, люди очерствели, перестали реагировать на боль друг друга; только дети ещё способны чувствовать, поэтому именно они прежде всего нуждаются в защите. Постоянные мысли о сыне в сознании Алексея Григорьевича закономерно преобразуются в idea fix: «Уберечь бы только его от разевающего пасть Зверя!» [с. 397].
Между тем дилемма, перед которой оказался Алексей Григорьевич: с одной стороны, его притягивает образ покойной жены (отречение от жизни); с другой стороны, в воображении возникает образ «женщины города» (интерес к жизни), который персонифицируется в образе Татьяны Павловны («ни в ком доныне он не встречал такой полноты радостного жизнеощущения» [с. 390]), – разрешается сама собою. Образ Лилит (читай: жены, смерти-утешительницы) в сознании героя постепенно уходит в тень, вытесняется, уступая место образу «женщины города» (Татьяны Павловны, жизни). Но если любовь к жене – истинная, «неизменно господствующая над жизнью и над смертью» [с. 388], то любовь к Татьяне Павловне – кажущаяся («над холодным равнодушием стал подниматься определённый образ одной женщины, которую Алексей Григорьевич недавно встретил и которую, как ему казалось, он начинал любить» [с. 389]). Поддавшись мечте, иллюзии любви, Алексей Григорьевич не догадывается, что, сделав выбор в пользу Татьяны Павловны, он вступил на ложный путь, который может привести маленького Гришу в приготовленную для него ловушку – «в пасть Зверя».
По Ф. Сологубу, зло («зверь») никогда не действует открыто, скрывая свою истинную сущность под маской добра («Из-под таинственной, холодной полумаски, носимой светом, всё чаще сквозил этот отвратительный лик…» [с. 396]). Вводя в повествование мотив маскарада, традиционно предполагающий некое празднество, веселье, костюмированный бал, а на деле (в мире Ф. Сологуба) представляющий собой ряжение зла в личины добра, писатель моделирует реально существующее жизненное пространство. Олицетворяет это жизненное пространство образ «закутанного города» («…так как вокруг нас много безобразных предметов, то уж тогда и на них пришлось бы надевать покровы и маски, чехлы и футляры. Представьте себе вид такого закутанного города» [с. 391]). В этой метафоре знак тотального обмана: «Правды мы не говорим и сами слушать её не хотим» [с. 392]).
Жизнь, стало быть, возможна лишь там, где царит зверь. В повести «Звериный быт» он примеряет разные обличья. Мотив маски впервые вводится в повествование при описании внешности Кундик-Разноходского («Синие стёкла больших очков были слишком светлы, и это придавало его лицу странное выражение неудачного маскарада» [с. 377]), двойная фамилия которого отображает двойственность его натуры. Он пытается усидеть на двух стульях одновременно: подсказывает Дмитрию Николаевичу способ убийства Гриши и тут же раскрывает его планы Алексею Григорьевичу. Впрочем, всё это для него – лишь средство заработать деньги, судьба мальчика ему безразлична… Алексей Григорьевич видит его насквозь – не случайно «маскарад» здесь назван неудачным – и ведёт себя с ним соответственно, не скрывая своей антипатии.
Иное дело – Татьяна Павловна. Её роль в затеянной Дмитрием Николаевичем игре («Дурак влюблён в меня без памяти…» [с. 421]) становится ясной Алексею Григорьевичу только в финале повести. Хотя интуиция (в полусне он наблюдает за превращением её лица в лик зверя: «Лицо прекрасного зверя, весёлой, хищной кошки явилось на одно мгновение, раскрылся жадный зев, и вдруг нахлынула тьма, в которой ясно сверкнули узкие, зелёные зрачки и погасли» [с. 395]) и случай (сцена со служанкой, случайным свидетелем которой он оказался: «Лицо Татьяны Павловны покраснело пятнами, углы рта неприятно опустились, и она казалась грубой и вульгарной» [с. 412]) подсказывают ему, что истинная сущность этой женщины надёжно скрыта под маской, зарождающееся чувство любви мешает ему разглядеть в ней неискренность, притворство, лживость: «Он опять почувствовал в своём сердце нежную жалость к ней, к этой запутавшейся в лукавых сетях Зверя, но всё-таки, конечно, милой, доброй женщины» [с. 413].
Дмитрий Николаевич – антагонист Алексея Григорьевича, один из тех «жалких людей, вся жизнь которых – внешняя и сводится почти к механическому усвоению и повторению того, что делают другие люди их круга» [с. 385]. Морда зверя проступает из-под маски Дмитрия Николаевича: вынашивая план убийства мальчика, он «очень ласков с Гришей и чрезвычайно любезен с молодой гувернанткой» [с. 399]. Но в ходе повествования создаётся впечатление, что Дмитрий Николаевич, по большому счёту, не интересен автору, поскольку предельно предсказуем, – по крайней мере, в нынешней жизни, отравленной «дыханием Зверя».
Финал повести «Звериный быт» допускает разночтения. Судьба ребёнка (читай: судьба человечества) в пределах замкнутого, бытового пространства реального мира, ограниченного пределами города-Содома, предрешена: здесь всецело правит Зверь. Но реальному миру Ф. Сологуб, как обычно, противопоставляет мир иллюзорный, мифологическое пространство, разомкнутое в бесконечность (концовка повести – иррациональный порыв Алексея Григорьевича: «Бежать, бежать за океаны или за горы» [с. 421]). Мечта Ф. Сологуба о спасении ребёнка кому-то покажется утопической: «от буйного распутства неистовой жизни к тихому союзу любви и смерти, – милый путь в Дамаск» [с. 422]. Но для того, кто, как и сам Ф. Сологуб, не чужд идеям реинкарнации, метемпсихоза, мечта о спасении ребёнка («путь в Дамаск») – метафора самоусовершенствования: душа воспитывается, изживая зло! Может быть, именно такова основная идея всего творчества Федора Сологуба.
2.3.2. «Между Святой Русью и обезьяной» – Алексей Ремизов
«В плену»
«Крестовые сестры»
В современном литературоведении не выработано единого взгляда на творчество А. Ремизова. В частности, до сих пор остаётся открытым вопрос о преобладающих принципах художественного освоения действительности в его произведениях. Несмотря на то что практически все исследователи отмечают, что в прозе А. Ремизова сливаются различные стилевые тенденции, сплетаются традиции реализма и символизма, усложнённость его поэтики, ориентация на реалистическую проблематику и модернистские приёмы художественного изображения способствуют возникновению самых противоречивых интерпретаций и оценок произведений писателя1. Так, повести А. Ремизова 1900 – 1910-х годов – «В плену» (1903), «Часы» (1904), «Неуёмный бубен» (1909), «Крестовые сестры» (1910), «Пятая язва» (1912), «Канава» (1914–1918) современные исследователи относят то к бытописательским, то к символистским. При этом они исходят из того, что в повествовании А. Ремизова взаимодействуют два способа изображения – натуралистически-описательный и символико-метафорический. Посредством первого с очерковой точностью воссоздаётся детализированная картина жизни той поры, конкретно-историческая среда, социальные и материальные обстоятельства быта героев; а посредством второго жизненная реальность возводится к обусловившим её потусторонним первопричинам. Посредниками между этими двумя пластами текста выступают разного рода отсылки к произведениям русской литературы XIX – начала XX века, привлекающие эти произведения в качестве своеобразных ключей (кодов – «мифов»), открывающих трансцендентный смысл изображаемых событий и ситуаций.
В связи с этим представляется очевидным, что положение группы тартуских исследователей о неомифологичности символизма применимо также и к А. Ремизову2. Не случайно А.А. Данилевский утверждает, что произведения А. Ремизова «являют собой разновидности особого жанрового образования – активно разрабатываемого русским символизмом прозаического текста – «мифа»3. Так же как и символистский текст – «миф» (в наиболее выдающихся его образцах представленный романами «Петр и Алексей» Д. Мережковского, «Мелкий бес» Ф. Сологуба и «Петербург» А. Белого), повести А. Ремизова строятся на взаимодействии двух основных смысловых рядов:
• изображение современной автору действительности;
• ориентация повествования на различные литературные традиции.
Новаторство А. Ремизова заключено в сугубой конкретности и автобиографичности реально-бытового материала: стирая грани между художественной прозой и автобиографией, он из жизни среднего, негероического, казалось бы, персонажа извлекает модель жизни человека вообще, выстраивает универсальную картину его положения в мире.
Наиболее полно мировоззренческую концепцию А. Ремизова, «миф о мире», который (что в настоящее время уже не подлежит сомнению) во многом опирается на мифологию богомилов, охарактеризовал А.А. Данилевский:
1) исторический процесс представляется А. Ремизову как беспрерывное, с незначительными вариациями в каждом конкретном случае репродуцирование Голгофы, где «распинаются» жизнью наиболее отзывчивые к чужому горю, наиболее сострадающие людским страданиям;
2) соответственно, современный этап истории, по А. Ремизову, знаменуется «измельчанием» (регрессом) сил Добра и прогрессирующим ростом сил Зла, что приводит к морально-этической дезориентации людей, к утрате ими способности различать Добро и Зло;
3) в этих условиях самореализация отдельной личности в пределах отпущенной ей жизни оказывается в прямой зависимости от свободного выбора человеком своего нравственного ориентира; особый интерес для писателя представляет выбор ориентации на прокламируемое в Библии «горнее», потустороннее. Согласно А. Ремизову, на этот путь человек встаёт не по своей воле, а по стечению обстоятельств («роковых случайностей»), толкающих его на преступление – вынуждающих «перейти через кровь», чтобы выказать свой «бунт» против несовершенства мира5;
4) заявленное в такой форме несогласие человека с существующим мироустройством оборачивается последующим уподоблением его Христу: чувство вины за невольно содеянное зло понуждает человека принять на себя ответственность за всё зло человеческого бытия и вызывает ответное стремление искупить это зло ценой собственных страданий, Не случайно все «христоподобные» герои произведений А. Ремизова соотносятся со своим прообразом именно по этому признаку;
5) толкая человека на преступление, на «бунт», провидение облегчает для него избрание ориентации на «горнее», предоставляет ему возможность уподобиться Христу; но окончательный выбор должен сделать сам человек: принявшим на себя ответственность за совершённое против собственной воли преступление, покорно вынесшим эту «крестную ношу» открывается истинное знание о мире; и напротив, отказ от благословения своей судьбы, стремление искать «виноватых» за своё преступление вовне знаменует жизненную катастрофу героя6.
Повести 1900—1910-х годов явились художественным воплощением ремизовского «мифа о мире», своеобразным решением вечной темы Добра и Зла. Представляя собой пространные философские размышления с минимальным развитием сюжета, они содержат общие мотивы и образы, выражающие чувство обречённости и безнадёжности мира, где властвуют обезличенные силы Зла. Следствием непрекращающихся попыток А. Ремизова найти ответы на основополагающие вопросы о смысле жизни, о природе человеческих желаний в забытом богом мире, обитатели которого обречены на бессмысленную муку, стал художественный замысел, отразивший жизненное кредо писателя: «нет виноватых!» – и отчасти воплотившийся уже в одном из наиболее ранних его произведений – повести «В плену».
Повесть «В ПЛЕНУ» (ремизовские «записки из мёртвого дома» – лирико-драматический монолог о ссылке) построена по принципу движения от тьмы к свету. Она состоит из трёх частей. Все они принципиально мозаичны и составлены из множества отдельных, композиционно выстроенных рассказов, которые первоначально публиковались самостоятельно, затем постепенно перегруппировывались в циклы, циклы организовывались в главы, а главы – в повесть. Первая часть состоит из 12 маленьких (безымянных) главок, 12 фрагментов душевного состояния героя, который ставит вопрос о сущности всего и в особенности собственного существования. Вторая часть менее дробна, в ней всего шесть главок, причём каждая имеет своё название («В вагоне», «Тараканий пастух», «Черти», «Кандальники», «В больнице», «Коробка с красной печатью»). Эта часть наиболее эпична, в ней рассказаны истории других арестантов. Третья часть воссоздаёт мир северной природы и представляет собой синтез «лирической» первой и «эпической» второй частей; здесь герой и окружающий его мир находятся в единстве.
Таким образом, повесть А. Ремизова «В плену» обнаруживает характерное для литературы начала XX века тяготение к взаимопроникновению лирически-субъективного и эпически-объективного начал. Следует отметить, что оппозиции «я и я» (1-я часть), «я и они» (2-я часть), «я и природа» (3-я часть) естественным образом вытекают из ситуации одиночного заключения, а затем из условий этапной и ссыльной жизни героя. В каждой из частей повествование подчиняется главенствующей в ней оппозиции.
В первой части («я и я») герой в сказовой манере передаёт свои мысли и ощущения. Повествование здесь почти всё время обращено внутрь души героя, реальные события оказываются оттеснёнными на второй план: «…я долго гляжу в мёртвые стёкла. Хлещутся звуки по сердцу… и глохнут бессильные… И кажется мне, со всех концов запалили землю. Мечутся дикие красные стаи. Земля умирает. Бесцельно хожу взад и вперёд. Всё так же тихо. Мне холодно и темно. Мутно светит лампа. И судорожно я думаю о звёздах»1. Доминирующим принципом повествования в первой части повести становится ассоциативно-импрессионистическое сцепление ощущений героя с событиями и явлениями реальности. При этом реальные события становятся чем-то внешним, а чёткость и последовательность их изображения во многом зависит от степени интенсивности осознания их героем8.
Во второй части («я и они») А. Ремизов усложняет форму повествования. Здесь повествует не только и не столько герой-рассказчик, сколько другие арестанты (Яшка, Тараканий пастух, арестант из секретной, Васька), которые от своего имени – опять-таки сказом – излагают важные для себя события. Однако их судьбы служат лишь поводом к размышлениям героя, аргументом в его споре с собственной судьбой, толчком для изображения нового оттенка чувства. Так, рассказ арестанта из секретной завершается ремаркой героя: «Сидели все молча, и каждый думал о чём-то неясно-тоскливом, о какой-то ошибке непоправимой и об ушедшей жизни. Сидели все молча, щипало сердце. И рвалось сердце наперекор кому-то, к какой-то другой жизни, на волю» [с. 91]. Вместе с тем именно открытие трагизма и нелепости бытия приводит ремизовского героя к усиленной способности переживать чужие судьбы, проницать чужие сознания и впитывать голоса других.
В третьей части («я и природа») слово предоставляется северной ночи. Здесь песни метелей мастерски стилизованы в традиции народного творчества («Кличут метели, поют: Выходи-выходи! Будем петь, полетим на свободе! У вас нет тепла! У вас света нет! Здесь огонь! Жизнь горит! И пылая, белоснежные, мы вьёмся без сна. Выходи-выходи! Будем петь и сгорим на белом огне. Все, кто летает, все собирайтесь, мы умчимся далеко, далеко-далеко. Никто не увидит. Никто не узнает. Снегом засыплем, ветром завеем, поцелуем задушим. Песню тебе пропоём!..» [с. 99]). Соответственно, особое значение в этой части приобретают пейзажные зарисовки, выполненные в импрессионистической манере: они очень динамичны, лишены чётких контуров, отдельные предметы объединены общим колоритом как бы самосветящихся красок: «В алую реку за золотой, резной берег село томно-следящее, густо-затканное красными камнями солнце. Потянулись и столпились по его следу, будто раздумывая, раздумные чёрные облака и красные тучки» [с. 110]. При этом следует отметить, что построенные на лейтмотивах и единой ритмико-интонационной мелодии, картины природы почти сливаются с ощущениями героя.
Сюжет повести «В плену» однонаправлен, он строится как хроника событий, как история жизни типичного для А. Ремизова героя, воспринимающего всё эмоционально и сугубо субъективно. Характерно, что он не назван ни по имени, ни по фамилии, не указан его возраст, не известно, почему он попал в тюрьму, является он политическим или уголовным заключённым. На первый план выдвигается не внешняя, а внутренняя биография героя, описание состояния его души, – подчинённый этому описанию внешний мир предстаёт фрагментарным, афабульным, неполным. Всё это не ведёт, однако, к камерному описанию истории одной личности. Напротив, в повести выстраивается универсальная картина положения человека в мире, определяемая связями мировоззрения писателя с философией Льва Шестова, давшего одну из наиболее ранних экзистенциальных интерпретаций человеческого существования9.
В творчестве А. Ремизова, как правило, выделяются два типа героя: герой, обладающий гармоническим, детским мировосприятием («взрослый ребёнок»), и носитель трагического, отчуждённого, «подпольного» сознания10. На детское мировосприятие, в частности, ориентирована книга «Посолонь», в структуре сказок которой отчётливо проступают элементы игры и сновидения. Герой повести «В плену», напротив, является носителем «подпольного» сознания. В силу каких-то обстоятельств, скорее всего, случайных (слепой случай часто вторгается в жизнь ремизовских героев, разрушает их гармоническое, детское мировосприятие и становится толчком к отчуждённости), оказавшись в «ситуации подполья», отчуждения, герой повести А. Ремизова остаётся один на один с «последними вопросами». Ответы на них отражают пессимистическое мировоззрение писателя, его «миф о мире» («…я не знал, как оправдать и чем оправдать всё совершившееся, всё происходящее и всё, что пройдёт по земле» [с. 82]), утверждают фатальную предопределённость человеческой судьбы: «А если я был помазан на совершение?.. Я устранил от жизни насекомое, пускай это насекомое мучилось и однажды пролило слезу, а меня завтра повесят за него. Я помазан совершить то, что совершил, а другой был помазан своё совершить. Тем, что он мучился, когда я его прихлопнул, он искупил своё, а я искуплю завтра!» [с. 82]11.
Ключевые идеи повести А. Ремизова «В плену» буквально провоцируют на ассоциации с философией экзистенциализма. Атмосфера «бытия в смерти» («Я не знаю, живу или нет?» [с. 77]), образ героя, стоящего на границе двух миров, сразу же приводит на память экзистенциальную метафизику пограничных ситуаций. Основным принципом изображения в повести А. Ремизова становится «двоемирие», которое мыслится им не только философски, но и топографически. Понятия черты, границы обретают здесь почти буквальный смысл, прямо реализуются в развитии сюжета: через всё повествование проходит контрастное противопоставление мира свободы = жизни («там»: «А там на свободе всё в зелени. По ночам долетают стуки и крики взбурлившейся жизни» [с. 79]; «Там созревают плоды, и зарницы, шныряя, колышат колосья» [с. 80]) и мира несвободы = смерти («здесь»: «И кажется мне, со всех концов запалили землю. Мечутся дикие красные стаи. Земля умирает» [с. 80]; «И мне почудилось, застыло время, застыли шорохи, словно жизни больше не стало» [с. 80]).
Оппозиция «мир свободы – мир несвободы» лежит в основе хронотопа повести А. Ремизова, который можно представить в виде антитезы: «открытое пространство, историческое (линейное) время» и «замкнутое пространство, мифологическое (циклическое) время». Пространственно-временную модель мира несвободы, в котором по стечению обстоятельств, толкнувших его на преступление, оказался ремизовский герой, графически можно обозначить знаком круга. Иллюзии кругообразности А. Ремизов достигает при помощи лексических и синтаксических параллелизмов, многочисленных повторов, а также уделяя особое внимание кругообразному, циклическому течению времени: зима – весна – лето – осень12.
Ремизовской концепции «времени – судьбы» соответствует замкнутость художественного пространства («Камера – нора… Давят стены, задыхается сердце» [с. 76]). Впечатление мнимого, кругового движения во времени и пространстве («квази-движения») проявляется как в самых элементарных ситуациях, когда герой говорит, например: «Я хожу по кругу. И не могу проснуться» [с. 75] или «Бесцельно хожу взад и вперёд» [с. 79], так и в более сложных вариантах, когда пространство и время как будто «замораживаются» посредством перенесения их в область внутренних переживаний героя: «И мне почудилось, застыло время…» [с. 80].
Опыт несвободы (смерти), развеявший все прежние иллюзии героя повести «В плену», придаёт его представлениям о жизни некое новое, четвёртое измерение. Он начинает понимать, что помимо окружающего его рационального, легко объяснимого мира, существует ещё мир иррационального, сверхъестественного, трансцендентного, к которому причастны лишь те, кому понятна иллюзорность повседневной жизни и высшая реальность прокламируемых в Библии нравственных ценностей (ср., у Ф. Достоевского: «Красота Христа спасёт мир»). Вместе с тем обречённость, бессмысленность и бесполезность усилий ремизовского героя изменить свою судьбу приводят его к мысли о неустранимости как социального, так и иррационально-космического зла, о неизменности существующего миропорядка и заставляют сделать выбор, – принять на себя ответственность за мировое зло. При этом следует отметить, что категория выбора в художественном мире А. Ремизова утверждается в формах чрезвычайно близких тем, которые позже будут характерны для произведений Ж. – П. Сартра, А. Камю, Ж. Ануя и других писателей-экзистенциалистов13.
Черты экзистенциализма несёт в себе и символическая образность А. Ремизова, на что неоднократно обращали внимание исследователи его творчества14. Появление же мифологических образов, чертовщины и нежити (Водяной, Кикимора, Лешак и т. п. – ч. 3, гл. 8) психологически мотивировано детским взглядом на мир, с его наивностью и верой в сказки.
Дети, требующие любви и постоянного внимания, для А. Ремизова – подлинная драгоценность жизни. Они представляют собой то прекрасное состояние человечества, которое не отягощено пороками, цинизмом, страхом. Но для наивных и непосредственных детей (или же взрослых, напоминающих детей, – а в заключительной части повествования к герою повести «В плену» возвращается детское мироощущение) мир столь же привлекателен, сколь опасен, жесток и груб.
Не случайно поэтому символическим образом, интегрирующим всё повествование, в повести А. Ремизова становится образ калеки-ребёнка с запуганными глазами, по-нищенски простирающего свои сухие руки (ч. 1, гл. 2). Стоит подчеркнуть, что этот образ не является самостоятельным, – по мере развития сюжета он становится всё более и более отчётливым в силу того, что в описании многих эпизодических персонажей выделяются полные страдания глаза и выражающие беспомощность руки (старик-арестант – 1 ч., 2 гл.; пятилетняя девочка – ч. 1, гл. 5; распутница – ч. 2, гл. 2; арестант из секретной – ч. 2, гл. 3; Аришка – ч. 2, гл. 4; Паранька – ч. 3, гл. 11 и др.).
Образ искалеченного ребёнка, возникающий в сознании героя повести «В плену», символизирует всё зло человеческого бытия и вызывает у него стремление искупить это зло ценой собственных страданий. «Страдание же, – как отмечает И. Ильин в своём исследовании творчества А. Ремизова, – есть состояние духовное, светоносное и окрыляющее; оно раскрывает глубину души и единит людей в полуангельском братстве; оно преодолевает животное существование, приоткрывает дали Божии, возводит человека к Богу… Христос не «мучился» на кресте, а с т р а д а л…»15. Именно по этому признаку герой повести «В плену» уподобляется Христу16, чьё пришествие в мир – по А. Ремизову – объясняет дуализм Добра и Зла как неразрывного единства.
«Миф о мире» А. Ремизова наиболее полно воплотился в одном из лучших произведений писателя – повести «КРЕСТОВЫЕ СЁСТРЫ». Её главный герой – «бедный чиновник» Пётр Маракулин, так же, как и герой повести «В плену», в силу не зависящих от него обстоятельств («слепой случай») оказывается в «ситуации отчуждения». При этом масштаб преступления и его последствий для героя во внешней, социальной жизни (тюремное заключение для героя повести «В плену» или утрата работы для Маракулина), по А. Ремизову, не имеет принципиального значения. Важен внутренний, психологический перелом в сознании героя, изменяющий его мироощущение: «Одному надо предать, чтобы через предательство своё душу свою раскрыть и уж быть на свете самим собою, другому надо убить, чтобы через убийство своё душу свою раскрыть и уж, по крайней мере, умереть самим собою, а ему, должно быть, надо было талон написать как-то, да не тому лицу, кому следовало, чтобы душу свою раскрыть и уж быть на свете и не просто каким-нибудь Маракулиным, а Маракулиным Петром Алексеевичем: видеть, слышать, чувствовать!» [с. 16]17.
Для Маракулина увольнение с работы (читай: утрата своего социального статуса, привычного образа жизни) сопровождается утратой детского, гармоничного мировосприятия, метафорическим выражением которого в повести А. Ремизова становится чувство «необыкновенной радости»: «…ещё рассказывал Маракулин о какой-то ничем не объяснимой необыкновенной радости, а испытывал он её совсем неожиданно: бежит другой раз поутру на службу и вдруг беспричинно словно бы сердце перепорхнёт в груди, переполнит грудь и станет необыкновенно радостно. И такая это радость его, так охватит всего и так её много, взял бы, кажется из груди, из самого сердца горячую и роздал каждому, – и на всех бы хватило» [с. 5].
«Подпольное сознание» накладывает свой отпечаток на личность Маракулина: навалившаяся беда, череда неудач и несчастий производит в нём необратимый переворот, превратив его из «недумающего» человека в «думающего». Увязнув в житейских трудностях, Маракулин пытается найти ответы на «проклятые» вопросы о смысле жизни, но мысль его, принимая форму гипнотизирующих ритмических частушек: «А для чего прожить? И для чего терпеть, для чего забыть – забыть и терпеть?» [с. 10], – замыкается на саму себя. И только надежда когда нибудь снова испытать чувство «необыкновенной радости» даёт ему силы жить, – по сути, приравнивается Маракулиным к обретению «права на существование»: «…он больше не соглашается жить так, не для чего, только видеть, только слышать, только чувствовать, а вошьей бессмертной, безгрешной, беспечальной жизни – царского права, той капли воды, какую ищет грешная душа на том свете, ему не надо. Он хочет и будет жить, но чтобы всего хоть один раз снова испытать свою необыкновенную радость…» [с. 54].
Собственно, поиски Маракулиным ответа на «проклятые» вопросы и составляют магистральный сюжет в повествовании, которое охватывает два года из жизни героя. Повествование о жизни Маракулина ведётся на фоне многочисленных эпизодических персонажей (Акумовна, Вера Николаевна, Вера Ивановна, Анна Степановна и др.), истории которых прерывают развитие основного сюжета. Вехи в сюжете не столько событийные, сколько психологические (сны, предзнаменования, мечты, разочарования). Линия внутренних переживаний героя – ломанная, с подъёмами и спадами, забеганиями вперёд и возвратами. Хронологическая последовательность в развитии сюжета не соблюдается, повествование начинается in medias res (с самого главного): 30-летнего Маракулина увольняют со службы; о предшествующих событиях из жизни героя и других действующих лиц сообщается в кратких ретроспективных экскурсах. Всю «мозаику» скрепляют тематические лейтмотивы, связанные с конкретными персонажами.
Тематические лейтмотивы Маракулина – экзистенциальная формула «человек человеку бревно» (парафраз широко известной пословицы «человек человеку волк») и навязчивый вопрос «как прожить?» – вводят в повествование тему отчуждения в современном мире. Своё логическое развитие она получает в знаменитом описании доходного дома Буркова (гл. 2), который в сюжетно-композиционной структуре произведения предстаёт как символ (= модель) Петербурга («Бурков дом – весь Петербург!..» [с. 19]) и шире – России. Обезличенной хронике петербургской (российской) жизни с её атмосферой отчуждения («Свадьбы, покойники, случаи, происшествия, скандалы, драки, мордобой, караул и участок, и не то человек кричит, не то кошка мяучит, не то душат кого-то – так всякий день» [с. 22]) в повести А. Ремизова противостоит образ «бродячей Святой Руси», «всё выносящей, покорной, терпеливой Руси, которая гроба себе не построит, а только умеет сложить костёр и сжечь себя на костре» [с. 68–79]. Олицетворением этой Руси являются Акумовна и крестовые сёстры, с их тематическими лейтмотивами: христианский рефрен Акумовны «обвиноватить никого нельзя», «потерянные глаза» Веры Николаевны, «изнасилованная душа» Анны Степановны и т. п. Они вводят в повествование тему древнерусской духовности с её универсальным образом терпения, покорности, принятия своей судьбы.
Двум основным тематическим лейтмотивам (маракулинскому вопросу «как прожить?» и перекликающемуся с ним христианскому ответу Акумовны «обвиноватить никого нельзя») в повести А. Ремизова структурно соответствуют два образа смерти – литературный и апокрифический. С апокалипсическим сном Маракулина контрастирует рассказ Акумовны о «хождениях по мукам». Расшифровка, анализ и выяснение функционирования «снов» в системе ремизовского текста – предмет отдельного разговора18. Сны у А. Ремизова часто являются п а м я т ь ю б у д у щ е г о перевёрнутой памятью прошлого, предвидением. Ключом к их разгадке становится философия писателя, его «миф о мире»: сны героев повести «Крестовые сёстры» связаны с поисками истины, «правды жизни» и невозможностью её обретения в земной реальности (Земля – обитель дьявола, а человек – его творение и жертва). Они дают выход в сферу мистического, ирреального, где совершаются пророчества и откровения.
Апокалипсические сны Маракулина и «крестовых сестёр» становятся метафорами современной России, находящейся на грани гибели. Ключевое звено в этой апокалипсической цепочке – видение Маракулина, происходящее от литературного образа Медного всадника: «Выйдя с Подьяческой на Садовую, стал он переходить на ту сторону и вдруг остановился: у ворот Спасской части, там, где висит колокол, теперь стоял пожарный в огромной медной каске, настоящий пожарный, только нечеловечески огромный и в медной каске выше ворот. И в ужасе Маракулин бросился бежать» [с. 72].
Это видение вызвано сексуальным переживанием: ему предшествует мучительная, в стиле Ф. Достоевского, сцена, где Вера Ивановна, которую любит Маракулин (хотя она и вынуждена торговать собой), жестоко над ним посмеялась; оно вписывает «сонную реальность» ремизовских героев в контекст «петербургского мифа». По сути, А. Ремизов предлагает свою интерпретацию мифа о проклятом городе, совмещая народную (Пётр I – антихрист, Санкт-Петербург – нерусский, безбожный город) и литературную (пушкинский «Медный всадник», петербургские повести Н. Гоголя и Ф. Достоевского) традиции: в повести «Крестовые сёстры» литературный миф Петербурга окружён фольклорным контекстом19.
Судьба Петербурга, согласно А. Ремизову, проецируется на судьбу Москвы и шире – России. Связывая два города общей судьбой: в сюжетно-композиционной структуре повести «Крестовые сёстры» их объединяет и образ Маракулина (родился в Москве, живёт в Петербурге), и образ Медного всадника в облике пожарного (Петербург – город наводнений, Москва – место пожаров), – А. Ремизов сознательно отходит от литературной традиции, которая противопоставляла эти города20. Для него принципиально важна другая оппозиция, метафорическим выражением которой становится поразительный образ кабинета Плотникова, возникающий в московских сценах повести (гл. 5): «Кабинет был разделён на две половины, на два отдела: с одной стороны копия с нестеровских картин, а с другой две клетки с обезьянами… Маракулин стоял между Святой Русью и обезьяной» [с. 91–92]. Именно в этой метафоре Иванов-Разумник увидел суть взглядов А. Ремизова на Россию21. Добавим, что свой выбор между «Святой Русью» и «Обезьяньей Россией» (обезьяна в данном контексте олицетворяет антихристово, сатанинское начало) должен сделать и Маракулин: поиски «виноватых» вне себя – служба сатане; искупление зла ценой собственных страданий – уподобление Христу.
Видение Медного всадника в облике пожарного свидетельствует о растущем отчаянии Маракулина, о его приближении к смерти и открывает важный тематический ряд:
– в ту же ночь Маракулину снится апокалипсический сон, в котором двор Буркова дома становится «смертным полем»: лежащие на нём обитатели дома («весь Бурков дом – весь Петербург») перечисляются в длинном, на целую страницу, перечне, а судьбу их решает всё тот же «нечеловечески огромный, в огромной медной каске» пожарный [4 гл., с. 72–75];
– накануне самоубийства Маракулин видит сон о смерти: в нём снова перечисляются все жители дома Буркова, собравшиеся во дворе, – «смертный список» («Родится человек на свет и уж приговорён, все приговорены с рождения своего и живут приговорёнными») и называется точное время смерти героя («…срок ему – суббота, один день остался» — гл. 6, с. 110–112]);
– в тот же день нелепо гибнет «бессмертная» генеральша-вошь Холмогорова, которую Маракулин наделил «царским правом», вынашивая в одну из «жестоких бурковских ночей» план её убийства («И вот царское право слепою случайностью отнято…» [с. 114]);
– окончательно отчаявшись обрести «право на существование» («И не хотел верить сну, и верил, и, веря, сам себя приговаривал к смерти» [с. 112]), Маракулин обращается к памятнику Петру I (явная аллюзия на пушкинскую поэму)22 с подчёркнуто абсурдным вызовом: «Пётр Алексеевич… Ваше императорское величество, русский народ настой из лошадиного навоза пьёт и покоряет сердце Европы за полтора рубля с огурцами. Больше я ничего не имею сказать!» [с. 115]23. Такое юродствование героя, оказавшегося в «пограничной ситуации», воспринимается не только как единственно возможная для него форма самоутверждения и протеста, но и – в контексте его затянувшихся поисков «виноватых»– как репрезентация заложенного в каждом человеке сатанинского начала;
– наутро Маракулин выпадает (или выбрасывается?) из окна; его смерть остаётся двусмысленной: читатель не может с уверенностью сказать, несчастный это случай или самоубийство. Смерть описана сухим языком газетного репортажа: «Маракулин лежал с разбитым черепом в луже крови на камнях на Бурковом дворе» [с. 123].
Финал повести лишь на первый взгляд допускает разночтения24. Мистический символизм А. Ремизова вызван глубоким погружением в национальную духовную традицию, несёт в себе её логику, следует её правилам. Особенно это проявляется в трактовке феномена смерти: у А. Ремизова, наследовавшего богомильское толкование мирокосма, смерть отождествляется с вечностью как сферой присутствия Бога25. Поэтому его героями (и Маракулиным в том числе) отметается страх смерти. Не случайно в финале повести к Маракулину возвращается как знак сознательно сделанного выбора его «источник жизни – необыкновенная радость»; не случайно свой выбор герой А. Ремизова делает в воскресенье (курсив автора) – его дух обретает свободу, воскресает26.
Мифологическое начало в «Крестовых сёстрах» усилено особенностями речевой организации повествования, которое представляет собой сложную форму сказа. Его основные черты – естественное для устной речи перескакивание с предмета на предмет, разговорная штриховая изобразительность, точная фиксация впечатлений, ведущий голос автора-повествователя – способствуют сближению книжной культуры с фольклорной. Хотя установка на сказ в прозе А. Ремизова 1910-х годов сохраняется, по сравнению с повестью «В плену», где импрессионистическая стихия выдвигает на первый план лирическое начало и ремизовский сказ временами выливается в «поток сознания» героя, сказовая речь в «Крестовых сёстрах» видоизменяется. Писатель отказывается от лирического стиля: рассказчик в «Крестовых сёстрах» не только беспристрастен, но и бесстрастен. На эту особенность повествовательной «школы Ремизова» одним из первых обратил внимание Б. Эйхенбаум. В статье «Страшный лад» он писал: «Недаром Ремизов так долго и упорно читает русские сказки. Здесь – сокровищница для его «школы». Здесь не рассказчик, а «сказитель». Он закрывает глаза, когда ведёт свой рассказ, и никому нет дела до его собственной души. Это – истинный эпос, и вот к нему-то обращается теперь наша художественная проза»27.
Казалось, после «Крестовых сестёр» в ремизовском сказе окончательно закрепилась эпическая основа текста, но спустя годы в период создания «субъективной эпопеи» «Взвихрённая Русь» – писатель возвращается к сказу на субьективной основе: развивая принципы драматургического повествования, А. Ремизов включает в сказ поток авторского сознания.
Итак, мировоззренческая концепция А. Ремизова определяется особым комплексом умонастроений, близких к мифологии богомилов и философии экзистенциализма. Условно-метафизическая направленность основных констант художественного мира А. Ремизова – «детское» и «подпольное» сознание, случай, выбор и др. – указывает на его стремление к постижению внутренней сути действительности, – к мифотворчеству. Мифологическое начало в прозе А. Ремизова усилено особенностями речевой организации повествования, которое представляет собой сложную форму авторского сказа. Особый план повествования создаётся за счёт сложной системы отсылок к произведениям, принадлежащим к разным уровням культурной и жанровой парадигмы. В прозе А. Ремизова всегда присутствует некий «сверхсмысл», отсылающий к его «мифу о мире».
2.3.3. «Quasi-этнография» – Михаил Пришвин
«Чёрный араб»
В творческой судьбе М. Пришвина многое значили его путешествия на Север, в Заволжье, в Среднюю Азию, на Дальний Восток. Во время путешествий сложился пришвинский принцип документально-точного (очеркового) изображения мира, определились важнейшие идеи и темы его творчества: идея целостности мира как природно-исторического единства в его движении к преображению; идея пути человека к первоначалам жизни, к целостности мироощущения и др. М. Пришвин-писатель отличался особой впечатлительностью человека, сумевшего сохранить органичную связь с окружающим миром. Мир для него был не только предметом художественного исследования, но и потрясающим переживанием. Каждое путешествие М. Пришвина, куда бы он ни отправлялся, в конечном счёте превращалось в путешествие к глубинам своего «я», в познание собственной души через приобщение к природе, к народной душе.
Стремление к самосознанию – личному и писательскому, с одной стороны, привело М. Пришвина в петербургские литературные круги: в «мастерскую» А. Ремизова, на «башню» Вяч. Иванова, в Религиозно-философское общество1, а с другой – вылилось в форму дневника, который ведётся им на протяжении всей жизни и «становится феноменологией личности, феноменологией художественного сознания»2. На особый характер полувековых дневниковых записей М. Пришвина и их центральное положение во всём его литературном наследии указывалось неоднократно3. Среди множества определений этого пришвинского феномена выделяется характеристика, которую дала В.Д. Пришвина: «Дневник М. Пришвина – это, вероятно, высшее в его искусстве… Может быть, в нём мы вступаем в ту область, которую М. Пришвин назвал «искусство как поведение»4. Знаменательно, что именно дневниковые записи лежат в основе большинства художественных произведений писателя.
Поэтическая проза М. Пришвина с трудом укладывается в рамки традиционной жанровой системы. Это объясняется синкретическим характером его художественного метода, органически сочетающего в себе самый смелый вымысел и фактографичность, эпическое и лирическое, поэзию и прозу. В известной мере многие произведения М. Пришвина – «В краю непуганых птиц» (1907); «За волшебным колобком» (1908); «У стен града невидимого» (1909); «Чёрный араб» (1910); «Славны бубны» (1913) и др. – близки к такой разновидности очеркового жанра как путевой очерк, форма которого достаточно гибка и свободно сочетает в себе факт и вымысел, документальность и художественность.
Вместе с тем М. Пришвин вообще был склонен чуть ли не все свои произведения называть очерками, имея в виду их подспудную, искусно скрытую документальность, биографичность, порой почти научную достоверность, – и только к концу жизни нашёл более точное определение созданной им литературной формы: повесть-сказка («Корабельная чаща», «Кладовая солнца») или сказка-быль («Осударева дорога»). Все свои последние произведения он называл не иначе как сказками. Но в понятие «сказка» («… люди живут не по сказкам, но непременно у живого человека из жизни складывается сказка»5) М. Пришвин вкладывал своё восприятие мира природы и человека в нём, подразумевающее обнаружение скрытых пластов бытия, видение реальной жизни в её богатейшей сущности, которую мы редко замечаем. Характерно, что себя самого писатель ощущал «археологом», «реставратором» – это метафора его подлинного творческого поиска, который заключался в изучении глубинных пластов народного сознания. Отсюда сочетание сказочно-поэтического и научно-этнографического начал, их «органическое примирение в мудром «родственном внимании» ко всякому явлению жизни» 6, определившее своеобразие пришвинской прозы.
Вершиной дореволюционного творчества М. Пришвина справедливо считается книга очерков «ЧЁРНЫЙ АРАБ», созданная на основе путевого дневника, который он вёл во время путешествия по Средней Азии7. Здесь впервые отчётливо реализуется творческое кредо зрелого М. Пришвина: «…не документальная точность, а мифичность»8.
Вопрос о жанровой природе «Чёрного араба» в исследовательской литературе решается неоднозначно. Показательна пестрота и терминологическая нестрогость предлагаемых определений: «лирическая поэма в прозе», «восточно-библейская поэма», «очерк-поэма», «очерк-легенда» и др.9 Как и другие произведения М. Пришвина, «Чёрный араб» совмещает в себе признаки различных жанровых форм и поэтому его жанровая природа не поддаётся однозначной трактовке. С одной стороны, это цикл очерков, сохраняющий все специфические черты очерка как жанра (достоверность реального материала, познавательное назначение), хотя реальный, жизненный материал дан здесь не в объективном его отражении, а в субъективно-лирическом преобразовании; с другой стороны, использование поэтического принципа организации художественно-речевой структуры позволяет исследователям говорить о превращении цикла очерков в поэтическую повесть, поэму. Однако поскольку сам писатель, как указывалось выше, незадолго до смерти сумел более точно охарактеризовать созданную им литературную форму, из всех жанровых определений «Чёрного араба» наиболее адекватным нам представляется «повесть-сказка», или «сказка-быль».
Оригинальность жанровой природы «Чёрного араба» отразилась и в особенностях организации повествования. Жанрово-композиционная структура повести-сказки М. Пришвина неоднородна, в ней рельефно выделяются два плана повествования, противопоставленные как с точки зрения содержания, так и с точки зрения формы. Первый план – фабульный, «реальный»; на его уровне излагается путевая событийная канва: встречи в дороге («Длинное ухо»), ночлег в степи («Пегатый»), приручение орла («Орёл»), пир («Волки и овцы») и т. д.; субъект речи здесь персонифицирован, повествование ведётся от первого лица, повествователь – реальный участник описываемых событий, который входит в изображаемый мир наряду с другими персонажами. Второй план – внефабульный, «лирический» – ориентирован на выявление связи авторского «я», которое осознаётся как микрокосм, с макрокосмом – миром, где существует и осуществляется связь всего живого. На этом уровне повествование ведётся обобщённо; субъект речи не выявляет себя ни в местоименных, ни в глагольных формах лица и не соотносится прямо с повествователем фабульного плана. В потоке повествования указанные композиционные планы – фабульный («реальный») и внефабульный («лирический») – оказываются тесно слитыми, но структурно они резко разграничены. Наиболее отчётлива грань между ними в начале и конце произведения (лирический зачин и лирическая концовка); по мере же развёртывания повествования связь между ними усложняется.
Открывает повествование торжественный, лирический зачин, развивающий тему крылатой новости и серо-красной пустыни – царства звёзд и тишины: «Сама родится новость в степи или прибежит из других стран – всё равно: она крылатая мчится от всадника к всаднику, от аула к аулу… Лишь у границы степи и настоящей пустыни новость чахнет, как ковыль без воды. И рассказывают, будто земля лежит без травы и новостей серо-красная, и такая там тишина, что звёзды не боятся и спускаются на самый низ»10. В приподнятом, поэтизированном характере речи ощущается явный сдвиг, нарушение нейтральной повествовательной нормы. Высказывание даётся в объективированной, безличной манере изложения. Развёрнутая метафоризация, изощрённый ритмический рисунок, вкрапление восточных экзотизмов (джигит, аул, хабар бар) создают яркую экспрессивность, лирическую модальность повествования.
К лирическому зачину непосредственно примыкает повествовательный отрезок фабульного плана, содержащий экспозицию: «Добрые люди мне посоветовали на время пути назваться арабом, и будто бы я еду из Мекки, а куда – неизвестно…» [с. 502]. Никакой прямой связи (перехода) между этими двумя отрывками нет: резко меняются тема, тональность, речевая организация сообщения, называется субъект речи, намечается событийная канва, – отрезки самостоятельны и независимы.
Вместе с тем экспозиция включает в себя фрагмент, связанный одновременно с обоими планами повествования: «Новость побежала, как буран по степи, до настоящей пустыни, до тишины, до серо-красной земли, до низких звёзд…» [с. 503]. С фабульным планом он связан тематически, естественно продолжая сообщение о том, что по степи понеслась весть о Чёрном арабе, с той, однако, разницей, что высказывание здесь даётся в ином стилистическом ключе – в экспрессивной тональности лирического зачина: повторяются его образы («тишина», «серо-красная земля», «низкие звёзды»), возвращается напевная интонация. Связь данного фрагмента с фабульным планом проявляется также в синонимичности лексем («слух» – «новость») и ретроспективном характере изложения. С внефабульным планом он связан единым принципом семантической организации, ритмическим строением фразы и безличной манерой изложения.
Всё последующее повествование столь же неоднородно и по композиционной структуре, и в стилистическом отношении. Стержнем его является то живой, динамизированный, то более ровный, спокойный рассказ о путешествии повествователя с проводником Исааком по степи, о происшествиях и встречах в пути. Однако рассказ – лишь основа фабульного плана, так как монологическое повествование зачастую переходит в диалог, сценическое действие, нередко вводится несобственно-прямая речь.
Осложняют фабульный план также различные авторские отступления, вводящие разнообразный познавательный материал географического и культурно-этнографического характера. Некоторые из этих отступлений приобретают характер лирической медитации: «Хочу встать – не могу. А Пегатый будто вот и подходит на самый край степи-пустыни. Земля серо-красная. Звёзды спускаются и лежат. Мчится жёлтое облачко диких коней; увидали Пегатого, остановились, ржут, зовут. Звёзды колышутся, поднимаются и опять опускаются, как искры, потревоженные лодкой на море…» [с. 513–514].
Разграничение фабульного и лирического плана в ходе повествования, как правило, выдерживается на сравнительно развёрнутых участках текста (отдельные абзацы внутри глав-очерков: «Молодая жена, дочь благородного хаджи, садится перед своим костром и красит по-девичьи свои ногти в красный цвет и расплетает свои волосы на двенадцать кос, будто девушка. Берёт свою алую шапочку, выдёргивает драгоценные перья из живого филина, подаренного ей возлюбленным, по-девичьи, будто весной, украшает шапочку перьями мудрой птицы, и падают двенадцатью чёрными змейками косы из-под перьев на смуглую шею…» [с. 531]). Однако может быть и не столь резким: в этом случае возникает лишь некий экспрессивный ореол, освещающий отдельные участки фабульного повествования, это либо яркая метафора, либо образный грамматический сдвиг, вспыхивающие экспрессией на нейтральном фоне повествования.11
Завершает повествование лирическая концовка: повествователь вновь исчезает из текста, высказывание, как и в зачине, становится безличным, возвращается прежняя экспрессивная окрашенность речи, завершается лейтмотивное развитие образов лирического плана: «Скачет ощипанный филин. Катится чёрное перекати-поле. Полк за полком уводят старые журавли молодых в тёплые края. Верблюды всё шагают и шагают, попадая широкой мозолистой ступнёю в старый след на кочевой дороге… А в настоящей пустыне, где земля без людей и трава лежит серо-красная, от оазиса к оазису несут дикие кони весть о Чёрном Арабе…» [с. 532]. Кольцевая композиция «Чёрного араба» отражает один из архетипических мыслеобразов М. Пришвина – образ круга, «жизненного круговорота», который органически входит в художественный язык писателя как метафора рефлексирующего сознания художника, стремящегося к самопознанию, и выражает идею пути человека к изнаначальной жизни, к целостности мироощущения.
Двуплановость жанрово-композиционной структуры существенным образом определяет и природу хронотопа повести М. Пришвина. Пространственно-временную модель «Чёрного араба» можно представить в виде оппозиции: «реальное пространство, историческое время» – «ирреальное пространство, мифологическое время». Данное противопоставление наиболее полно реализуется в образах «степь-пустыня – земля обетованная».
Пространство фабульного плана («степь-пустыня») представляет пространство реальное, наделённое предметностью, конкретно-заполненное. Основной особенностью описания пространства фабульного плана является тенденция к чёткости изображения, к точности в передаче цвета и света, поз и положений описываемых лиц и предметов: «К полудню солнце в степи белеет. Мы останавливаемся у колодца попоить лошадей. Исаак расстилает халат и молится богу. Карат, Кулат и Пегатый в ожидании, когда кончит Исаак молиться, согнули головы и звездой смотрят вниз, в отверстие колодца… Даже кобчик не побоялся упасть в это время на птичку возле самого халата Исаака, но промахнулся и помчался в степную даль. Исаак будто и не заметил и всё стоит на халате, ладони по-прежнему набожно сложены, но глаза без молитвы мчатся за птичкой…» [с. 505].
Отдельные детали фабульного пространства связаны со всем спектром человеческих чувств и особенно со зрительным восприятием – созерцанием. Каждая деталь, зрительный образ фабульного пространства выступает отдельно, самостоятельно: как справедливо отмечает Г. Гачев, питание своего «я» повествователь М. Пришвина «черпает лицом (как ковшом), к лицу души каждого существа оборотясь»12. Однако мифологическая цельность общей картины очевидна: каждая деталь фабульного пространства важна, ибо имеет отношение к существу мира, к целому, в котором даже самое незначительное событие приобретает космическую значимость.
Реальное пространство фабульного плана изображается и статически, и динамически. В обоих случаях характер изображения, причины видения мотивированы пространственной позицией повествователя. Вот, например, изображение, данное с неподвижной точки зрения: «Скоро под окном кто-то постучал и сказал: «Араб здесь?» «Здесь араб!» – ответил я и выглянул в окно. Там, на берегу солёного озера, стояла тележка и два сытых коня, а у окна – киргиз в широком халате и с нагайкой в руке» [с. 503]. В этом описании всё достоверно: пока повествователь находится внутри помещения, он не может видеть того, кто подъехал (соответственно, употребляется местоимение «кто-то»); но как только он начинает воспринимать происходящее из окна, естественно, что он видит сначала дальний план («там, на берегу солёного озера…»), а затем ближний («а у окна – киргиз в широком халате…»).
Трансформация действительности на уровне фабульного плана мотивируется передвижением повествователя, обусловливающем быструю смену неподвижных объектов, входящих в его поле зрения («мелькание»), что создаёт впечатление внезапно ожившей степи: «Мне стоит только толкнуть тяжёлыми сапогами Пегатого в бока, и края малахая на голове завёртываются назад, как уши у гончей. Ветер свистит. Конёк кипит. Степь оживает. Она не мёртвая: она вся живая от конца до конца и вся поднимается, вся отвечает человеку…» [с. 506]. Границы изображения реального пространства фабульного плана могут быть и узкими, и широкими, но они достоверны. Если что-то не попадает в поле зрения повествователя, то это отмечается в описании: «В это время в ауле остатки семьи старика возились со стадами. Что они там делали, нам было не видно: вероятно, доили коз, кобылиц и верблюдиц…» [с. 510].
Действующие лица фабульного плана реальны, персонифицированы: проводник Исаак, старик-пастух, кочевники (некоторые из них поименованы: Джанас, Кульджа, Ауспан; другие представлены нарицательно: судья, мулла и др.); общая масса дана нерасчленённо: «так хохочут в степи», «со всех сторон впиваются зоркие степные глаза», «входят в юрту всё новые и новые люди» – и отстраненно: «тонкий с медно-красным лицом», «толстобрюхий с крысиными хвостиками», «с тюленьей головой» и т. д. Все они связаны идеей замкнутого мира, построенного по закону циклического движения, которому подчинён и мир природы, и мир народной души. Их архаическое сознание, претендующее на самодостаточность, не только в определённой степени агрессивно ко всякому культурному построению (науке, книге), но и принципиально зависимо от традиции, культуры, веры. А способность к автономной жизни возвращает их к первоначалу, к временам Адама. Не случайно при взгляде на сыновей Джанаса у повествователя возникают ассоциации с Каином и Авелем («Степной оборотень»).
При изображении реального пространства фабульного плана спорадически фиксируется и временная перспектива (общее время путешествия: осень – начало зимы; часть суток: утро, день, вечер, ночь; положение солнца на небе и т. п.). Основополагающие принципы пришвинского движения во времени точно подметил Г. Гачев: «У нас культ исторического движения, бега – с Петра… «Русь! куда же несёшься ты?..», «Летит степная кобылица и мнёт ковыль…», – а у М. Пришвина «вместо быстрой езды – медленная ходьба», отвечающая стремлению писателя запечатлеть неповторимые мгновения жизни природы и движения души человека»13.
Пространство лирического плана («земля обетованная») – это пространство, лишённое материальной заполненности и определённой протяжённости. Границы видения здесь масштабные, почти космические – обозреваются одновременно земля, небо и звёзды. Характер видения, как и границы видения, объективно не мотивируется. Если в реальном пространстве фабульного плана изображение в целом соответствует объективным законам, то в ирреальном пространстве лирического плана причинно-следственная обусловленность явления заменяется фантастической, производной: «Мы молчим. Звёзды тихо мерцают над нами, будто дышат, будто заметили нас возле тележки, и улыбаются, и шепчутся; и от звезды к звезде и по всему Млечному Пути такая большая семейная радость…» [с. 512]. Иллюзия достоверности в ирреальном пространстве лирического плана не соблюдается и, как в волшебной сказке, становится возможным выход за границы объективной необходимости и неподвластных человеку физических законов: кони летают, обмениваются новостями; звёзды улыбаются, шепчутся и т. п.
Действующие лица лирического плана условны, вымышлены, метафоричны: крылатые кони, говорящие звёзды, таинственный Чёрный араб. Нет здесь и временной определённости: употребление грамматических форм настоящего и будущего времени со специфическим абстрактным значением создаёт впечатление вневременности изображаемого: «А в настоящей пустыне, где земля без людей и трава лежит серо-красная, от оазиса к оазису несут дикие кони весть о Чёрном Арабе. За этой пустыней текут семь медовых рек; там не бывает зимы; там будет вечно жить Чёрный Араб» [с. 532].
На уровне лирического плана в повести М. Пришвина возникают образы-символы: прямая («Наша кочевая дорога вьётся двумя колеями, поросшими зелёной придорожной травой, вперёд и назад одинаково, словно это две змеи вьются по сухому жёлтому морю…» [с. 504]) и круг («В юрте пастухов – будто внутри воздушного шара…» [с. 515]). На основе этих образов строится модель его художественного мира. С одной стороны, круг символизирует мир, ориентированный на примитивные формы жизни, мифологические основы народной души, жизнь природы; с другой стороны, прямая ассоциируется с миром, где жизнь предстаёт как движение, становление, выход из замкнутого мира в мир мечты («За этой пустыней текут семь медовых рек…»).
Образ повествователя в произведении М. Пришвина также раздваивается, причём как в его собственном сознании («Вот уже целый месяц я блуждаю в степи по кочевым дорогам, и со мною блуждает мой двойник…» [с. 515]), так и в сознании читателей. На уровне фабульного плана он воспринимается как путешественник, изучающий «страну, где люди живут так, как жили все люди в глубине веков» [с. 526], а на уровне лирического плана – как мифический Чёрный Араб, которому суждено вечно жить в памяти кочевников. Характерно, что к концу путешествия повествователь ощущает себя в большей степени «обыкновенным киргизом», а образ Чёрного Араба окончательно абстрагируется: «Нет, – подумали мы, – здесь уже нет Чёрного Араба. Здесь у костра сидит обыкновенный киргиз в широком халате и зелёном малахае, его теперь все знают, он – как все. А тот всё едет до настоящей пустыни, до низких звёзд, где только дикие кони перебегают от оазиса к оазису. Теперь тот настоящий араб, а не этот…» [с. 531].
Итак, в повести-сказке М. Пришвина «Чёрный араб» поэтическое преображение мира сочетается с научной достоверностью. На основе реального материала из жизни степных кочевников в произведении М. Пришвина, наряду с основным, фабульным планом, развёртывается второй, лирический план, – мечта о земле обетованной, идеальном, с точки зрения автора, укладе жизни на лоне нетронутой экзотической природы, где «текут семь медовых рек», где «не бывает зимы», где «дикие кони, будто жёлтое облако, перелетают от оазиса к оазису», где «от звезды к звезде и по всему Млечному Пути такая большая семейная радость».
В 1910-е годы окончательно устанавливается пришвинский принцип поэтической обработки документального материала. Все последующие произведения М. Пришвин пишет в том же стилистическом ключе, что и «Чёрный араб»: сочетание сказочно-поэтического и научно-этнографического начал становится жанрообразующим признаком пришвинской прозы.
* * *
Проза Ф. Сологуба впечатляет прежде всего простотой повествовательного стиля – минимализмом, затем – кругом повторяющихся мотивов: от одиночества, отчаяния, страха перед жизнью и поэтизации смерти до чистоты детской души и мечты о преображении мира; и наконец – мифологической картиной мира. По Ф. Сологубу, истинную сущность человека, свободную от пошлых наслоений жизни, символизирует чистота детской души, а жизнь постепенно омертвляет человека, лишает его надежд и идеалов. Абсолютизация зла реальной действительности приводит Ф. Сологуба сначала к поэтизации смерти, избавляющей человека от тягот земной жизни, а затем – к мечте о творческом преображении мира, о самоусовершенствовании («путь в Дамаск»).
Дуалистичность мира в прозе Ф. Сологуба обозначена посредством оппозиций «жизнь – смерть», «действительность – мечта», которые реализуются через литературно-мифологические образы Евы и Лилит, Альдонсы и Дульсинеи. Мистерия Ф. Сологуба – превращение Альдонсы в Дульсинею, яви в фантазию, он воспевает не солнечную Еву – жизнь, а лунную Лилит – смерть. В его произведениях умирают только наделённые даром совестливости, не утратившие способности смотреть вверх, в бесконечность. Это «милосердная жестокость» сологубовской любви к человеку, медленно, мучительно, от воплощения к воплощению, движущегося по пути самоусовершенствования (душа воспитывается, изживая зло!). Приспособившиеся к миру пошлости и цинизма – румяные, дебелые, удовлетворённые, конечные – в его произведениях не умирают, не могут умереть: их Ф. Сологуб казнит жизнью14.
Мировоззренческая концепция А. Ремизова определяется особым комплексом умонастроений, близких к мифологии богомилов и философии экзистенциализма. В прозе А. Ремизова выстраивается универсальная картина положения человека в мире: слепой случай, вторгаясь в жизнь ремизовских героев, разрушает их детское, гармоничное мировосприятие и становится толчком к отчуждённости. Оказавшись в ситуации отчуждения («подполья»), они пытаются найти ответы на «проклятые» вопросы о смысле жизни, но осознав бесполезность своих усилий воздействовать на мир и изменить свою судьбу, приходят к мысли о неустранимости зла, неизменности миропорядка. В конечном счёте писатель подводит своих героев к необходимости нравственного выбора «между Святой Русью и обезьяной». Стремление искать виноватых вовне создаёт мнимую реальность повседневья – путь сатаны (закрепощение духа), искупление зла путём собственных страданий открывает истинное знание о мире – путь Христа (освобождение духа). Условно-метафизическая направленность основных констант художественного мира А. Ремизова – «детское» и «подпольное» сознание, случай, выбор и др. – указывает на его стремление к постижению внутренней сути действительности, к мифотворчеству.
Мифологическое начало в прозе А. Ремизова усилено особенностями речевой организации повествования, представляющего собой сложную форму авторского сказа, который, несмотря на насыщенность приметами устной речи, не только не несёт интонаций бытового сказа (в отличие от ряда произведений Н. Лескова), но, более того, является изысканной литературной конструкцией15. Основные черты ремизовского сказа – естественное для устной речи перескакивание с предмета на предмет, разговорная штриховая изобразительность, точная фиксация впечатлений, ведущий голос автора-повествователя, – способствуют сближению книжной культуры с фольклорной. Особый план повествования создаётся за счёт сложной системы отсылок к произведениям, принадлежащим к разным уровням культурной и жанровой парадигмы. Поэтому в прозе А. Ремизова всегда присутствует некий «сверхсмысл», отсылающий к его «мифу о мире».
Проза М. Пришвина стилизована под путевые очерки (этнографические заметки): она с трудом укладывается в рамки традиционной жанровой системы, так как свободно сочетает в себе документальность, биографичность, почти научную достоверность и поэтический вымысел, мифотворчество. Поэтика М. Пришвина тяготеет к символике мифа, модель его художественного мира строится на основе двух образов-символов – прямой и круга. Образ круга («жизненный круговорот») входит в поэтический язык писателя прежде всего как метафора рефлексирующего сознания художника, самопознания и символизирует мир, ориентированный на мифологические основы народной души, жизнь природы; образ прямой («идея пути») ассоциируется с миром, где жизнь предстаёт как движение, становление, выход из замкнутого мира мифа в мир мечты, сказки.
Уже в названиях лучших дореволюционных произведений М. Пришвина («В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком», «У стен града невидимого», «Чёрный араб» и др.) присутствует сказочно-мифологический элемент славяно-языческой духовности русского народа, на которую христианство наносит свой слой ценностей. Неортодоксальная вера М. Пришвина («христианско-языческая религиозность») в сочетании с культом природы определяет своеобразие его творческого метода. Проза М. Пришвина при всей своей фактографичности не претендует на объективность, её жанровое содержание сориентировано на «квази-этнографию», на повествование об искреннем религиозном паломничестве, с характерной для него непрерывностью движения в пространстве природы и мифа. В 1910-е годы окончательно устанавливается пришвинский принцип поэтической обработки документального материала: после «Чёрного араба» сочетание сказочно-поэтического и научно-этнографического начал становится жанрообразующим признаком его прозы.
Темы для рефератов
1. Мифологическая картина мира в прозе Ф. Сологуба.
2. Основные мотивы творчества Ф. Сологуба.
3. Художественный мир А. Ремизова.
4. Типология героев в произведениях А. Ремизова.
5. Тематические лейтмотивы повести А. Ремизова «Крестовые сёстры».
6. Своеобразие творческого метода М. Пришвина.
2.4 Сказово-орнаментальная парадигма: А. Белый – Е. Замятин – И. Шмелёв
2.4.1. «Русский Джойс» – Андрей Белый
«Серебряный голубь»
Во второй половине 1900-х годов у А. Белого возник замысел трилогии «Восток или Запад». В ней писатель предполагал осмыслить вопрос о национально-исторической судьбе России, оказавшейся на пересечении двух главных тенденций мирового исторического процесса – западной и восточной, европейской и азиатской. Взгляд на Россию как на пограничную, рубежную страну, – и разделившую, и прочно связавшую два различных жизненных уклада, две сферы существования, – не был нов в начале XX века. Ещё со времени первых западников и славянофилов в борьбе или органическом сочетании двух полярных культурных начал – азиатского и европейского – виделись и трагедия России, и её особое предназначение.
Для А. Белого этот давний спор после русско-японской войны и революции 1905 года обрёл особую актуальность. Выход для России он видел в преодолении обеих этих тенденций – и восточной, и западной, что, по мысли писателя, должно было вернуть страну к национальным истокам, к той почве, на которой созидалась её культура и в допетровский, и даже в домонгольский период1. Попытку художественной реализации этой концепции А. Белый предпринял в повести «Серебряный голубь» (1909) и романе «Петербург» (1911–1913). Многочисленные исследователи единодушно признают их лучшими произведениями в дореволюционном творчестве А. Белого. При этом повесть «Серебряный голубь» как первая часть задуманной трилогии отразила преимущественно восточное, иррациональное начало, а роман «Петербург» – противоположное, западное, рациональное. Заключительная часть – книга «Невидимый Град», в которой автор намеревался указать пути к разрешению конфликта между рациональным Западом и иррациональным Востоком, не была издана, так что трилогия осталась незавершённой2.
Принято считать, что повесть «СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ», как ни одно другое произведение А. Белого, соединила в себе глубоко интимные переживания писателя с обобщениями самого широкого историко-культурного плана. Действительно, подобный сплав личного опыта и глобальных проблем века, его «проклятых» вопросов как особая примета символизма показателен именно для этой повести А. Белого.
Сюжетно «Серебряный голубь» примыкает к многочисленным произведениям 1900-х годов, трактующим вопросы взаимоотношения народа и интеллигенции. Герой повести московский студент Пётр Дарьяльский, прототипом которого многие современники и позднейшие исследователи считали автора, «силится преодолеть интеллигента в себе в бегстве к народу»3. Он расстаётся с привычным для себя образом жизни, со своей невестой и поступает в работники к столяру Кудеярову, руководителю тайной секты «голубей». Таинственные чары Кудеярова и страстное влечение к «духи-не» «голубей», рябой бабе Матрёне, чудовищной и притягательной одновременно, порабощают Дарьяльского4. Однако опьянение «голубиным» мистическим экстазом неизбежно приводит его к трагическому концу: «голуби», убедившись, что Матрёна не сможет родить от Дарьяльского «духовное чадо» (а именно с этой целью он был завлечён в их сообщество) и боясь разоблачения секты, убивают его.
Такова сюжетная схема повести «Серебряный голубь», отличающейся, при всём её «символизме», необычайной для А. Белого реалистичностью: здесь рельефно запечатлён крестьянский, городской и поместный бытовой уклад, подробно воссозданы психологические мотивы поведения героев5.
Повесть А. Белого написана в форме «орнаментальной» (неклассической) прозы, совмещающей в себе характерные черты прозы и поэзии6. Структурная связь с поэзией определилась на самом раннем этапе развития орнаментальной прозы, и именно она позволила осознать орнаментальную прозу как нечто качественно отличное от классической прозы. Однако следует учитывать, что близость орнаментальной прозы к поэзии выражается прежде всего в специфическом характере слова и в особенностях организации повествования. При этом, как справедливо отмечает Н.А. Кожевникова, «приближение ритма прозы к стихотворному ритму – явление не обязательное, хотя и встречающееся в орнаментальной прозе»7. Основа организации повествования в орнаментальной прозе – повтор и возникающие на его основе сквозная, словесная тема и лейтмотив8.
В повести А. Белого повторяются не только определённые слова, но и слова одного смыслового плана, отдельные предложения, образы, целые сцены. Повествование организуют сходные и контрастные внутренние словесные темы и лейтмотивы, которые создают его единство. Как и в лирическом стихотворении, развитие этих тем может исчерпываться внутри небольшого отрывка (например, абзаца):
«Солнце стояло уже высоко; и уже склонялось солнце; и был зной, и злой был день; и днём тускло вспотело тусклое солнце, а всё же светило, но казалось, что душит, что кружит голову, в нос забирается гарью, простёртою не то от изб, не то от земли, перегорелой, сухой: был день, и злой; и был зной, когда судорожно сжимается сухая гортань: пьёшь воду в невыразимом волнении, во всём ища толк, а томная, тусклая пелена томно и тускло топит окрестность, а окрестность – вот эта овца и вон та глупая баба – без всякого толка воссядут в душе, и, дикий, уже не ищешь смысла, но ворочаешь глазами, вздыхаешь. А злые мухи? Вздохом глотаешь злую муху: звенят в нос, в уши, в глаза злые мухи! Убьёшь одну, воздух бросит их сотнями; в мушиных роях томно тускнет сама тоска»9.
Однако это лишь один из частных принципов организации повествования. Как правило, одни темы, организуя небольшой контекст, затухают, другие продолжают развиваться, перекликаясь с последующими частями текста (проблемы «почвы» и «культуры», противопоставление народной поэзии и античности: «…вместо строчек из Марциала, неожиданно для себя, он стал насвистывать: «Гоо-ды заагаа-даа-мии праа-хоо-дяят гаа-даа… Паа-гии-б я маа-льчиишка, паа-гииб наа-всии-гда»» [с. 41], сочетание «бесовского» и «ангельского», «голубиного» и «ястребиного» в народной душе и др.).
Лейтмотив у А. Белого – это и характерный «сопроводительный» штрих портрета, речи, поведения персонажа. Так, жизнь Дарьяльского целиком определяет «борьба излишней оглядки слабосилья с предвкушением ещё не найденной жизни поведенья», бросающая его в «хаос, безобразие жизни народа» [с. 152]; в облике Кати постоянно подчёркиваются детские («детское сердце»), в облике Матрёны – одновременно притягательные («голубиные») и отталкивающие («ястребиные»), а в облике Кудеярова – половинчатые («пол-лица», «смесь свинописи с иконописью», заикание) черты. Эти черты по мере развития повествования приобретают дополнительные оттенки и выстраиваются в единую линию. В результате возникают переклички не только внутри замкнутых фрагментов текста, но и между разными фрагментами, далеко отстоящими друг от друга. В то же время образы героев А. Белого подвижны, зыбки, лишены резких контуров, подвержены различного рода трансформациям. Их характеризует в первую очередь не столько внешний портрет (он скуп, иногда схематичен: какой-нибудь отличительный штрих, жест, манера говорить и т. п.), сколько содержание и образ мысли.
Одной из композиционных особенностей орнаментальной повести А. Белого является её двуплановая символическая структура: за планом стилизованного быта скрыт план мистический. В жанрово-композиционной структуре произведения это находит выражение как в одновременном, совмещённом параллелизме этих планов, так и в параллелизме последовательном10. Основные темы повести, в том числе и главная – судьба России, – отражаются в мистическом плане, который несёт основную сюжетную нагрузку. А. Белый рассматривает Россию как центр борьбы восточных и западных сил11. Даже географические понятия наполняются в повести символическим смыслом: в центре России находятся село Целебеево и усадьба Гуголево; село лежит к востоку от усадьбы, усадьба – к западу от села. Соответственно, жители села символизируют восточное, а обитатели усадьбы (семья Тодрабе-Граабен) – западное начало. Дарьяльский же мечется между селом и усадьбой, между Востоком и Западом. В результате в мистическом плане повести Россия предстаёт в нескольких ипостасях. С одной стороны, квинтэссенцией русского, по А. Белому, является мистико-эротическая секта «голубей» в лице её «духини» рябой бабы Матрёны; а с другой стороны, Россию символизирует воспитанная на дворянской (а следовательно западной) культуре невеста Дарьяльского Катя с «девичьим раненым сердцем» – и это, очевидно, главная её ипостась.
Вместе с тем Россия с её «подлинной», «не сказавшейся» тайной в повести «Серебряный голубь» противопоставляется как Западу: «Много есть на западе книг; много на Руси несказанных слов. Россия есть то, о что разбивается книга, распыляется знание, да и самая сжигается жизнь; в тот день, когда к России привьётся запад, всемирный его охватит пожар: сгорит всё, что может сгореть, потому что только из пепельной смерти вылетит райская душенька – Жар-Птица» [с. 302], так и Востоку: «…ужас, петля и яма: не Русь, а какая-то тёмная бездна востока прёт на Русь» [с. 340]. Так через проекцию на Россию А. Белый бессодержательные формы Запада противопоставляет бесформенному содержанию Востока, голую логику – беспорядочной мистике. Этот дуализм, стремящийся к монизму, призван ликвидировать Пётр Дарьяльский, одинаково подверженный влиянию восточных и западных сил.
Характерно, что спор Востока и Запада в душе героя повести А. Белого отражается в изменении тональности повествования, в котором превалируют то фольклорные, то литературные черты. Уже в завязке этого своеобразного стилевого конфликта, развивающегося параллельно конфликту событийному, – в эпизоде первого столкновения Дарьяльского с Матрёной, задаётся модель «заражения» интеллигентского сознания героя образами народно-поэтической речи и выявляется механизм этого «заражения» – вторжение в его сознание чужой воли, а вместе с ней и чужого слова: «Рябая баба, ястреб с очами безбровыми, не нежным со дна души она восходила цветком, и не вовсе грёзой, или зорькой, или медвяной муравкой, а тучей, бурей, тигрой, оборотнем вмиг вошла в его душу и звала… Так думал Дарьяльский – не думал, потому что думы без воли его совершались в душе» [с. 40]. Матрёна словно околдовывает, усыпляет Дарьяльского, и это состояние героя передаётся как погружение его сознания, представленного в повести обычно в формах несобственно-прямой речи, в стихию фольклорной стилизации: «Ночь. Пусто и чутко кругом; вдали – гики; ждёт-пождёт в дупле Матрёну Дарьяльский; её нет; катится ясный месяц по небу; издали птица болотная голос подаст, и потом притаится надолго: протекают минуты, как вековечные веки; будто не ночь исполнилась в небеси, а сама человеческая жизнь, долгая, как века, краткая, как мгновенье… Люба, милая люба, что ж ты нейдёшь?..» [с. 317–318].
Когда же Дарьяльский сбрасывает с себя «восточное» оцепенение и в нём просыпается «западная», интеллигентская рефлексия, то в его внутренних монологах (и в граничащем с ними, подхватывающем их интонации «авторском» повествовании) начинает господствовать литературная речь. Так, в третьей главе, действие которой переносится в Гуголево, повествование переполнено реалиями западной культуры: по контрасту с реалиями, связанными с народной жизнью, здесь возникают специфические, редко употребляющиеся в повседневности имена и понятия: Эккартгаузен, Расин, Вилламовиц-Меллендорф, Бругманн, жук Аристофана, мистический анархизм и т. п. Однако к концу главы «восточное» начало в сознании Дарьяльского опять возрастает. Уход героя из усадьбы, «туда на восток в беспутство» сопровождается новой волной фольклорных мотивов: старый дом навсегда прощается с ним словами народных причитаний («Я ли дни твои не покоил…»); чувствам героя созвучны слова «жестокого романса», доносящегося до него из тьмы ночных полей («Зачем ты, биизуум-ная, гуубишь таво, кто увлёкся табой»); в ночи его обступают персонажи народной демонологии – баба Маланья (зарница) и раскоряка… [с. 180–187].
Конфликт Востока и Запада отражён и в столкновении интонаций различных персонажей, борющихся за душу Дарьяльского: аналитической речи барона Тодрабе-Граабен с «мистическими поучениями столяра Кудеярова, теософской лексики Шмидта – с духовными стихами-заклинаниями «голубей». Наибольшего напряжения конфликт достигает к концу шестой главы, после попытки барона убедить Дарьяльского в фантасмагорической природе его увлечённости Матрёной и вернуть его в Гуголево, в лоно европейской культуры: «Проснитесь, вернитесь обратно… На Запад: там ведь Запад. Вы – человек Запада…» [с. 335]. И хотя герой сначала отвергает его доводы, причём делает это в «восточной», безрассудно-экстатической форме («Отыди от меня, Сатана: я иду на восток» [с. 335]), именно во многом благодаря увещеваниям барона он начинает сознавать неистинность и гибельность избранного пути. Пробудившееся сознание подсказывает, что секта, в которую он втянут, «не Русь – а тёмная бездна Востока», что Матрёна – не «голубица», а «звериха», что в облике духовного пастыря секты столяра Кудеярова иконопись смешана со «свинописью» [с. 338–348].
В последней, седьмой главе, когда сознание Дарьяльского окончательно вырывается из-под власти восточного начала, фольклорная стилизация исчезает из повествования. Тревожные внутренние монологи главного героя и практически сливающиеся с ними авторские лирические отступления («Вечер осенний! Хорошо ли ты помнишь, как он бывает тих…» [с. 381–383]; «Бледные, бледные, бледные лица – знаете ли вы их?..» [с. 399–400]; «Разве в такие минуты о чём-либо думают?..» [с. 402] и др.) до самого конца повести сохраняют устойчивый подчёркнуто-литературный характер.
Переходы от одной повествовательной манеры к другой в повести А. Белого обусловлены ещё и тем, что поэтическая система «Серебряного голубя» в целом сориентирована на прозу Н. Гоголя12. Приметы воздействия прозы Н. Гоголя в «Серебряном голубе» реализуются на разных уровнях повествования – от звуко-смысловой организации текста до создания собственных имён персонажей по гоголевской модели13. Многообразно используются специфически гоголевские стилевые приметы: читателю нетрудно соотнести те или иные фрагменты повести А. Белого с хрестоматийно известными лирико-патетическими монологами из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» или «Мёртвых душ», а сюжетные коллизии бытового плана «Серебряного голубя» – с гротескными фигурами и положениями из «Миргорода» и т. д. Многие фрагменты повести А. Белого представляют собой откровенные вариации на гоголевские темы, а отдельные персонажи и ситуации воспринимаются как вариации гоголевских мифологических первообразов. Так, генерал Чижиков представляет собой ироническую трансформацию гоголевского Чичикова; Катя Гуголева (её фамилия и название имения – Гуголево – рождается из фонетического сходства с фамилией Гоголь) ассоциируется с Катериной из «Страшной мести», столяр Кудеяров – с Колдуном из этой же повести, а Дарьяльский – и с Колдуном (он наделён такими атрибутами этого гоголевского героя, как «красная рубаха» и «глаза-уголья, прожигающие душу дотла»), и с жертвой Колдуна14.
Подобно гоголевским «Вечерам на хуторе близ Диканьки» повествовательная система «Серебряного голубя» вбирает в себя элементы сказа15. Тем не менее вряд ли есть веские основания говорить о сказовой форме «Серебряного голубя». Повесть А. Белого лишь имитирует сказ, что подчёркивается вводом особой фигуры рассказчика, который живёт в сфере стилизованного быта: ему известно то, что знают все, – по крайней мере, все люди его круга; он, подобно миргородскому обывателю, проявляет широкую осведомлённость в местных делах и отношениях семейно-бытового порядка, но отмечает только те явления, которые лежат на поверхности и, в отличие от гоголевского рассказчика, определённого социального статуса не имеет.
По сути, в «Серебряном голубе» А. Белый использует несколько сказовых масок:
• село Целебеево описывает сельский рассказчик, своего рода целебеевский Рудый Панько: «Славное село Целебеево, подгородное; средь холмов оно да лугов; туда, сюда раскидалось домишками, прибранными богато, то узорной резьбой, точно лицо заправской модницы в кудряшках, то петушком из крашеной жести, то размалёванными цветиками, ангелочками… Славное село! Спросите попадью: как приедет, бывало, поп из Воронья (там свекор у него десять годов в благочинных), так вот: приедет это он из Воронья, снимет рясу, облобызает дебелую свою попадьиху, оправит подрясник, и сейчас это: «Схлопочи, душа моя, самоварчик». Так вот: за самоварчиком вспотеет и всенепременно умилится: «Славное наше село!» А уж попу, как сказано, и книги в руки; да и не таковский поп: врать не станет…» [с. 31–32];
• уездный город Лихов описывает горожанин, отчасти напоминающий рассказчика-хроникера в «Бесах» Ф. Достоевского: «…обитатели богоспасаемого сего городка вели образ существования своего между двумя, так сказать, безднами: бездной пыли и бездной грязи; и все делились – на любителей грязи и любителей пыли – все без исключения… выражение богоспасаемый применимо к городу Лихову, скорей, как риторическая форма для украшения; откровенно говоря, Лихов был город, неспасаемый, так сказать, никогда, никем и ничем: истребляемый, наоборот, желудочными болезнями, пожарами, пьянством, развратом и скукой…» [с. 95–96];
• дворянскую усадьбу представляет персонаж из барской среды, явно учитывающий опыт повествователей из «усадебных» повестей И. Тургенева: «Евсеич!.. Где есть лакей, подобный ему: точь-в-точь лакей! Вообразите себе лакея: времена уж не те; и лакей, можно сказать, с давних пор упраздняется вовсе; сошёл лакей на нет; а если где ещё он проживает, так, наверное, ему много лет; по теперешним временам одряхлел лакей, и коли придёт вам охота настоящего завести лакея, так непременно ищите себе старика; всякий же, кто помоложе, тот, значит, уже не лакей, а вор, либо хам; если же и не хам, то – знаете ли кто он? – он – независимый человек: усики там себе, либо бородку какую отпустит или по-американски усы обстрижёт и величает себя «товарищем», а не то прямо «гражданином»; и, помяните моё слово, – году не проживёт такой лакей: возьмёт, да и сбежит служить в ресторан, либо в весёлое питейное заведенье…» [с. 130–131].
При этом разные сказовые маски повествователя иногда сталкиваются в пределах одного абзаца или даже одного предложения.
Следует отметить, что сказ в «Серебряном голубе» совмещается с повествованием, в котором непосредственно проявляется авторское начало. События бытового плана повести А. Белый описывает, скрываясь под маской то одного, то другого рассказчика с ограниченным кругозором, широко используя приёмы иронической и сатирической деформации действительности. Когда же речь заходит о мифопоэтической сущности явлений мистического плана, он прибегает к «авторскому» повествованию, которое, в свою очередь, во многом стилизовано под Н. Гоголя (обращения к читателю, риторические вопросы и восклицания, лирические отступления и т. п.). При этом преобладающее слово в повести А. Белого остаётся за повествователем, который близок автору. То есть, несмотря на использование различных форм сказа, А. Белый явно тяготеет к монологическому типу повествования.
Итак, стилевая манера А. Белого резко своеобразна. Это ритмическое начало в прозе, соединение объективных и субъективных ракурсов повествования, метафоризация речи, обилие образных лейтмотивов, разнообразие словесно-речевых систем («литературной», сказовой, стилизованной), прихотливость интонационно-синтаксических рядов и др. Все эти особенности создают в «Серебряном голубе» отчётливое преобладание образа и слова над сюжетом, что впоследствии стало принципиальным конструктивным элементом русской орнаментальной прозы, возникшей в значительной мере благодаря усвоению творческого опыта А. Белого.
2.4.2. «Еретик от литературы» – Евгений Замятин
«Уездное»
«Островитяне»
Феномен сегодняшней популярности Е. Замятина связан с романом-антиутопией «Мы» (1921), который, как это ни парадоксально, в своё время стал поводом к запрету сначала всего его творчества, а затем и самого имени писателя1. Именно «шлейф запретности» вознёс роман «Мы» заведомо выше всего, что было написано Е. Замятиным. Не только в читательском восприятии он всё ещё остаётся автором одного произведения, но и во многих исследованиях творчество Е. Замятина по инерции оценивается в свете его антиутопии, художественные открытия, сделанные писателем в других произведениях, искажаются или игнорируются. Вместе с тем в современных работах, как отмечает в предисловии к сборнику «Новое о Замятине» (1997) его составитель Л. Геллер, «идёт открытие Замятина, лишённого идеологической «антиутопической» нагрузки»2. Всё чаще высказывается мысль, что, с одной стороны, в подходе к проблемам творчества Е. Замятина появились разного рода стереотипы и традиционные схематичные оценки, а с другой – многие ключевые аспекты творчества писателя, не связанные с его главным произведением, остаются, к сожалению, ещё малоизученными. Парадокс заключается в том, что антиутопия Е. Замятина – далеко не первое его высказывание о судьбе России, далеко не первое предсказание, предвидение.
Творчество Е. Замятина в последнее время привлекает особенно пристальное внимание научной мысли: регулярно проводятся Замятинские чтения (г. Тамбов), всероссийские и международные конференции, издаются коллективные работы и монографические исследования etc.3 Всё говорит о том, что период возвращения Е. Замятина на родину, сопровождавшийся скоропалительными политизированными статьями и соревновательным потоком публикаций произведений запретного писателя с минимальным комментарием, скорее сбивавшим с толку, чем что-то объяснявшим, наконец завершился – «разбросанные камни почти все собрали и началось капитальное и серьёзное, неспешное строительство»4. В современном замятиноведении в целом определился ряд дискуссионных проблем, вокруг которых разворачивается научный дискурс: теория неореализма, оппозиция «энтропийно-аполлоновско-го» и «энергийно-дионисийского» начал, интертекстуальная парадигма, жанрово-стилевые поиски, мифотворчество и др.
Замятинская теория смены творческих методов (реализм – символизм – неореализм): «реализм – тезис, символизм – антитезис, и сейчас – новое, третье, синтез, где будет одновременно и микроскоп реализма, и телескопические, уводящие к бесконечностям, стёкла символизма»,5 – а также его самохарактеристика как неореалиста вводят исследователей в круг непрояснённых теоретико-и историко-литературных вопросов. Термин «неореализм» сегодня используется в различных смысловых контекстах: концепцию неореализма (синтетизма) в русской литературе начала ХХ века, где неореализм трактуется как постсимволистское стилевое течение, следует отличать, с одной стороны, от концепции неореализма в итальянском искусстве середины 1940—1950-х годов, а с другой – от теории реализма «новой волны» (нового реализма) в русской литературе 1920-x годов, выдвинутой В. Келдышем и М. Голубковым6. У исследователей творчества Замятина нет единого мнения и относительно того, насколько последовательно использует писатель поэтику неореализма (внимание к быту провинции, «показывание, а не рассказывание», некоторая преувеличенность и фантастичность в изображении мира, сжатость языка, «пользование музыкой слова», ведущая роль сказа и т. п.) в различные периоды творчества:
дореволюционный (1910-е годы): «Уездное», «Алатырь», «На куличках», «Островитяне» и др.;
послереволюционный (1920-е годы): «Мы», «Мамай», «Пещера», «Наводнение» и др.;
эмигрантский (1930-е годы): «Бич Божий» и др.
Попытки представить картину творчества Е. Замятина как постоянно обновляющуюся художественную систему закономерно приводят к противопоставлению орнаментального стиля его «урбанистической» прозы конца 1910-х – начала 1920-х годов сказовой манере повествования «анти-урбанистических» произведений начала 1910-х и конца 1920-х годов. Наряду с традиционным сближением романа «Мы» и «петербургских новелл» с эстетикой экспрессионизма проводятся параллели между романом Е. Замятина и постмодернистскими теориями хаоса (хаология) (Л. Геллер)7; иногда указывается на формирование новой стилевой манеры (среди её примет – обращение к психологизму Л. Толстого) в эмигрантской прозе писателя (Т. Давыдова).
Мировоззрение Е. Замятина нередко характеризуется через бытийную оппозицию «энергия – энтропия», которая находит соответствие в поэтике его произведений8. В 1923 году Е. Замятин опубликовал статью «О литературе, революции и энтропии», где основываясь на сформулированных немецкими учёными XIX века законах сохранения энергии (Ю.Р. Майер) и её «вырождения» (энтропии) (Р.Ю. Клаузиус), определил своё отношение к революции: «Багров, огнен, смертелен закон революции, но эта смерть – для зачатия новой жизни, звезды. И холоден, синь как лёд, как ледяные межпланетные бесконечности – закон энтропии. Пламя из багрового становится розовым, ровным, тёплым, не смертельным, а комфортабельным; солнце стареет в планету, удобную для шоссе, магазинов, постелей, проституток, тюрем: это закон. И чтобы снова зажечь молодостью планету, нужно зажечь её огнём, нужно столкнуть её с плавного шоссе эволюции: это закон». Но, помимо этого, он определил свою писательскую программу («от быта к бытию, к философии, к фантастике») и принципы поэтики («Старых медленных, дормезных описаний нет: лаконизм – но огромная заряженность, высоковольтность каждого слова. В секунду нужно вжать столько, сколько раньше в шестидесятисекундную минуту: и синтаксис становится эллиптичен, летуч, сложные пирамиды периодов разобраны по камням самостоятельных предложений. В быстроте движения канонизированное, привычное ускользает от глаза: отсюда – необычная, часто странная символика и лексика. Образ – остр, синтетичен, в нём – только одна основная черта, какую успеешь приметить с автомобиля. В освящённый привычкой словарь – вторглись провинциализмы, неологизмы, наука, математика, техника» [т. 2, с. 387–388, 391, 392]). По Е. Замятину, «живая жизнь», как и литература, всегда анти-энтропийна.
Изображение энтропийного мира лежит в основе не только антиутопии Е. Замятина («Мы»), но и произведений нескольких циклов: «уездного» («Уездное», «Алатырь», «На куличках»), «северного» («Африка», «Север», «Ёла»), «английского» («Островитяне», «Ловец человеков»), «петербургского» («Мамай», «Пещера», «Наводнение»). В каждом цикле повестей и рассказов Е. Замятина сконцентрирован его интерес к своеобразию русской ментальности, гротеск, сатира, символика. Но все они являются лишь частью единого текста, организованного с помощью оппозиции «энергия – энтропия» в «еретический» дискурс, который может быть рассмотрен в русле литературного мифотворчества как инсценировка мифа о еретике или гротескная антитеза этому мифу: «Еретики – единственное (горькое) лекарство от энтропии человеческой мысли» [т. 2, с. 388].
Наиболее значительное произведение раннего периода творчества Е. Замятина – повесть «Уездное» (1912): её публикация не только принесла автору всероссийскую известность, но и надолго сблизила с писателями, объединившимися вокруг журнала «Заветы», – А. Ремизовым, М. Пришвиным, Ивановым-Разумником и др. Исследователи не раз отмечали их влияние на раннюю прозу Е. Замятина, постоянно подчёркивая, что «область интересов «Заветов» отвечала не только стилистическим поискам Е. Замятина, но и концептуальным»9.
Вслед за «Уездным» Е. Замятин пишет ряд произведений, действие которых также происходит в русской провинции – повести «Алатырь» (1914), «На куличках» (1914) и др. («уездный» цикл): их смысловое единство обеспечивается гротескным изображением уездного, бессознательного, животного существования («не столько скучно, сколько страшно» (А. Воронский)). В замятиноведении «уездные» повести писателя рассматриваются и по-отдельности, и как единый цикл10, – при этом каждая из них имеет свой ассоциативный контекст: гоголевский, лесковский, ремизовский, купринский, горьковский и т. п.
Первая повесть Е. Замятина органично вписывается в круг произведений, ставших своеобразной летописью провинциальной России («Деревня» И. Бунина, «Городок Окуров» М. Горького, «Заволжье» А. Толстого и др.). Здесь знаменательна перекличка названий: в каждом – место действия11. Чаще всего замятинское «Уездное» сравнивается с повестью М. Горького, обычно в контексте горьковской оценки произведения Е. Замятина. Личные отношения писателей были сложными, но как бы ни менял М. Горький своего мнения об авторе «Уездного», в отношении этой повести оно оставалось неизменно восхищенным: «…не написал ничего лучше «Уездного», а этот «Городок Окуров» – вещь, написанная по-русски, с тоскою, с криком, с подавляющим преобладанием содержания над формой»12. Возможно, на оценку М. Горького повлияло чувство неудовлетворённости от собственной повести: у Е. Замятина он находил то, что хотел, но не сумел сделать сам.
Современные исследователи, сопоставляя эти произведения, как правило, отмечают «при сходстве темы – разность повествовательной манеры»: повесть Е. Замятина написана жёстче, осязаемее, чем «Городок Окуров» – ему удалось р а з г о в о р и т ь быт: «Его язык колоритен, по-разговорному, по-провинциальному волен; окрашенность же этой речи – не за счёт индивидуальности рассказчика и тем более авторского своеволия, а за счёт речевого склада, какого ещё недавно придерживались в русском быту, который сам по себе есть голос этого быта…»13
Повествование в замятинской повести ведётся стилизованным сказом, воспроизводящим разговорный язык русской провинции: в этом её новизна, которую многие современники почувствовали и признали, но как бы сразу и сняли, приписав «Уездное» к традиции сказа, к «ремизовской мастерской»14. О новаторстве повествовательной манеры Е. Замятина вновь заговорили только после его возвращения из Англии (1917): в Петрограде Е. Замятин занял положение «chef d'ecole». Вокруг него собрались молодые писатели, которые – подобно героям Гофмана – основали литературное содружество «Серапионовы братья»: Вс. Иванов, М. Зощенко, К. Федин, В. Каверин и др. Близки к ним были – Л. Леонов и Б. Пильняк – «замятинская мастерская». В статьях 1920-х годов «Новая русская проза», «О синтетизме» на правах мастера Е. Замятин вслед за А. Белым и А. Ремизовым разрабатывает теоретические основы орнаментальной прозы, доминантные черты которой – лейтмотивность, фрагментарность, монтаж – определяют повествовательную структуру его ранних произведений: от «Уездного» до «Островитян».
Сюжет повести «УЕЗДНОЕ» распадается на двадцать шесть «микросюжетов»: текст подразделяется на пронумерованные и озаглавленные мини-истории, каждая из которых, несмотря на сюжетную связанность с остальными, выглядит законченной, самодостаточной. Соответственно, и главный герой Анфим Барыба «предстаёт в каждой части текста в несколько разной модификации самого себя, он будто бы дробится на ряд персонажей»15. Повествование идёт по кругу: циклично время, ощущения героя, воплощение мотивных инвариантов, – всё это позволяет современной исследовательнице предположить, что повествовательная генетика повести Е. Замятина роднит её с циклом как жанровым явлением16.
Другие исследователи рассматривают «Уездное» либо как повесть-антижитие (историю жизни закоренелого грешника): святые в житиях стремятся к горнему миру, Анфим Барыба находится в плену у инфернальных сил; именно в этом видит своеобразие замятинской картины мира Т. Давыдова17; либо как «историю «воспитания чувств» в негативе»18. В каждом случае привычно подчёркивается иронично-пародийная основа замятинского повествования, но упускается из виду, что модернистская игра жанрами (ироническая маска) сочеталась у Е. Замятина с орнаментально-сказовой стилевой манерой. На наш взгляд, универсальным для «Уездного» остаётся его традиционное жанровое определение: повесть-сказ.
Смена сюжетных ситуаций в повести Е. Замятина отражает переход от одной ипостаси героя к другой, – переход этот, разумеется, происходит не механически: он связан с постепенным формированием внутреннего мира Анфима Барыбы. Повествование о Барыбе с первой же фразы провинциала-рассказчика, знающего всё и обо всех, приобретает сочувственно-ироничный характер: «Отец бесперечь пилит: «Учись да учись а то будешь, как я, сапоги тачать». А как тут учиться, когда в журнале записан первым…» [с.39]. Благодаря интимной интонации рассказчика, который говорит о Барыбе, приноравливаясь к его голосу, – маргинальность его героя: ересь и бунтарство («Училище? А, да пропадай оно пропадом!..» [с. 39]), изначально воспринимаются с пародийным оттенком. Анфим бросает учёбу и уходит из отцовского дома не из чувства протеста – как пристало герою-еретику, – а из-за элементарной неспособности сдать выпускной экзамен и страха наказания. С каждым микросюжетом ощущение пародийности повествования усиливается по принципу снежного кома.
Наиболее очевидной представляется параллель с библейской легендой о блудном сыне: Е. Замятин в пародийном ключе обыгрывает инвариантные ситуации – уход из дома, наслаждение свободой и богатством, разорение, предательство друзей, жизнь в нищете, возвращение домой и покаяние. В своей первой ипостаси – в отцовском доме и школе (1-й микросюжет: «Четырёхугольный») 15-летний Барыба внешне напоминает утюг: «Тяжкие железные челюсти, широченный, четырёхугольный рот и узенький лоб: как есть утюг, носиком кверху. Да и весь-то Барыба какой-то широкий, громоздкий, громыхающий, весь из жёстких прямых и углов…» [с. 39]. Душа Барыбы чутко реагирует только на позывы тела (голод, похоть, боль, страх): он готов за булку хлеба «на потеху ребятам грызть камушки, размалывать их железными своими давилками – знай подкладывай!»; бегает на Стрелецкий пруд «глядеть, как бабы купаются. А ночью после – хоть и спать не ложись: такие полезут жаркие сны, такой хоровод заведут, что…»; терпит побои отца – «совсем оголтелый: зубы стиснет, не пикнет. Только ещё колючей повыступят все углы чудного его лица»; боится школьного экзамена – «уставился в белый листок билета. От белизны этой и от страха слегка затошнило. Ахнули куда-то все слова: ни одного…» [с. 39–40].
В отличие от библейского героя Анфим Барыба покидает родной дом без отцовского благословения и своей доли наследства, вследствие чего оказывается не на «вершине жизни», а в самом её низу, на балкашинском дворе (2-й микросюжет «С собаками»), где от «собачьей жизни» окончательно звереет: «Барыба – прыжками волчиными – в закуту к себе, в солому, и лежит…» [с. 42]. Квазипреимущества обретённой свободы и самостоятельности («Благодать Барыбе теперь: учиться не надо, делай, что тебе в голову взбредёт, купайся, пока зубами не заляскаешь, за шарманщиком хоть целый день по посаду броди, в монастырском лесу – днюй и ночуй…» [с. 41]) быстро утрачивают свою привлекательность на фоне периодически возникающего чувства голода, и Анфим, как бы из-за безвыходности положения, нарушает библейскую заповедь «не укради»: «Стал Барыба за поживой ходить на базар… чуть которая-нибудь зазевалась Матрена – ну, и готово, добыл себе Барыба обед» [с. 41]19. Но казалось бы, совсем одичавший Барыба («Зачиврел, зачерствел Барыба, оброс, почернел; от худобы ещё жёстче углами выперли челюсти и скулы, ещё тяжелей, четырёхугольней стало лицо») не утрачивает тяги к людям: «Убежать бы от собачьей жизни. Людей бы, по-людски бы чего-нибудь…» [с. 42]. Такова вторая ипостась героя: здесь особенно важным нам представляется то, что рассказчик впервые «проговаривается», и сквозь «недочеловечность» Барыбы проступают черты человеческого облика, но по-прежнему в нём торжествует не духовное, а телесное начало: «…чаю бы горяченького попить, под одеялом поспать» [с. 42].
Олицетворением провинциального мира становится у Е. Замятина сытое благополучие дома Чеботарихи (5-й микросюжет «Жисть»): «Есть с утра до вечера, живот в еде класть» [с. 46], – где Барыба, «на приказчицком положении» («Сапоги-бутылки, часы серебряные на шейной цепочке, калоши новые резиновые – и ходит Барыба рындиком этаким по чеботаревскому двору, распорядки наводит…» [с. 48]), в «сладком безделье» ведёт утробное, бессознательное существование, которое омрачает лишь «ночная служба»: «В темноте спальни – жадный, зияющий, пьющий рот – и частое дыхание загнанного зверя» [с. 58].
Гротескный образ Чеботарихи – несомненная удача писателя, он создаётся с помощью серии лейтмотивных приёмов: несколько раз в разных контекстах повторяются ассоциативно-образные сравнения её расплывшегося тела, неуёмного аппетита и ненасытной похоти со сладким тестом («А Чеботариха на линейке (рессорная коляска. – С.Т.) своей расползётся, как тесто…» [с. 43]; «Потонул Барыба в сладком и жарком тесте…» [с. 46] и т. п.), жадным ртом, – с помощью приёма гротесковой синекдохи создаётся отталкивающе-эротический образ: «Под тухнущим светом лампы – в одно тусклое пятно стирается у ней всё лицо. И виден, и кричит только один жадный рот – красная мокрая дыра. Всё лицо – один рот» [с. 48], – или огромным пауком, вызывающем в памяти мысли о паучихе («чёрная вдова»), которая пожирает самца после спаривания («…облепила, как паук. И томила его невидными и непонятными в темноте, злыми ласками» [с. 58]). Чеботариха, как и другие второстепенные персонажи повести Е. Замятина (Урванка, Полька, Евсей, Тимоша, Моргунов и др.) образует нарочито гротескный, карикатурный фон, оттеняющий образ Барыбы, созданный почти в сюрреалистическом стиле. Геометричность лица Барыбы (четырёхугольный рот, железные челюсти) по мере движения сюжета начинает восприниматься как метафорическое выражение низости и пошлости бессознательно-утробного существования.
Современные исследователи нередко ошибочно трактуют замятинское «Уездное» как повесть «о духовном оскудении человека»: «При всей его чудовищной однобокости Барыба показан как персонаж, который когда-то был человеком»20. Представляется не совсем верным видеть здесь падение человеческой души: ростки человечности лишь на короткие моменты проступают сквозь животное начало в Барыбе, не имея шансов прорасти. Пожалуй, можно согласиться с А. Сваровской, что существование таких недочеловеков, как Барыба, не лишено внутреннего драматизма: «…подспудно, задавленно хоронятся в их «подполье», подсознании любовь, нежность»21. Но в то же время Барыба-недочеловек делает всё, чтобы не дать возобладать в себе естественным человеческим привязанностям. В этом смысле показателен чуть ли ни каждый микросюжет, представляющий героя в новой ипостаси.
Особое место в повествовании занимает сюжетная линия «Барыба – Полька» (7-й микросюжет «Апельсинное дерево»). Здесь замятинский герой впервые выступает активным носителем зла, сначала вырывая с корнем деревцо, которое «берегла-холила» Полька («Разгрыз какой-то камень, вот тут, с Полькой, с апельсином этим – и полегчало сразу. Скалил зубы Барыба, пьянел…» [с. 52]), а затем насилуя её («Полька тряслась вся и хныкала, и в этом была своя особая сладость Барыбе» [с. 53]). Согласно интерпретации Т. Давыдовой, подтекстный смысл этого микросюжета восходит к мифу о грехопадении Адама и Евы с характерной для него мифологемой древа познания («древа жизни»: вырванное Анфимом деревцо – знак загубленной судьбы Польки). Сам же Адам-Барыба ассоциируется ещё и с дьяволом-искусителем, принявшим, чтобы обольстить жену первого человека, обличье змея: Чеботариха, узнав об измене Анфимушки, называет его «змеем подколодным» и выгоняет из дома (9-й микросюжет – «Ильин день»)22.
Сюжетные линии «Барыба – Евсей» и «Барыба – Тимоша» восходят к одному инварианту библейской легенды о блудном сыне – «предательство друзей», но в замятинском «зазеркалье» предателем становится сам Барыба. Сначала он, воспользовавшись доверчивостью монаха Евсея, украл все его сбережения, а по сути – свободу («Да как же, братцы? Я не от денег, мне денег не жалко. А только раньше я, захоти вот, нынче же и вышел из монастыря. А теперь – хоти не хоти…Слободный был человек, а теперь…» [с. 69]). Это микросюжеты 11-й «Брокаровская баночка», 12-й «Монашек старенький», 16-й «Ничем не проймёшь»). Затем, поддавшись на уговоры адвоката Моргунова, Барыба лжесвидетельствовал (за вознагрождение и должность урядника) на суде против Тимоши, по сути, решив его судьбу («Да и жизни-то всего в нём полвершка…» [с. 87]). Это микросюжеты 22-й «Шесть четвертных», 23-й «Мураш надоедный», 24-й «Прощайте». Все ситуации созвучны, дополняют друг друга, поскольку и монах Евсей, и портной-философ Тимоша не только всегда помогали Барыбе в трудную минуту, но и по-своему были симпатичны ему. Однако ущербный разум Барыбы бессилен осознать смутные порывы души, да и своей открытостью миру Евсей и Тимоша противостоят энтропии мещанской жизни, а следовательно, уязвимы. Против цинизма Барыбы («молчал и улыбался четырёхугольно, зверино» [с. 72]) они беззащитны, и если монах Евсей ещё наивно призывает Анфима признаться в содеянном, подвергнув его испытанию чаем на наговорённой воде («Я те, милёнок, угощу чаем. Я те развяжу язык…» [с. 71]), то Тимоша никаких иллюзий на его счёт не имеет: «Души-то, совести у тебя – ровно у курицы…» [с. 53].
Характерно, что в отличие от адвоката Моргунова, которому по ночам черти снятся («…тебе черти не снятся? А я каждую ночь во сне вижу, каждую ночь – понимаешь?» [с. 86]), Барыба не испытывает угрызений совести вплоть до ночи накануне суда над его бывшим приятелем. Проблему экзистенциального выбора он решает во сне («Завтра вечером. Значит, ещё целый день до суда. Захочу вот, пойду и откажусь. Сам себе господин…» [с. 87]). Символично, что колебания героя отражены в самом коротком повествовательном фрагменте – на полстраницы (23-й микросюжет – «Мураш надоедный»). Проснувшаяся совесть («Какой-то вот комарик маленький, мураш, залез в нутро и елозит там, и елозит, и никак его не поймать, не раздавить…» [с. 87]) не даёт Анфиму уснуть («Спал и не спал. И всё будто додумывал во сне недодуманную какую-то мысль…» [с. 87]) Но после бессонной ночи Барыба словно заново рождается («…всё кругом было светлое, ясное, и таким простым всё открылось, что нужно было на суде сделать. Будто ничего этого, что ночью томило, – ничего такого и не было» [с. 87]). Пробудившееся в нём ночью человеческое начало («мураш надоедный» – вот где ирония!) оказывается погребённым под мундиром урядника (26-й микросюжет – «Ясные пуговицы»).
Финал повести: отец проклинает нераскаявшегося сына – столь же парадоксально соотносится с библейским контекстом, как и предыдущие микросюжеты. Неудачная попытка Барыбы-уряд-ника получить отцовское благословение («У обитой оборванной клеенкой двери – эх, старая знакомая! – остановился на минуточку. Почти что любил отца…» [с. 90]) не воспринимается как прорыв сквозь «утробную» неразумность, пусть даже до конца не осознаваемый им самим. «Утроба» Барыбы отказывается принять (= понять) душевную боль отца, проклинающего своего сына: «Очумелый, вытаращил глаза Барыба и стоял, долго никак не мог понять. Когда прожевал, молча повернулся и пошёл назад» [с. 90]. Природная тупость, интеллектуальная неразвитость, трудное движение мысли замятинского героя на протяжении всего повествования передаётся с помощью лейтмотивной метафоры-символа («железные челюсти»): Анфим Барыба пережёвывает, перемалывает жизнь «тяжкими железными челюстями», заменившими ему и разум, и душу.
И всё же не следует воспринимать «Уездное» как историю тела, а не души23. В целом замятинское повествование, несмотря на сказовую форму, объективировано, бесстрастно, что соответствует эмоциональной тупости Барыбы. Но в концовке повести бесстрастность повествования нарушается, авторскую позицию выражает гротескное сравнение антигероя с воскресшей русской курганной бабой: «Покачиваясь, огромный, четырехугольный, давящий, он встал и, громыхая, задвигался к приказчикам. Будто и не человек шёл, а старая воскресшая курганная баба, нелепая русская каменная баба» [с. 91], – Барыба-урядник побеждает в себе человека.
Условно этапы борьбы утробного (животного) и духовного (человеческого) начал в монолитном теле замятинского антигероя могут быть представлены в виде схемы, фиксирующей отношение к нему автора, рассказчика и персонажей повести.
По Е. Замятину, всеобщий закон жизни – одухотворённая телесность: «Ошибочно разделять людей на живых и мёртвых:
есть люди живые-мёртвые и живые-живые» [т. 2, с. 390]. Русское «уездное» живёт утробой, животной жизнью – жизнью мертвецов: здесь «плоть совсем одолела», а души «ровно у курицы». Сонные, тупеющие существа предаются обжорству и похоти – «живут себе ни шатко, ни валко, преют, как навозец, в тепле» [с. 78]. И Барыба – «недочеловек» является лишь частью («мелким царьком» (Я. Браун), «королём» (Д. Ричардс))24 этого плотского мира чревоугодия. Его образ по мере движения сюжета в своей бессмысленности, ненужности, дикости оказывается доведённым до абсурда. В сознании читателя он проецируется на жизнь русской провинции, превращая её в мираж, фантом, призрак («Мы вроде, как во град-Китеже на дне озера живём: ничегошеньки у нас не слыхать, над головой вода мутная да сонная…» [с. 77]). Но «в черноте у Е. Замятина почти всегда брезжит свет – надежда на веселье, любовь или бунт…»25 И не столь важно, что «уездная революция» ограничилась перестрелкой в трактире, а «революционером» оказался «поганец-мальчишка», главное – в обывательское пространство («Калитки на засовах железных, по дворам псы цепные на рыскалах бегают. Чужого чтоб в дом пустить, так раза три из-за двери спросят: кто такой, да зачем. У всех окна геранью да фикусами позаставлены. Так-то оно дело вернее: никто с улицы не заглянет» [с. 78]), атмосферу («Это уж пусть себе они там в Вавилонах с ума-то сходят. А нам бы как поспокойней прожить» [с. 77]) и умы («Не-ет, до нас не дойдёт…» [с. 77]) проникло антиэнтропийное сомнение («Ну, неуж и до нас дойдёт?» [с. 82]) и страх («Развелись всякие… Кончилось в посаде старинное житьё, взбаламутили, да…» [с. 89]), а среди «цивилизованных котлетных людей» стали попадаться еретики (монах Евсей – «пьяная мельница», портной Тимоша – «мозги перешиваю», рыжий мещанин – автошарж?).
В «Уездном» дан русский вариант энтропии человеческой жизни; её английский вариант Е. Замятин представил в повести «Островитяне». Текст её разбит на 16 пронумерованных и озаглавленных глав, но здесь, в отличие от большинства произведений Е. Замятина, фрагментарность повествования хотя и присутствует как элемент орнаментального стиля, но почти не ощущается. Вернее, она скрадывается за счёт перенасыщенности повествования ассоциативной образностью. Отдельные фрагменты текста «рифмуются» между собой с помощью многочисленных лейтмотивных деталей, которые вводятся в повествование для образной характеристики гротескных персонажей с раблезианским размахом и в сопровождении авторской иронии. Ироническое начало, в свою очередь, «рифмуется» с игровым пространством: вводит его, сосуществует с ним и находит в нём продолжение.
Пространство для игры (и не только словесной) Е. Замятин на этот раз моделирует на территории современной ему Англии, где в качестве инженера-кораблестроителя он провёл около двух лет. Вошедшая в анекдоты чопорность англичан в повести Е. Замятина становится символом рационалистичной западной цивилизации – и шире: мировой цивилизации. Действие повести происходит в вымышленном провинциальном городке Джесмонде (= Ньюкасл). По Е. Замятину, тихое течение джесмондской жизни – это «наследственная сонная болезнь, а больным этой болезнью (энтропией) – нельзя давать спать, иначе – наступит последний сон, смерть» [т. 2, с. 393]. В английском «уездном» ведут «правильную жизнь» (= живут по правилам) «живые мертвецы»:
викарий Дьюли, уверенный в том, что «жизнь должна стать стройной машиной и с механической неизбежностью вести нас к желанной цели» [с. 257];
его жена – «миссис Дьюли в пенсне»: «Пенсне делало миссис Дьюли великолепным экземпляром класса bespectacled women – очкастых женщин – от одного вида которых можно схватить простуду, как от сквозняка…» [с. 261];
обедневший аристократ Кембл: «…всё у него было непреложно и твёрдо: на небе – закономерный Бог; величайшая на земле нация – британцы; наивысшее преступление в мире – пить чай, держа ложечку в чашке» [с. 262];
его мать – леди Кембл, для которой главное – порядок, основанный на приверженности традиции: «По возможности леди Кембл старалась восстановить тот распорядок, который был при покойном сэре Гарольде. С утра затягивалась в корсет, к обеду выходила в вечернем платье…» [с. 276];
мистер Мак-Интош – секретарь Корпорации Почётных Звонарей и специалист по вопросам морали: «…мистер МакИнтош, как известно, знал всё» [с. 266];
«воскресные джентльмены»: «Воскресные джентльмены, как известно, изготовлялись на одной из джесмондских фабрик и в воскресенье утром появлялись на улицах в тысячах экземпляров… Все с одинаковыми тростями и в одинаковых цилиндрах, воскресные джентльмены со вставными зубами почтенно гуляли по улицам и приветствовали двойников…» [с. 264];
«розовые и голубые дамы»: «Куда-то шла миссис Дьюли, с какими-то розовыми и голубыми дамами говорила о погоде… А викарий сиял золотом восьми коронок и развивал перед розовыми и голубыми идеи «Завета Принудительного Спасения»…» [с. 265].
Им противостоят «живые живые», вызывающие авторскую симпатию своим нетривиальным мышлением, свободным проявлением чувств, непредсказуемым поведением – пренебрежением общественными условностями и моральными нормами:
рыжий адвокат О'Келли – вокруг него всегда «рыже, пёстро и шумно» [c. 267];
танцовщица Диди – «смешливый паж» [с. 290];
обитатели меблированных комнат миссис Аунти (богема):
«Постояльцы тут менялись каждую неделю – всякий раз, как в «Эмпайр» приезжало новое revue. Всегда стояли облака табачного дыма; по ночам кто-то плескался и хохотал в ванной; до полудня были опущены шторы в спальнях…» [с. 272].
Обезличенно-энтропийное существование жителей Джесмонда, если верить исполняющему роль Кассандры адвокату О'Келли, в скором будущем ждёт «обызвествление» – «математически неизбежно, понимаете – математически?» – лейтмотивная реплика викария Дьюли, апологета строгой регламентации человеческого поведения и главного оппонента бунтаря О'Келли, здесь оказывается парадоксально-уместной: «Через несколько лет любопытный путешественник найдёт в Англии обызвествлённых неподвижных людей, известняк в форме деревьев, собак, облаков» [с. 294]. В этом высказывании О'Келли, по мнению Т. Давыдовой, в повести «Островитяне» получает предельное выражение аполлоновская (энтропийная) тенденция, которая – как отмечает исследовательница – у Е. Замятина всегда реализуется путём создания примитивистских образов: внутренняя застылость персонажей передаётся через их внешнюю статуарность26.
Образная система Е. Замятина, строго говоря, консервативна, – она ориентирована на отсутствие полутонов, яркость, контрастность описаний 27. Необходимый эффект достигается с помощью ограниченного количества изобразительных средств, которые переходят из одного произведения в другое: описание глаз человека, физической затрудненности его движений, медленного течения мысли, лейтмотив пещеры (утробы, стены) etc.
Среди «фирменных» приёмов замятинской поэтики – описание целого по части, по характерной детали, которая обычно становится лейтмотивной («гротесковая метонимия»). В облике каждого персонажа повести «Островитяне» выделяется такая деталь, приобретающая, по мере движения сюжета, значение символа или метафоры. Для викария Дьюли лейтмотивными деталями-характеристиками становятся бесконечно повторяющиеся практически в каждом эпизоде с его участием сравнения жизни с различными механизмами; упоминания о «золотой улыбке» (у него было восемь золотых коронок на зубах) и привычке, заложив руки за спину, перебирать пальцами и отсчитывать: во-первых, во-вторых, в-третьих, выражая сухую рассудочность героя, претендующего на роль Спасителя человечества («Если государство ещё коснеет в упрямстве и пренебрегает своими обязанностями, то мы, мы – каждый из нас – должны гнать ближних по стезе спасения, гнать – скорпионами, гнать – как рабов…» [с. 291]). Лейтмотивные детали портретной характеристики Дьюли преобразуются в гротескную метафору «человек-машина», которая в иронически-игровом контексте замятинского повествования воспринимается как синоним «культурного человека», живущего или стремящегося жить в уныло энтропийном, однообразном мире.
«Миссис Дьюли в пенсне», леди Кембл и её сын – часть этого мира: их объединяет приверженность порядку, традиции. Но если леди Кембл так же, как викарий Дьюли, приписывает себе право всячески ограничивать и регламентировать жизнь джесмондцев (сопровождающие её лейтмотивные детали: губы-черви, мумийные кости и невидимая узда, подтягивающая голову вверх, подчёркивают её нетерпимость и агрессивность), то миссис Дьюли и Кембл лишь бездумно подчиняются принятым в обществе нормам поведения, отгородившись от «слишком яркого солнца» пенсне из стёкол с холодным блеском хрусталя (миссис Дьюли) или квадратной простотой силлогизма (Кембл). Их жизнь (миссис Дьюли: «…жила, тосковала между глав романа» [с. 257]; Кембл: «старался построить силлогизм» [с. 275], – это отсутствие жизни, но энтропийный процесс «обызвествления» для них оказывается обратимым.
У Е. Замятина в «Островитянах», так же как в романе-антиутопии «Мы», средством борьбы с энтропией человеческой жизни, с «обызвествлением» становится энергия любви. Подобно тому, как I – 330 разрушила «квадратную гармонию» Д – 503 («Мы»), «проказливый девочко-мальчик» Диди разрушает «квадратную простоту» Кембла (7-я глава «Руль испорчен»), а он, в свою очередь, сам того не желая, становится причиной исторического превращения «миссис Дьюли в пенсне» в «миссис Дьюли без пенсне» («…она была неузнаваема: пенсне было скорлупой, скорлупа свалилась – и около прищуренных глаз какие-то новые лучики, губы чуть раскрыты, вид – не то растерянный, не то блаженный» [с 261]). И так же, как в романе Е. Замятина «Мы», в «Островитянах» антиэнтропийная (дионисийская) энергия любви гасится энтропией утопической мысли, которая материализуется, соответственно, в Часовой Скрижали Благодетеля и «Завете Принудительного Спасения» викария Дьюли.
Идеологам агрессивно-утопических теорий в произведениях Е. Замятина противостоят герои-бунтари (еретики): в романе «Мы» – это Мефи; в «Островитянах» – «четырёхрукий» ирландец О'Келли («…он кричал и размахивал руками так, что казалось – у него было их, по крайней мере, четыре» [с. 258]). Еретик О'Келли внушает страх обывателям («О'Келли? Да, не правда ли, ужасно? – заволновались голубые и розовые дамы…» [с. 266]), но глубоко симпатичен автору, который не только наделяет его ироничным умом, здоровым цинизмом и чувством юмора (с лица О'Келли не сходит улыбка, но это не «золотая улыбка» викария Дьюли, а всезнающая улыбка фарфорового мопса Джонни), но и вводит в «провокационный» ассоциативный ряд: сапожник Джон, сожжённый за верность Лютеровой ереси – отважный аристократ Риччио, влюблённый в Марию Стюарт, – бунтарь Оливер Кромвель – аморалист Оскар Уайльд.
Постоянно обыгрывается сходство О'Келли с фарфоровым мопсом Джонни: «Послушайте, Кембл, а вы не находите, что Джонни похож на мистера О'Келли? Оба они одинаково безобразно-милые, и такие умные, и одинаково улыбаются» [с. 272]; «О'Келли ухмылялся – как мопс» [с. 273]; «Но О'Келли только улыбался молча, как фарфоровый мопс Джонни» [с. 281]; «Ну до чего он на меня похож, а? На него глядя – я мог бы без зеркала бриться» [с. 290]. В свою очередь, это сходство ассоциативно сближает его с хозяйкой мопса – Диди, лейтмотивная черта которой – ассиметричность («девочка-мальчик»; «девочка-мать») также соотносится с двойственностью О'Келли («безобразно-милый»), с его специфически о'келлиевской, наверное, не случайно напоминающей парадоксы О. Уайльда, манерой говорить: «Я аккуратно опаздываю: это уже – аккуратность…» [с. 267]; «…никогда не мог понять, как можно одну и ту же женщину любить каждый день – как можно одну и ту же книгу читать каждый день? В конце концов – это должно сделать малограмотным…» [с. 296], напротив, у устремлённого вперёд Кембла («…вот сейчас сдвинется грузовик-трактор и попрёт, всё прямо, через что попало» [с. 271]) отношения с мопсом «как-то сразу и без всякой видимой причины установились неважные» [с. 272]:
Кембл мечтает о «маленьком домике» (= символ мещанского уюта), ему снится электрический утюг («…громадный, сверкающий, ползёт и приглаживает всё, и не остаётся ничего – ни домов, ни деревьев, только что-то плоское и гладкое – как зеркало» [с. 291]), с приобретения которого он начинает обустраивать новую, семейную жизнь («С каждой купленной вещью Диди всё больше становилась его женой…» [с. 295]).
Но эта «приглаженная» жизнь, зеркально отражающая жизнь «культурных (читай: ограниченных) людей», где «необузданное, некультурное солнце» вытесняют «десятки маленьких отражённых солнц», «удобные портативные и неяркие солнца» [с. 275, 292], не для «ассиметричной» Диди с её фарфоровым мопсом. Она делает отчаянную попытку «немножко выйти замуж», но уж больно карикатурно смотрятся рядом мопс и утюг: «О'Келли повернулся к камину – и всплеснул руками: на камине, рядом с мопсом Джонни – красовался сверкающий утюг. «Рядом с Джонни?» – с укором посмотрел он на Диди» [с. 296].
Они могут, но не должны быть вместе: могут – с точки зрения О'Келли, полагающего, с присущей ему парадоксальностью мышления, что «счастье – одно из наиболее жирообразующих обстоятельств», а «поселившись рядом с утюгами и Кемблом», Диди будет несчастна (= по-прежнему свободна): «Девочка моя… вам идёт быть именно такою, тоненьким, стриженным девочко-мальчиком» [с. 299]. Они не должны быть вместе, с точки зрения «ограниченных людей», которые делают всё возможное для того, чтобы образумить Кембла, впрочем, набор средств у них по-обывательски тривиален и пошл – вплоть до выслеживания любовников и «доставки» обманутого мужа к месту их очередного свидания.
Смерть О'Келли в финале повести от руки Кембла и казнь Кембла стоят в одном ряду, но если смерть О'Келли ассоциируется с гибелью язычника, антихристианина от рук христиан, то казнь Кембла напоминает костры средневековой инквизиции, на которых христиане уничтожили больше христиан, чем язычники за всю историю христианства…
2.4.3. «Правдо– (Бого-) искатель» – Иван Шмелёв
«Человек из ресторана»
«Волчий перекат»
«Неупиваемая чаша»
Творчество И. Шмелёва отчётливо делится на два периода – дои послереволюционный. Свои лучшие книги «Богомолье» (1931–1948) и «Лето Господне» (1934–1948) – он написал в эмиграции. Но среди его произведений 1910-х годов также немало замечательных. Это повести и рассказы «Человек из ресторана» (1911), «Стена» (1912), «Пугливая тишина» (1912), «Росстани» (1913), «Волчий перекат» (1913), «Неупиваемая чаша» (1918) и др.
За последние десятилетия благодаря изданию сначала двухтомного (1989), а затем восьмитомного (1998–1999) собрания сочинений И. Шмелёв превратился из малоизвестного писателя, автора одного произведения (повести «Человек из ресторана»), в классика русской литературы ХХ века. Его художественное наследие стало фактом не только современной литературной, но и научной жизни: издаются монографии (О. Сорокина «Московиана. Жизнь и творчество Ивана Шмелёва», 1994; А. Черников «Проза И. Шмелёва: Концепция мира и человека», 1995; Е. Руднева «Заметки о поэтике И.С. Шмелёва», 2002), с завидной регулярностью защищаются диссертации, проводятся ежегодные Международные Шмелёвские чтения (г. Алушта), публикуются статьи в научных сборниках и т. п.
Естественно, исследователи обращаются к наиболее ярким, эстетически значимым произведениям И. Шмелёва, высокая художественность которых бесспорна. При этом затрагивается широкий спектр проблем: творчество И. Шмелёва рассматривается в контексте славянской и мировой культуры, русской религиозной традиции, литературного процесса ХХ – ХХ1 веков; особое внимание уделяется вопросам поэтики, стилистики, жанрового своеобразия его произведений; уточняются и переосмысляются устоявшиеся представления о творчестве писателя1.
В дореволюционной критике за И. Шмелёвым прочно укрепилась репутация «бытописателя», связанная с попытками ограничить значение даже таких его произведений, как повесть «Человек из ресторана», лишь обилием любопытных бытовых подробностей. Обвиняя И. Шмелёва в поверхностном «бытовизме», некоторые критики не принимали и характерную для большинства его произведений внешнюю бесстрастность и объективность повествования, лишённого зачастую даже малейшего намёка на авторское вмешательство, а следовательно, и ярко выраженной идеи: мнение об И. Шмелёве как о писателе бестенденциозном было в своё время широко распространённым (А. Ожигов, М. Левидов и др.). Справедливости ради следует отметить, что существовала и иная точка зрения, выраженная в статьях Н. Коробки, В. Львова-Рогачевского, А. Дермана, которые утверждали, что творчество И. Шмелёва шире заурядного «бытовизма», что оно несёт в себе глубокое содержание, не сводимое к простому воспроизведению деталей быта2.
Однако мнение, что в большинстве своих произведений 1910-х годов И. Шмелёв оставался поверхностным «бытописателем», всё же ещё долго преобладало: «Страдание человека остаётся здесь ещё в пределах б ы т а, бытового горя, бытовых волнений и не вступает в ту сферу б ы т и я, где выступает более чем человеческое или даже сверхчеловеческое содержание, возводящее душу на уровень м и р о в о й с к о р б и»3. Поэтому очень важно подчеркнуть, что быт никогда не являлся для И. Шмелёва самоцелью, в лучших произведениях писателя отчётливо видно стремление перейти от эмпирического бытописания к философско-художественному постижению мира – это придаёт прозе И. Шмелёва новые качества, выявляет её эволюцию от реализма к неореализму и «духовному реализму»4. Характерно, что обращаясь к феномену неореализма русских писателей начала ХХ века, В. Келдыш определяет движение неореалистической прозы формулой: «Бытие сквозь быт»5. Это, конечно, не универсальная формула, – да и нелегко найти какую-либо формулу, целиком опредеяющую особенности того или иного литературного явления, – но она знаменует одну из заметных тенденций в неореализме, основой которого становится более широкий, относительно классического реализма, взгляд на мир и человека.
Цель И. Шмелёва показать реальную действительность, а уж затем искать в ней «скрытый смысл», он проясняется постепенно и как бы без участия автора: «проявление» текста происходит в сознании читателя, – функцию проявителя выполняет стиль6. Соответственно, на первый план выходят стилевые поиски, обновление повествовательной манеры: для ранней прозы И. Шмелёва характерна поэтика сказа («Человек из ресторана», «Стена» и др.), в более поздних произведениях сказовые художественные традиции отступают, заменяясь собственно авторским повествованием, в котором эпические элементы сочетаются с драматическими («Волчий перекат») и лирическими («Неупиваемая чаша»). Новаторство И. Шмелёва проявляется и на других уровнях жанрово-стилевой структуры произведений – в их сюжетном построении, образной системе, хронотопе. Исследователями отмечается ослабленная сюжетность произведений И. Шмелёва, перемещение внешнего действия «вовнутрь», символическая многозначность образов и пространственно-времешгой организации текста. Эти особенности поэтики И. Шмелёва во многом определяют жанровое своеобразие его прозы, будь то повесть-сказ («Человек из ресторана»), повесть-драма («Волчий перекат»), повесть-поэма («Неупиваемая чаша»), повесть-идиллия («Богомолье») или духовный (православный) роман («Пути небесные»)7.
Самое значительное произведение И. Шмелёва дореволюционной поры – повесть «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА». Она неоднократно вызывала интерес у исследователей, главным образом, с точки зрения проблематики и организации повествования8. Причём внимание литературоведов в основном акцентировалось на теме «маленького человека», которая была широко разработана ещё в русской литературе XIX века (А. Пушкин, Н. Гоголь, Ф. Достоевский, И. Тургенев, Г. Успенский, А. Чехов и др.). Как правило, отмечалось, что И. Шмелёв освещает её по-новому: в герое повести «Человек из ресторана» исчезают главные особенности, характерные для этого литературного типа – покорность и внутренняя закрепощённость; их место занимает зреющее чувство собственного достоинства. В связи с этим всегда подчёркивалось и удачно найденное И. Шмелёвым название для своей повести, которое в ироническом плане (высокое //низкое) обыгрывает многозначность слова «человек»: с одной стороны (по отношению к ресторанному лакею), оно приобретает уничижительный оттенок, а с другой – включает в себя представление о достоинстве, гордости. Этим словом автор не только определяет место героя в обществе, но и противопоставляет его посетителям ресторана, потерявшим человеческий облик. В свою очередь, повествовательная форма сказа, которую использует И. Шмелёв, рассматривалась и сама по себе, и в сопоставлении со сказовым повествованием А. Ремизова («Неуёмный бубен»), Е. Замятина («Уездное»), А. Белого («Серебряный голубь») и др.9
На наш взгляд, наиболее существенная отличительная особенность сказа И. Шмелёва от сказа А. Ремизова, Е. Замятина и А. Белого в том, что повествование в его повести ведётся от лица непосредственного участника событий, но отстранённо – через некоторое время после того, как произошли эти события. Таким образом, рассказчик – стареющий официант Яков Скороходов – имеет возможность взглянуть на происходящее как бы со стороны, sine ira et studio (без гнева и пристрастия), а значит, дать более трезвую, объективную оценку и своему поведению в той или иной ситуации, и поведению окружающих его людей. Это особенно важно потому, что он не только наблюдатель и обличитель, но и правдоискатель – «герой пути», по терминологии Ю. Лотмана: его мироощущение, его отношение к жизни, образ мыслей, жизненные принципы существенно изменяются в ходе повествования.
Повесть «Человек из ресторана» не имеет чёткой сюжетной организации. Это связано с тем, что писатель в первую очередь обращает внимание не на внешнюю, видимую жизнь героя, а на его внутренний мир, во многом скрытый от посторонних глаз. Естественно, что реальная и духовная жизнь человека развиваются неравномерно: за несколько дней в кризисный период герой может совершить скачок в нравственной жизни, и, напротив, в течение длительного времени обыденной жизни его мироощущение может оставаться неизменным. Своеобразие жанрового содержания повести И. Шмелёва заключается как раз в том, что автор подробно рассказывает о внутренней жизни героя в критический период существования, отображая её во всех проявлениях, не только по дням, но и по часам, и пренебрегает воспроизведением того периода жизни, когда духовный мир персонажа остаётся статичным.
Условно повесть «Человек из ресторана» можно разбить на шесть частей, каждая из которых представляет собой относительно самостоятельный эпизод:
1-я часть (гл. 1–9): исключение Николая из училища [3 суток];
2-я часть (гл. 10–11): период спокойствия [месяц];
3-я часть (гл. 12–15): арест Николая [сутки];
4-я часть (гл. 16–19): «мытарства» героя [полгода];
5-я часть (гл. 20–22): распад семьи [полгода];
6-я часть (гл. 23): эпилог [полгода].
Специфике сюжета подчинено использование автором художественного времени. В произведении несколько временных слоёв существуют параллельно друг с другом:
• время рассказывания / повествования;
• время, о котором непосредственно ведётся повествование;
• фоновое время прожитой жизни героя.
Действие повести охватывает промежуток примерно в полтора-два года, но это время распределяется по главам неравномерно: автор может подробно расписывать в девяти главах (гл. 1–9) события, произошедшие в течение трёх суток, а затем в три главы (гл. 16–19 или 20–22) вместить полгода из жизни героя. Неинтересные, так сказать, сквозные периоды жизни он пропускает, прибегая к речевым конструкциям «недели две прошло», «месяца три прошло», «прошло так месяца два» и т. п. Соответственно, меняется и ритм повествования – то замедляется, то убыстряется, – в зависимости от восприятия, субъективной оценки рассказчиком значимости в собственной жизни тех или иных событий.
Жанровое содержание повести И. Шмелёва определяет основной конфликт произведения – скрытое, внешне ничем не обнаруживаемое противостояние Скороходова и посетителей ресторана: «Ну, а в залах-то я ничего, в норму, и никакого виду не показываю… У меня результат свой есть, внутри… Всему цену знаю… Вот вам ресторан, и чистые салфетки, и зеркала-с…
Кушайте-с и глядите-с… А моё так при мне и остаётся, тут-с» [с. 241]10. За долгие годы у него выработались определённые жизненные принципы, в соответствии с которыми жизнь его проходит «тихо и незаметно», но взрослеющие дети вносят разлад в его налаженный быт: «Поживали мы тихо и незаметно, и потом вдруг пошло и пошло… Таким ужасным ходом пошло, так завертелось…» [с. 122].
Оказавшись в кризисной ситуации, герой И. Шмелёва сталкивается с необходимостью переосмысления прожитой жизни, переоценки ценностей, изменения отношения к людям, которые его окружают. Больше всего его угнетает нравственное несовершенство людей, отсутствие человечности и взаимопонимания, «насмеяние над душой», унижающее человеческое достоинство.
Изменение мироощущения героя накладывает свой отпечаток на характер его повествования: протест сочетается с примирением; жажда обогащения контролируется высоким нравственным чувством; разочарование в жизни и людях сменяется просветлением и верой. При всей жёсткости скороходовского «суда» над посетителями ресторана (читай: над обществом) И. Шмелёв не теряет чувства художественного такта: Скороходов и в своём «социальном протесте» остаётся «маленьким человеком», обывателем, предел мечтаний которого – собственный домик с душистым горошком, подсолнухами и породистыми курами – лангожанами: «Ах, как я себе в уме представлял обзаведение домиком! И садик бы развёл, берёзок бы насажал, и душистого горошку, и подсолнухов… Чайку-то в своём садике со своей ягодой напиться…» [с. 180].
С разработкой темы «маленького человека» прямо связана мысль о фатальной разобщённости людей из народа и интеллигенции. Поведение Скороходова во многом определяется недоверием и неприязнью к образованным людям. В какой-то мере это обстоятельство сказывается и на его отношении к детям, прежде всего к Николаю. В сущности, именно тема «отцы и дети» образует контур сюжета повести И. Шмелёва. Судьбы детей небезразличны Скороходову, и он по-своему пытается помочь или же не помешать найти им своё место в жизни. Но, как это часто бывает, там, где необходимо проявить такт, выдержку и занять более пассивную позицию, он чрезмерно активен и своей активностью отталкивает от себя сына, а там, где нужно было бы проявить активность и принципиальность, он, напротив, неоправданно пассивен, чем едва не разрушает жизнь дочери. В конечном счёте герою повести удаётся найти взаимопонимание с детьми, но это стоит ему не только полутора лет жизни, но и потери жены – самого близкого ему человека, временной потери работы, без которой он не мыслит своего существования, ссоры с единственным другом и т. п.
В финале произведения в качестве основы жизни человека И. Шмелёв утверждает его нравственную силу, говорит о «внутреннем прозрении», зачастую невидимом окружающим, о поисках высшей Правды, несущей в себе Божественное начало: «…'добрые-то люди имеют внутри себя силу от господа!..» [с. 236]. Авторская позиция проступает сквозь позицию рассказчика, сквозь особенности его мировосприятия и получает своё художественное воплощение через повествовательную форму сказа.
Нельзя не согласиться с современной исследовательницей, что «высшее стилистическое мастерство И. Шмелёва – в воспроизведении разговорной бытовой речи как прямого выражения сознания, мыслей, чувств его персонажей»11. Речь героя-рассказчика повести «Человек из ресторана» звучит во всём её живом многообразии, в его исповеди сплетаются разговорно-просторечные слова, вульгаризмы, канцелярские штампы, жаргонные выражения и профессиональные обороты, носящие характер клише – зачастую искажённые: «Я как начал свою специальность, с мальчишек ещё, так при ней и остался, а не как другие даже очень замечательные господа. Сегодня, поглядишь, он орлом смотрит, во главе стола сидит, шлосганисберг или там шампанское тянет и палец мизинец с перстнем выставил и им знаки подаёт на разговор и в бокальчик гукает, что не разберешь; а другой раз усмотришь его в такой компании, что и голосок-то у него сладкий и тонкий, и сидит-то он с краешку, и голову держит, как цапля, настороже, и всей-то фигурой играет по одному направлению. Видали…» [с. 118]. Ещё раз подчеркнём, что перед нами не просто неграмотность, а искажение, которое объясняется устной редукцией правильных письменно-книжных синтаксических форм.
На редуцировании строится и воспроизведение героем-рассказчиком речи других действующих лиц: происходит как бы наложение речи Скороходова на речь остальных персонажей. При этом ему удаётся более или менее точно передать речь лишь героев своего круга. В этом случае нарушения стилевых норм книжной речи в равной мере принадлежат и герою-рассказчику, и тому, чью речь он воспроизводит: «Чует, – говорит, – моё сердце… Вон у Гайкина-то сына заарестовали…» [с. 140]. Но чем дальше по уровню образования отстоит от героя-рассказчика то или иное действующее лицо, тем приблизительнее передаётся его речь, – то, что он слышит, становится для него трудновоспринимаемым и уж тем более трудновоспроизводимым: «Бегает по комнате, пальцами тычет, кулаком грозит и пошёл про жизнь говорить, и про политику, и про всё. И фамилии у него так и прыгают. И славных и препрославных людей поминает… и печатает. И про историю… Откуда что берётся. Очень много читал книг. И вот как надо, и так вот, и эдак, и вот в чём благородство жизни!» [с. 124].
Символика повести «Человек из ресторана», в свою очередь, свидетельствует о том, что автор, сохраняя дистанцию с героем-рассказчиком, корректирует его восприятие. Символ вводится по схеме двухступенчатого (автор – рассказчик): «И вся-то жизнь – как один ресторан…» [с. 221] – и трёхступенчатого (автор – персонаж – рассказчик) построения: «А как Татьянин день… уж тут-то пятен, пятен всяких и по всем местам… Нравственные пятна! Нравственные, а не матерьяльные, как Колюшка говорил! Пятна высшего значения!..» [с. 129]. И. Шмелёв заботится о том, чтобы сохранялась необходимая для сказа дистанция между рассказчиком и автором: зачастую герой-рассказчик больше понимает, чем умеет сказать. Человек малообразованный, не привыкший к рассуждениям обобщающего порядка, он не всегда в состоянии сделать прямые выводы из своих наблюдений и поэтому вынужден ссылаться на мнение других, более образованных людей, присоединяясь к нему.
Стилевые поиски И. Шмелёва, разумеется, опираются на гоголевскую традицию, но в контексте аналогичных поисков А. Ремизова, Е. Замятина, А. Белого и др. можно предположить, что в начале ХХ века сложились благоприятные условия для развития сказа не только как тенденции речевого стиля, но и как жанровой разновидности. То есть сказовая форма повествования в повести «Человек из ресторана» выступает и как фактор речевого стиля, и как фактор жанрообразующий.
Отход от сказовой формы повествования предопределил обращение И. Шмелёва к другим жанровым разновидностям повести. Среди них безусловно выделяется одно из лучших произведений И. Шмелёва 1910-х годов – повесть-драма «ВОЛЧИЙ ПЕРЕКАТ», сочетающая эпическое повествование и описание с драматическими диалогами12. Здесь, может быть, нагляднее, чем в других произведениях писателя этого периода, проявляется общая особенность его творческой манеры – умение на конкретном бытовом материале ставить нравственно-философские вопросы о смысле жизни, о назначении человека. Здесь все средства художественного изображения – описания быта, пейзажа, широкое использование повторяющейся детали-доминанты, сама форма повествования, – подчинены раскрытию внутреннего мира героев. При этом авторский комментарий практически отсутствует, писатель нигде открыто не высказывает свою точку зрения, не показывает своего отношения к изображаемому. Автора как бы нет: читатель остаётся наедине с героями и событиями.
Использованный в основе композиции повести «Волчий перекат» принцип параллелизма подчёркивает объективность авторской позиции. Писатель строит повествование таким образом, чтобы читатель имел возможность сопоставить образ жизни и мироощущение главных героев повести, а затем самостоятельно, без авторского вмешательства прийти к мысли, к которой, собственно говоря, и сводится содержание повести И. Шмелёва, – о разъединённости между творческой интеллигенцией и простым народом. Писатель не пытается обнаружить истоки этой, по его мнению, трагической для судеб России разъединённости; не склонен он и давать рецепты выхода из кризисной ситуации, чреватой гибельным для общества расколом: И. Шмелёв «пишет Россию», его цель – осмысление быта.
Повесть «Волчий перекат» состоит из трёх глав: в первых двух главах речь идёт, соответственно, о вполне благополучных, хотя и несколько пресыщенных жизнью актёрах-интеллигентах и homo novus – судоходном смотрителе Серёгине. Здесь авторские описания (бытовые зарисовки) чередуются с реплицированным, т. е. состоящем из небольших фраз, диалогом: «Походили по палубе, провожаемые косящими взглядами двух крепышей – штурвальных, в угрюмой сосредоточенности вертевших туда и сюда колесо. Приглядывались, кто едет. Публики не было. На затрубной части, под дымом, посиживали простые люди. «Кажется, мы одни… – сказал баритон. – Да тут всегда так.» – «Я рада, – сказала певица. – Какая милая простота»» [с. 342]; «Прямо с ходу Серёгин осмотрел запасные баканы, кучу ржавых цепей, оглянул реку, привычно выискивая отсветы кос и наносов. «Как на скате?» – «У таей, у долгой, новый перекатец задират…»» [с. 351] и т. п.
В третьей главе преобладает развёрнутый диалог между певицей и Серёгиным, причём реплики Серёгина зачастую даются в форме повествования от третьего лица, органично включающего в себя несобственно-прямую речь, и чередуются с его внутренним (мысленным) монологом, который становится самостоятельной единицей в речевой структуре повести, выполняя роль эмоционального комментария к словам и поведению собеседников: «Он рассказал им, как был под медведем, как взял рысь одними руками – ободрала, шельма, плечо! – как под Архангельском, – там река, господа, какая! вёрсты! – переходил в ледоход. Об этом писали в газетах. Ну, это когда был моложе, конечно. Теперь дорожит жизнью. Зажигал перед ней, перед этой чудесной розовой женщиной, весь жар, который таился в душе. Был счастлив, что она так глядит, – и вдруг стало не по себе: заметил, как она наклонилась к скучному рухляку и что-то шепнула. «А не выпьете ли с нами винца?» – предложил баритон. – «…Во-от! А прилично ли? – подумал Серёгин. – Скажут. Сам напросился… " – «Да? – с улыбкой кивнула ему певица. – Конечно, вы должны выпить/' – «…А какие глаза! Бывают же такие… небесные женщины! Родятся где-то, где-то живут…»» [с. 362].
В целом повествование отличается сжатостью изложения и сдержанностью интонаций, интонационная насыщенность достигается тем, что многие слова в диалогах разделены на слоги: «Не мая-чи-ит! – услыхал в дремоте Серёгин и встряхнулся» [с. 358]. Лаконизма, высокой плотности художественной мысли И. Шмелёв добивается с помощью своеобразных приёмов типизации: социальная принадлежность и душевное состояние героев раскрываются не в развёрнутых жизнеописаниях, а в кратких, но содержательных диалогах и внутренних монологах.
Герои повести «Волчий перекат» – баритон и певица, с одной стороны, а Серёгин, с другой стороны, – олицетворяют собой два мира, два образа жизни. С помощью «подтекстных», синонимичных деталей, выполняющих в описаниях и репликах героев функцию авторского комментария, И. Шмелёв создаёт – и искусно поддерживает на протяжении всего повествования – ощущение «несовпадения» между ними. Это мир больших городов («Петербург, Москва, культура, яркая жизнь…» [с. 346]) и мир простых людей («Деревни кругом, в полях и лесах деревни. Дёготь гонят, скипидар, смолу, корьё дерут, леса валят…» [с. 364]), они как бы находятся в двух параллельных, непересекающихся плоскостях13.
Герои повести хорошо ориентируются только в привычном для себя мире, а о перипетиях жизни вне своего мира имеют лишь приблизительное представление. Автор постоянно акцентирует внимание читателей на том, что актёры н а б л ю д а ю т «живую жизнь» со стороны – с палубы парохода или из окна салона первого класса, описание которого становится своеобразным ключом, дающим представление о мире, в котором они живут: «Было приятно видеть большой светлый салон, в красном дереве, бронзе и коже, свежие скатерти, разноцветный хрусталь, розовые шапки гортензий над серебром, зеркальные, во всю стену, окна, мягкие диваны и пианино…» [с. 344]. Характерно, что окружающий мир также поначалу вызывает у певицы восторг и умиление: «Хорошо и покойно было вокруг. Плыли берега, слоистые от опадавшей за лето воды, в лознячке, уже потерявшие куличков-свистунов, полетевших к югу. Крестами стояли на высоких мысках полосатые мачты с отдыхающими воронами. Еловые гривки падали в пустые луга. Широко сидели по взгорьям деревни. Лениво кружили крестами одинокие ветряки. «Родное, милое… – мечтательно говорила певица. – Какой воздух!»» [с. 342]. Но постепенно ощущение новизны утрачивается и вскоре восторг сменяется разочарованием: «Было пасмурно… Гулко скатывали брёвна где-то, громыхало железо. Толклись крючники, мужики с кнутьями, бабы с пирогами, молодцы с жёлтыми аршинчиками в кармашках, с пачками накладных; степенный, рыжебородый, с намасленными волосами, с картинкой храма на широкой груди, собирающий на недостроенную церковь, и ни одного отдыхающего лица…«Будни…» – показала на всё певица» [с. 344], – жизнь «простых людей» представляется ей скучной, неинтересной, чересчур будничной. Следует отметить, что пейзажные зарисовки и бытовые описания служат главными средствами раскрытия внутреннего мира героев в повести: путём создания созвучных настроению героев картин природы и быта автор освещает тончайшие переливы их чувств и мыслей.
Сознательный отказ от развёрнутых авторских характеристик героев вынуждает писателя прибегать к самым разнообразным способам раскрытия их внутреннего мира, в том числе и к широкому использованию деталей-доминант. Такой доминантной деталью, своеобразным знаком внутреннего мира певицы является пианино. Впервые эта деталь встречается вроде бы случайно, – один из пассажиров (священник), рассказывая актёрам о своей жене, в частности, замечает: ««…у матушки тоже большие способности к музыке и голос звонкий, но только не довелось подучиться: не было фортепьян… Да-с. У вас там музыкальные представления по ночам, и у нас музыка: у-у-у!» – представил он вой волков» [с. 343]. Уже здесь возникает лейтмотив противопоставления двух миров – мира интеллигенции, больших городов и мира простых людей, а пианино воспринимается как знаковая деталь, естественная для одного и излишняя для другого мира.
Дальнейшее развитие и, казалось бы, логическое завершение этот мотив получает в откровенно «рифмующемся» с диалогом актёров со священником эпизоде: певица и баритон с палубы парохода наблюдают, как «на одной пристани, где ничего не было, кроме сарая и леса за ним, выгрузили пианино» (««Кто-то живёт здесь, любит искусство…» – мечтательно сказала певица. Вспомнила батюшку, и забитое в доски пианино показалось ей жалким и лишним здесь» [с. 344]). Но в ходе повествования И. Шмелёв ещё неоднократно использует эту деталь всё с той же целью – показать, как остро певица переживает свой (читай: интеллигенции) разрыв с миром простых людей: «В салоне певица подняла крышку пианино, взяла несколько грустных аккордов, посмотрела в окно и захлопнула. «Какая тоска! "» [с. 346]; «Вся Россия – огромная, серая, а мы в ней… будто какой-то малюсенький придаток… как то пианино у леса» [с. 346–347]; «Она подошла к пианино, открыла крышку, посмотрела на чёрное окно. Задумалась. Постояла и тихо опустила крышку» [с. 366]. И наконец, выражает авторскую точку зрения: «Мы можем петь с вами там, в залах, рядам… а здесь надо что-то другое петь, в этой жути, какую-то страшную симфонию… Она творится здесь, я её чувствую, эту великую симфонию… Мои песенки были бы здесь насмешкой, каким-то писком. Да, да! Сюда надо идти не с подаяньем!.. А когда-нибудь и здесь будут петь… другие…» [с. 367].
Такой же повторяющейся, знаковой деталью, характеризующей внутренний мир Серёгина, становится «жестяная коробочка с крашеной бабочкой наверху», которую он использует как портсигар. Эта коробочка из-под конфет, которыми он угощал Сашу, коробочка, с которой он никогда не расстаётся и которую забывает на столе певицы в салоне первого класса, символизирует однажды обретённую им и навсегда утраченную любовь («Может, и есть-то всего на всей земле для него только одна эта Саша, его судьба, радостное одно за всю жизнь» [с. 354]). Сюжетная линия «Серёгин – Саша» в смысловом контексте повести воспринимается как своеобразный ответ на вопрос певицы: «Мы едем в пустоте, – грустно сказала певица. – Какая бедная жизнь… Всматриваюсь я, думаю… Чем живут эти все здесь… Что у них хоть немножко яркого в жизни? Куда-то идут, бегут, везут, валят брёвна… точно переезжают все и никак не могут устроиться…» [с. 343, 346]. Характерно, что Серёгин так и не решается рассказать певице о Саше («Эх, ей бы сказал, пожалела бы с такими глазами, маленькая…» [с. 366]). А она, в свою очередь, не решается ему спеть: «Что бы я стала петь? Он, вероятно, никогда ничего не слыхал… Но что бы я стала петь ему? «И тихо, и ясно, и пахнет сиренью»? Что-нибудь бодрое? А он послушает и пойдёт в ночь?..» [с. 367], – и жалеет она его («Что она смотрит так?
Ведь она ничего не знает. И понял – жалеет» [с. 366]) не потому, что он потерял Сашу, а потому, что жизнь его представляется ей тяжёлой и однообразной («Пойдёте туда… Господи! – передёрнула она зябкими плечами. – В такую тьму…» [с. 366]). Трагедия в том, что певица судит о жизни Серёгина со своей точки зрения, извне, а узнать его жизнь изнутри ей не дано.
В связи с этим обращает на себя внимание ещё одна деталь: когда Серёгин появляется в салоне первого класса, певица принимает его за инженера («Певица глядела на пассажира: кто он? инженер?..» [с. 349]), но едва он вступает с ней в разговор (««Опасного ничего, сударыня, – подымаясь, сказал он почтительно. – Самый тут стрежень и завороты… Предупреждают…» – «Что?.. я никак не пойму»… – «Сильный пронос тут, очень бурит, сударыня… – сколько мог мягче сказал Серёгин. – Несёт пароход, а стрежень кривой и узкий… фарватер-с… " Она отвернулась к окну: нет, конечно, не инженер» [с. 360]), понимает, что ошиблась, – это человек не её круга. Аналогичным образом Серёгин первоначально судит о своих попутчиках, услышав отдельные фразы из их разговора («…за одну неделю. Пять тысяч дал! …конечно отказался… Лучше заплатить неустойку…» [с. 359]), исходя из представлений своего мира: баритона он принимает за коммерсанта, а певицу – за его содержанку.
Их представления друг о друге лучше всего отражают предельно контрастные портретные характеристики, которые даются, соответственно, в восприятии Серёгина: «…дама была красавица. У ней было нежное, белое, как из воску, лицо, тонкие, яркие губки, тёмные бровки мягкими дужками и чудесные светлые локоны, какие видал он в Архангельске, в лучшей парикмахерской, за окном. А когда увидал глаза – сладко тронуло сердце. Так и подумал – божественные глаза» [с. 359], – и певицы: «И этот, в сапогах, красивый и диковатый, с резко кинутыми бровями, этот детина, крепкий, как брус…» [с. 361].
Довольно продолжительная беседа между певицей и Серёгиным ничего не изменяет в их представлении друг о друге: Серёгин для певицы остаётся «медвежьим человеком», а она для него – «небесной женщиной», женщиной из сказки; создаётся впечатление, что они говорят на разных языках. Речь героев, представленная в форме реплик, диалогов, монологов, развёрнутых рассказов, демонстрирует непреодолимое различие их мировосприятия, культуры и самосознания. Таким образом, диалог в повести «Волчий перекат», наряду с «подтекстными» деталями, становится одним из наиболее универсальных средств воплощения авторского замысла.
Несколько особняком в творчестве И. Шмелёва доэмигрантского периода стоит повесть «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША», написанная возвышенным, поэтическим стилем14, ей трудно дать чёткое жанровое определение. Основная часть повести – описание жизни Ильи Шаронова15, бывшего крепостного человека, талантливого художника-иконописца, рано умершего и забытого всеми, но оставшегося жить в своих работах: «Не понимал Илья, как народу послужить может. А потом понял: послужить работой» [с. 418]. Отчасти повествование стилизовано под житие: кротко и незлобиво, точно святой, прожил Илья свою короткую жизнь, преодолевая искушения (любовь Зойки-цыганки, уговоры Терминелли и Панфила-шорника не возвращаться на родину и др.) и следуя знакам (пророческие сны, видения), ведущим его к исполнению предначертанной судьбы16. Сюжет повести в метафорической форме передаёт идею духовного самоусовершенствования личности, но в отличие от классических произведений житийного жанра писатель избегает поучений и говорит о талантливом художнике без сентиментальности и умиления.
Чётко продумана архитектоника повести: она состоит из пролога, 18 глав и эпилога. Пролог и эпилог дают представление о судьбе живописных работ Ильи.
Лейтмотив пролога – «грустное очарование»; здесь описывается заброшенная усадьба, привлекающая дачников единственной достопримечательностью – портретом в золочёной овальной раме: «Очень молодая женщина в чёрном глухом платье, с чудесными волосами красноватого каштана. На тонком бледном лице большие голубые глаза в радостном блеске: весеннее переливается в них, как новое после грозы небо, – тихий восторг просыпающейся женщины. И порыв, и наивно-детское, чего не назовёшь словом». Рядом церковь и склеп с росписью «ангела смерти, с чёрными крыльями и каменным ликом, перегнувшегося по своду, склонившегося к её надгробию, и белые лилии, слабо проступающие у стен: как живые»; монастырь, на южной стене которого «светлый рыцарь, с глазами-звёздами, на белом коне, поражает копьём Змея в чёрной броне, с головой как у человека – только язычище, зубы и пасть звериные»; и наконец, заброшенная могила Ильи: «В сочной траве лежит обросший бархатной плесенью валун-камень, на котором едва разберешь высеченные знаки…» (с. 400–403])17.
Лейтмотив эпилога – «радостное утешение»; здесь описывается подмонастырная ярмарка в день празднования Рождества Богородицы, главное событие (действо) которой – шествие с иконой «Неупиваемая чаша», вера в её чудодейственную силу более полувека спасает людей от страданий: «Что к Ней влечёт – не скажет никто: не нашли ещё слова сказать внутреннее своё. Чуют только, что радостное нисходит в душу» [с. 451]18.
Центральные главы повести (IX–X) посвящены описанию росписи церкви в Ляпуново – именно в этой работе первоначально Илья видел своё предназначение, к ней готовился, обучаясь мастерству (I–VIII гл.). Но выполненная работа не принесла ему полной радости: «Смотрел Илья, и ещё больше радовалась душа его. И не было полной радости. Знал сокровенно он: нет живого огня, что сладостно опаляет и возносит душу. Перебирал всю работу – и не мог вспомнить, чтобы полыхало сердце». Однако божественное видение («Миг один вскинул Илья глазами – и в страхе и радости несказанной узнал глянувшие в него глаза. Были они в полнеба, светлые, как лучи зари, радостно опаляющие душу. Таких ни у кого не бывает. На миг блеснули они тихой зарницей и погасли…») вновь наполнило его душу верой, вернуло ему потерянную радость: «…понял Илья трепетным сердцем, как неистощимо богат он и какую имеет силу. Почуял сердцем, что придёт, должно прийти то, что радостно опаляет душу» [с. 429–430]. В последних восьми главах повести (XI–XVIII) описана история любви, «встречи – невстречи» Ильи и Анастасии, жены его барина19. Любовь и радость синонимичны в повести И. Шмелёва, их смысл читается в отражении красоты, которая понимается как созидающая доброта (Благодать Божья) и открывается в молитве, видении, сне.
Различные оттенки чувства Ильи проявляются в целом ряде эпизодов, насыщенных мягким лиризмом, который буквально обволакивает всё повествование во второй части повести. Среди таких эпизодов выделим сцену в церкви, когда чувство любви к Анастасии у Ильи только зарождается: «Говорила она – пение слышал он. Обращала к нему глаза – сладостная мука томила душу Ильи» [с. 434]; или описание, как влюблённый Илья прячется в кустах у дороги, чтобы посмотреть на проезжающую мимо в открытой коляске Анастасию: «Тихо проползала коляска песками, совсем близко. Даже тёмную родинку видел Илья на шее, даже полуопущенные выгнутые ресницы, даже подымающиеся от дыхания на груди ленты и детские губки. Как божество провожал Илья взглядом поскрипывающую по песку синюю коляску, теряющуюся в соснах» [с. 440].
Особое место в повествовании занимают главы (XV–XVI), в которых рассказывается, как Илья работал над портретом Анастасии и одновременно по ночам писал икону «Неупиваемая чаша»: «Две их было: в чёрном платье, с её лицом и радостно плещущими глазами, трепетная и желанная, – и другая, которая умереть не может» [с. 444]. И наконец, сцена последнего свидания, когда Илья уже не в силах был сдерживать свои чувства: «Закружилось и потемнело у Ильи в глазах, схватил он маленькую её руку, жадно припал губами, пал перед нею, своей царицей, на колени, осыпал безумными поцелуями её заснеженные ноги, плакал…» [с. 445].
Один из важнейших мотивов повести связан с противопоставлением Ильи и окружающих его людей. Лишь немногие из них в состоянии оценить его талант, стремление своим искусством нести людям радость и счастье (Арефий, Терминелли, Анастасия). Для большинства же его поиски высшей Правды и Красоты непонятны, люди суетные, живущие мелкими интересами, они и Илью воспринимают в соответствии со своими (искажёнными необразованностью и бездуховностью) представлениями о мире: «Стали посмеиваться над Ильёй люди, говорили: «Ишь ты, барин! Подольстился к барину – бока налёживает, морду себе нагуливает, марькизь вшивый! Мы тут сто потов спустили, а он по морям катался, картинками занимался»» [с. 426]. Им не дано не только понять по-детски доверчивую душу художника, но и сохранить память о нём…
Категория «духовности – бездуховности» также во многом определяет значение, структуру художественного времени и пространства. Действие повести разворачивается в двух временных пластах: середина XIX века (основная часть), начало XX века (пролог и эпилог) – это внешнее, историческое время. В повествовании оно играет чисто функциональную роль: И. Шмелёву необходимо было показать, что времени не подвластны не только истинные, духовные ценности, но и человеческая пошлость. Именно на этой, иронической ноте заканчивается повествование: дачники, насмотревшись на все достопримечательности Ляпуновки, «идут к Козутопову есть знаменитую солянку и слушать хор…» [с. 452]. Им всё едино: что портрет, что икона, что солянка, – лишь бы были знаменитыми.
Более важную роль в повествовании играет внутреннее, психологическое время: для Ильи оно насыщено духовными поисками, божественным откровением, любовным восторгом, он не только с радостью впитывает в себя всё новое, но и полностью отдаётся творчеству («Небо, земля и море, тоска ночная и боли жизни, всё, чем жил он, – всё влил Илья в этот чудесный облик…» [с. 444]). Главное в том, что его духовный мир постоянно изменяется, совершенствуется; психологическое время большинства окружающих его людей, живущих мелкими, суетными интересами, статично, – их внутренний мир остаётся неизменным.
Художественное пространство повести «Неупиваемая чаша» может быть рассмотрено в двух плоскостях – горизонтальной и вертикальной. В горизонтальной плоскости замкнутому пространству Ляпуновки (шире: России) противопоставлено открытое пространство Европы (Германия, Турция, Италия). В вертикальной плоскости намечается противопоставление «земля (плоть) – небо (дух)». В основе пространственных оппозиций лежат категории «свободы – несвободы»: в России Илья раб, в Италии он свободен. Но как это ни парадоксально, только вернувшись домой (в рабство: «…до тоски тянула душа на родину» [с. 421]), Илья обретает истинную свободу (свободу духа). Таким образом, по И. Шмелёву, истинную свободу человеку даёт только приобщение к духовному началу. Эта мысль лейтмотивом проходит через всё повествование.
In medias res – вопрос о жанровом своеобразии повести «Неупиваемая чаша» остаётся открытым. Откровенная ориентация на духовную литературу, в первую очередь на жанр жития, казалось бы, не оставляет исследователям пространства для поиска жанровых дефиниций. Тем не менее их диапазон неожиданно широк: от «повести-жития», или «житийной поэмы», до «духовной (или православной) повести» (вероятно, по аналогии с духовным (или православным) романом «Пути небесные»). При quasi-многообразии выбора для нас всё же наиболее привлекательным остаётся жанровое определение, нечаянно «оброненное» автором в самом начале повествования: «…оборвалась недосказанная поэма».
* * *
Повесть А. Белого «Серебряный голубь» множеством нитей связана с его главным произведением – романом «Петербург». Осваивая эпическую традицию, А. Белый-прозаик аппелирует не к её «среднеарифметическому» стилевому архетипу, а к заведомо узнаваемому и уникальному «чужому слову». Поэтическая система «Серебряного голубя» сознательно сориентирована на прозу Н. Гоголя, И. Тургенева, Ф. Достоевского и других русских писателей XIX века. Взаимоотношения орнаментальной прозы А. Белого с повествовательной нормой определяются идеей затруднённой формы, выразившейся в особом построении громадных по величине и сложнейших по составу предложений, в пристрастии к разнообразным инверсиям («…баба рябая с песней тихой, с песней жалобной» etc.), в необычном употреблении многих знаков препинания и в столь же необычном их отсутствии в необходимых случаях; отсюда формальная двойственность, соединение реального и отражённого: ассоциации, метафоры, метанимия20.
Одной из композиционных особенностей повести «Серебряный голубь» является её двуплановая («символистская») структура: за планом стилизованного быта скрыт план мистический. Основные темы повести, в том числе и главная – судьба России – отражаются в мистическом плане, который несёт основную нагрузку. А. Белый рассматривает Россию как центр борьбы восточных и западных сил: через проекцию на Россию он противопоставляет бессодержательные формы Запада – бесформенному содержанию Востока, голую логику – беспорядочной мистике. Резкое своеобразие стилевой манеры А. Белого: ритмическое начало в прозе, соединение объективных и субъективных ракурсов повествования, метафоризация речи, обилие образных лейтмотивов, разнообразие словесно-речевых систем («литературной», сказовой, стилизованной), прихотливость интонационно-синтаксических рядов и т. д. – приводит к разрушению традиционной формы повести и созданию её новой, «орнаментальной» модификации, принципиальным конструктивным элементом которой становится отчётливое преобладание образа и слова над сюжетом.
Проза Е. Замятина при внешней фабульной размытости остроконфликтна и служит игровым полем для противоборства двух сил – энтропии (равновесия, но не как синонима гармонии, а как синонима косности, инерции) и энергии (разрушения равновесия): «…две силы в мире – энтропия и энергия. Одна – к блаженному покою, к счастливому равновесию; другая – к разрушению равновесия, к мучительно-бесконечному движению» [т. 2, с. 110]. Авторские симпатии на стороне энергийно-дионисийского начала: «…вредная литература полезнее полезной: потому что она – антиэнтропийна, она – средство борьбы с обызвествлением, склерозом, корой, мхом, покоем» [т. 2, с. 389]. Но в его произведениях всегда побеждает сила косности и инерции, здесь проявляется не пессимизм Е. Замятина, а его горькая бесконечная ирония («смех из подвала Ф. Достоевского»).
Изображение энтропийного мира лежит в основе не только романа-антиутопии Е. Замятина «Мы», но и произведений различных циклов: «уездного» («Уездное», «Алатырь», «На куличках»), «северного» («Африка», «Север», «Ёла»), «английского» («Островитяне», «Ловец человеков»), «петербургского» («Мамай», «Пещера», «Наводнение»)21. В каждом цикле повестей и рассказов Е. Замятина сконцентрирован его интерес к своеобразию русской ментальности, гротеск, сатира, символика: все они являются частью единого текста, организованного с помощью оппозиции «энергия – энтропия» в «еретический» дискурс, который может быть рассмотрен в русле литературного мифотворчества как инсценировка мифа о еретике или гротескная антитеза этому мифу.
Эстетическая концепция жизни в творчестве И. Шмелёва обусловлена единством двух начал – бытового и бытийного, материального и духовного: быт насыщается бытием. Общая особенность его творческой манеры – умение на конкретном бытовом материале ставить нравственно-философские вопросы о смысле жизни, о назначении человека. В прозе И. Шмелёва все средства художественного изображения (описания быта, пейзажа, широкое использование повторяющейся детали-доминанты, сама форма повествования) подчинены раскрытию внутреннего мира героев. При этом авторский комментарий практически отсутствует, писатель нигде открыто не высказывает свою точку зрения, не показывает своего отношения к изображаемому. Автора как бы нет: читатель остаётся наедине с героями и событиями.
Всё творчество И. Шмелёва пронизано христианским мировидением, но если его ранние, дореволюционные произведения обычно рассматриваются в одном ряду с прозой А. Ремизова, Е. Замятина, М. Пришвина и других писателей-неореалистов, то всё, что им было написано в эмиграции – «Лето Господне», «Богомолье», «Куликово поле», «Няня из Москвы», «Старый Валаам», «Пути небесные» и др., – позволяет говорить об особом качестве его художественного метода, который исследователи предлагают обозначать как «духовный реализм»22. Эволюция творческого метода И. Шмелёва (реализм – неореализм – духовный реализм) сопровождается жанрово-стилевыми поисками писателя. Постоянно обновляется повествовательная манера («почти каждый рассказ его п о ё т и н ы м с т ил е м»23), что, в свою очередь, приводит к созданию различных жанровых модификаций, в том числе жанра повести – «повесть-сказ» («Человек из ресторана»), «повесть-драма» («Волчий перекат»), «повесть-поэма» («Неупиваемая чаша») и др.
Темы для рефератов
1. Оппозиция «Восток – Запад» в повести А. Белого «Серебряный голубь».
2. Теория неореализма Е. Замятина.
3. Оппозиция «энергия – энтропия» в художественном мире Е. Замятина.
4. Еретический дискурс повестей Е. Замятина.
5. Роль лейтмотивной детали в поэтике Е. Замятина.
6. Жанровое своеобразие повести И. Шмелёва «Человек из ресторана».
7. Оппозиция «народ – интеллигенция» в повести И. Шмелёва «Волчий перекат».
8. Оппозиция «духовное – бездуховное» в повести И. Шмелёва «Неупиваемая чаша».
Заключение
Начало нового столетия неминуемо оборачивается подведением итогов. Наука о литературе также пытается дать ответы на оставшиеся открытыми вопросы, среди которых и вопрос о специфике реализма в литературе XX века.
Рубеж XIX–XX веков традиционно воспринимается как пограничный этап в истории реалистического искусства: в это время реалистическая эстетика видоизменяется настолько, что возникает потребность в новом термине, способном отразить логику литературного развития.
Таким термином в 1910-е годы стал «неореализм» (реализм, обогащённый элементами поэтики модернизма), но научного обоснования он не получил и постепенно был искусственно вытеснен из научного обихода, так как многие из писателей-неореалистов в 1920-е годы оказались в вынужденной эмиграции. В сущности, судьба термина «неореализм» – а в литературных энциклопедиях советского периода соответствующая статья или отсутствует, или описывает направление в итальянском искусстве 40—50-х годов XX века – повторяет судьбу многих писателей-эмигрантов, на долгие годы вычеркнутых из истории русской литературы. Процесс его реабилитации растянулся на многие десятилетия: табу на термин «неореализм» было снято лишь в 90-е годы XX века, когда в Россию вернулись произведения таких писателей, как Б. Зайцев, И. Шмелёв, Е. Замятин и др.
Однако реабилитация оказалась не полной, огромный смысловой потенциал термина «неореализм» по-прежнему остаётся невостребованным. Сегодня, как и в 1910-е годы, им обозначают постсимволистское стилевое течение в русской литературе начала XX века, тем самым вырывая творчество писателей-неореалистов из контекста последующей литературной жизни страны, т. е., по сути, не восстанавливая, а прерывая связь времён.
Между тем очевидное стремление современных учёных проследить развитие русской литературы конца XIX – начала XX века в переходах от реализма к неореализму, от символизма к постсимволизму естественным образом приводит к мысли, что открытия порубежной эпохи предопределили характер художественного развития русской литературы на протяжении всего XX столетия. Но эта мысль не находит подтверждения в терминологическом аппарате.
Современная ситуация рубежа тысячелетий обязывает учёных-филологов самоопределиться в отношении ушедшей литературной эпохи. Стремление понять специфику литературного процесса XX столетия всё чаще обозначает предмет современных литературоведческих работ, авторы которых рассматривают литературные явления в типологическом аспекте1.
Создатели многочисленных теорий реализма XX века (реализм «новой волны», новый реализм и т. п.)2 в поисках термина-эвфемизма невольно забывают о том, что «не следует увеличивать количество сущностей» («бритва Оккама»). Элементарная толерантность подсказывает единственно верное с историко-литературной точки зрения решение: расширить область употребления термина «неореализм». Нам представляется, что неореализм следует рассматривать в одном ряду с реализмом и модернизмом, как литературное направление, а не течение. На наш взгляд, неореализм формируется в одно время с модернизмом (последняя четверть XIX века) и развивается параллельно с ним на протяжении всего XX столетия.
В рамках неореализма формируется множество течений, которые отражают жанрово-стилевые поиски русских писателей XX века реалистической ориентации. Их классификация и изучение – предмет отдельного исследования или серии исследований.
Примечания
Введение
1 См.: Келдыш В. Реализм и «неореализм» // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). – М., 2000. Кн. 1. С. 259–334; Давыдова Т. Русский неореализм: Идеология, поэтика, творческая эволюция. – М.: Флинта, 2005.
2 Скороспелова Е., Голубков М. На рубеже тысячелетий: литература ХХ века как предмет научного исследования // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2002. № 2. С. 8
3 Думается, следует воспользоваться простым принципом, известным как «бритва Оккама»: современные исследователи литературного процесса ХХ века вводят в научный оборот такие понятия, как реализм «новой волны» (В. Келдыш) или новый реализм (М. Голубков), – эти термины призваны подчеркнуть новизну реалистической эстетики ХХ столетия по отношению к классическому реализму Х1Х века, дублируя, в сущности, всем хорошо известный термин «неореализм», область применения которого в своё время была неоправданно сужена.
4 Следует различать романтическое стилевое течение в русской неореалистической литературе конца Х1Х века (В. Гаршин, В. Короленко, А. Чехов) и неоромантизм как модернистское течение в различных национальных литературах; в том числе в русской литературе начала ХХ века (А. Грин, А. Чаянов и др.).
5 Гусев В. Закономерности развития русской литературы последней трети XIX века. – Днепропетровск, 1991. С. 138.
6 См.: Бялый Г. Русский реализм. От Тургенева к Чехову. – Л., 1990; Каминский В. Пути развития реализма в русской литературе конца XIX века. – Л., 1979; Маевская Т. Романтические тенденции в русской прозе конца XIX века. – Киев, 1978 и др.
7 Мы разделяем точку зрения литературоведов, полагающих, что не существует типологически значимых признаков, позволяющих разграничить современные рассказ и новеллу по отношению друг к другу. При дифференциации повествовательных жанров следует различать роман (novel), большую повесть (short novel), маленькую повесть (novella) и рассказ (short story).
Роман является наиболее энциклопедичным литературным жанром: его жанровое содержание определяется единством авторской позиции, которая возникает на основе наблюдений и размышлений писателя над тем, что происходит в современном мире, и реализуется в многосюжетном, многогеройном, подчас многоголосом (полифоническом) повествовании, органично сочетающем в себе различные стилевые пласты. Рассказ можно назвать метонимией жизни: он основывается на случае, понимаемом как некая часть бытия, по которой воссоздаётся целое; а повесть – метафорой жизни: она стремится вобрать в себя мир как целое. Соответственно, рассказ требует ясной цельности видения мира, спокойной сосредоточенности, плавности. Его задача – показать событие, образ, предмет в своей подлинной уникальности: слово здесь подчиняется задачам эмоциональным и изобразительным. Рассудочность рассказу противопоказана: он довольно легко поддаётся однозначной интерпретации.
Повесть гораздо аналитичнее, условнее: она нуждается в истолковании, в интерпретации, и сама провоцирует читателей на взаимоисключающие точки зрения. Пытаясь логически сформулировать её смысл, нужно быть заранее готовым к тому, что он будет неоднозначен, антиномичен. Вероятно, этим в первую очередь и объясняется популярность жанра повести у писателей-неореалистов.
Глава 1
1 См., напр.: Бялый Г. Русский реализм. От Тургенева к Чехову. – Л., 1990; Гусев В. Закономерности развития русской литературы последней трети XIX века. – Днепропетровск, 1991 и др.
В свою очередь, говорится о неоромантических тенденциях в творчестве украинских писателей: О. Кобылянской, М. Коцюбинского, Н. Чернявского, С. Васильченко и др. См.: Денисюк I. Розвиток украшсько! мало! прози XIX – початку XX ст. – Кшв, 1981; Гундорова Т. Неоромантичш тенденцп творчосп О. Кобилянсько! // Радянське лгтературознавство. – 1988. № 11; Гундорова Т., Шумило Н. Тенденцп розвитку художнього мислення (початок XX ст.) // Слово i час. 1993. № 1; Кузнецов Ю. Гмпресюшзм в украшськш проз} кшця XIX – початку XX ст.: Проблеми естетики i поетики. – Кшв, 1995 та ш.
2 Маевская Т. Романтические тенденции в русской прозе конца XIX века. – Киев, 1978. С. 6.
3 Напр., В. Тюпа полагает, что «в чеховедении принят не очень уместный для этого «объективного» писателя термин «лиризм»». См.: Тюпа В. Художественность чеховского рассказа. – М., 1989. С. 83.
4 Соколова М. Романтические тенденции критического реализма 80 – 90-х годов (В. Гаршин, В. Короленко) // Развитие реализма в русской литературе: В 3 т. – М., 1974. Т. 3. С. 62.
5 См.: Московкина И. Проблемы изучения поэтики В. Гаршина в современном советском литературоведении // Вопросы русской литературы. – Львов, 1979. Вып. 2. С. 29–30.
6 См.: Пиксанов Н. Лиризм в творчестве В. Короленко // От Грибоедова до Горького: Из истории русской литературы. – Л., 1979. С. 137–147.
7 См.: Соколова М. Романтические тенденции критического реализма 80 – 90-х годов (В. Гаршин, В. Короленко) // Развитие реализма в русской литературе: В 3 т. – М., 1974. T. 3. С. 48–76; Азбукин В., Снопкова С. Элементы романтической поэтики в повести В. Короленко «Без языка» // Романтизм (Теория, история, критика). – Казань, 1976. С. 13–21; Пожилова Л. Соотношение романтизма и реализма в художественном методе А. Чехова и В. Короленко // Русская литература последней трети XIX века. – Казань, 1980. С. 71–80; Синцов Е. Художественное предвидение как основа взаимодействия романтизма и реализма. Проза А. Чехова, В. Гаршина, В. Короленко // Романтизм в системе реалистического произведения. – Казань, 1985. С. 100–121.
8 См.: Тюпа В. Художественность чеховского рассказа. – М., 1989. С. 83; Линков В. Художественный мир прозы Чехова. – М., 1982. С. 125; Полоцкая Э. «Первые достоинства прозы…» (От Пушкина к Чехову) / / Связь времён. Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX – начала XX в. – М., 1992. С. 116; Гиршман М. Литературное произведение: теория и практика анализа. – М., 1991. С. 147.
1.1.1
1 См.: Михайловский Н. Полное собрание сочинений. – СПб., 1914. T. 10. С. 593; Каминский В. Пути развития реализма в русской литературе конца XIX века. – Л., 1979. С. 113; Гусев В. Закономерности развития русской литературы последней трети XIX века. – Днепропетровск, 1991. С. 153 и др.
2 См.: Из писем В.М. Гаршина // Гаршин В. Избранное. – М., 1985. С. 335–336.
3 Гаршин В. Избранное. – М.: Правда, 1985. Далее произведения писателя цитируются по этому изданию с указанием страниц.
4 Исследователи неоднократно отмечали, что описание оранжереи строится В. Гаршиным на сопоставлении её с тюрьмой и, при всей лаконичности, ярко эмоционально. См., напр.: Бялый Г. Русский реализм. От Тургенева к Чехову. – Л., 1990. С. 559; Латынина А. Всеволод Гаршин: Творчество и судьба. – М., 1986. С. 110 и др.
5 Латынина А. Всеволод Гаршин: Творчество и судьба. – М., 1986. С. 111.
6 Бялый Г. Русский реализм. От Тургенева к Чехову. – Л., 1990. С. 559.
7 См., напр.: Сквозников В. Реализм и романтика в произведениях В. Гаршина // Известия АН СССР. Отделение лит. и языка. – М., 1957. T. 16, Вып. 3. С. 244.
8 Слово «гордость» в общенародном языке имеет несколько смысловых значений, которые реализуются или нейтрализуются в речи в зависимости от контекста. Для нас существенны два из них: 1. чувство собственного достоинства, самоуважения; 2. высокомерие, чрезмерно высокое мнение о себе. См.: Ожегов С. Словарь русского языка. – М., 1984. С. 119.
В данном случае реализуется первое из этих значений, во всех остальных случаях – второе.
9 Реализация сюжета в слове – оценочная функция слова – наглядно представлена в репликах директора ботанического сада, которые содержат глаголы лишь в повелительном наклонении (спилить, вырвать, выбросить и т. п.).
10 Об истоках и характере гаршинского пессимизма см.: Бердников Г. Проблема пессимизма. Чехов и Гаршин // Бердников Г. А.П. Чехов: Идейные и творческие искания. – М., 1984. С. 120–147.
11 Златовратский Н. Воспоминания. – М., 1956. С. 313.
12 Алкандров. Жизнь в литературе и литература в жизни // Устои. 1882. № 9—10. С. 43.
13 Художественная генеалогия «Attalea princeps» может быть прослежена от Г. Гейне к М. Лермонтову, которые использовали образ пальмы в качестве символа одиночества и страстного стремления к свободе.
14 В связи с этим, в частности, представляется справедливым и желание А. Латыниной освободить рассказ В. Гаршина от узкого толкования, «поставив его в контекст не злобы дня, но времени и истории». См.: Латынина А. Всеволод Гаршин: Творчество и судьба. – М., 1986. С. 120.
15 Аверинцев С. Символ // Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987.
16 Маевская Т. Романтические тенденции в русской прозе конца XIX века. – Киев, 1978. С. 114.
17 Социальная природа героя «гаршинского типа», в котором отразилось «трагико-пессимистическое понимание роли личности в истории», обстоятельно рассмотрена В. Каминским. См.: Каминский В. Пути развития реализма в русской литературе конца XIX века. – Л., 1979. С. 116.
18 См.: Сикорский И. «Красный цветок» В. Гаршина // Памяти В.М. Гаршина. – СПб., 1889; Баженов Н. Душевная драма Гаршина // Русская мысль. 1903. № 1.
19 См.: Фаусек В. Воспоминания // Гаршин В.М. Полн. собр. соч. – СПб., 1910. С. 28–73; Бибиков В. Всеволод Гаршин // Всемирная иллюстрация. 1888. № 17 и др.
20 Латынина А. Всеволод Гаршин: Творчество и судьба. – М., 1986. С. 153.
21 Бердников Г. Проблема пессимизма. Чехов и Гаршин // Г. Бердников А.П. Чехов: Идейные и творческие искания. – М., 1984. С. 141.
22 Поэтика В. Гаршина: Учеб. пособие / Ю. Милюков, П. Генри, Э. Ярвуд, С. Кошелев. – Челябинск, 1990. С. 15.
23 См., напр., характеристику Христа в «Антихристианине» Ф. Ницше, которая, по мнению большинства исследователей, восходит к роману Ф. Достоевского «Идиот»: «…мы могли бы назвать Иисуса «вольнодумцем»: ведь для него всё прочное, устойчивое – ничто; это, по сути дела, знание «чистого простеца»» (см.: Ницше Ф. Антихристианин // Сумерки богов. – М., 1989. С. 50). На сходство некоторых героев Ф. Достоевского и В. Гаршина впервые в отечественном литературоведении обратил внимание Ф. Евнин. См.: Евнин Ф. Ф. Достоевский и В. Гаршин // Известия АН СССР. Отделение лит. и языка. – М., 1962. T. 21, Вып. 4.
24 Это один из наиболее распространённых повествовательных приёмов В. Гаршина. Ср. фрагмент из четвёртой главы рассказа: «Больной ходил то с одним товарищем, то с другим и к концу дня ещё более убедился, что «всё готово», как он сказал сам себе. Скоро, скоро распадутся железные решётки, все эти заточённые выйдут отсюда и помчатся во все концы земли, и весь мир содрогнётся, сбросит с себя ветхую оболочку и явится в новой, чудной красоте» [с. 204]. Отметим также, что в этом контексте описание больницы ассоциируется у читателей с замкнутым пространством, с тюрьмой (высокая ограда, железные решётки на окнах) и вводит в повествование связанный с ключевой для рассказа идеей обновления мира лирико-романтический мотив борьбы с несправедливостью.
25 Можно предположить, что в слове «Ариман» В. Гаршина привлекла внешняя форма – его созвучие со словосочетанием «красный мак».
26 С этим описанием перекликается и гаршинская метафора: «точно два красных уголька» горят в траве алые маки [с. 205].
27 Напр.: «…тонкость психологического анализа противоречивых душевных движений оказывается у В. Гаршина подменённой несколько механическим сопоставлением и противопоставлением разных голосов, борющихся в душе героя». См.: Латынина А. Всеволод Гаршин: Творчество и судьба. – М., 1986. С. 132.
28 Впервые в русской литературе образ разуверившегося в жизни человека, с которым накануне самоубийства происходит нравственный переворот, создал Ф. Достоевский в рассказе «Сон смешного человека», послужившем сюжетной основой «Ночи» В. Гаршина, на что в своё время указал Ф. Евнин. См.: Евнин Ф. Ф. Достоевский и В. Гаршин // Известия АН СССР. Отделение лит. и языка. – М., 1962. T. 21. Вып. 4.
29 На это различие указывает М. Соколова. См.: Соколова М. Романтические тенденции критического реализма 80—90-х годов (В. Гаршин, B. Короленко) // Развитие реализма в русской литературе: В 3 т. – М., 1974. Т. 3. С. 62.
30 Напр.: «…единичный жизненный факт, поразивший его, никак не мог быть выделен его сознанием из общего строя жизни, именно только такие факты жизни и потрясали его нервы и завладевали всей его духовной деятельностью». См.: Успенский Г. Полн. собр. соч. – М., 1952. T.11. С. 584.
31 См., напр.: Бялый Г. Русский реализм. От Тургенева к Чехову. – Л., 1990. С. 563; Маевская Т. Романтические тенденции в русской прозе конца XIX века. – Киев, 1978. С. 201–204 и др.
32 Ср. описание пейзажа в финале рассказа «Attalea princeps», где экспрессивная доминанта, выражающая разочарование героини, образуется в результате нагнетания контекстуально-синонимических эпитетов: грязный, нищий, скучный и т. п. Нейтрализуя элементы романтической символики в изображении гуманистических и свободолюбивых стремлений героини, они сводят смысл рассказа к «удивлению свободой».
33 Лирический план рассказа «Ночь» наряду с евангельскими реминисценциями включает и другие литературные реминисценции морально-сентенциозного характера (притча о мошеннике, живущем в долг под несуществующее богатство; легенда о гордиевом узле; мольба Фауста etc).
34 Тургенев И. Полн. собр. соч. и писем. – Л., 1968. T. 13. С. 27.
35 Синцов Е. Проза А.П. Чехова, В.М. Гаршина, В.Г. Короленко // Романтизм в системе реалистического произведения. – Казань, 1985. C. 103.
1.1.2
1 Пиксанов Н. Лиризм в творчестве В. Короленко // От Грибоедова до Горького: Из истории русской литературы. – Л., 1979. С. 140.
2 Короленко В. Избранное. – М., 1987. Далее произведения писателя цитируются по этому изданию с указанием страниц.
3 Не случайно они сразу же вызвали профессиональные исследования специалистов-психологов. См., напр.: Щербина А. «Слепой музыкант» Короленко как попытка зрячих проникнуть в психологию слепых в свете моих собственных наблюдений. – М., 1916 и др.
4 См., напр.: Московкина И. Природа конфликта и типология малых жанров в творчестве В. Короленко // Вопросы русской литературы. – Львов, 1984. Вып. 1. С. 74; Синцов Е. Художественное предвидение как основа взаимодействия романтизма и реализма: Проза А.П. Чехова, В.М. Гаршина, В.Г. Короленко // Романтизм в системе реалистического произведения. – Казань, 1985. С. 105 и др.
5 Стремление человека к счастью, к свету позднее более остро прозвучит в рассказе «Парадокс» в виде формулы: «Человек создан для счастья, как птица для полёта» [с. 145].
6 Любопытно, что незадолго до В. Короленко аналогичную попытку показать соответствие между звуковыми, цветовыми и эмоциональными ассоциациями сделал известный французский поэт Артюр Рембо в знаменитом сонете «Гласные» (1871).
7 См.: Каминский В. Романтика поисков в творчестве В. Короленко: К вопросу о своеобразии реализма «переходного периода» // Русская литература. 1967. № 4. С. 90.
8 На отсутствие любовной интриги как одну из особенностей сюжетики произведений В. Короленко указывал ещё В. Сквозников. См.: Сквозников В. Реализм и романтика в произведениях В. Гаршина // Известия АН СССР. Отделение лит. и языка. – М., 1957. T. 16. Вып. 3. С. 238.
9 Традиционно эпилог определяется как сюжетно самостоятельный компонент, следующий за развязкой и переносящий действие в иное время и чаще всего в иное пространство. См.: Левитан Л., Цилевич Л. Сюжет в художественной системе литературного произведения. – Рига, 1990. С. 301.
10 Хализев В. Функция случая в литературных сюжетах // Литературный процесс. – М., 1981. С. 192.
11 Гусев В. Закономерности развития русской литературы последней трети XIX века. – Днепропетровск, 1991. С. 162.
12 Маевская Т. Романтические тенденции в русской прозе конца XIX века. – Киев, 1978. С. 135.
13 Гиршман М. Изучение диалектики общего и индивидуального в стиле // Теория литературных стилей: Современные аспекты изучения. – М., 1982. С. 43.
14 На своеобразный эмоционально-музыкальный ритм повествования в произведениях В. Короленко обращали внимание многие исследователи его творчества. См., напр.: Соколова М. Романтические тенденции критического реализма 80—90-х годов (Гаршин, Короленко) // Развитие реализма в русской литературе: В 3 т. – М., 1974. T. 3. С. 62–73.
15 Жирмунский В. Теория стиха. – Л., 1975. С. 579.
16 Гусев В. Закономерности развития русской литературы последней трети XIX века. – Днепропетровск, 1991. С. 164.
17 Маевская Т. Романтические тенденции в русской прозе конца XIX века. – Киев, 1978. С. 135.
18 Лихачёв Д. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. 1968. № 8. С. 76.
19 См., напр.: Пожилова Л. Соотношение романтизма и реализма в художественном методе А. Чехова и В. Короленко // Русская литература последней трети XIX века. – Казань, 1980. С. 75; Московкина И. Природа конфликта и типология малых жанров в творчестве В. Короленко // Вопросы русской литературы. – Львов, 1984. Вып. 1. С. 74.
20 Синцов Е. Художественное предвидение как основа взаимодействия романтизма и реализма. Проза А.П. Чехова, В.М. Гаршина, В.Г. Короленко // Романтизм в системе реалистического произведения. – Казань, 1985. С. 106.
21 Маевская Т. Романтические тенденции в русской прозе конца XIX века. – Киев, 1978. С. 185.
22 Пожилова Л. Соотношение романтизма и реализма в художественном методе А. Чехова и В. Короленко // Русская литература последней трети XIX века. – Казань, 1980. С. 75.
23 Короленко В. Собрание сочинений: В 10 т. – М., 1956. T. 10. С. 486–487.
24 См. об этом: Основин В. «Огоньки» Короленко (Из наблюдений над творческой историей и художественным своеобразием) //Русская литература XX в. Дооктябрьский период. – Тула, 1974. Вып. 5. С. 37–46.
25 Пиксанов Н. Лиризм в творчестве В. Короленко // От Грибоедова до Горького: Из истории русской литературы. – Л., 1979. С. 142.
1.2
1 Полоцкая Э. «Первые достоинства прозы…» (От Пушкина к Чехову) // Связь времён: Проблемы преемственности в русской литературе конца XK – начала XX в. – М., 1992. С. 138.
2 Там же. С. 116.
3 См., напр.: Генри П. Импрессионизм в русской прозе (Гаршин и Чехов) // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1994. № 2. С. 17–27.
4 Гиршман М. Литературное произведение: теория и практика анализа. – М., 1991. С. 147.
5 Как остроумно определил В.Б. Катаев, все писавшие о «Чёрном монахе», в зависимости от того, чью точку зрения в рассказе они считают наиболее близкой Чехову, разделились на «ковринистов» и «песоцкистов». См.: Катаев В. Проза Чехова: проблемы интерпретации. – М., 1979. С. 193.
6 См.: Романенко В. «Чёрный монах» А. Чехова и его критики // Журналистика и литература. – М., 1972. С. 203.
7 См. об этом: Катаев В. Чехов и мифология нового времени // Филологические науки. 1976. № 5. С. 73.
8 Любопытно, что М. Рев сближает «Чёрный монах» с другой музыкальной формой – с серенадой. См.: Рев М. Специфика новеллистического искусства Чехова («Чёрный монах») // Проблемы поэтики русского реализма XIX в. – Л., 1984. С. 222.
9 Фортунатов Н. Пути исканий. – М., 1974. С. 127.
1 °Cм.: Максименко В. Проблемы личности в повести А. Чехова «Чёрный монах» // Вопросы русской литературы. – Львов, 1988. Вып. 2. С. 84.
11 См.: Гиршман М. Литературное произведение: теория и практика анализа. – М., 1991. С. 149–150.
12 Характерно, что М. Рев также выделяет «четыре сегмента судьбы Коврина». См.: Рев М. Специфика новеллистического искусства Чехова («Чёрный монах») // Проблемы поэтики русского реализма XIX в. – Л., 1984. С. 224.
13 Цит. по: Фортунатов Н. Пути исканий. – М., 1974. С. 127.
14 На органичное сочетание в художественной структуре рассказа романтического и реалистического начал в исследовательской литературе указывалось неоднократно. См.: Полоцкая Э. Реализм Чехова и русская литература конца Х!Х – начала XX в. // Развитие реализма в русской литературе: В 3 т. – М., 1974. T. 3. С. 106; Маевская Т. Романтические тенденции в русской прозе конца XIX века. – Киев, 1978. С. 151–152; Семанова М. О поэтике «Чёрного монаха» Чехова // Художественный метод Чехова. – Ростов н/Д, 1982. С. 55–56 и др.
15 Катаев В. Проза Чехова: проблемы интерпретации. – М., 1979. С. 196.
16 Чехов А.П. Собр. соч. в 12 т. – М., 1985. T. 8. Далее цитаты из рассказа «Чёрный монах» приводятся по этому изданию с указанием страниц.
17 На эту особенность сюжетно-композиционной структуры рассказа А. Чехова исследователи, как правило, не обращают должного внимания, разве что Н. Фортунатов, выделяя в архитектонике «Чёрного монаха» черты сонатности, указывает, что «все важнейшие лирико-тематические линии развития устремляются к последней, IX главе произведения». См.: Фортунатов Н. Пути исканий. – М., 1974. С. 123.
18 Чудаков А. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. – М., 1986. С. 118.
19 Семанова М. О поэтике «Черного монаха» Чехова // Художественный метод Чехова. – Ростов н/Д, 1982. С. 56.
20 На эту особенность чеховского повествования указывает А. Чудаков. См.: Чудаков А. Поэтика Чехова. – М., 1971. С. 65.
21 В ходе повествования ориентацию на память поддерживают и многочисленные авторские ремарки: «…эти мелочи опять напомнили Коврину его детство и юность» [с. 189]; «У него пронеслось в памяти его прошлое…» [с. 200]; «Почерк на конверте напомнил ему, как он года два назад был несправедлив и жесток…» [с. 211] и т. п.
22 В отличие от распространённого понимания иронии как средства осуждения и насмешки, чеховская ирония допускает сочувствие, иногда – боль и грусть автора за судьбу героя. Подробнее об этом см.: Полоцкая Э. Реализм Чехова и русская литература конца XIX – начала XX в. // Развитие реализма в русской литературе: В 3 т. – М., 1974. T. 3. С. 102–103.
23 См.: Катаев В. Проза Чехова: проблемы интерпретации. – М., 1979. С. 195; Максименко В. Проблемы личности в повести А. Чехова «Чёрный монах» // Вопросы русской литературы. – Львов, 1988. Вып. 2. С. 87 и др.
24 Ироническому эффекту здесь в значительной степени способствует и то, что абсолютно нормальные в психическом отношении Таня и её отец в этот период испытывают нечто похожее на раздвоение личности, а Коврин, в действительности страдающий раздвоением личности, наоборот, ощущает внутреннюю гармонию.
25 На наш взгляд, В. Линков совершенно справедливо воспринимает болезнь Коврина как «проявление неудовлетворённой духовной потребности человека постичь смысл жизни». См.: Линков В. Проблема смысла жизни в «Чёрном монахе» Чехова // Известия АН СССР. Отделение лит. и языка. – М., 1985. T. 44, Вып. 4. С. 341.
26 См., напр.: Сухих И. Проблемы поэтики А. Чехова. – Л., 1987. С. 109–110 и др.
27 Фортунатов Н. Ритм художественной прозы // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. – Л., 1974. С. 182.
28 В этом же ряду стоит контрастное описание образа жизни Коврина в период лечения: «…он пил много молока, работал только два часа в сутки, не пил вина и не курил…» [гл. 8, с. 207].
29 См., напр.: Сухих И. Проблемы поэтики А. Чехова. – Л., 1987. С. 109–110.
30 Там же. С. 104.
31 Эта точка зрения является наиболее традиционной в литературе о А. Чехове: подобным образом трактовали «Чёрного монаха» В. Ермилов, 3. Паперный, В. Катаев, а вслед за ними И. Сухих, В. Максименко и др.
32 Следует учитывать, что понятие «чеховский идеал» очень условно. Как справедливо полагает А. Чудаков, «оно означает лишь то, что этот идеал наиболее часто обсуждается в чеховских произведениях и что ему отдано авторское сочувствие. Сочувствие, но не более – автор нигде открыто не провозглашает его от своего имени и не присоединяется явно и полностью к герою, этот идеал декларирующему». См.: Чудаков А. Поэтика Чехова. – М., 1971. С. 266.
33 В тексте произведения немало деталей, указывающих на бегство Коврина от реальной действительности; одна из них – мостик, по которому Коврин, чтобы отдалиться от дома, переходит на другой берег реки, когда впервые встречает Чёрного монаха (гл. 2) и в надежде снова встретить его (гл. 8).
33 Полоцкая Э. Реализм Чехова и русская литература конца XIX – начала XX в. // Развитие реализма в русской литературе: В 3 т. – М., 1974. T. 3. С. 106.
34 См., напр.: Егоров Б. Структура рассказа «Дом с мезонином» // В творческой лаборатории Чехова. – М., 1974. С. 253–269; Цилевич Л. Сюжет чеховского рассказа. – Рига, 1976. С. 147–160; Катаев В. Проза Чехова: проблемы интерпретации. – М., 1979. С. 226–238; Сухих И. Проблемы поэтики А. Чехова. – Л., 1987. С. 117–129 и др.
35 Как справедливо указывает И. Гурвич, «…у А. Чехова суждение персонажа не получает авторской санкции, но притом не дискредитируется», так что «социальное обобщение, выходящее за пределы сюжетной истории, вправе быть воспринято как нечто самоценное, самодостойное». См.: Гурвич И. В поисках жанра // Вопросы литературы. 1998. № 6. С. 317.
36 Сухих И. Проблемы поэтики А. П. Чехова. – Л., 1987. С. 120.
37 Для А. Чехова, как представляется, повествование от лица «антигероя» нехарактерно, почти невозможно (ср. «Моя жизнь», «Огни», «Скучная история» и др.).
38 Чехов А.П. Собр. соч.: В 12 т. – М., 1985. T. 9. Далее цитаты из рассказа «Дом с мезонином» приводятся по этому изданию с указанием страниц.
39 На антиномию двух усадеб: уютность дома с мезонином и неуютность усадьбы Белокурова, – указывает Б. Егоров. См.: Егоров Б. Структура рассказа «Дом с мезонином» // В творческой лаборатории Чехова. – М., 1974. С. 254–255.
40 Подробнее об этом см.: Маевская Т. Романтические тенденции в русской прозе конца XIX века. – Киев, 1978. С. 147–151.
41 Чехов А.П. Собр. соч.: В 12 т. – М, 1985. Т. 6. С. 305. Далее цитаты из рассказа «Без заглавия» приводятся по этому изданию с указанием страниц.
42 Как убедительно показывает А. Чудаков, анализируя художественный мир А. Чехова, «в пейзажах преимущественное внимание повествователя сосредоточено на деталях как бы необязательных». См.: Чудаков А. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. – М., 1986. С. 154.
43 На эту особенность чеховской поэтики указывает, в частности, А. Чудаков, полагая, что А. Чехов в подобных случаях «обозначает не объективное качество предмета, явления, но показывает эмоциональное состояние персонажа», ср.: «Время тянулось длинно, а часы в нижнем этаже били часто» («Попрыгунья»). См.: Чудаков А. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. – М., 1986. С. 251.
44 О контаминации анекдота и притчи в творчестве А. Чехова см.: Тюпа В. Художественность чеховского рассказа. – М., 1989. С. 13–31.
45 Шаталов С. Время – метод – характер. – М., 1976. С. 153.
46 Паперный 3. Чехов и романтизм // К истории русского романтизма. – М., 1973. С. 504.
Глава 2
1 Усенко Л. Импрессионизм в русской прозе начала ХХ века. – Ростов н/Д, 1988. С. 225.
2 Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). – М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2000. Кн. 1. С. 197.
3 См.: Заманская В. Экзистенциальная традиция в русской литературе ХХ века. Диалоги на границах столетий. – М.: Флинта: Наука, 2002.
4 См.: Каманина Е. Русский Серебряный век: писатели и направления // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2003. № 3. С. 184.
5 См.: Лотман Ю., Минц З., Мелетинский Е. Литература и мифы // Мифы народов мира: В 2 т. – М.: Сов. энциклопедия, 1980. T. 2. С. 58–75.
6 Кожевникова Н. Из наблюдений над неклассической («орнаментальной») прозой // Известия АН СССР. Сер. лит. и языка. – М., 1976. T. 35. № 1. С. 58.
2.1.1
1 См.: Усенко Л. Импрессионизм в русской прозе начала XX века. – Ростов н/Д, 1988; Генри П. Импрессионизм в русской прозе / В. Гаршин и А. Чехов // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1994. № 2 и др.
2 Цит. по: Русская литература XIX века. – М., 1916. T. 3. Кн. 8. С. 66.
3 См.: Колтоновская Е. Новая жизнь. – СПб., 1910; Морозов М. Очерки новейшей литературы. – СПб., 1911; Коган П. Очерки по истории новейшей русской литературы (современники). – М., 1910. Вып. 1. T. 3.
4 См.: Горнфельд А. Лирика космоса // Книги и люди. – СПб., 1908; Коробка Н. Борис Зайцев // Вестник Европы. 1914. Кн. 9; Соболев Ю. Борис Зайцев // Сполохи. 1917. Кн. II.
5 Соловьёвскую философию Вечной женственности (Мировой души) Б. Зайцев пронёс через всю жизнь как исповедание веры.
6 Келдыш В. Русский реализм начала XX века. – М., 1975. С. 265.
7 Коробка Н. Борис Зайцев // Вестник Европы. 1914. Кн. 9. С. 300.
8 Зайцев Б.К. Осенний свет: Повести, рассказы. – М., 1990. С. 323. Далее цитаты из произведений Б. Зайцева даются по этому изданию с указанием страниц.
9 Генри П. Импрессионизм в русской прозе / В. Гаршин и А. Чехов // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1994. № 2. С. 24.
10 Этапный характер этого произведения осознавал и сам писатель: «Из ранней полосы писания, думаю, главное – роман «Дальний край» и большая повесть «Голубая звезда». Не случайно именно этой повестью Б. Зайцев открыл свою итоговую книгу «Река времён» (Нью-Йорк, 1968).
11 Добин Е. Сюжет и действительность. Искусство детали. – Л., 1981. С. 303.
12 См.: Романенко А. Земные странствия Б. Зайцева // Зайцев Б. Голубая звезда: Повести и рассказы. Из воспоминаний. – М., 1989. С. 20.
13 Полонский В.П. Борис Зайцев. Земная печаль. Рассказы. – М., 1916 // Летопись. 1916. № 9. С. 313.
14 В творчестве Б. Зайцева, как отмечает Л. Иезуитова, преобладают герои двух типов: «земные» женские и «надмирные» мужские образы. См.: Иезуитова Л. В мире Бориса Зайцева // Б. Зайцев Земная печаль: Из шести книг. – Л., 1990. С. 15–16.
15 В переводе с греческого Христофор – христоносец, мученик, служитель Христа.
16 В своё повествование Б. Зайцев нередко вводит приём «игры» с каким-либо известным читателю произведением другого автора и через наложение образов героев, ситуаций, сюжетов рисует мир своих персонажей, пользуясь литературной проекцией. Так, образ героини рассказа «Петербургская дама» построен на отзвуках образа «пиковой дамы»; в рассказе «Актриса» Б. Зайцев как бы дописывает один из возможных вариантов судьбы Нины Заречной; ситуация в рассказе «Грех» аналогична ситуации в романе Л. Толстого «Воскресение»; в рассказе «Мой вечер» ощущаются сюжетные отголоски «Войны и мира» (первый бал Наташи Ростовой) и т. п.
2.1.2
1 См.: Берков П. Александр Иванович Куприн. – М.; Л., 1956; Афанасьев В. Александр Иванович Куприн. – М., 1972; Волков А. Творчество А. Куприна. – М., 1981; Кулешов Ф. Творческий путь А. Куприна. – Минск, 1983–1987 и др. В современных работах А. Куприн представлен in corpore; см., напр.: Михайлов О. Жизнь Куприна: «Настоящий художник – громадный талант». – М., 2001.
2 А. Куприн прожил в России торок девять лет; затем, на втором году революции, эмигрировал: семнадцать лет провёл за границей, дольше всего в Париже; в 1937 году неожиданно вернулся в Россию, но через 15 месяцев (без трёх дней) умер, не дожив одну ночь до дня рождения, когда ему исполнилось бы 68 лет.
3 Об истории советского куприноведения см.: Дружников Ю. Куприн в дёгте и патоке // Новое русское слово. – Нью-Йорк, 1989. 24 февраля.
4 Чупринин С. Перечитывая Куприна // Куприн А.И. Собрание сочинений: В 6 т. – М., 1991. T. 1. С. 23.
5 В этом смысле А. Куприн – полная противоположность И. Бунину, чьи произведения, чем позднее написаны, тем гуще, пронзительнее и талантливее.
6 Почти всё, написанное о «Яме» А. Куприна в дореволюционной критике, относится ко времени издания её первой части. Этим обусловлена односторонность отзывов (по большей части – восторженные). Вторая и третья части, законченные через несколько лет после первой, не оправдали ожидания читателей. В советском литературоведении повесть «Яма» рассматривалась как творческая неудача А. Куприна главным образом из-за «непонимания им законов общественного развития и признания низменности человеческой природы» (П. Берков). В качестве недостатка повести называлась и натуралистическая описательность, снижающая обличительный пафос произведения (А. Волков). На этом фоне диссонансом звучит реплика В. Шкловского – «неудача, но талантливая».
7 Куприн А. Яма: Повести и рассказы. – Киров, 1991. Здесь и далее цитаты из повести А. Куприна «Яма» приводятся по этому изданию с указанием страниц.
8 Юнг К. – Г. Психология бессознательного. – М., 1998. С. 72–96.
9 Дружников Ю. Куприн в дёгте и патоке // Новое русское слово. – Нью-Йорк, 1989. 24 февраля.
10 В повести А. Куприн оговаривает, что русские писатели, как правило, не пишут на тему проституции («Может быть, по брезгливости, по малодушию, из-за боязни прослыть порнографическим писателем, наконец, просто из страха, что наша кумовская критика отождествит художественную работу писателя с его личной жизнью и пойдёт копаться в его грязном белье»), а если и пишут, то «всё это или ложь, или театральные эффекты…» [с. 141–142].
11 В России в начале 1900-х годов особенно жарко разгорелись споры между «регламентаристами» и «аболиционистами», иными словами, между сторонниками и противниками врачебно-полицейского надзора за проституцией. Кроме того, с 1908 г. началась подготовка к Первому Всероссийскому съезду по борьбе с проституцией, состоявшемуся в 1910 г. А. Куприн разделял точку зрения, которой руководствовались наиболее передовые участники съезда и которую частично излагает в «Яме» журналист Платонов.
12 С большой долей вероятности можно предположить, что склонный к переимчивости А. Куприн мог позаимствовать сюжетную линию «Любка – Лихонин» из повести М. Арцыбашева «Бунт».
13 Пожалуй, можно согласиться с А. Волковым в том, что как бы А. Куприн ни хотел внушить читателям симпатию к Платонову, «этот резонёрствующий и, в сущности, пассивно-эгоистический человек не воспринимается как положительный герой». Ещё более уничижительную характеристику Платонова даёт В. Афанасьев, упрекая его в бессилии решения вопросов, которые он, изрекая благородные банальности и пророчествуя, столь пространно обсуждает в беседе с Лихониным. См.: Волков А. Творчество А. Куприна. – М., 1981. С. 300; Афанасьев В. Александр Иванович Куприн. – М., 1972. С. 111.
14 К сожалению, эта мысль писателя утрачена в существующих экранизациях повести «Яма» (реж. Мартов, 1915; К. Мидзогути, 1936; С. Ильинская, 1990 и др.). Здесь мы имеем дело попросту с не-чтением: потеряна интонация А. Куприна.
2.1.3
1 См., напр.: Баранов И.П. М. Арцыбашев как художник-психолог и импрессионист и как певец смерти старого и жизни нового человека. – Киев, 1908; Новополин Г. Порнографический элемент в русской литературе. – СПб., 1908; Чуковский К. От Чехова до наших дней. – СПб., 1908 и др.
2 В связи с этим особый интерес, естественно, представляет мнение самого М. Арцыбашева: «…меня понимали всегда как-то с одной стороны, часто навязывая мне идеи, которые я или совсем не имел в виду, или касался только мимоходом, стремясь к другой, для меня – главной, цели. Вспомните, что в «Санине» большинство увидело проповедь свободной любви, а в «Последней черте» – проповедь к самоубийству». См.: «Я человек жизни, и только жизни, земной, человеческой…» Письма М. Арцыбашева // Вопросы литературы. 1991. № 11–12. С. 362.
3 Ерёменко Л., Карпова Г. Хотел быть услышанным // Арцыбашев М. Санин; Кровавое пятно; Рабочий Шевырев; Деревянный чурбан. – Кемерово, 1990. С. 413.
4 Цит. по: Ерёменко Л., Карпова Г. Хотел быть услышанным // Арцыбашев М. Санин; Кровавое пятно; Рабочий Шевырев; Деревянный чурбан. – Кемерово, 1990. С. 413.
5 «Я человек жизни, и только жизни, земной, человеческой…» Письма М. Арцыбашева // Вопросы литературы. 1991. № 11–12. С. 363.
6 Арцыбашев М. Ужас. – М., 1992. Здесь и далее цитаты из произведений М. Арцыбашева даются по этому изданию с указанием страниц.
7 Эмоциональная атмосфера ужаса поддерживается в ходе повествования различными средствами: само слово «ужас» употребляется в разных контекстах более 20 раз. Не случайно им же и заканчивается рассказ.
8 «Я человек жизни, и только жизни, земной, человеческой…» Письма М. Арцыбашева // Вопросы литературы. 1991. № 11–12. С. 366.
9 Показательно, что Л. Толстой, как правило, негативно относившийся к творчеству своих младших современников, весьма сочувственно отзывался о произведениях М. Арцыбашева, – особенно нравилась ему повесть «Смерть Ланде».
1 °Cм.: Генри П. Импрессионизм в русской прозе / В. Гаршин и А. Чехов // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1994. № 2. С. 21.
11 Ореола святости образ Ланде окончательно лишается, когда мужики находят в лесу его труп, от которого «сразу пахнуло таким ужасным, омерзительным запахом, что мужиков шатнуло…» [с. 221].
12 Заманская В.В. Экзистенциальная традиция в русской литературе XX ве-ка. – М.: Флинта: Наука, 2002. С. 182.
13 См.: Генри П. Импрессионизм в русской прозе / В. Гаршин и А. Чехов // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1994. № 2. С. 21.
2.2.1
1 См.: Максим Горький – художник: проблемы, итоги и перспективы изучения: Горьковские чтения – 2000: Материалы междунар. конф. – Н. Новгород, 2002 и др.
2 См.: Баранов В. Много Горького // Литературная газета. 10–16 дек. № 49. 2003. С. 10; Келдыш В. О ценностных ориентирах в творчестве М. Горького // Неизвестный Горький: Материалы и исследования. – М., 1995. Вып. 4. С. 8.
3 См.: Ходасевич В. Воспоминания о Горьком. – М., 1989; Кускова Е. Трагедия Максима Горького // Новый журнал – Нью-Йорк, 1954. Кн. 38; Вольский Н. Встречи с Максимом Горьким // Новый журнал – Нью-Йорк, 1965. Кн. 78 и др.
4 Современная «телегорьковиана» пополнилась документальными фильмами «Покушение на покойника» и «Красная Мата Хари», в которых сообщаются некоторые ранее неизвестные факты из жизни М. Горького и его окружения, а также предлагаются различные версии его смерти: сначала ТУ внушает нам, что покушаться на жизнь М. Горького, по сути, «покойника», не было необходимости, и умер он естественной смертью, а затем воспроизводит историю «устранения» Сталиным опального и остающегося опасным писателя при помощи агента ОГПУ Марии Будберг накануне запланированной встречи М. Горького с Луи Арагоном. В связи с этим особого внимания заслуживает позиция Вяч. Вс. Иванова: «При Горьком не мог начаться большой террор»».
5 В этом вопросе мы склонны доверять В. Ходасевичу, который во второй части своих воспоминаний о М. Горьком (1938), опубликованных в России лишь через полвека, убедительно показал, как развивались его отношения с властью: «Великий поклонник мечты и возвышающего обмана, которых по примитивности своего мышления он никогда не умел отличить от обыкновенной, часто вульгарной лжи, он некогда усвоил себе свой собственный «идеальный», отчасти подлинный, отчасти воображаемый образ певца революции и пролетариата. И хотя сама революция оказалась не такой, какою он её создал своим воображением, – мысль о возможной утрате этого образа, о «порче биографии» была ему нестерпима… Какова бы ни была революция – она одна могла ему обеспечить славу великого пролетарского писателя и вождя при жизни, а после смерти – нишу в Кремлёвской стене для урны с его прахом. В обмен на всё это революция потребовала от него, как требует от всех, не честной службы, а рабства и лести. Он стал рабом и льстецом. Его поставили в такое положение, что из писателя и друга писателей он превратился в надсмотрщика за ними. Он и на это пошёл. Можно бы долго перечислять, на что он ещё пошёл. Коротко сказать – он превратился в полную противоположность того возвышенного образа, ради сохранения которого помирился с советской властью» (См.: Ходасевич В. Воспоминания о Горьком. – М., 1989. С. 47). В сущности, М. Горький стал заложником своего огромного авторитета, который – и сам он, по-видимому, это прекрасно осознавал – был основан не на силе его художественного таланта, а на той роли, которую он играл в русской литературной жизни начала ХХ века. В качестве подтверждения данной мысли хотелось бы привести, может быть, отдающее лёгким снобизмом, но в целом близкое к истине высказывание В. Набокова: «Художественный талант Горького не имеет большой ценности. Но он не лишён интереса как яркое явление русской общественной жизни». См.: Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 2001. С. 380.
6 См.: Пьецух В. Горький Горький // Столица. 1991. № 38.
7 Парамонов Б. Горький, белое пятно // Октябрь. 1992. № 5. С. 146.
8 Барахов В. Трагедия Горького в интерпретации современных критиков // Неизвестный Горький: Материалы и исследования. – М., 1995. Вып. 4. С. 30.
9 Хьетсо Г. Максим Горький сегодня // Неизвестный Горький: Материалы и исследования. – М., 1995. Вып. 4. С. 17.
10 Разумеется, мы имеем в виду только прозу писателя: драматургия – за скобками.
11 См.: Агурский М. Великий еретик: Горький как религиозный мыслитель // Вопросы философии. 1991. № 8. С. 54–74; Семёнова С. Мыслительные диапазоны Максима Горького // Человек. 1999. № 5, 6. С. 113–124, 115–131; Любутин К. Размышления на тему «Максим Горький как философ» // Философия и общество = Philosophy a. Society. 2002. № 1. С. 5 – 15 и др.
12 Горький М. Две души // Максим Горький: Pro et contra: Личность и творчество Горького в оценке русских мыслителей и исследователей. 1890–1910 гг. Антология. – СПб., 1997. С. 103.
13 Там же. С. 98.
14 Там же. С. 106.
15 Келдыш В. О ценностных ориентирах в творчестве М. Горького // Неизвестный Горький: Материалы и исследования. – М., 1995. Вып. 4. С. 14.
16 К ним примыкают незаконченные произведения – «Большая любовь» и «Записки d-r'a Ряхина». Первое должно было стать частью «окуровского цикла», который изначально задумывался как трилогия. Идея второго возникла, вероятно, спонтанно и обдумывалась до тех пор, пока не нашла более полного и разностороннего воплощения в «Жизни Клима Самгина».
17 Подробный обзор критической литературы 1910-х годов о повести «Городок Окуров» см.: Корецкая И. К полемике вокруг «окуровских» повестей // Горький и его эпоха: Исследования и материалы. – М., 1989. Вып.2. С. 143–159.
18 Горький и его эпоха: Исследования и материалы. – М., 1989. Вып. 2. С. 160; Зобнин Ю. По ту сторону истины (случай Горького) // Максим Горький: Pro et contra. – СПб., 1997. С. 35.
19 Преобладают работы, в которых осуществляется демифологизация повести «Мать», см., напр.: Есаулов И. Жертва и жертвенность в повести М. Горького «Мать» // Вопросы литературы. 1998. Вып. 6. С. 54–76; Сухих И. Между Марксом и Богоматерью: 1906–1907. «Мать» М. Горького // Звезда. 1998. № 10. С. 227–235; Спиридонова Л.
Повесть Горького «Мать» как евангелие новой веры // Литература, культура и фольклор славянских народов: Материалы конференции. – М., 2002. С. 157–174.
2 °Cм.: Иваницкая Е. Парадокс о мещанстве: (К проблеме этико-эстети-ческих исканий серебряного века русской литературы) // Время Дягилева: Универсалии серебряного века. Третьи Дягилевские чтения. – Пермь, 1993. Вып. 1. С. 52–58; Семёнова А. «Россия? Государство она, бессомненно, уездное…»: К вопросу о проблематике окуровских повестей М. Горького // Русская литература XX века: итоги столетия. – СПб., 2001. С. 58–74.
21 См.: Корниенко Н. Единство стиля повести М. Горького «Городок Окуров» // Жанрово-стилевое единство художественного произведения. – Новосибирск, 1989. С. 94.
22 Там же. С. 94–95.
23 Горький М. Полное собрание сочинений: В 25 т. – М., 1971. T. 10. Далее все цитаты из повести М. Горького «Городок Окуров» приводятся по этому изданию с указанием страниц.
24 В качестве примера можно привести в целом довольно интересную статью Н. Корниенко, где детально рассматривается стиль экспозиции повести М. Горького, но первая фраза остаётся без внимания. См.: Корниенко Н. Единство стиля повести М. Горького «Городок Окуров» // Жанрово-стилевое единство художественного произведения. – Новосибирск, 1989. С. 93—102.
25 Сохранилось свидетельство М. Горького о том, с каким трудом ему далась первая фраза повести: «Вероятно, я сидел часа три, прежде чем удалось подобрать и расположить слова… Мне показалось, что я написал хорошо, но, когда рассказ был напечатан, я увидел, что мною сделано нечто похожее на расписной пряник или красивенькую коробку для конфет». См.: Горький М. Полное собрание сочинений: В 25 т. – М., 1971. T. 10. С. 713.
26 Тот факт, что эпиграф – не точная цитата, а парафраз из Ф. Достоевского («в уезде далёком и зверском») может рассматриваться как авторская установка проникнуть в глубины национальной психологии вслед за Ф. Достоевским, но не утрачивая внутренней свободы.
27 Идеи М. Горького любопытно сопоставить с концепцией «духовного Китая» Д. Мережковского («Грядущий Хам») и культом «нового Средневековья» Н. Бердяева, которые также восходят к противопоставлению «деятельной личности» Запада – «пассивному фатализму» Востока.
2.2.2
1 См.: Мережковский Д. В обезьяньих лапах. О Леониде Андрееве // Русская мысль. 1908. № 1.
2 И для них, и для Л. Андреева главной и самой очевидной правдой было одиночество человека («животного, знающего о том, что оно должно умереть») перед небом и другими людьми, – одиночество, на которое каждый обречён с момента своего рождения. Подробнее об этом см.: Богданов А. «Безумное одиночество» героев Л. Андреева с точки зрения литературной преемственности // Связь времён. Проблемы преемственности в русской литературе конца ХК – начала ХХ века. – М., 1992. С. 188–204.
3 Брусянин В.В. Леонид Андреев. Жизнь и творчество. – М., 1912. С. 115.
4 Иванов-Разумник. О смысле жизни. Фёдор Сологуб, Леонид Андреев, Лев Шестов. – СПб., 1908. С. 159.
5 Андреев Л.Н. Собрание сочинений: В 6 т. – М., 1990. Далее цитаты из произведений Л. Андреева приводятся по этому изданию с указанием тома и страниц.
6 Иезуитова Л.А. Творчество Л. Андреева 1892–1906 гг. – Л., 1976. С. 126.
7 Чичерин А.В. Идеи и стиль. О природе поэтического слова. – М., 1968. С. 57.
8 Кожевникова Н.А. О некоторых особенностях словоупотребления в прозе Л. Андреева // Творчество Леонида Андреева: Исследования и материалы. – Курск, 1983. С. 86.
9 Колтоновская Е. Новая жизнь. Критические статьи. – СПб., 1910. С. 92.
1 °Cм., напр.: Игнатов И. Литературные новости // Русские ведомости. 1902. № 17. 17 января; Войтоловский Л. Социально-психологические типы в рассказах Л. Андреева // Правда. 1905. № 8.
11 Московкина И.И. Проза Л. Андреева. Жанровая система, поэтика, художественный метод. – Харьков, 1994. С. 74.
12 В повести «Красный смех» функционируют почти все символические образы, возникшие и получившие развитие в ранней новеллистике Л. Андреева: смех, безумие, молчание (тишина), ночь (тьма) и др. Уже накопленный потенциал символической семантики этих образов, а также их интенсивное взаимодействие в контексте повести резко увеличивает степень экспрессивности её жанровой структуры.
13 Выражение «оно» находим во многих произведениях Л. Андреева. В «Жизни Человека» его художественным воплощением является Некто в сером, в «Жизни Василия Фивейского» с ним связан мотив безумия и т. п. Подобную неведомую силу изображали и другие писатели: А. Пушкин воплотил её в образе «женщины в белом», Н. Гоголь – в экстатическом видении «птицы-тройки», В. Гаршин – в образе Красного цветка, А. Чехов – в образе Чёрного монаха и т. д.
14 Подборка рецензий (В. Розанова, Н. Минского, М. Волошина, З. Гиппиус) на повесть Л. Андреева приводится в книге: Чуковский К. Леонид Андреев большой и маленький. – СПб., 1908.
15 Исследователи неоднократно писали об оригинальности интерпретаций Л. Андреевым евангельских образов. См., напр.: Арсентьева Н. О природе образа Иуды Искариота // Творчество Леонида Андреева: Исследования и материалы. – Курск, 1983. С. 63–75; Михеичева Е. Жанровые особенности «библейских рассказов» Л. Андреева // Жанры в историко-литературном процессе. – Вологда, 1985. С. 88 – 101 и др.
16 Характерно, что и современные исследователи склонны рассматривать андреевского Иуду как «вочеловечившегося сатану». См.: Арсентьева Н. О природе образа Иуды Искариота // Творчество Леонида Андреева: Исследования и материалы, – Курск, 1983. С. 66.
17 Открытая концовка повести оставляет возможность для иных интерпретаций финала. В частности, И.И. Московкина полагает, что истины Иуды и Христа относительны, – в их споре нет победителя. См.: Московкина И.И. Проза Л. Андреева. Жанровая система, поэтика, художественный метод. – Харьков, 1994. С. 97.
2.2.3
1 См., напр.: Мочульский К. Александр Блок. Андрей Белый. Валерий Брюсов. – М., 1997; Дмитриев В. Два этюда о В. Брюсове // Новый журнал = New rev. 1992. Кн. 187. С. 193–217; Михайлова М. Литературное окружение молодого В. Брюсова // Вестник Моск. унта. – Сер. 9. Филология. 1999. № 6. С. 115–123; Богомолов Н. Ещё раз о Брюсове и Пастернаке // Новое литературное обозрение. 2000. № 46. С. 123–131.
2 Более подробно об эволюции В. Брюсова см.: Клинг О. Брюсов: Через эксперимент к «неоклассике» // Связь времён. Проблемы преемственности в русской литературе конца ХК – начала ХХ в. – М., 1992. С. 264–280.
3 См.: Валерий Брюсов. Исследования и материалы: Сб. науч. тр. – Ставрополь, 1986; Брюсовские чтения: Избранное. – Ереван, 1998 и др.
4 Гиппиус 3. Проза поэта // Весы. 1907. № 3. С. 70.
5 Ауслендер С. Проза поэта // Речь. – 1910. 1 ноября – № 300.
6 См.: Гиппиус 3. Живые лица. – Л., 1991; Ходасевич В. Некрополь: Воспоминания. – М., 1991; Цветаева М. Герой труда: Записи о Валерии Брюсове // Согласие. 1991. № 3. С. 179–214.
7 Особенно много в этом направлении делает Василий Молодяков: его многочисленные исследования согреты убеждением, что В. Брюсов великий поэт и выдающийся мыслитель. Он собирает по крохам наследие В. Брюсова (неизданные или никогда не переиздававшиеся произведения, письма и другие документы), изучает его духовный мир и защищает от пристрастных критиков.
8 См.: Молодяков В. «Мой сон, и новый и всегдашний…» Эзотерические искания Валерия Брюсова. – Токио, 1996.
9 Мочульский К. Александр Блок. Андрей Белый. Валерий Брюсов. – М.: Республика, 1997.
10 Чаликова В. Настоящее и будущее сквозь призму утопии // Современные буржуазные теории общественного развития. – М., 1984. С. 83.
11 3верев А. «Когда пробьёт последний час природы…» Антиутопия. ХХ век // Вопросы литературы. 1989. № 1. С. 40.
12 Вероятно, саму идею «болезни противоречия» В. Брюсов почерпнул из новелл Э. По «Чёрный кот», «Бес противоречия», «Разговор с мумией».
13 Брюсов В. Повести и рассказы. – М.: Сов. Россия, 1983. Здесь и далее все цитаты из произведений В. Брюсова приводятся по этому изданию с указанием страниц.
14 См.: Жолковский А. Блуждающие сны. Из истории русского модернизма. – М., 1992. С. 220–222.
15 На типологическую близость повести Н. Фёдорова «Вечер в 2217 году» с классическими антиутопиями Е. Замятина и О. Хаксли указывается в нашей монографии, см.: Тузков С. Русская повесть начала ХХ века: от И. Бунина до А. Белого. – Кировоград, 2004. С. 136–137.
16 Здесь явная перекличка с названием брюсовского сборника, которое, по-видимому, восходит к фразе из авторского предисловия к роману «Сыны земли» Станислава Пшибышевского: «Ось нашей жизни – любовь и смерть» и отражает стремление В. Брюсова к постижению тёмных сторон человеческого сознания. В повести «Республика Южного Креста» ось земли проходит через здание Ратуши – центр Звёздного города: здесь происходит последняя битва между любовью и смертью, разумом и безумием.
17 См.: Крамарь О. Замятин и Брюсов // Науков1 записки ХНПУ. – Сер1я лгтературознавство. – Харгав, 2004. Вип. 4 (40). Частина друга. С. 77.
18 Гальцева Р., Роднянская И. Помеха – человек. Опыт века в зеркале антиутопий // Новый мир. 1988. № 12. С. 219.
19 Штурман Д. «Человечества сон золотой…» // Новый мир. 1992. № 7. С. 151.
20 В социологии этот синдром обозначен метафорически: «слишком многие» (Ф. Ницше), «человек-масса» (Х. Ортега-и-Гассет), «одинокая толпа» (Э. Фромм), «одномерный человек» (Г. Маркузе) и т. п.
21 В авторском предисловии к сборнику «Земная ось» В. Брюсов снимает с себя ответственность за поверхностные максимы героев-рассказчиков и в том числе за воспроизведённый им в «Республике Южного Креста» «газетный стиль репортёра, малосведующего, ко всему довольно равнодушного, но старающегося щегольнуть научными познаниями и выказать много чувства» [с. 9].
22 Принято считать, что у начала цепочки антиутопий ХХ века стоит Ф. Достоевский: «он полемизировал с утопиями, владевшими ещё умами, а не жизнью» (Р. Гальцева, И. Роднянская), ему принадлежит целый ряд произведений («Записки из подполья», «Бесы», «Братья Карамазовы» etc), включающих в себя метаутопические мотивы.
23 Гарин И. Серебряный век: В 3 т. – М.: Терра, 1999. T. 2. С. 223.
24 Бердяев Н. Новое средневековье. – М., 1991. С. 71.
25 Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Сумерки богов. – М., 1992. С. 308.
26 Итог – простудные болезни, одолевавшие В. Брюсова с весны 1924 г., которые он упорно отказывался лечить и которые осенью перешли в неизлечимое воспаление лёгких. Всё это наводит на мысль о медленном самоубийстве, о нежелании жить.
27 На эту повесть В. Брюсова наше внимание обратила Елена Елисеева, несколько лет назад ушедшая из жизни.
28 Гречишкин С., Лавров А. Брюсов-новеллист // В. Брюсов. Повести и рассказы. – М., 1983. С. 15.
29 Обзор критических отзывов современников В. Брюсова на повесть «Последние страницы из дневника женщины» см.: Брюсов В. Повести и рассказы. – М., 1983. С. 350–351.
30 Гаспаров М. Брюсов и античность // Брюсов В. Собр. соч.: В 7 т. – М., 1975. С. 543.
31 Цветаева М. Герой труда: Записи о Валерии Брюсове // Согласие. 1991. № 3. С. 179–214.
32 Уколова В. Поздний Рим: Пять портретов. – М., 1992. С. 3–4.
33 Барковская Н. Поэтика символистского романа. – Екатеринбург, 1996. С. 103.
34 Статья А. Малеина «Валерий Яковлевич Брюсов и античный мир» цит. по: Брюсов В. Повести и рассказы. – М., 1983. С. 360.
35 См.: Медведева К. Брюсов как исследователь «Медного всадника» Пушкина // 100 лет Серебряному веку: Материалы междунар. науч. конф. – М., 2001. С. 80–84.
36 См., напр.: Перзеке А.Б. Эрос как структурно-семантическая основа поэмы А.С. Пушкина «Медный Всадник» // Науков1 записки. – Се-р1я: Фшолопчш науки (л1тературознавство). – Юровоград, 2004. Вип. 56. С. 319–334; Фесенко Ю. История и современность в «Медном всаднике» А.С. Пушкина // Пушкин и Крым: Материалы К Междунар. науч. конф.: В 2 кн. – Симферополь: Крымский Архив, 2000. Кн. 1. С. 149–152.
37 Фесенко Ю. История и современность в «Медном всаднике» А.С. Пушкина // Пушкин и Крым: Материалы Ж Междунар. науч. конф.: В 2 кн. – Симферополь: Крымский Архив, 2000. Кн. 1. С. 149.
38 Спиридонова Л. М. Горький: диалог с историей. – М., 1994. С. 199.
39 Категории «Восток» и «Запад» имели у М. Горького многозначный смысл, наполнялись в разные периоды жизни и творчества различным содержанием. В самых общих чертах определяя направление философского, духовного, политического пути М. Горького, можно сказать, что «он пролегал с Востока на Запад, вслед за движением солнца. Однако каждому, кто путешествует вокруг света, известно: если всё время шагать на Запад, – в конце концов неминуемо попадёшь на Восток. То же самое случилось и с Горьким: он упрямо двигался на Запад, а достиг в конце жизни Востока». См.: Примочкина Н. Антиномия «Восток – Запад» в мировоззрении и творчестве М. Горького // Известия РАН. Сер. лит. и языка. 2005. T. 64. № 1. С. 21.
40 Провести чёткую границу между двумя типами мышления – экзистенциальным и мифологическим – невозможно.
41 Даниелян Э. Валерий Брюсов. Проблемы творчества. – Ереван, 2002. С. 57.
2.3.1
1 См.: Хольтхузен И. Фёдор Сологуб // История русской литературы XX века: Серебряный век. – М., 1995. С. 300.
2 Иванов-Разумник. О смысле жизни. Фёдор Сологуб, Леонид Андреев, Лев Шестов. – СПб., 1908. С. 44.
3 Сюжет её прост: однажды рыцарь взял в плен смерть и решил её истребить: «Смерть, я тебе голову срубить хочу, много ты зла на свете наделала… Что ты скажешь в своё оправдание?» Но она посмотрела на него и ответила: «Пусть жизнь поговорит за меня». Оглянулся рыцарь и увидел – стоит возле него «румяная и дебелая бабища» жизнь… Ужаснулся и отпустил смерть.
4 Иванов-Разумник. О смысле жизни. Фёдор Сологуб, Леонид Андреев, Лев Шестов. – СПб., 1908. С. 35.
5 Хольтхузен И. Фёдор Сологуб // История русской литературы XX века: Серебряный век. – М., 1995. С. 296.
6 Сологуб Ф. Человек человеку – дьявол // Сологуб Ф. Творимая легенда. – М., 1991. Кн. 2. С. 156.
7 Сологуб Ф. Капли крови. Избранная проза. – М., 1992. С. 262–263. Далее все цитаты из произведений Ф. Сологуба приводятся по данному изданию с указанием страниц.
8 Замятин Е. Фёдор Сологуб // Замятин Е. Избранные произведения: В 2 т. – М., 1990. T. 2. С. 257.
9 Любопытно, что А. Белый в стиле Ф. Сологуба находил выдержанность «квазипушкинской прозы».
10 Сологуб Ф. Искусство наших дней // Сологуб Ф. Творимая легенда. – М., 1991. Кн. 2. С. 196.
11 Труден лирический путь «дульцинирования» Альдонсы, но лёгок обратный путь «альдонсирования» Дульцинеи: героиню рассказа Ф. Сологуба «Путь в Дамаск» Клавдию Андреевну – Дульцинею – все принимают за Альдонсу (мещанский взгляд на человека!), и лишь оказавшемуся на грани самоубийства, но спасённому ею студенту удаётся разглядеть её истинную сущность, скрытую под маской обыденности: «… убежав от буйного неистовства неправой жизни, пришли они к вожделенному Дамаску, в союз любви, сильной, как смерть, и смерти, сладостной, как любовь» [с. 433].
12 В рассказе «Звериный быт» символический смысл образа зверя связан с новозаветным пророчеством о конце света, согласно которому Антихрист должен обрести лик зверя, искушающего и ужасающего людей. В разных произведениях Ф. Сологуба этот символ видоизменяется и трансформируется, но основная его смысловая нагрузка, по словам А. Белого, неизменна: «Образ рока превращается в хищного зверя, нападающего на простых, диких людей, поклоняющихся ему, как богу. Дикий зверь сумел найти нас и теперь, проходя сквозь стены, сооружённые культурой…» См.: О Ф. Сологубе: Критика. Статьи и заметки. – СПб., 1911. С. 97.
2.3.2
1 В частности, Л.А. Иезуитова относит А. Ремизова к писателям, связанным с реализмом, но одновременно причастным к модернизму; Н.В. Барковская утверждает, что А. Ремизов в 1900 – 1910-е годы остаётся в русле реализма и т. д. См.: История русской литературы: В 4 т. – М., 1983. T.4. С. 261; Барковская Н.В. Традиции реализма в прозе А. Ремизова 1890—1910-х годов // Проблема стиля и жанра в русской литературе XIX в. – Свердловск, 1991. С. 126.
2 См.: Минц З.Г., Безродный М.В., Данилевский А.А. «Петербургский текст» и русский символизм // Труды по знаковым системам. ХУШ. – Тарту, 1984. С. 89–91.
3 Данилевский А.А. О дореволюционных «романах» А. Ремизова // Ремизов А. Избранное. – Л., 1991. С. 597.
4 Ю.М. Лотман считает, что каждый художественный текст строится на структурном напряжении между двумя аспектами повествования: мифологизирующим, в свете которого текст является моделью вселенной, и фабульным, который изображает частный эпизод реальности. См.: Лотман Ю. Структура художественного текста. – М., 1970. С. 258–259.
5 Закономерно, что в своём развитии ереси вроде богомильской в европейской истории породили ряд сатанинских культов: отрицая материальный мир (всё земное изначально лежит во власти сатаны, является порождением Зла), богомилы полагали, что во имя возвращения в истинное ангельское состояние следует разрушать плоть и материю – отдавать сатане сатанинское. Отсюда и суровая аскеза – вплоть до признания самоубийства.
6 Данилевский А.А. О дореволюционных «романах» А. Ремизова // Ремизов А. Избранное. – Л., 1991. С. 604–707.
7 Ремизов А.М. Собрание сочинений. – М.: Русская книга, 2000. T. 3. С. 80. Далее все цитаты из повести «В плену» приводятся по этому изданию с указанием страниц.
8 А. Ремизов угадывает существенные черты романа «потока сознания», который в своих канонических образцах оформится двумя десятилетиями позже («Улисс» Д. Джойса, «Миссис Деллоуэй» В. Вулф и др.).
9 По сути, А. Ремизов создаёт прозу, о которой впоследствии – по отношению ко Льву Шестову – будет сказано: «философия без философии».
1 °Cм.: Козьменко М.В. Мир и герой А. Ремизова / К проблеме взаимосвязи мировоззрения и поэтики писателя // Филологические науки. 1982. № I. С. 24.
11 Современники, анализируя генезис прозы А. Ремизова, неизменно отмечали её преемственность по отношению к литературному наследию Ф. Достоевского: «достоевщина в кубе» (А. Блок) и т. п.
12 Приметы того или иного времени года присутствуют практически в каждой главе повести и играют, вероятно, существенную функциональную роль. Так, к примеру, Х. Вашкелевич полагает, что отсутствующая в повести информация о продолжительности действия на самом деле скрыта в количестве глав отдельных частей: первая часть насчитывает 12 глав, вторая – 6 глав, третья – снова 12 глав. Восстанавливая скрупулёзно события, можно убедиться, что действие первой части длится почти год, т. е. 12 месяцев, второй части – приблизительно полгода, третьей части – вновь один год. Таким образом, количество глав выполняет в повести роль своеобразного календаря. См.: Алексей Ремизов. Исследования и материалы. – СПб., 1994. С. 22.
13 Подробнее об особенностях категории выбора в художественном мире А. Ремизова см.: Козьменко М.В. Мир и герой А. Ремизова // Филологические науки. 1982. № I. С. 28.
14 См., напр.: 3ахариева И. Художественный синтез в русской прозе XX века (20-е – первая пол. 50-х годов). – София, 1994. С. 135.
15 Ильин И. О тьме и просветлении. Книга художественной критики: Бунин, Ремизов, Шмелёв. – М., 1991. С. 132–133.
16 Ср.: по этому же признаку уподобляется Христу герой романа А. Камю «Посторонний» Мерсо.
17 Ремизов А.М. Крестовые сёстры: Повесть. – М.: Современник, 1989. Далее все цитаты из повести «Крестовые сёстры» приводятся по этому изданию с указанием страниц.
18 См., напр.: Тырышкина Е.В. Сны и явь героинь «Крестовых сестёр» А. Ремизова // Алексей Ремизов. Исследования и материалы. – СПб., 1994. С. 53–57.
19 Подробнее об истории создания петербургского мифа см.: Долгополов Л. На рубеже веков. О русской литературе конца XIX – начала XX века. – Л., 1985. С. 150–194.
20 Оба города в литературном контексте мифа – вплоть до романа А. Белого «Петербург» – рассматривает А. Блок. См.: Блок А. Судьба Апполона Григорьева // Блок А. Собр. соч.: В 8 т. – М.; Л., 1962. T. 5.
21 Иванов-Разумник. Алексей Ремизов // Иванов-Разумник. Творчество и критика: 1908–1922. – Пг., 1922. С. 62.
22 Пародийные упоминания – аллюзии и реминисценции – широко известных литературных произведений разбросаны по всей повести: отвергнутая Маракулиным проститутка Дуня пытается броситься под поезд, как героиня романа Л. Толстого Анна Каренина [с. 88–90]; обитатели Буркова дома, подобно чеховским героям из «Трёх сестёр», рвутся ехать – но не в Москву, а в Париж [с. 100–103]; Маракулин готов упасть на колени перед ставшей проституткой Верой Ивановной, как Раскольников перед Соней Мармеладовой в романе Ф. Достоевского «Преступление и наказание» [с. 108, 112, 116] и др.
23 В фразе Маракулина сталкиваются и оказываются внутренне соотнесёнными три высказывания разных персонажей повести – Акумовны о способе лечения: «…а испить бы ему настою из лошадиного навозу и всё бы как рукой» [с. 65]; соседа Маракулина, Сергея Александровича о том, что на предстоящих гастролях «Россия …впервые своим искусством покажет себя городу великих людей – сердцу Европы – Парижу и победит» [с. 100]; нищего старика Гвоздева о том, что он «угол снял – полтора рубля с огурцами, хороший угол в проходе» [с. 13].
24 Напр., Грета Слобин полагает, что смерть Маракулина лишь «ещё одно проявление хаоса бытия, традиционного «горя-злосчастья» или «слепой случайности», правящей жизнью героев, которые не имеют ни силы воли, ни веры, чтобы противостоять злу». См.: Слобин Грета. Проза Ремизова 1900–1921. – СПб., 1999. С. 118.
25 По А. Ремизову, человек может соприкасаться с областью вечности и через сны, так как сон – некая форма временной смерти.
26 Слово в сказовом повествовании у А. Ремизова «двуголосое»: и называет предмет, и выражает то значение, которое закрепилось за этим предметом в национальной, причём простонародной культуре. Такие слова, важные своим «подсловьем» (по выражению писателя), выделены в тексте курсивом.
27 Эйхенбаум Б. О литературе: Работы разных лет. – М., 1987. С. 290.
2.3.3
1 О творческих связях М. Пришвина с писателями начала XX века см.: Дворцова Н.П. М. Пришвин и русское религиозное возрождение XX века // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1993. № I. С. 3—11;
Дворцова Н.П. М. Пришвин и Д. Мережковский // Вопросы литературы. 1993. Вып. 3. С. 143–170; Дворцова Н.П. М. Пришвин и А. Ремизов / к истории творческого диалога // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1994. № 2. С. 27–33; Дворцова Н.П. Путь М. Пришвина «от революции к себе» и В. Розанов// Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1995. № 2. С. 34–41; Дворцова Н.П. М. Пришвин между Д. Мережковским и В. Розановым // Филологические науки. 1995. № 2. С. 110–119.
2 Гришина Я.З., Гришин В.Ю. Дневник как форма самопознания художника // Человек. 1995. № 5. С. 162.
3 См.: Пришвин М. Дневник // Литературное обозрение. – 1990. № 8. – С. 104–112; Пришвин М. Дневник ранних лет. 1907–1909 годы // Человек. 1995. № 5. С. 168–181; № 6. С. 139–153; Рязанова Л. Дневники М. Пришвина // Вопросы литературы. 1996. № 9—10. С. 93—132; Пришвин М. Дневник 1938 года // Октябрь. 1997. № 1. С. 107–137; Пришвин М. Дневник 1939 года // Октябрь. 1998. № 2. С. 144–158.
4 Пришвина В.Д. Наш дом. – М., 1977. С. 199.
5 Пришвин М. Из дневника 1925 года // Вопросы литературы. 1996. – № 5. С. 95.
6 Чурсина Л.К. К проблеме «жизнетворчества» в литературно-эстетических исканиях начала XX века (А. Белый и М. Пришвин) // Русская литература. 1988. № 4. С. 192.
7 Дневник позволяет судить о том, каким огромным материалом располагал М. Пришвин: легенды, предания, бытовые эпизоды, размышления… По утверждению писателя, этого материала хватило бы на десяток научных работ, но он пожертвовал ими ради небольшой повести.
8 В частности, В. Курбатов отмечает, что «Чёрный араб» – первая из книг М. Пришвина, которая «дышит абсолютной свободой и, кажется, ни на кого не оглядывается, равнодушная к суду этнографов и писателей». См.: Курбатов В.Я. Михаил Пришвин: Очерк творчества. – М., 1986. С. 69.
9 Необычность жанровой формы «Чёрного араба» осознавал и сам автор, разъясняя это произведение в своих дневниках, письмах, выступлениях. При первой публикации «Чёрного араба» М. Пришвин предпослал ему подзаголовок «Степные эскизы», очевидно, имея в виду, с одной стороны, свободную, неканоническую форму произведения, а с другой – намекая на его живописный, описательный характер. В дальнейшем, быть может, из-за того, что слово «эскиз» ассоциировалось с чем-то незавершённым, черновым, писатель от этого подзаголовка отказался, предпочтя ему такие определения, как поэтический очерк, поэма.
10 Пришвин М.М. Собрание сочинений: В 8 т. – М., 1982. T. 1. – С. 502.
Далее цитаты из повести М. Пришвина «Чёрный араб» приводятся по этому изданию с указанием страниц в скобках.
11 Экспрессия возникает всякий раз, как нарушаются условия объективного изображения и оно становится немотивированным, недостоверным.
12 Гачев Г. Два медведя: Фрагмент из «Русской Думы»: Литературно-философские портреты русских писателей М.М. Пришвина и М.М. Бахтина // Вестник высшей школы. 1991. № 7. С. 87.
13 Там же. С. 86.
14 Нельзя не согласиться с современным исследователем, утверждающим, что «творчество Ф. Сологуба – находка для психоанализа». См.: Парамонов Б. Новый путеводитель по Ф. Сологубу // Звезда. 1994. № 4. С. 200.
15 Как выразился А. Белый в авторском предисловии к роману «Москва», А. Ремизов стремится «стереть литературщину с литературного изложения». См.: Белый А. Москва. – М., 1989.
2.4.1
1 В связи с этим, пожалуй, следует согласиться с американским исследователем Вл. Александровым, который полагает, что общее название трилогии А. Белого «Восток или Запад» вводит читателя в заблуждение, поскольку предполагает существование того или иного выбора. Более приемлемым исследователю представляется название «Ни Восток, ни Запад» См.: Ерофеев Вик. Споры об Андрее Белом. Обзор зарубежных исследований // Андрей Белый: Проблемы творчества: Статьи, воспоминания, публикации. – М., 1988. С. 490.
2 Существует мнение, что трилогия имела своё продолжение, хотя и в трансформированном виде, в автобиографических повестях А. Белого «Котик Летаев» и «Крещеный китаец».
3 См.: Андрей Белый: Проблемы творчества: Статьи, воспоминания, публикации. – М., 1988. С. 190.
4 Главная сюжетная коллизия «Серебряного голубя» – опрощение Дарьяльского и его сближение с Матрёной – отражает конкретную биографическую ситуацию, связанную с именем Сер. Соловьёва. Подробнее о ней и о «соловьевском» аспекте «Серебряного голубя» см.: Лавров А. Дарьяльский и Сер. Соловьёв. О биографическом подтексте в «Серебряном голубе» А. Белого // Новое литературное обозрение. 1994. – № 9. С. 93 – 110.
5 Реалистичность повести А. Белого была отмечена даже современной критикой. В частности, С.А. Венгеров считал появление «Серебряного голубя» свидетельством того, что «лозунг «назад к реализму» захватывает даже такие литературные круги, где ещё недавно реализм отшвыривался с презрением»; а М. Кузмин подчёркивал, что повесть А. Белого намечает «путь широкой символико-реалистической картины современной России». См.: Венгеров С. Литературные настроения 1910 г. // Русские ведомости. 1911. № 14. 19 янв. С. 3; Кузмин М. Художественная проза «Весов» // Аполлон. 1910. № 9. Отд. 1. С. 39–40.
6 О значении термина «орнаментальная проза» см.: Новиков Л.А. Стилистика орнаментальной прозы А. Белого. – М., 1990. С. 29–30.
7 Кожевникова Н.А. Из наблюдений над неклассической («орнаментальной») прозой // Изв. АН СССР. Сер. лит. и языка. – М., 1976. Вып. 1. Т. 35. С. 56.
8 Принцип лейтмотива, идущий от поэзии и музыки, был подготовлен уже в классической прозе, но использовался в ней как частный приём; в орнаментальной прозе он стал конструктивным принципом.
9 Белый А. Серебряный голубь. – М., 1989. С. 64–75. Далее цитаты из повести А. Белого «Серебряный голубь» приводятся по этому изданию с указанием страниц в скобках.
10 Мистический план «Серебряного голубя» явственно стремится к стилизации: на его речевую структуру наложил свой отпечаток библейский стиль.
11 Тема России в «Серебряном голубе» уходит корнями в статью А. Белого «Луг зелёный» (1905): «Верю в Россию. Она – будет. Мы – будем. Будут люди. Будут новые времена и новые пространства. Россия – большой луг, зелёный, зацветающий цветами…» См.: Белый А. Серебряный голубь. – М., 1989. С. 414–420.
12 Разумеется, круг литературных и историко-культурных ассоциаций в «Серебряном голубе» не исчерпывается мотивами Н. Гоголя. Исследователями отмечалось использование в повести А. Белого символики греческих мифов, апокалипсических мотивов, реминисценций из русской классики, в том числе из произведений Ф. Достоевского, И. Тургенева, Ф. Сологуба. См.: Григорьева Е.Г. «Распыление» мира в дореволюционной прозе А. Белого // Актуальные проблемы теории и истории русской литературы / Учёные записки Тартуского ун-та. – Тарту, 1987. Вып. 748; Долгополов Л.К. Андрей Белый и его роман «Петербург». – Л., 1988; Новиков Л. Стилистика орнаментальной прозы А. Белого. – М., 1990; Лавров А. Андрей Белый в 1900-е годы: Жизнь и литературная деятельность. – М., 1995 и др.
13 См.: Кожевникова Н.А. О звуковой организации прозы А. Белого // Проблемы структурной лингвистики. 1981. – М., 1983. С. 198–199; Симачёва И.Ю. Гоголь и А. Белый // Русская речь. 1989. № 2. С. 21–28.
14 Любопытна попытка интерпретации образа Дарьяльского в аспекте отражения в нём черт самого Н. Гоголя. См.: Полякова С.В. «Нос» Н. Гоголя и ринологические фантазии А. Белого // Блоковский сборник XI / Учёные записки Тартуского ун-та. – Тарту, 1990. Вып. 917. С. 82–89.
15 Характерно, что сам А. Белый в исследовании «Мастерство Гоголя» назвал свою повесть «итогом семинария» по гоголевским «Вечерам на хуторе близ Диканьки» и привёл множество конкретных примеров следования в повести «слоговым приёмам» Н. Гоголя, «вплоть до скликов фраз с фразами». См.: Белый А. Мастерство Гоголя: Исследование. – Репринт. – Анн Арбор: Ардис, 1982. С. 298–302.
2.4.2
1 Антиутопию Е. Замятина знали, во всяком случае в писательской среде: он многим читал отрывки из рукописи, вероятно, не исключая возможности опубликовать её. В 1923 г. роман был передан для перевода на английский язык, но до 1924 г. Е. Замятин отклонял все предложения о публикации его за границей. Только в 1925 г. роман появился в английском переводе в США; весной 1927 г. главы из него по-русски (в обратном переводе с английского) начал печатать эмигрантский журнал «Воля России» в Праге; но в 1929 г. началась широкая кампания против писателей, печатающих запрещённые на родине произведения за рубежом, вынудившая Е. Замятина эмигрировать (1931), – «писатель-еретик» стал persona non grata. Затем последовали многочисленные публикации романа «Мы» на разных языках почти во всех странах мира, в том числе на языке оригинала в Нью-Йорке (1952). И наконец в конце 80-х годов (через пятьдесят один год после смерти писателя) антиутопия Е. Замятина появилась в российской печати – впервые в журнале «Знамя» (1988, № 4–5). К тому времени роман «Мы» положил начало антиутопической традиции в современной литературе: влияние замятинской эстетики отмечается в таких произведениях, как «Прекрасный новый мир» О. Хаксли, «Чевенгур» А. Платонова, «Приглашение на казнь» В. Набокова, «1984» Дж. Оруэлла, «Бетонный остров» Дж. Болларда, «Альбион! Альбион!» Д. Морленда, «452о по Фаренгейту» Р. Брэдбери, «1985» Э. Бёрджеса, «Любимов» А. Синявского, «Москва 2042» В. Войновича, «Зияющие высоты» А. Зиновьева, «Невозвращенец» А. Кабакова и др.
2 Новое о Замятине: Сборник материалов. – М., 1998. С. 4.
3 См.: Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня: Науч. докл., статьи, очерки, заметки, тезисы: В 10 кн. – Тамбов, 2000; Новое о Замятине: Сб. материалов. – М., 1998; Евгений Замятин и культура ХХ века: Исслед. и публикации. – СПб., 2002; Давыдова Т. Творческая эволюция Евгения Замятина в контексте русской литературы первой трети ХХ века. – М., 2000; Полякова Л. Евгений Замятин в контексте оценок истории русской литературы ХХ века как литературной эпохи. – Тамбов, 2000; Евсеев В. Художественная проза Евгения Замятина: проблемы метода, жанровые процессы, стилевое своеобразие. – М., 2003 и др.
4 Туниманов В. Новое о Замятине // Русская литература. 2003. № 4. С. 241.
5 Замятин Е. Избранные произведения: В 2 т. – М., 1990. T. 2. С. 366. Далее все цитаты из статей Е. Замятина приводятся по второму тому этого издания с указанием тома и страниц, а цитаты из художественных произведений – по первому тому с указанием страниц, но без указания тома.
6 См.: Голубков М. Русская литература ХХ в.: После раскола. – М., 2002. С. 138; Келдыш В. Реализм и «неореализм» // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). – М., 2000. Кн. 1. С. 259–334.
7 Казалось бы, роман «Мы» не только самое знаменитое, но и самое изученное произведение Е. Замятина. Однако новые работы убедительно свидетельствуют, что только сегодня, по сути, начинается подлинно научное исследование структуры романа, его литературно-философских, естественно-научных источников и даже рецепции современниками писателя.
8 См.: Лахузен Л. Евгений Замятин, теория энтропии и литературный дискурс // Русский язык за рубежом. – М., 1993. № 4. С. 91–97; Азаров Ю., Давыдова Т. О Замятине, термодинамике и энтропии // Новый мир. 1997. № 10. С. 242–244; Киреева Н. Энтропия в художественном мире Е. Замятина и Т. Пинчона // Проблемы художественного миромоделирования в русской литературе. – Благовещенск, 2002. Вып. 6. С. 26–37 и др.
9 Девятайкин Е. Творческая эволюция Евгения Замятина: На материале дореволюционной прозы // Советская литература в прошлом и настоящем. – М., 1990. С. 45.
1 °Cм.: Майорова Т. Соотношение сказового и эпического в повести Е. Замятина «Уездное» // Творчество писателя и литературный процесс. – Иваново, 1999. С. 109–118; Капустина С. Повесть Е. Замятина «Уездное» как художественное отражение трагедии распада семьи // Вестник Тамбов. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. – Тамбов, 2002. С. 64–71; Сваровская А. Фольклорно-мифологическое начало в повести Е. Замятина «Алатырь» // Проблемы метода и жанра. – Томск, 1994. Вып. 16. С. 282–294; Давыдова Т. Философские мотивы в повести Е. Замятина «На куличках» // Филологический сборник. – М., 1998. С. 142–157 или Рассел Р. Гоголевская традиция и ранние повести Е. Замятина // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. – М., 1995. № 2. С. 13–22; Резун М. Повествовательная структура повестей Е. Замятина 1910-х годов // Вестник Томск. гос. пед. ун-та. Сер.: История. Филология. – Томск, 1997. Вып. 1. С. 59–63; Комлик Н. Дьяволиада Замятина в контексте фольклорных и литературных традиций: На материале повестей «Уездное», «Алатырь», «На куличках» // Вестник Тамбов. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. – Тамбов, 1999. Вып. 4. С. 30–37 и др.
11 По структуре названия роман Ф. Сологуба «Мелкий бес» вроде бы не входит в перечисленный ряд, но к нему принадлежит и даже хронологически его открывает: у Ф. Сологуба едва ли не самое памятное суждение о силе русской обыденности, которая всего виднее, обнажённее в провинции.
12 См.: Примочкина Н. М. Горький и Е. Замятин: к истории литературных взаимоотношений // Русская литература. 1987. № 4. С. 149.
13 См.: Шайтанов И. Евг. Замятин и русская литературная традиция // Русская словесность. 1998. № 1. С. 33, 34.
14 В 1937 г. А. Ремизов в парижском некрологе Е. Замятину вспоминал о реакции на «Уездное» Ф. Сологуба: «Почему Вы взяли себе псевдоним «Замятин»?..»
15 Егорова О. Цикл как жанровое явление в прозе орнаменталистов // Вопросы литературы. 2004. № 3. С. 116, 117.
16 Там же. С. 118. Аналогичное построение имеют не только повести, но и романы Е. Замятина «Мы» и «Бич Божий».
17 Давыдова Т. Антижанры в творчестве Евгения Замятина // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1997. № 3. С. 10.
18 Геллер Л. Слово мера мира: Статьи о русской литературе ХХ века. – М., 1994. С. 56.
19 В «Уездном» Т. Давыдова выделяет внешний и внутренний сюжет и полагает, что внутренним сюжетом повести (история грехопадения Анфима Барыбы) является нарушение героем ряда библейских заповедей: не укради, не прелюбодействуй, не убий. См.:. Давыдова Т. Антижанры в творчестве Евгения Замятина // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1997. № 3. С. 10.
20 Рассел Р. Гоголевская традиция и ранние повести Е. Замятина // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1995. № 2. С. 19.
21 Сваровская А. Тема духовного захолустья в прозе Е. Замятина 1910-х годов // Проблемы метода и жанра. – Томск, 1990. Вып. 16. С. 193.
22 Давыдова Т. Антижанры в творчестве Евгения Замятина // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1997. № 3. С. 11–12.
23 О повести «Уездное» как истории тела см.: Девятайкин Е. Творческая эволюция Евгения Замятина: На материале дореволюционной прозы // Советская литература в прошлом и настоящем. – М., 1990. С. 44.
24 Цит. по: Рассел Р. Гоголевская традиция и ранние повести Е. Замятина // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1995. № 2. С. 18.
25 Геллер Л. Слово мера мира: Статьи о русской литературе ХХ века. – М., 1994. С. 76.
26 См.: Давыдова Т. Образ Англии в творчестве Евгения Замятина // Литературная учёба. – М., 2002. № 3. С. 82–83.
27 Некоторые исследователи полагают, что «реализм в произведениях Е. Замятина трансформируется в экспрессионизм». См., напр.: Захариева И. Художественный синтез в русской прозе ХХ века: 20-е – первая половина 50-х годов. – София, 1994. С. 46.
2.4.3
1 Достаточно познакомиться с одной из программ Международных Шмелёвских чтений (г. Алушта). См., напр.: Спиридонова Л., Руднева Е. Международные Шмелёвские чтения 2002 г. // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2003. № 2. С. 192–194; Голубкова А., Кормилов С. Юбилейные Крымские Шмелёвские чтения // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2004. № 1. С. 248–252 и т. п.
2 См.: Михайлова М. «Художник обездоленных» или «писатель без человека»?: Дореволюционная критика о творчестве И.С. Шмелёва // Русская словесность. 1997. № 5. С. 46–51.
3 Ильин И. О тьме и просветлении: Кн. худож. критики. Бунин. Ремизов. Шмелёв. – М., 1991. С. 145.
4 Если под «неореализмом» обычно понимается реализм, обогащённый элементами поэтики модернизма, то термин «духовный реализм», на наш взгляд, ещё нуждается в уточнении. О творческом методе И. Шмелёва подробнее см.: Абишева У. «Бытие сквозь быт» (к проблеме эволюции творчества И.С. Шмелёва 1900—1910-х гг.) // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2004. № 2. С. 80–96; Любомудров А. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б.К. Зайцев, И.С. Шмелёв. – СПб., 2003 и др.
5 Келдыш В. Реализм и «неореализм» // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). – М., 2000. Кн. 1. С. 259–334.
6 Нам очень симпатична формула И. Ильина: «Шмелёв по стилю своему есть поющий поэт…» (См.: Ильин И. Указ. соч. С. 156.), точность языка И. Шмелёва, прозрачность и в то же время насыщенность слова, делающая его стиль «не-сразу-прозрачным», требуют от читателя конгениального парения. О слове И. Шмелёва можно повторить сказанное им на чествовании И. Бунина, нобелевского лауреата: «Всё тленно, но «Слову жизнь дана». Слово – звучит, живёт, животворит, – слово великого искусства… И если бы уже не было России, – Слово её создаст духовно». См.: Слово Ив. Шмелёва на чествовании И.А. Бунина // И.С. Шмелёв в контексте славянской культуры. VIII Крымские Международные Шмелёвские чтения. – Алушта, 1999. С. 49.
7 Роман «Пути небесные» был назван православным самим писателем в письмах к И. Ильину. См.: Каманина Е., Солнцева Н. Заметки о заметках: к выходу в свет новой книги об И.С. Шмелёве // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2003. № 6. С. 196.
8 Из последних работ о повести «Человек из ресторана» можно выделить: Давыдова Т. Духовные искания в неореалистической прозе начала ХХ века: Повесть И. Шмелёва «Человек из ресторана» // Литература в школе. 1996. № 6. С. 43–48; Каскина Ю. Яков и Иов: Образ страдающего праведника в повести И.С. Шмелёва «Человек из ресторана» // Вестник Моск. ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкульт. коммуникация. 2003. № 3. С. 84–88; Голованева М. О некоторых особенностях воссоздания «образа автора» в повести И.С. Шмелёва «Человек из ресторана» // Учёные записки АГПУ: Русский язык. Литература. – Астрахань, 2002. С. 51–54.
9 Особенности сказа в повести И. Шмелёва «Человек из ресторана» подробно рассматриваются в коллективной монографии: Мущенко Е.Г., Скобелев В.П., Кройчик Л.Е. Поэтика сказа. – Воронеж, 1978.
10 Шмелёв И.С. Сочинения: В 2 т. – М., 1989. T. 1. Здесь и далее цитаты из произведений И. Шмелёва приводятся по этому изданию с указанием страниц.
11 Руднева Е.Г. «Магия словесного разнообразия» (о стилистике И.С. Шмелёва) // Филологические науки. 2002. № 4. С. 62.
12 Из всех эпических жанров повесть наиболее близка к драме: и по объёму, и по ограниченному кругу событий и персонажей, – поэтому повесть-драма (сначала как повесть для театра, а затем как киноповесть) получила широкое распространение в русской литературе ХХ века.
13 На некоторую вторичность, неистинность, искусственность мира, в котором живут актёры-интеллигенты, указывает то, что герои – баритон и певица – не названы по именам, ничего не известно и об их личной жизни: создаётся впечатление, что они менее интересны автору, чем Серёгин.
14 Возвышенности, поэтичности стиля И. Шмелёв добивается с помощью приёма инверсии: в предложениях нарушается порядок слов, – глагол ставится перед существительным: «Видел Илья…», «Жил Илья…», «Говорил им Илья…», «Молчал Илья…» и т. п.
15 Инициалы героя (И. Ш.) совпадают с инициалами автора: можно предположить, что в этот образ писатель вложил своё представление об идеале художника.
16 Современные исследователи в жанрово-стилевой организации повести «Неупиваемая чаша» обнаруживают признаки «орнаментальной церковной прозы» XIV–XV вв. В частности, Е.Г. Руднева замечает, что определение жанра этого произведения И. Шмелёва как «житийной поэмы» отражает «взаимодополнение… двух ведущих жанровых тенденций повествования – агиографической и возвышенно-романтической». См.: Руднева Е.Г. Заметки о поэтике И.С. Шмелёва. – М., 2002. С. 69.
17 Соположение написанных Ильёй работ – портрета, росписей в склепе, на монастырской стене и иконы – заставляет дачников пройти по пути мистерии: из жизни земной, суетной, мимолётной – к смерти; а затем – к радости бессмертия.
18 Неупиваемая чаша – символ страдания; «пити чашу» (церк.) – значит терпеть бедствия, страдать, мучиться.
19 О символике имён главных героев (Илья – пророк; Анастасия – воскресшая) и названия повести «Неупиваемая чаша» см.: Минералова И.
«Неупиваемая чаша» И.С. Шмелёва: стиль и внутренняя форма // Литература в школе. 2003. № 2. С. 2–8.
20 Кожевникова Н.А. Из наблюдений над неклассической («орнаментальной») прозой // Известия АН СССР. Сер. лит. и языка. – М., 1976. С. 58.
21 Повествовательная цикличность произведений Е. Замятина нередко рассматривается как один из признаков «орнаментальности» его прозы, см.: Егорова О. Цикл как жанровое явление в прозе орнаменталистов // Вопросы литературы. 2004. № 3. С. 118.
22 См.: Любомудров А. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б. Зайцев, И. Шмелёв. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2003.
23 Ильин И. О тьме и просветлении: Кн. худож. критики. Бунин. Ремизов. Шмелёв. – М., 1991. С. 156.
Заключение
1 См.: Русская литература ХХ века: Итоги и перспективы. – М., 2000; Кормилов С. Нерешённые проблемы современного литературоведения // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2001. № 6; Скороспелова Е., Голубков М. На рубеже тысячелетий: литература ХХ века как предмет научного исследования // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2002. № 2 и др.
2 См., напр.: Голубков М. Русская литература ХХ в.: После раскола. – М., 2002.



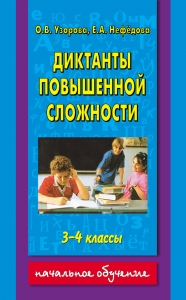
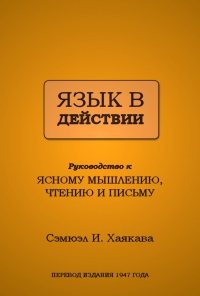
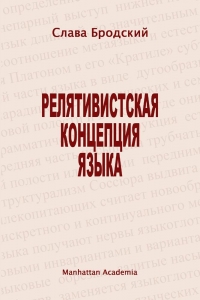

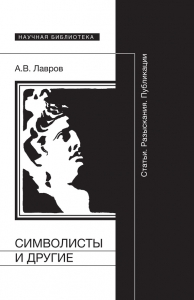
Комментарии к книге «Неореализм. Жанрово-стилевые поиски в русской литературе конца XIX – начала XX века», Инна Викторовна Тузкова
Всего 0 комментариев