Эдуард Владимирович Будаев Анатолий Прокопьевич Чудинов Зарубежная политическая лингвистика: учеб. пособие
Предисловие
Данное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, которые овладевают гуманитарными специальностями, в той или иной степени связанными с изучением взаимоотношений языка и общества. К числу этих специальностей относятся «Филология», «Лингвистика и межкультурная коммуникация», «Политология», «Социология», «Рекламная деятельность», «Связи с общественностью», «Государственное и муниципальное управление», «Журналистика».
Основная задача учебного пособия состоит в ознакомлении студентов с историей возникновения, идеями, методами и ведущими направлениями зарубежной политической лингвистики – новой, активно развивающейся гуманитарной науки, которая занимается изучением использования ресурсов языка как средства борьбы за политическую власть и манипуляции общественным сознанием. В связи с этим в пособии выделены основные положения политической лингвистики, рассмотрена история ее возникновения и развития, охарактеризованы методы и ведущие направления в зарубежных исследованиях политической коммуникации.
Изучение политической лингвистики будет способствовать лучшему пониманию, анализу и продуцированию (в том числе в процессе перевода на другие языки) соответствующих текстов. Одновременно изучение политической лингвистики поможет студентам лучше понимать происходящие в современном мире политические процессы, научиться видеть подлинный смысл выступлений политических лидеров и используемые ими способы манипуляции общественным сознанием.
Отличительной чертой данного пособия является обширный раздел «Антология», в котором представлены переводы на русский язык трудов ведущих зарубежных специалистов из Соединенных Штатов (Р. Андерсон, Дж. Лакофф, В. Бенуа), Центральной и Западной Европы (Р. Бэнкс, Р. Водак, П. Друлак, А. Мусолфф) и других мегарегионов (Л. Ви, Н. Клочко, Э. Лассан, Н. Чабан).
Авторы выражают искреннюю признательность рецензентам данного пособия – доктору филологических наук, профессору Владимиру Ильичу Карасику, доктору филологических наук, профессору Василию Васильевичу Химику, ценные советы которых оказались очень важны при доработке книги.
Особая благодарность адресована нашим зарубежным консультантам. Мы признательны профессору Миссурийского университета Вильяму Бенуа за его ценные консультации по истории и современному состоянию американских исследований по политической лингвистике. Для нас было очень значимо творческое общение с европейскими специалистами по политической метафорике, особенно с профессором Петром Друлаком из Пражского института международных отношений (Чехия) и профессором Андреасом Мусолффом из Даремского университета (Великобритания). Искренне благодарим Р. Андерсона, Р. Водак, Р. Бэнкса, Э. Лассан, Н. Клочко, Н. Чабан и других зарубежных авторов, предоставивших свои материалы для публикации в настоящей книге.
Абсолютное большинство представленных исследований впервые переведено на русский язык, поэтому мы особо признательны переводчикам – Е.С. Белову, О.А. Ворожцовой, А.Б. Зайцевой, Ю.А. Ольховиковой, С.Л. Кушнерук, А.А. Прокопьевой, О.А. Солоповой, А.М. Стрельникову.
Введение
Интенсивное развитие политических технологий, возрастающая роль средств массовой информации, все большая театрализация политической деятельности способствуют повышению внимания общества к теории и практике политической коммуникации. В связи с этим в России и за ее рубежами стремительно растет количество публикаций, посвященных политической лингвистике.
Появление все новых и новых исследований в сфере политической лингвистики, обращение исследователей ко все новым и новым аспектам изучения политического языка требует всестороннего осмысления истории названного научного направления, его современного состояния, закономерностей эволюции и взаимодействия с другими научными направлениями.
Следует отметить, что отдельные аспекты рассматриваемой в настоящем учебном пособии проблемы уже привлекали внимание специалистов. Вопрос о возникновении, историческом развитии и современном состоянии политической лингвистики в той или иной мере рассматривался в учебниках и учебных пособиях А.Н. Баранова «Введение в прикладную лингвистику» (2001), М.В. Гавриловой «Критический дискурс-анализ в современной зарубежной лингвистике» (2003), А.А. Романова «Политическая лингвистика. Функциональный подход» (2002), И.В. Вольфсона «Язык политики. Политика языка» (2003), А.П. Чудинова «Политическая лингвистика» (2003, 2006), в монографиях Н.А. Купиной (1995), Э.В. Будаева и А.П. Чудинова (2007), Е.И. Шейгал (2000), в двух выпусках коллективной монографии «Методология исследований политического дискурса: Актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов» (1998, 2000), в статьях В.Н. Базылева (2005), В.З. Демьянкова (2002, 2003), П.Б. Паршина (1999, 2001, 2003), Н.М. Мухарямова и Л.М. Мухарямовой (2002), Т.Г. Скребцовой (2004, 2005) и др.
За рубежом монографии и учебные пособия по политической коммуникации получили широкое распространение с 70-х годов XX в. Среди них «Введение в анализ политических текстов» Р. Бахема (1979), «Язык в политике. Введение в прагматику и семантику политического языка» В. Дикманна (1975), «Политический язык» М. Эдельмана (1977), «Язык политики» М. Гайса (1987), «Политическая коммуникация: Риторика, правительство и граждане» Д.Ф. Хана (1988), «Язык и политическое понимание» М. Шапиро (1981) и др. Среди последних работ выделяется книга П. Чилтона «Анализ политического дискурса» (2004) и учебник Н. Фэрклау «Анализ дискурса» (2003). К сожалению, большинство из названных книг пока не опубликованы на русском языке.
В настоящем учебном пособии предпринята попытка своего рода обобщения и классификации современных исследований в области политической лингвистики, проведенных за пределами России. Такого рода ограничение объясняется тем, что нашим студентам особенно важно ознакомление с зарубежным опытом, с идеями и методами специалистов из государств с развитыми демократическими традициями.
Уже предварительные наблюдения позволили обнаружить, что абсолютное большинство современных исследований по политической лингвистике созданы в трех мегарегионах – в Северной Америке, в Центральной и Западной Европе и в постсоветских государствах. Вполне закономерно, что национальность и место проживания ученого далеко не всегда предопределяют его принадлежность к тому или иному направлению в исследовании политической метафоры. Например, можно обнаружить, что концепции некоторых европейских ученых ближе к взглядам американских специалистов, чем к типично европейским представлениям. Отметим также стремление специалистов, работающих в различных регионах, к взаимному согласованию своих концепций. Показательным примером в этом отношении служит исследовательский проект по решению вопроса о соотношении лингвистической и концептуальной метафоры, получивший название «Pragglejaz» по первым буквам имен десяти ведущих специалистов по метафоре из США, Гонконга и стран Европы (P. Crisp, R. Gibbs, A. Cienki, G. Steen, G. Low, L. Cameron, E. Semino, J. Grady, A. Deignan, Z. Kovecses).
Вместе с тем существуют определенные основания для выделения североамериканского, европейского и российского (восточноевропейского, постсоветского) направлений в исследовании политической метафоры. Поэтому в процессе изучения учитывались не только собственно лингвистические характеристики соответствующих публикаций, но и их принадлежность к одному из названных мегарегиональных направлений.
При последовательном изучении современных публикаций по проблемам политической коммуникации обнаруживаются следующие различия, которые могут служить основанием для классификации исследований.
1. Методы исследования. С точки зрения методологии наиболее последовательно разграничиваются работы, выполненные в рамках когнитивного и традиционного (риторического, семантико-стилистического) методов. В первом случае политическая коммуникация анализируется как ментальный, а во втором – как языковой феномен. Вместе с тем существуют исследования, авторы которых, не опасаясь обвинений в эклектике, пытаются совместить названные методы. Значительно более естественным представляется совмещение методов, ориентированных на различные аспекты исследования, например, совмещение когнитивного метода с критическим анализом дискурса или контент-анализом.
2. Национальный дискурс. В большинстве исследований рассматриваются политические метафоры, относящиеся только к какому-то одному национальному дискурсу (американскому, немецкому, российскому и др.). Наряду с этим существуют публикации, в которых сопоставляются политические метафоры, характерные для межнациональных объединений: так, в исследовании Н.Н. Клочко, представленном в антологии, продемонстрировано, что народы бывшей Австро-Венгерской империи до настоящего времени ощущают определенную близость, которая в ряде случае выражается и в однотипных метафорах. В публикациях целого ряда исследователей рассматривается межнациональная метафора «Общеевропейский дом» [Болотова, Цинкен 2001; Клочко 2006, Bachem, Battke 1991; Musolff 2000, 2004; Schaffner 1993; и др.]. Особую группу составляют исследования, посвященные сопоставлению метафорических картин мира, существующих в сознании различных народов.
Для исследования небезразлична и «точка зрения» на политическую метафору: в одних случаях автор изучает политическую метафорику своей родной страны, а в других – обращается к исследованию политической коммуникации зарубежных государств.
3. Дискурсивные варианты использования политического языка. В подобных исследованиях рассматриваются дискурсы отдельных политических событий и ситуаций (война, выборы, скандал, коррупция и др.), дискурсы отдельных политических партий и движений (правые, левые, экологисты, антиглобалисты, националисты, коммунисты и др.) или отдельных политических лидеров.
4. Источники исследований политического языка. Чаще всего это политический медиадискурс (в том числе пресса, радио, телевидение) и собственно политический (институциональный) дискурс (листовки, парламентские дебаты, выступления на митингах, документы политических партий и др.) в их многообразных разновидностях и пересечениях.
5. Темпоральная и динамическая характеристика исследований. Существуют публикации, авторы которых стремятся охарактеризовать исторические закономерности развития политической коммуникации на протяжении многих десятилетий, веков и даже тысячелетий, тогда как большинство современных авторов обращаются лишь к материалам последних лет.
Композиция настоящего учебного пособия определяется стремлением авторов, обратившись сначала к истокам современной политической лингвистики, последовательно рассмотреть все названные выше существенные признаки соответствующих исследований, выделив на этой основе ведущие принципы и закономерности современной политической коммуникации. Представленные в заключительном разделе публикации ведущих зарубежных специалистов помогут студентам лучше понять методологию зарубежных исследований политического дискурса.
Раздел 1 Становление политической лингвистики и ее проблематика
1.1. Возникновение и основные этапы развития политической лингвистики
Истоки современной политической лингвистики можно обнаружить уже в античной риторике: проблемами политического красноречия активно занимались в Древней Греции и Риме, однако эта традиция оказалась прерванной на много столетий, когда на смену античным демократиям пришли феодальные монархии. Изучение политической коммуникации оказывается социально востребованным прежде всего в демократическом обществе, а поэтому соответствующие исследования вновь появились лишь вместе с развитием демократии в Западной Европе и Северной Америке. Рассмотрим основные этапы в истории изучения политической коммуникации.
1. Исследования политической коммуникации в рамках традиционной риторики и стилистики. Первоначально (т. е. еще до возникновения политической лингвистики как особого научного направления) публикации по проблемам политической коммуникации воспринимались как разновидность стилистических или риторических исследований. Соответствующие публикации носили преимущественно «рецептурный», восхваляющий или критический (дискредитирующий) характер.
В подобных изданиях нередко рассмотривается множество конкретных выступлений и публикаций, а также предлагаются достаточно эффективные рекомендации.
В работах критической направлености основное внимание традиционно уделялось «разоблачению» недобросоветных уловок политических противников, а также их косноязычию, малообразованности и речевой небрежности. Значительное число критических публикаций было посвящено «порче» родного языка, среди причин которой обычно назывались те или иные политические события, а также общее падение нравов, утрата духовных основ и уважения к национальным традициям.
2. Возникновения и становления политической лингвистики (двадцатые – пятидесятые годы XX века).
История возникновения и становления любой научной дисциплины неразрывно связана с историей общества, и политическая лингвистика не стала исключением. В череде событий XX в. точкой отсчета для становления политической лингвистики стала Первая мировая война, которая привела к невиданным человеческим потерям и кардинальному изменению мироощущения человечества. В новых условиях необходимость изучения политической коммуникации и ее взаимосвязи с общественно-политическими процессами становилась все более очевидной. После опыта беспрецедентного пропагандистского противостояния воюющих стран знание о механизмах манипуляции общественным мнением приобретает высокую научную и гуманитарную ценность. Поэтому неудивительно, что после войны внимание исследователей языка политики было направлено на изучение способов формирования общественного мнения, эффективности политической агитации и военной пропаганды.
Наиболее значимые работы этого периода связаны с деятельностью Уолтера Липпманна, Пола Лазарсфельда, Гарольда Лассвелла.
У. Липпманн в период Первой мировой войны писал пропагандистские листовки для армии союзников во Франции, после войны занялся изучением вопросов пропаганды и агитации, служил советником у двенадцати президентов США. В современной политической лингвистике используется предложенное У. Липпманном понятие «процесса установки повестки дня» (agenda-setting process), т. е. высвечивания в политической коммуникации одних вопросов и замалчивания других. Таким образом, ученый разграничил реальную актуальность той или иной проблемы и ее «важность» в восприятии общества.
Также У. Липпманну принадлежит первенство в применении контент-анализа в качестве метода для исследования общественных представлений о политической картине мира. В частности, в 1920 г. У. Липпманн опубликовал исследование корпуса текстов газеты «The New York Times», которые были посвящены Октябрьской революции 1917 г. Как показал У. Липпманн, среднему американцу невозможно было составить сколько-нибудь объективное мнение о происходящих в мире событиях ввиду антибольшивистской предвзятости анализируемых текстов.
Другим значимым предшественником политической лингвистики был Пол Лазарсфельд, активно занимавшийся изучением пропаганды в Колумбийском университете. В 1937 г. он руководил исследовательским проектом по воздействию информации радиовещания на американскую аудиторию. Впоследствии этот проект вылился в создание «Бюро прикладных социальных исследований» – единственного основанного на базе университета исследовательского института того времени, который занимался вопросами политической и массовой коммуникации. Вместе со своим коллегой Р. Мертоном П. Лазарсфельд разработал метод опроса фокус-группы[1], который применялся для сбора данных об отношении рядовых американцев к правительственным призывам по радио разводить «огороды победы»[2] или приобретать облигации военных займов. Примечательно, что эти правительственные программы разрабатывались и анализировались как самим П. Лазарсфельдом, так и другими исследователями (в том числе Гарольдом Лассвеллом).
П. Лазарсфельду принадлежит первенство в применении контент-анализа к исследованию зависимости электорального поведения от предвыборной агитации в СМИ. Наибольшую известность получило его исследование, проведенное в округе Эри (штат Огайо). В течение полугода вплоть до президентских выборов 1940 г. П. Лазарсфельд и его коллеги проводили опрос фокус-группы в 600 человек с целью выявить эффективность агитационного воздействия политических текстов СМИ на американских граждан. К удивлению исследователей, только 54 участника эксперимента поменяли за полгода свои предпочтения в пользу другого кандидата в президенты и еще меньшее количество респондентов сделало это под прямым воздействием газет, журналов и радиопередач. Этот эксперимент заставил засомневаться в доселе принимаемом как само собой разумеющееся положении о тотальном характере воздействия СМИ на избирателя.
Впоследствии П. Лазарсфельд и другие исследователи разработали модель двухуровневой коммуникации, согласно которой в любом обществе существуют восприимчивые к воздействию политической пропаганды «лидеры общественного мнения» (opinion leaders), распространяющие политическую информацию по каналам межличностного общения. Методика П. Лазарсфельда получила значительное распространение и применяется вплоть до настоящего времени. Хотя исследователи указывали на недооценку пропагандистской роли СМИ, разработки П. Лазарсфельда инициировали интерес к исследованию дополнительных факторов коммуникационного воздействия на избирателя.
Среди предшественников современной политической лингвистики называют также Гарольда Лассвелла, которому принадлежит заслуга значительного развития методики контент-анализа и ее эффективного применения к изучению языка политики. С помощью контент-анализа Г. Лассвеллу удалось продемонстрировать связь между стилем политического языка и политическим режимом, в котором этот язык используется. По мнению исследователя, дискурс политиков-демократов очень близок дискурсу избирателей, к которым они обращаются, в то время как недемократические элиты стремятся к превосходству и дистанцированию от рядовых членов общества, что неизбежно находит отражение в стилистических особенностях политического языка власти. Языковые инновации предшествуют общественным преобразованиям, поэтому изменения в стиле политического языка служат индикатором приближающейся демократизации общества или кризиса демократии.
Продемонстрированный Г. Лассвеллом исследовательский потенциал методов квантитативной семантики получил значительное распространение. Так, в 40-е годы XX в. Г. Лассвелл, Н. Лейтес, С. Якобсон и другие исследователи выявляли различные взаимозависимости между семантикой языковых единиц и политическими процессами на основе анализа советских лозунгов, языка Интернационала, текстов фашистской пропаганды.
В этот период появляется дополнительный импульс к осмыслению роли языка в политике, связанный с практикой тоталитаризма и новой, еще более разрушительной мировой войной. Рассматривая этот этап развития политической лингвистики, историки науки называют, помимо специалистов по коммуникации, английского писателя Джорджа Оруэлла и немецкого литературоведа Виктора Клемперера, обратившихся к критическому изучению тоталитарного дискурса.
Первый из них написал в 1948 г. роман-антиутопию «1984», в котором были описаны принцип «двоемыслия» (doublethink) и словарь «новояза» (newspeak), т. е. на конкретных примерах были охарактеризованы способы речевого манипулирования человеческим сознанием в целях завоевания и удержания политической власти в тоталитарном государстве. Джордж Оруэлл наглядно показал, каким образом при помощи языка можно заставить человека поверить лжи и считать ее подлинной правдой, как именно можно положить в основу государственной идеологии оксюморонные лозунги «Война – это мир», «Свобода – это рабство» и «Незнание – это сила». Пророческий дар Дж. Оруэлла постоянно отмечают современные специалисты по политической пропаганде: иногда кажется, что именно по рецептам «новояза» советские войска в Афганистане решили называть ограниченным контингентом, а саму эту войну – интернациональной помощью. Аналогичные приемы использовали и американские лидеры, которые называли свои военные действия против Югославии и Ирака «борьбой за установление демократии».
Описанный Джорджем Оруэллом «новояз» был плодом его фантазии, предположением о том, к чему может привести развитие тоталитарных идей в Великобритании. Немецкий филолог Виктор Клемперер подробно охарактеризовал «новояз», за которым он имел несчастье наблюдать 12 лет. Его книга «LTI. Notizbuch eines Philologen» («LTI. Записная книжка филолога») была посвящена коммуникативной практике германского фашизма, а буквы «LTI» в ее названии обозначают «Язык Третьей империи». Следует отметить, что практика нацистского «новояза» оказалась значительно многообразнее и изощреннее созданной Джорджем Оруэллом теории. Например, оказалось, что вовсе необязательно запрещать то или иное выражение – достаточно взять его в кавычки. Например, «немецкий поэт» Гейне – это уже совсем не немецкий и не совсем поэт; соответственно написание «выдающийся ученый» Эйнштейн позволяет поставить под сомнение гениальность выдающегося физика. На службу идеям фашизма в гитлеровской Германии были поставлены и многие другие языковые средства: особенно детально Виктор Клемперер описывает символику и метафорику фашистской пропаганды, а также практику запрета на «неугодные» слова и понятия с одновременной пропагандой «новых» слов и идей.
Позднее появилось описание коммунистического новояза и языкового сопротивления ему в Польше, Восточной Германии, Чехии, России и других государствах существовавшего во второй половине прошлого века «социалистического лагеря». Эти исследования позволили обнаружить множество сопоставимых фактов и закономерностей. Вместе с тем обнаруживались и признаки национальных тоталитарных дискурсов: например, в советском политическом дискурсе очень значимыми были политические определения, кардинально преобразующие смысл и эмоциональную окраску слова. Так, в советском новоязе Буржуазный гуманизм или Абстрактный гуманизм – это вовсе не человеколюбие, а негативно оцениваемое проявление слабости, недостаточная жестокость по отношению к политическим противникам, представителям «эксплуататорских классов» и просто сомневающимся. С другой стороны, в качестве Социалистического гуманизма могли быть представлены жестокие действия «против классово чуждых элементов», особенно если эти действия воспринимались как полезные «для трудового народа» в его «классовой борьбе».
Исследования коммуникативной практики тоталитарных режимов продолжаются до настоящего времени. Специалисты выделили характерные черты тоталитарного дискурса, для которого, как правило, свойственны централизация пропагандистской деятельности, претензии на абсолютную истину, идеологизация всех сторон жизни, лозунговость и пристрастие к заклинаниям. Среди признаков тоталитаризма выделяют также ритуальность политической коммуникации, превалирование монолога «вождей» над диалогичными формами коммуникации, пропагандистский триумфализм, резкую дифференциацию СВОИХ и ЧУЖИХ, пропаганду простых и в то же время крайне эффективных путей решения проблем.
3. Политическая лингвистика 60—80-х годов XX в. На следующем этапе развития политической лингвистики зарубежные специалисты сосредоточили свое внимание на изучении коммуникативной практики в современных западных демократических государствах. Эти исследования показали, что и в условиях «свободы» постоянно используется языковая манипуляция сознанием, но это более изощренная манипуляция.
Новые политические условия привели к изменению методов коммуникативного воздействия, но политика – это всегда борьба за власть, а в этой борьбе победителем обычно становится тот, кто лучше владеет коммуникативным оружием, кто способен создать в сознании адресата необходимую манипулятору картину мира. Например, опытный политик не будет призывать к сокращению социальных программ для малоимущих, он будет говорить только о «снижении налогов». Однако хорошо известно, за счет каких средств обычно финансируется помощь малообеспеченным гражданам. Умелый специалист будет предлагать бороться за социальную справедливость, за «сокращение пропасти между богатыми и бедными», и не всякий избиратель сразу поймет, что это призыв к повышению прямых или косвенных налогов, а платить их приходится не только миллионерам.
Подобные факты широко обсуждаются в критической теории Франкфуртской школы, представители которой (Т. Адорно, Г. Маркузе, М. Хоркхаймер) начали изучать формы тоталитаризма, антидемократизма, националистического шовинизма после окончания Второй мировой войны. Аналогичные материалы представлены во многих публикациях англоязычных авторов.
Вполне закономерно, что в эпоху холодной войны особое внимание лингвистов привлекал милитаристский дискурс. На фоне «балансирования между войной и миром» понимание того, как политики убеждают рядовых граждан в необходимости применения ядерной бомбы, получает гуманистический смысл. По аналогии с «новоязом» Дж. Оруэлла (newspeak) в понятийном арсенале лингвистов закрепляется понятие «ньюкспик» (nukespeak) [Chilton 1982], т. е. «ядерный язык», который используют политики для оправдания возможного применения ядерной бомбы, для завуалирования и затемнения катастрофических последствий такого сценария развития событий. С другой стороны, важную роль в развитии политической ситуации играли и метафорические образы, подчеркивающие всю опасность последствий атомной катастрофы («ядерная зима», «атомный апокалипсис», «поджигатели войны» и др.). Неудивительно, что осознание актуальности задач, стоящих перед исследователями политической коммуникации, оказывается значимым фактором в развитии политической лингвистики.
Важное место в политической лингвистике рассматриваемого периода занимает французская школа анализа дискурса (Ж. Дюбуа, Ж. – Ж. Куртин, М. Пеше, М. Фуко и др.). Как показывает П. Серио, эта школа возникла «как попытка устранить недостатки контент-анализа, применявшегося в то время в гуманитарных науках, особенно в Соединенных Штатах» (Квадратура смысла, 2002, с. 16–17). По мнению французских ученых, американский контент-анализ «предполагает упорядочивание поверхностного разнообразия текстов, открывая тем самым возможность их сравнения и исчисления» (там же, с. 17). Соответственно задача исследователя – это обобщение различных способов выражения сходного содержания и статистический анализ полученных результатов. Такой анализ воспринимается французскими специалистами как «совокупность второстепенных технических приемов».
Теоретической основой для французской школы анализа дискурса стали идеи психоанализа, марксизма и структурной лингвистики. Как пишет Патрик Серио, в теории дискурса Мишеля Пеше главенствуют три имени, «объединяемых под шутливым названием «Тройственное согласие»": Карл Маркс, Зигмунд Фрейд и Фердинанд де Соссюр. Предмет исследования во французской школе анализа дискурса – это не отдельный текст, а множество текстов с учетом их исторической, социальной и интеллектуальной направленности, их взаимосвязей с другими текстами и институционных рамок, которые накладывают значительные ограничения на акты высказывания. При этом учитывается не только содержание текста, но и интенции автора, не только то, что сказано, но и то, что не сказано. По возможности следует также сопоставить содержимое текста с интра-дискурсом автора (другими его высказываниями по соответствующей проблеме) и интердискурсом (высказываниями других лиц по соответствующей проблеме).
Итак, в 60—80-е годы XX в. получили распространение исследования политической лексики, теории и практики политической аргументации, политической коммуникации в исторической перспективе, политических метафор и символов. Внимание исследователей привлекали вопросы функционирования политического языка в ситуациях предвыборной борьбы, парламентских и президентских дебатов, в партийном дискурсе и др. Все более тонким становится научный аппарат изучения политической коммуникации, и все больше факторов учитывается при исследовании дискурсивной значимости тех или иных высказываний, текстов или корпусов текстов.
Уже в этот период изучение политической коммуникации складывается в относительно самостоятельное направление лингвистических изысканий. В 70—80-х годах за рубежом регулярно появляются учебники по политической коммуникации и методам ее анализа.
4. Современный этап развития политической лингвистики. Особенно активно зарубежные исследования политической коммуникации развиваются в конце XX – начале XXI в. Можно выделить следующие признаки современного этапа развития политической лингвистики.
1) Происходит «глобализация» политической лингвистики. Если ранее соответствующие научные исследования проводились, как правило, в Европе или Северной Америке, то в последние годы подобные публикации все чаще появляются в самых различных странах Азии, Африки, Латинской Америки и Океании (соответствующий обзор представлен в разделе 3 настоящего издания). После падения «железного занавеса» специалисты из постсоветских государств начали все активнее осваивать методологии, методики, эвристики и темы, которые раньше были им недоступны по политическим причинам.
2) Политическая лингвистика, первый этап развития которой характеризовался преимущественным вниманием к тоталитарному дискурсу, а второй – к политическому дискурсу западных демократий, все активнее обращается к принципиально новым проблемам современного многополярного мира. Сфера научных интересов новой науки расширяется за счет включения в анализ новых аспектов взаимодействия языка, власти и общества (дискурс терроризма, дискурс «нового мирового порядка», политкорректность, социальная толерантность, социальная коммуникация в традиционном обществе, фундаменталистский дискурс и др.).
3) На современном этапе развития науки становится все более ясным, что политическая лингвистика, которую раньше объединял лишь материал для исследования (политическая коммуникация, «язык власти»), становится самостоятельным научным направлением со своими традициями и методиками, со своими авторитетами и научными школами. В этот период получает широкое распространение и признание название дисциплины (political linguistics, Politolinguistik), проводятся специальные научные конференции, публикуются многочисленные сборники исследований соответствующей тематики. Политическая лингвистика активно вбирает в себя эвристики дискурс-анализа и когнитивной методологии.
Более детальный обзор ведущих направлений современной политической лингвистики, сфер ее интересов и аспектов изучения политического дискурса представлен в последующих разделах.
1.2. Аспекты исследования политической коммуникации
В зависимости от поставленных задач и имеющегося текстового материала специалисты выбирают тот или иной аспект изучения политической коммуникации. Рассмотрим основные противопоставления, выявляющиеся при анализе конкретных публикаций.
1. Исследование языковых, текстовых или дискурсивных феноменов. В первом случае предметом внимания становится использование единиц, относящихся к тому или иному языковому уровню (лексика, фразеология, морфология, синтаксис). Наиболее заметны изменения в лексике и фразеологии. Каждый новый поворот в историческом развитии государства приводит к языковой «перестройке», создает свой лексико-фразелогический тезаурус, включающий также концептуальные метафоры и символы.
Во втором случае предметом исследования становятся текстовые единицы: при таком подходе специалисты изучают жанровые особенности политических текстов, их композицию, средства связи между частями, текстовые средства акцентирования смыслов и т. п. Значительное количество публикаций посвящено изучению специфики отдельных жанров и стилей политического языка. Языковеды изучают специфику парламентских дебатов, особенности митинговой речи, язык средств массовой информации. Лингвополитические исследования посвящены анализу настенных надписей, лозунгов, предвыборной полемики, политического скандала. Специально рассматриваются жанры протеста, поддержки, рационально-аналитические и аналитико-статистические жанры, юмористические жанры и виртуально ориентированные низкие жанры.
В третьем случае единицами исследования становятся коммуникативные стратегии, тактики и роли. В рамках данного направления анализируется коммуникативное поведение субъектов политической деятельности. Современные политические лидеры, стремясь добиться успеха у избирателей, нередко используют своего рода «речевые маски». Речевое поведение в значительной степени зависит от социально-коммуникативной роли политика, которая, в свою очередь, зависит от его социального статуса, от используемых стратегий, тактик и речевых приемов.
2. Исследование современного политического языка – историческое изучение политического языка. Специальные исследования показывают, что абсолютное большинство исследований политической метафоры выполняется на материале современного дискурса. Вместе с тем появляются публикации, в которых рассматриваются метафоры, характерные для иных политических периодов.
Такой ракурс рассмотрения позволяет получить ответы на вопросы о динамике метафорических систем и проследить, как эволюционирует система политических метафор в связи с изменением политической ситуации. В наиболее общем виде исследователь политической метафорики в исторической перспективе может столкнуться с двумя взаимодополняющими свойствами системы политических метафор: архетипичностью и вариативностью.
Первое свойство выражается в том, что система политических метафор имеет устойчивое ядро, не меняется со временем и воспроизводится в политической коммуникации на протяжении многих веков. Статичность политической метафорики послужила основой для первых опытов по теории политических метафор в XX в., но нередко это свойство абсолютизировалось в духе культурно-временного универсализма. Согласно такой точке зрения и в Древней Греции, и в средневековой Европе, и в любой стране современного мира политические метафоры остаются неизменными, отражают устойчивые детерминанты человеческого сознания или архетипы коллективного бессознательного.
По мере накопления практических исследований становилось очевидным, что политическая метафорика обладает диахронической вариативностью. В 1977 г. М. Осборн, основатель теории о неизменных архетипичных метафорах, опубликовал работу, в которой пересмотрел категоричность некоторых своих постулатов. М. Осборн пришел к выводу, что, несмотря на то что архетипичные метафоры используются во всех культурах и во все времена, развитие культуры, науки и техники может воздействовать на их частотность. Изучив 56 политических выступлений XIX–XX вв., он обнаружил, что технологический прогресс может уменьшать распространенность архетипичных метафор. Например, в XX в. резко уменьшилось количество метафорических образов, связанных с водой, в то время как в XIX в. речные и океанские метафоры были очень распространены.
Архетипичность политической метафорики получила оформленный характер в теории концептуальной метафоры, согласно которой механизмы метафоризации бессознательны и определяются физическим опытом взаимодействия человека с окружающим миром. Таким образом, важным основанием для метафорического универсализма стала анатомо-физиологическая общность представителей homo sapiens, до некоторой степени предопределяющая закономерности мышления. Вместе с тем критики теории концептуальной метафоры нередко забывают, что согласно теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона концептуальные метафоры согласованы с основными концептами той или иной культуры, что в принципе не только преодолевает недостатки культурного универсализма, но и не исключает диахронической вариативности политической метафорики.
Действительно, многие метафоры фиксируются исследователями в разных культурах и в разные времена. Так, метафоры болезней на протяжении долгого времени используются в разных государствах для представления Чужого, угрожающего здоровью общественного организма. К примеру, в эпоху королевы Елизаветы I и короля Якова I были очень распространены метафоры болезни Англии, а причины этих болезней общество усматривало в «чужеродных телах»: евреях, ведьмах, католиках. Подобные метафоры обнаруживаются и сотни лет спустя в риторике Адольфа Гитлера, и в современном политическом дискурсе, в котором метафоры болезни – значимое средство осмысления действительности и дискредитации политических оппонентов во многих странах. Конечно, сфера-мишень для морбиальных метафор варьируется в различные эпохи. Если в эпоху королевы Елизаветы католики могли метафорически представляться причинами заболеваний, то до реформы Генриха IV или в период правления Марии Кровавой вряд ли, но аргументативный потенциал сферы-источника активно используется в разные исторические эпохи и в разных странах.
Другим примером может служить антииммигрантский дискурс в США. Как показал американский исследователь Дж. О'Брайен, еще в начале XX в. для осмысления иммиграции использовались образы природных стихий, военного вторжения, животных, труднопереваемой пищи, т. е. метафоры, которые регулярно фиксируют американские исследователи в современной политической коммуникации.
Вместе с тем метафорическая система общественных представлений о политической реальности претерпевает со временем изменения. Эта вариативность системы политических метафор имеет два ракурса рассмотрения:
– корреляции между изменением политической ситуации и количеством метафор в политическом дискурсе;
– доминирование отдельных метафор и метафорических моделей в различные исторические периоды.
Отправной точкой для исследований первого направления послужила опубликованная в 1991 г. работа К. де Ландтсхеер [Landtsheer 1991], в которой с помощью методов контент-анализа было доказано, что между частотностью метафор и общественными кризисами существует взаимозависимость. Исследовав голландский политический дискурс за период 1831–1981 гг., К. де Ландтсхеер удалось показать, что количество метафор увеличивается в периоды общественно-политических кризисов. Эти наблюдения послужили подтверждением того, что метафора является важным средством разрешения проблемной ситуации, и впоследствии легли в основу комбинаторной теории кризисной коммуникации (CCC-theory). В очередном исследовании К. де Ландсхеер и Д. Вертессен, сопоставив метафорику бельгийского предвыборного дискурса с метафорикой дискурса в периоды между выборами, обнаружили, что количество метафор увеличивается в предвыборный период.
Второе направление в изучении вариативности политической метафорики определяется тем, что ученого интересует не степень метафоричности политического дискурса, а конкретные понятийные сферы, доминирующие метафоры той или иной эпохи, их динамика в связи с изменением политической ситуации. Например, политическая метафора «Государство – это организм» – одна из древнейших метафор человечества. Развертывание антропоморфной метафорической модели обнаруживается уже в древних священных текстах. В Ригведе описывается, что священство произошло из рта проточеловека, воины – из его рук, пастухи – из бедер, земледельцы – из ступней. В Ветхом Завете пророк Даниил, трактуя пророческий сон Навуходоносора, использует метафору человеческого тела. Прагматический потенциал политической антропоморфной метафоры использовался и в Древнем мире, и в текстах периода Средневековья. Например, Иоанн Солсберийский предлагал следующую метафорическую картину государства: принц – голова; органы управления – сердце; судьи – глаза, уши и язык; солдаты – руки; крестьяне – ступни ног; сборщики налогов – желудок. В Новое время политическую антропоморфную метафору использовали Ф. Сидней, Б. Барнс, Ф. Бэкон, Т. Гоббс и другие мыслители, и все-таки в эру индустриальной революции антропоморфную метафору значительно потеснили метафоры механизма.
Смена метафорики особенно заметна в периоды общественно-политических преобразований. В этом отношении заслуживают внимания работы американского ученого Р.Д. Андерсона, направленные на анализ динамики политической метафорики в период демократизации общества. Как предположил исследователь, при смене авторитарного дискурса власти демократическим дискурсом в массовом сознании разрушается представление о кастовом единстве политиков и их «отделенности» от народа. Дискурс новой политической элиты элиминирует характерное для авторитарного дискурса наделение власти положительными признаками, сближается с «языком народа», но проявляет значительную вариативность, отражающую вариативность политических идей в демократическом обществе. Когда люди воспринимают тексты политической элиты, они не только узнают о том, что политики хотят им сообщить о мире, но и о том, как элита соотносит себя с народом (включает себя в социальную общность с населением или отдалятся от народа).
Для подтверждения этой теории Р.Д. Андерсон обратился к анализу советских и российских политических метафор. Р.Д. Андерсон исследовал частотность нескольких групп метафор, по которым можно судить о том, как коммунистическая элита соотносит себя с остальным населением СССР. Среди них метафоры размера (большой, крупный, великий, широкий, титанический, гигантский, высокий и т. п.), метафоры превосходства и субординации (воспитание, задача, работник, строительство, образец). Оказалось, что частотность этих метафор уменьшалась по мере того, как население начинало самостоятельно выбирать представителей власти. В новых условиях на смену «вертикальным» метафорам пришли «горизонтальные» метафоры (диалог, спектр, левые, правые, сторонники, противники). С появлением ориентационных метафор левый и правый у населения появилась свобода политического выбора, возможность «горизонтальной» самоидентификации с политиками тех или иных убеждений, что, по мнению исследователя, служит свидетельством демократизации общества. Основываясь на этих данных, Р.Д. Андерсон приходит к выводу, что характерные для дискурса авторитарного периода метафоры гигантомании и патернализма присущи монархическому и диктаторскому дискурсу вообще, в силу чего пространственные метафоры субординации можно считать универсальным индикатором недемократичности общества.
Если использовать терминологию теории концептуальной метафоры, Р.Д. Андерсон исследовал ориентационные метафоры. Примером анализа динамики структурных метафор в период перехода к демократии могут служить работы польского исследователя Збигнева Хейнтзе. Как указывает ученый, накануне демократических преобразований в Польше отмечалась резкая милитаризация языка коммунистической пропаганды. Множество метафор из военной сферы явилось реакцией коммунистической элиты на активизацию демократического движения, стало средством формирования образа коварного врага, с которым народ и коммунистическая партия должны вести войну. Метафоры войны не исчезли и после прихода к власти Л. Валенсы. Поляки продолжали атаковать последний бастион коммунизма, захватывать позиции, предпринимать тактические действия и торпедировать законопроекты, но уже не в такой степени, как раньше. Желание борьбы ослабло, а общество стремилось заменить все опустошающую войну на здоровое соперничество, чему в немалой степени способствовал переход к многопартийной системе.
Политическую систему Польши в первые годы переходного периода можно назвать системой «многопартийной раздробленности». В те времена даже появился анекдот: «Где два поляка – там три политические партии». Такое положение дел стало поводом для упорной борьбы, напоминающей о дарвинистской борьбе за существование, целью которой было попасть в парламент и удержаться в нем. Ситуация изменилась с введением 5 %-ного барьера, что заставило партии объединяться и ограничило число политических объединений. Открытая враждебность и непримиримость пошли на убыль, и политики стали искать не врагов, а союзников, начали объединять силы и вспомнили о «компромиссе» и «консенсусе». Соответственно в политическом дискурсе этого периода отмечается преобладание метафор разумного соперничества, особенно связанных со спортом и игрой.
Отдельный интерес вызывает исследование динамики политической метафоры в рамках одной исходной понятийной сферы. Британский лингвист А. Мусолфф проследил «эволюцию» метафоры «ЕВРОПА – ЭТО ДОМ» за последнее десятилетие XX в. на материале английских и немецких газет. Автор выделил два периода в развитии метафоры дома. 1989–1997 гг. – это оптимистический период, когда разрабатывались смелые архитектурные проекты, укреплялся фундамент, возводились столбы. По мере роста противоречий в 1997–2001 гг. начинают доминировать скептические или пессимистические метафоры: в евродоме начинается реконструкция, на строительной площадке царит хаос, иногда евродом даже превращается в горящее здание без пожарного выхода. Сравнивая метафоры второго периода, автор отмечает, что немцы были менее склонны к актуализации негативных сценариев (необходим более реалистичный взгляд на строительство), в то время как англичане чаще отражали в метафоре дома пессимистические смыслы (немцы – оккупанты евро-дома или рабочие, считающие себя архитекторами).
Динамика политических метафор прослеживается и на примере более короткого временного интервала. Ирландские лингвисты Х. Келли-Холмс и В. О'Реган рассмотрели концептуальные метафоры в немецкой прессе как способ делегитимизации ирландских референдумов 2000 и 2001 г. Как известно, в 2000 г. в Ницце было достигнуто соглашение об институциональных изменениях, необходимых для принятия новых стран в ЕС. Ирландия – единственная страна ЕС, в конституцию которой нужно было внести поправки, чтобы ратифицировать этот договор. Ирландское правительство считало вопрос решенным, однако на первом референдуме ирландский народ проголосовал против изменения конституции, что не замедлило отразиться в метафорах немецкой прессы. До проведения референдума ирландско-немецкие отношения носили позитивный характер и метафорически представлялись в немецкой прессе как любовные отношения. После референдума метафоры любовных отношений исчезли, но появились негативные криминальные образы.
Зарубежные исследования политической коммуникации в исторической перспективе свидетельствуют о наличии двух свойств системы политических метафор: архетипичности и вариативности. Вариативность системы политических метафор проявляется в динамике уровня метафоричности политического дискурса и в изменении доминирующих метафорических моделей в определенные исторические эпохи и другие временные интервалы.
3. Исследование общих закономерностей политической коммуникации – изучение идиостилей различных политических лидеров, политических направлений и партий. Значительный интерес представляют публикации, посвященные идиолектам ведущих политических лидеров. Языковеды обращаются к «речевым портретам» ведущих политиков в сопоставлении с политическими портретами российских политических лидеров прежних эпох. Специалисты стремятся также охарактеризовать роль идиостиля в формировании харизматического восприятия политика, обращаются к особенностям речи конкретных политических лидеров.
В отдельную группу следует выделить исследования, посвященные взаимосвязи политической позиции и речевых средств ее выражения. В частности обнаружено, что политические экстремисты (как правые, так и левые) более склонны использовать метафорические образы. Легко заметить повышенную агрессивность речи ряда современных политиков, придерживающихся националистических взглядов.
Перспективы исследования концептуальной метафоры в идиолектах политиков были намечены еще в 1980 г. Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, которые рассмотрели милитарную метафору американского президента Дж. Картера.
В рамках исследований этого направления заслуживают внимания попытки найти практическое подтверждение того, как метафоры в речи политика воздействуют на массовое сознание и побуждают к принятию определенных политических решений. Так, Д. Берхо задается вопросом о причинах высокой популярности аргентинского президента Х.Д. Перона. Автор сопоставляет метафорику аргентинской политической элиты, отражающую презрение высших слоев общества к основной массе населения, с метафорами идиолекта
Х.Д. Перона. А. Берхо показывает, как регулярное развертывание метафоры Politics Is Work (Политика – это труд) в политическом дискурсе принесло будущему президенту огромную популярность среди миллионов лишенных избирательских прав и работающих в тяжелых условиях аргентинцев, которые и привели Х.Д. Перона к власти.
Особый интерес представляет сопоставление метафор в коммуникативной практике политиков из разных государств. В работах Дж. Чартериса-Блэка, изучающего риторику британских и американских политиков, показано, как метафоры регулярно используются в выступлениях политических лидеров США и Великобритании для актуализации нужных эмотивных ассоциаций и создания политических мифов о монстрах и мессиях, злодеях и героях.
Подобные исследования позволяют выявить предпочтения конкретных политиков в выборе той или иной понятийной области для описания политической действительности. К примеру, «железная леди» М. Тетчэр склонна к военной метафорике, Дж. Буш-младший активно использует криминальные образы, а С. Берлускони отдает предпочтение футбольным метафорам.
Выбор политиком определенной понятийной области для описания своего видения ситуации имеет немаловажное значение. Одну и ту же ситуацию можно представить как военный конфликт, в котором нужно во чтобы бы то ни стало разгромить противника, или как поломку транспортного средства, которую можно устранить при слаженной работе всех пассажиров. Метафоры политиков задают способ осмысления ситуаций, подталкивая слушателя к выбору определенного сценария для понимания и оценки этой ситуации.
Отдельное внимание зарубежных исследователей привлекает вопрос об использовании политиками «интертекстуальных метафор» (В. Кеннеди, Т. Рорер, И. Хеллстен, Й. Цинкен). Подобные исследования в основном направлены на выявление способов убеждения адресата и ведения полемики посредством использования в своей речи интертекстуальных референций. Так, Т. Рорер показал, что в период иракского кризиса 1991 г. в американском политическом дискурсе использовались различные модели для осмысления кризиса и путей его преодоления. Если Дж. Буш апеллировал к событиям Второй мировой войны, то его противники (сенаторы-демократы) предпочитали вспоминать о войне во Вьетнаме.
4. Исследование институционального, медийного и иных разновидностей политического дискурса. При отборе текстовых материалов (корпуса) для исследования в политической лингвистике существуют два полярных подхода – узкий и широкий. В первом случае в качестве источников исследования используются только тексты, непосредственно созданные политиками и использованные в политической коммуникации. Такие тексты относятся к числу институциональных и обладают весьма существенной спецификой.
При широком подходе к отбору источников для исследования политической коммуникации используются не только тексты, созданные собственно политиками, но и иные, посвященные политическим проблемам. Как отмечает П. Серио, не существует высказывания, «в котором нельзя было бы не увидеть культурную обусловленность и которое нельзя было бы тем самым связать с характеристиками, интересами, значимостями, свойственными определенному обществу или определенной социальной группе, их признающей в качестве своих. В любом высказывании можно обнаружить властные отношения» [Серио 2002: 21]. При этом важно учитывать, что содержание сообщения нередко соотносится со сферой политики имплицитно. Как отмечает Дж. Юл, исследование дискурса направлено на изучение того, что не сказано или не написано, но получено (или ментально сконструировано) адресатом в процессе коммуникации. Необходимо обнаружить за лингвистическими феноменами структуры знания (концепты, фоновые знания, верования, ожидания, фреймы и др.), т. е., исследуя дискурс, «мы неизбежно исследуем сознание говорящего или пишущего» [Yule 2000: 84].
При полевом подходе специалисты разграничивают прежде всего институциональный политический дискурс, в рамках которого используются только тексты, созданные политиками (парламентские стенограммы, политические документы, публичные выступления и интервью политических лидеров и др.), и массмедийный (медийный) политический дискурс, в рамках которого используются преимущественно тексты, созданные журналистами и распространяемые посредством прессы, телевидения, радио, Интернета.
К периферии политического дискурса (в зоне его пересечения с официально-деловым дискурсом) относится аппаратная коммуникация, в рамках которой создаются тексты, предназначенные для сотрудников государственного аппарата или сотрудников тех или иных общественных организаций. Это разного рода инструкции, правила поведения для сотрудников, приказы и распоряжения и др.
Еще одну часть политического дискурса составляют тексты, созданные «рядовыми гражданами», которые, не будучи профессиональными политиками или журналистами, эпизодически участвуют в политической коммуникации. Это могут быть разного рода письма и обращения, адресованные политикам или государственным учреждениям, письма в СМИ, разного рода надписи (в том числе на стенах), анекдоты, бытовые разговоры, связанные с политическими проблемами, и др. Подобные тексты находятся в сфере пересечения политического и бытового дискурсов.
К периферии политического дискурса относятся также тексты, в которых используются элементы художественного повествования. Это разного рода «политические детективы», «политическая поэзия» и тексты весьма распространенных в последние годы политических мемуаров. Особую часть политического дискурса составляют посвященные политике тексты научной коммуникации.
Границы между шестью названными разновидностями политического дискурса не вполне отчетливы, нередко приходится наблюдать их взаимное пересечение.
Большинство зарубежных политлингвистических исследований проводится на основе анализа медийного дискурса. Массмедийный политический дискурс создается преимущественно профессиональными журналистами, но в нем так или иначе могут отражаться коммуникативные практики политиков и даже рядовых граждан. Существует значительная группа зарубежных публикаций, в которых политическая коммуникация изучается исключительно на материале институционального дискурса, и немногочисленную группу составляют исследования, выполненные исключительно на материале текстов, авторы которых не относятся к числу профессиональных политиков или журналистов.
Еще одна классификация источников изучения политической коммуникации основана на разграничении устной и письменной речи. К числу устных источников относятся, в частности, материалы парламентских дебатов, выступления политических лидеров на встречах с избирателями, митингах, официальных церемониях и др. Письменные источники – это программы политических партий и движений, листовки, лозунги, послания президента парламенту, выступления политиков в прессе и др. Различаются также материалы непосредственного диалога и материалы, предназначенные для трансляции при посредстве СМИ.
5. Сопоставительные и несопоставительные исследования. Совершенно особое место занимают публикации, посвященные сопоставительному анализу политической коммуникации в различных государствах. В каждой стране есть национальные особенности в способах восприятия и языкового представления политической действительности, что объясняется национальной ментальностью и историческими условиями формирования политической культуры. Сопоставление политической коммуникации различных стран и эпох позволяет отчетливее дифференцировать «свое» и «чужое», случайное и закономерное, «общечеловеческое» и свойственное только тому или другому национальному дискурсу. Все это способствует лучшему взаимопониманию между народами и межкультурной толерантности.
Для верификации этих положений рассмотрим исследования по политической метафорике в политических дискурсах стран Востока, составляющих контраст с большинством исследований, направленных на анализ политической метафорики в цивилизационном пространстве Запада.
Действительно, метафоры, распространенные в политическом дискурсе стран Запада, довольно традиционны и для политической коммуникации Востока. Иллюстрирующим примером могут служить работы лингвистов из Азии. К примеру, Дж. Вэй продемонстрировала, что в Тайване политические сущности метафорически представляются в понятиях военных действий, семейных отношений, зрелищных представлений, торговли и других понятийных сфер. Эти данные вполне сопоставимы с результатами похожих исследований, проведенных специалистами из разных стран на примере политических дискурсов США и государств Европы.
Схожая ситуация наблюдается и при рассмотрении метафор в политическом дискурсе Сингапура. В частности, Л. Ви показал, что разъединение Сингапура и Малайзии и возможное воссоединение двух государств в будущем осмыслялось в метафорах супружеских отношений, что является довольно устойчивым способом описания политических ситуаций подобного рода в политическом дискурсе Великобритании, Германии, Польши и других западных стран.
Метафоры египетского политического дискурса в их взаимосвязи с семиотикой арабской культуры и текущей политической ситуацией изучены И. Насальски. Как показывает польский исследователь, египетские метафоры отражают сложности переходного периода, в котором становление демократического мировоззрения переплетается с традиционными ценностями и символами. Вместе с тем доминирующие арабские метафоры (беременность, рождение ребенка, болезнь, пробуждение, дорога и др.) вполне согласуются с аналогичными образами в традиционной политической метафорике западной культуры.
Эти примеры свидетельствуют о том, что в политической метафорике Запада и Востока существует много общего. Вместе с тем, несмотря на активную глобализацию и вестернизацию традиционных обществ, на цивилизационном пространстве Востока остается место для метафорического своеобразия. Это своеобразие вызывает особый интерес, поскольку, с одной стороны, служит подтверждением перспективности антропоцентрически ориентированных исследовательских программ, активно реализуемых в лингвокультурологичес-ких и когнитивных изысканиях, а с другой – обладает несомненной практической ценностью. Знания об особенностях концептуализации мира в иной культуре становятся необходимым условием для межнационального взаимопонимания, ценным приобретением для специалистов из многих областей, так или иначе связанных с межкультурной коммуникацией.
Ряд примеров восточной специфики метафорического осмысления политики находим в монографии Б. Льюиса «Язык ислама». Если на Западе глав государств часто сравнивают с капитаном или рулевым корабля, то метафоры лидерства в исламе связаны с искусством верховой езды. Мусульманский лидер никогда не стоял за штурвалом, но часто сидел в седле и держал ноги в стременах. Также его власть никогда не ассоциировалась с образом солнца, потому что испепеляющее солнце не радует жителей Востока. Мусульманский лидер закрывает подданных благодатной тенью, спасающей от палящего солнца, и одновременно сам является «тенью Бога на земле».
Действительно, если мы обратимся к метафорам стран Запада и России, то обнаружим, что в них метафора монарха как солнца довольно традиционна. Достаточно вспомнить французского Короля Солнце (Людовика XIV) или собирательный образ древнерусского князя Владимира Красное Солнышко.
Также интересны наблюдения Б. Льюиса по поводу ориентационных метафор. На Ближнем Востоке властные отношения в большей степени представляются в горизонтальных, нежели вертикальных понятиях. Человек во власти не бывает внизу или вверху, но внутри или снаружи, рядом или далеко. В исламском обществе власть и статус больше зависят от близости к правителю, чем от ранга во властной иерархии. Правители Ближнего Востока чаще предпочитали дистанцироваться от критически настроенного окружения, чем понижать их в ранге, или отправляли неугодных в ссылку, вместо того чтобы бросить их в подземелье. Разумеется, речь не идет о бунтарях и явных мятежниках, с которыми и на Западе, и на Востоке власть имущие поступали примерно одинаково.
Особенно рельефно специфика политических метафор Востока проявляется в гендерных стереотипах исламских государств. Сопоставление исследований политической метафорики Запада и Востока позволяет сделать вывод о том, что метафорическая картина политической действительности часто структурируется в соответствии с противопоставлением мужского и женского начал, но оценочные смыслы варьируются в политическом дискурсе гетерогенных культурных сообществ.
Разумеется, Восток – это не только исламские государства, и при обращении к другим его субрегионам обнаруживаются другие культурно обусловленные концептуальные особенности. К примеру, китайские метафоры брака несут в себе отличную от европейской концептуальную информацию. В китайском обществе браку предшествует серия замысловатых переговоров, направленных на защиту интересов обеих семей, а желания жениха и невесты – вопрос второстепенный. Это сближает рассматриваемые китайские метафоры с метафорами торговой сделки, но с моральным основанием: брак рассматривается китайцами как выполнение обязательств перед предками.
Причины своеобразия рассмотренных метафор довольно прозрачны. Их оценочные смыслы эксплицитно связаны с климатическими условиями того ареала, на котором формировались культуры Востока, с культурными традициями, предписывающими соответствующие стереотипы поведения, и другими факторами, имеющими многовековую историю. Вместе с тем система политических метафор даже в самом традиционном обществе представляет собой не раз и навсегда заданную систему концептуальных координат для осмысления реальности, а концептосферу, меняющуюся в зависимости от экстралингвистической действительности. Изменения в инвентаре политических метафор стран Востока связаны как с внутренними потребностями, так и с инокультурным влиянием.
Довольно интересны наблюдения Дж. Вэй относительно традиционной китайской цветовой символики и ее взаимодействия с новообразованиями в политической метафорике. По данным исследователя, в современном тайваньском политическом дискурсе получила широкое распространение метафора шляпы как символа власти. При этом важное значение имеет ее цвет: красный цвет связан со взяточничеством, золотой – с финансовыми скандалами, черный – с культивированием непотизма, желтый – с прелюбодеянием. Таким образом, политик, который, например, носит красную шляпу, косвенно обвиняется автором метафоры в коррупции.
Разумеется, материалом для сопоставления могут служить политические дискурсы более близких в историко-культурном отношении государств. К примеру, Дж. Чартерис-Блэк, сопоставляя метафорику в инаугурационных обращениях американских президентов и политических манифестах лейбористов и консерваторов второй половины XX в., отметил, что в обоих корпусах проанализированных текстов распространены метафоры ПОЛИТИКА – ЭТО КОНФЛИКТ, ПУТЕШЕСТВИЕ И ЗДАНИЕ. В то же время метафора огня обнаруживается только в американском корпусе. Некогда первый президент США Дж. Вашингтон употребил образ огня в своей речи о свободе нации. С тех пор метафорическая связь между огнем и свободой стала источником для интертекстуальных референций в президентских обращениях. С другой стороны, метафоры растений были зафиксированы только в британском корпусе, что связывается с традиционной любовью британцев к садоводству.
Сопоставление позволило также получить интересные данные о заимствованиях концептуальных метафор. Метафора ПОЛИТИКА – ЭТО РЕЛИГИЯ регулярно использовалась и до сих пор используется американскими президентами, в то время как в британских манифестах эта метафора появляется только в последнее время.
Продолжение сопоставительных исследований политического дискурса в различных странах позволит лучше разграничить, с одной стороны, закономерности, общие для всего цивилизованного мира или какой-то его части, а с другой – специфические признаки того или иного национального политического дискурса.
В итоге этого обзора следует подчеркуть, что многообразие аспектов исследования политической коммуникации отражает тот интерес, который проявляется к политической речи, и то многообразие материала, направлений анализа и позиций, которые характерны для современной политической лингвистики. В наиболее общем виде каждое конкретное современное исследование в области отечественной политической лингвистики можно охарактеризовать с использованием следующей системы не всегда эксплицитно выраженных противопоставлений.
1. Метод (когнитивный, риторический, дискурсивный и др.).
2. Дескриптивное или критическое описание.
3. Изучение языковых, текстовых или дискурсивных феноменов.
4. Синхронное или диахронное описание.
5. Изучение общих закономерностей политической коммуникации или отдельных идиостилей.
6. Институциональный, медийный или иной дискурс.
7. Сопоставительное или несопоставительное исследование.
Раздел 2 Методология политической лингвистики
В современной зарубежной науке сложилось несколько основных направлений в исследовании политической коммуникации. Первое из них развивает традиционные взгляды на изучение политического языка, восходящие еще к античной риторике. В этом случае языковые единицы воспринимаются как форма для передачи мысли, как способ украсить мысль, сделать ее более доступной и прагматически значимой. При таком подходе основное внимание уделяется приемам создания и инсценирования политического текста.
В основе второго направления лежит когнитивный подход, в соответствии с которым речевая деятельность воспринимается как отражение существующей в сознании людей картины мира, как материал для изучения национальной, социумной и индивидуальной ментальности. Ведущая роль в становлении этого направления принадлежит Джорджу Лакоффу, однако он создавал свою теорию отнюдь не на пустом месте, поскольку когнитивный подход к изучению политического языка возник значительно раньше.
В основе третьего направления лежит дискурсивный подход, в соответствии с которым политический текст изучается в дискурсе, т. е. важное значение придается условиям создания и функционирования соответствующего текста, его взаимодействию с другими текстами, с национальной культурой и традициями, с политической ситуацией в регионе, стране и мире.
Рассмотрим специфику названных научных направлений на материале исследований, посвященных политической метафоре.
2.1. Когнитивное направление в политической лингвистике
Центральное место в когнитивной лингвистике занимает проблема категоризации окружающей действительности, важную роль в которой играет метафора как проявление аналоговых возможностей человеческого разума. Метафору в современной когнитивистике принято определять как (основную) ментальную операцию, как способ познания, категоризации, концептуализации, оценки и объяснения мира. Мы взяли в скобки слово основную, потому что, как будет показано ниже, не все исследователи когнитивной метафоры придают ей статус основной операции.
Важной предпосылкой становления когнитивного подхода к исследованию метафоры стала смена научных представлений о ее онтологическом (метафора – ментальный феномен) и эпистемологическом (метафора – способ познания мира) статусах.
На феномен метафоричности мышления обращали внимание Д. Вико, Ф. Ницше, А. Ричардс, К. Льюис, С. Пеппер, Ф. Барлетт, М. Бирдсли, Х. Ортега-и-Гассет, Э. МакКормак, П. Рикер, Э. Кассирер, М. Блэк, М. Эриксон, Дж. Джейнс и другие исследователи.
Становлению когнитивного подхода к метафоре содействовали не только собственно когнитивно ориентированные исследования. Некоторые положения современной когнитивной теории метафоры были предвосхищены работами в русле традиционной риторики. Так, еще в 1967 г. М. Осборн указывал на то обстоятельство, что человек склонен метафорически ассоциировать власть с верхом, а все нежелательные символы помещать внизу пространственной оси, что, по сути, соответствует классу ориентационных метафор в теории концептуальной метафоры, а в разработанной М. Осборном теории архетипичных метафор просматриваются истоки теории «телесного разума». Подробный анализ «риторических истоков» когнитивной теории метафоры представлен в работах Э.В. Будаева и А.П. Чудинова [Будаев, Чудинов 2006а, 2006б].
Когнитивно и риторически ориентированные исследования способствовали становлению когнитивного подхода к метафоре, но именно в книге Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Metaphors We Live by» (1980) была разработана теория, которая привнесла системность в описание метафоры как когнитивного механизма и продемонстрировала большой эвристический потенциал применения теории в практическом исследовании. Как и их предшественники, авторы постулировали, что метафора не ограничивается лишь сферой языка, а сами процессы мышления человека в значительной степени метафоричны. Метафора как феномен сознания проявляется не только в языке, но и в мышлении, и в действии. «Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей метафорична» [Лакофф, Джонсон 2004: 25]. Такой подход позволил окончательно вывести метафору за рамки языковой системы и рассматривать ее как феномен взаимодействия языка, мышления и культуры. В более поздней работе «The Contemporary Theory of Metaphor» Дж. Лакофф строго разграничил метафорическое выражение и концептуальную метафору, подчеркивая, что «локус метафоры – в мысли, а не в языке» [Lakoff 1993: 203].
Согласно теории концептуальной метафоры в основе метафоризации лежит процесс взаимодействия между структурами знаний (фреймами и сценариями) двух концептуальных доменов – сферы-источника (source domain) и сферы-мишени (target domain). В результате однонаправленной метафорической проекции (metaphorical mapping) хорошо известные человеку элементы сферы-источника структурируют менее понятную для него концептуальную сферу-мишень, что составляет сущность когнитивного потенциала метафоры. Базовым источником знаний, составляющих концептуальные домены, является опыт непосредственного взаимодействия человека с окружающим миром, причем диахронически первичным является физический опыт, организующий категоризацию действительности в виде простых когнитивных структур – «схем образов». Метафорическая проекция осуществляется не только между отдельными элементами двух структур знаний, но и между целыми структурами концептуальных доменов. Предположение о том, что при метафорической проекции в сфере-мишени частично сохраняется структура сферы-источника, получило название гипотезы инвариантности (Invariance Hypothesis). Благодаря этому свойству становятся возможными метафорические следствия (entailments), которые в метафорическом выражении эксплицитно не выражены, но выводятся на основе фреймового знания. Таким образом, когнитивная топология сферы-источника в некоторой степени определяет способ осмысления сферы-мишени и может служить основой для принятия решений и действия.
Конвенциональные метафорические соответствия между структурами знаний (концептуальные метафоры) согласованы с определенной культурой и языком. Например, концептуальная метафора ARGUMENT IS WAR (СПОР – ЭТО ВОЙНА) согласована с базовыми ценностями культуры носителей английского языка. Метафора – не столько средство описания спора в понятиях войны, сколько устойчивый способ осмысления спора: можно проиграть или выиграть спор, оппонент воспринимается как противник, спорящие разрабатывают стратегии, занимают позиции, «расстреливают» (shoot down) аргументы противника и т. д. Вместе с тем, можно «представить культуру, в которой спор рассматривается как танец, участники – как танцоры, а цель заключается в гармоническом и эстетически привлекательном танце», а не в победе над противником [Лакофф 2004: 26–27]. Концептуальные метафоры «являются неотъемлемой частью культурной парадигмы носителей языка» [Lakoff 1993: 210], укоренены в сознании людей и настолько привычны, что нередко не осознаются как метафоры.
Многообразие современных исследований по концептуальной метафоре свидетельствует не только о непрекращающемся, но и растущем интересе к теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Утверждение о том, что концептуальные метафоры охватывают все сферы человеческого опыта и обладают значимым когнитивным потенциалом, на сегодняшний момент подкрепляется многочисленными исследованиями. Особенное распространение получили исследования концептуальной метафоры в сфере политической коммуникации.
Перспективы применения когнитивных эвристик к политическому дискурсу были намечены Дж. Лакоффом и М. Джонсоном. Помимо общей характеристики теории концептуальной метафоры, американские исследователи рассмотрели следствия милитарной метафоры Дж. Картера и показали, что, казалось бы, совершенно лишенная эмоциональной оценки метафора ТРУД – ЭТО РЕСУРС позволяет скрывать антигуманную сущность экономической политики государств, как с рыночной, так и с плановой экономикой.
На современном этапе исследователей политической метафоры особенно интересуют два типа корреляции метафорических выражений и сознания человека. С одной стороны, корпусные исследования метафор позволяют выявить структуры «коллективного подсознательного», которые не выражены эксплицитно. Например, А.Н. Баранов с помощью метафорического анализа показал, что, несмотря на эксплицитное неодобрение взяточничества, российские политики и предприниматели используют преимущественно органистическую метафору и воспринимают взяточничество как естественное положение дел [Баранов 2004]. Этот аспект можно сформулировать как «сознание (подсознательное) определяет метафоры» и соответственно анализ метафор – это анализ концептуальных структур. Вместе с тем прагматический потенциал метафор сознательно используется в политическом дискурсе для переконцептуализации картины мира адресата. Этот подход можно выразить в формуле «метафоры определяют сознание». Первый аспект рельефно проявляется в исследованиях стертых метафор, второй – при анализе ярких, образных метафор, хотя жесткого разграничения, конечно же, нет.
Исследователи сходятся во мнении, что политическая метафора – значимый инструмент манипуляции общественным сознанием. Вместе с тем, как показал еще Дж. Лакофф [Lakoff 1991], предлагаемые политиками метафоры лишены аргументативной силы, если они не согласуются с концептуальными прототипами того или иного общества. В этом отношении показательна работа П. Друлака [Drulak 2005], в которой автор анализирует кризис словацко-чешских отношений накануне распада Чехословакии. В 1991 г. чешский премьер-министр Петр Питхарт, пытаясь ослабить националистические разногласия, выступил по телевидению с речью, в которой он признал, что в прошлом к словакам относились не совсем справедливо, и предположил, что обе нации могли бы в будущем жить в своего рода «двойном доме» (DVOJ DOMEK). Метафора «двойного дома», не использовавшаяся до этого в чехословацком политическом дискурсе, вызвала бурные споры, а менее чем через год лидеры Чехии и Словакии пришли к решению о невозможности дальнейшего сосуществования в рамках одного государства. Следуя за П. Чилтоном и Дж. Лакоффом, исследователь отмечает, что метафора дома как контейнера с четким разграничением внутреннего и внешнего пространств доминировала в осмыслении государства на протяжении столетий. Предложенный политиком концепт должен был стать альтернативой представлениям о едином чешском доме или двух отдельных домах для каждой нации, но П. Питхарт не смог объяснить, как выглядит такой «двойной дом», поэтому ни чехи, ни словаки ее просто не поняли и предпочли прототипический вариант собственного дома для каждой нации.
Как показывает представленный обзор, когнитивный подход к анализу коммуникации занимает ведущее положение в современной политической лингвистике, но очень многие аспекты когнитивной теории по-прежнему остаются дискуссионными.
2.2. Риторическое направление в политической лингвистике
К риторическому направлению в изучении политического дискурса принадлежат специалисты, стремящиеся использовать традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя методики (Р. Айви, Р.Д. Андерсон, Р. Карпентер, М. Осборн, В. Риккерт, С. Томпсон и др.). Следует согласиться с тем, что новизна методики не гарантирует высокого качества исследования, что еще не до конца исчерпаны возможности традиционных методик изучения политической коммуникации. Вместе с тем наблюдается и несомненное развитие риторических методик.
Риторическое направление в изучении политической лингвистики возникло значительно раньше, чем когнитивное. Одним из первопроходцев в изучении политической метафорики по праву считается Майкл Осборн, чьи работы по архетипичным метафорам послужили точкой отсчета для исследовательской традиции изучения метафор в риторическом направлении политической лингвистики. Исследовав обращения политиков к электорату, М. Осборн пришел к выводу, что в политической речи независимо от времени, культуры и географической локализации коммуникантов неизменно присутствуют архетипичные метафоры (archetypal metaphors). Политики, желающие в чем-то убедить адресата, используют образы природного цикла, света и тьмы, жары и холода, болезни и здоровья, мореплавания и навигации. Такие метафоры опираются на универсальные архетипы и служат основой для понимания людьми друг друга и в то же время создают основу для политического воздействия и убеждения. Основываясь на результатах своих исследований, М. Осборн сформулировал шесть постулатов функционирования архетипичных метафор в политической коммуникации:
1. Архетипичные метафоры используются чаще, чем свежие метафоры.
2. Архетипичные метафоры одинаковы во все времена и во всех культурах и независимы от конъюнктурных условий их актуализации.
3. Архетипичные метафоры укоренены в непосредственном общечеловеческом опыте.
4. Архетипичные метафоры соотносятся с основными человеческими потребностями.
5. В большинстве своем архетипичные метафоры оказывают воздействие на преобладающую часть аудитории.
6. Архетипичные метафоры часто встречаются в самых важных частях самых важных политических обращений в любом обществе.
Позже М. Осборн скорректировал широту выводов и статичность предлагаемой картины и пересмотрел категоричность некоторых постулатов в сторону эволюционизма, но исследователи политической метафоры в русле риторического направления опирались на полученные М. Осборном выводы и сохранили в своих исследованиях интерес к архетипичным метафорам в политической риторике, особенно в выступлениях крупных политических деятелей (К. Джемисон, С. Перри, В. Риккерт).
Вполне закономерно, что постулаты М. Осборна претерпевали изменения и уточнения. Усилия исследователей риторического направления были направлены не только на поиск архетипичных, т. е. универсальных метафор и их вариаций, но и на выявление культурно обусловленной специфики политической метафорики. Поиску ключевых культурных метафор, использующихся на протяжении длительного периода времени, посвящено исследование Рональда Карпентера [Carpenter 1990]. Исследователь рассмотрел американский публичный дискурс (со времен Американской революции до середины 80-х годов XX в.), так или иначе имеющий отношение к участию США в войнах, и обнаружил, что во многих американских политических обращениях американские солдаты представляются как frontiersmen – люди, живущие или работающие в приграничной зоне. Ранняя история США – это история продвижения европейских поселенцев с восточного побережья на Запад, сопровождавшегося конфликтами с Британской метрополией и военными столкновениями с индейцами. Образ сильного и смелого человека из приграничной зоны (frontiersman), «охотника из Кентукки», «воюющего с западными индейцами» на протяжении долгого времени используется для привнесения положительной оценки в образ американского солдата. И для врага также находятся соответствующие исторические аналогии. Например, в конце 1890-х гг. президент Т. Рузвельт сравнивал вооруженных филиппинцев (во время конфликта с американскими войсками) с команчами, сиу и апачами.
Много внимания уделялось метафорике милитаристского дискурса. Такие исследования, в частности, показали, что в американской политической коммуникации устойчивы метафоры дегуманизации врага; религиозно окрашенные метафоры противостояния добра и зла; метафоры, апеллирующие к американской военной истории (Р. Айви, Дж. Йенсен, М. Медхерст, Д. Хейзи).
Помимо архетипичных и специфичных политических метафор внимание исследователей в XX в. было направлено на анализ аргументативного потенциала политической метафорики. По понятным причинам материалом для таких исследований служили метафоры в выступлениях победивших на выборах политиков (Р. Айви, С. Дафтон, X. Стелцнер). Вместе с тем метафоры в идиолектах политиков, оппозиционных существующей власти и претендующих на нее, также рассматривались как важный материал для исследования метафорической аргументации в целом (Дж. Блэнкеншип, Д. Генри).
Анализ архетипичных метафор в идиолектах политиков был направлен не только на поиск подтверждений того, что метафоры обладают значительным аргументативным потенциалом, но и на выявление причин прагматических неудач. Как показывает X. Стелцнер, американский президент Дж. Форд объявил, что намерен вести войну с инфляцией, но не смог проводить соответствующую политику и «доказать подлинность однажды произнесенной метафоры, которая требовала от него больше, чем он хотел или мог сделать» [Stelzner 1977: 297].
При всей важности разрабатываемых в рамках политической лингвистики лингвопрагматических аспектов функционирования метафоры они не исчерпывают сложности феномена политической метафоры. Примечательно, что по мере становления когнитивного подхода исследования политической метафоры, декларируемые как риторические, по существу, обращались к анализу метафоры как когнитивному феномену.
В современных исследованиях, относящихся к риторико-прагматическому направлению в исследовании политической метафоры, прослеживаются две тенденции. В первом случае лингвисты, не ссылаясь на исследования по когнитивной метафоре, заимствуют некоторые идеи и термины когнитивной лингвистики. Примером могут служить исследования тактик «риторического фрейминга». Так, В. Бенуа рассмотрел такую тактику на примере анализа метафор в предвыборных обращениях Б. Клинтона и Б. Доула 1996 г. Обращаясь к избирателям, Б. Доул заявил о необходимости построить «мост к прошлому», в котором когда-то царили стабильность и спокойствие. Две недели спустя его оппонент пообещал избирателям помочь построить «мост в будущее». Б. Клинтон указал на преимущества своего видения перспектив развития страны и выставил свою позицию в более выгодном свете в рамках метафорического фрейма оппонента. При другом подходе исследователи не используют терминологию когнитивной науки, но, разрабатывая прагматические аспекты политической метафорики, рассматривают метафору и как значимый инструмент речевого воздействия, и как феномен, отражающий важные характеристики общественного сознания.
Для более глубокого понимания проблем взаимодействия и даже конкуренции риторических и когнитивных исследований особенно показательно сопоставление метафорического анализа одних и тех же событий в обоих научных направлениях. В 1991 г. Дж. Лакофф опубликовал широко сейчас известное исследование об американских метафорах, которые использовались для оправдания первой войны в Персидском заливе. Ведущую роль в обосновании необходимости войны играли метафоры ПОЛИТИКА – это БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО – это ЧЕЛОВЕК, ПОЛИТИКА – это АЗАРТНАЯ ИГРА; не меньшую роль в оправдании играла «сказка о справедливой войне», основу которой составляла классическая схема НЕВИННАЯ ЖЕРТВА (Кувейт), ЖЕСТОКИЙ ЗЛОДЕЙ (Ирак) и ДОБЛЕСТНЫЙ СПАСИТЕЛЬ (Соединенные Штаты). В арабском мире популярной была семейная метафора: ВОЙНА между Кувейтом и Ираком – это ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ, следовательно, старший брат (ИРАК) имеет полное право «поучить» младшего брата (КУВЕЙТ). Всякое вмешательство чужаков в семейные дела – совершенно бессмысленно, братья во всем сами разберутся.
Риторическим аналогом этой работы может служить исследование Б. Бэйтса («Аудитории, метафоры и война в Персидском заливе»). Определяя теоретическую базу своего исследования, Б. Бэйтс приводит традиционный для риторического направления ряд ссылок на работы М. Осборна, К. Берка, Р. Айви и других исследователей и использует популярную в риторическом направлении методику анализа метафорических кластеров. Дж. Буш использовал в своих обращениях метафоры кластера SAVAGERY (ДИКОСТЬ) для оправдания вмешательства Америки в конфликт и кластера CIVILIZATION (ЦИВИЛИЗАЦИЯ) для убеждения глав других государств создать антииракскую коалицию. Метафорические кластеры реализуют то, что К. Бурке называл «типичной историей» (representative anecdote), которая в варианте Дж. Буша редуцировала существующую ситуацию до простого сценария: «Не США выступают против Ирака, а дикарь против цивилизованного мира». Кластеры отображают оппозицию, которая не оставляет альтернативы, так как все народы считают себя цивилизованными. Как показывает Б. Бэйтс, лидеры государств антииракской коалиции восприняли предложенную Дж. Бушем «типичную историю» и воспроизводили эти кластеры в своих выступлениях, в том числе и египетский лидер Хосни Мубарак, и турецкий президент Турук Озал. Читатель, знакомый с исследованием Дж. Лакоффа, легко проведет параллели между «сказкой о справедливой войне» и «типичной историей». Вместе с тем методика анализа метафорических кластеров разрабатывалась параллельно с теорией концептуальной метафоры, а использование в риторике «типичной истории» было подмечено К. Берком в 60-х годах прошлого века.
Отметим также, что Джордж Лакофф и многие другие американские приверженцы когнитивного направления последовательно демонстрируют либерализм своих политических взглядов и критикуют слова и дела руководителей родной страны, заимствуя некоторые приемы из методики критического анализа дискурса. Последователи риторического направления, как правило, придерживаются консервативных взглядов. Например, у Б. Бэйтса изучение метафорических кластеров и «типичной истории» – это свидетельство, едва ли не апологетика риторического «гения» Дж. Буша (или его спичрайтеров), который смог убедить весь мир вступить в коалицию. Одновременно Б. Бэйтс выражает опасения, что данная тактика может не сработать, когда это вновь потребуется для защиты интересов США.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что становление современной теории политической метафоры сопровождалось диалектическим взаимодействием формирующейся когнитивной парадигмы и развитием традиций исследования метафоры в русле лингвопрагматики. Не только когнитивная теория метафоры вносила коррективы в работы, ориентированные на традиционные методы исследования, но и некоторые разработки по исследованию метафоры в политической лингвистике предшествовали или сопутствовали когнитивной теории метафоры.
Становление современной теории политической лингвистики характеризуется переплетением и филиацией идей, кристаллизация которых проходила в несколько этапов и в нескольких методологических направлениях. Важно отметить, что характерная черта риторического направления в изучении политической коммуникации – это взгляд на язык как средство, выполняющее эстетическую и прагматическую функции.
2.3. Дискурсивное направление в политической лингвистике
Дискурсивное направление в зарубежной политической лингвистике существует в двух вариантах. Первый из них обозначается как критический анализ политического дискурса (критический дискурс-анализ), а второй – как дескриптивный анализ политического дискурса.
Критический дискурс-анализ. Критический анализ политического дискурса направлен на изучение способов, с помощью которых социальная власть осуществляет свое господство в обществе. Специалисты стремятся выяснить, как именно при помощи коммуникативной деятельности предписывается и воспроизводится социальное неравенство, а также наметить способы языкового сопротивления. Представители этого направления занимают активную социальную позицию, они ищут пути для предупреждения социальных конфликтов. Эти исследования представляют собой своего рода реакцию на традиционные публикации «рецептурного» и «восхваляющего» направлений предшествующей научной парадигмы.
Материалом для критического дискурс-анализа, как правило, становятся политические тексты, создаваемые в ситуации социального риска и отражающие неравенство коммуникантов. Определение «критический» используется в подобных исследованиях для того, чтобы подчеркнуть обычно скрытые для неспециалистов связи между языком, властью и идеологией. Детальное изучение текстов помогает выявить имплицитно выраженные бессознательные установки коммуникантов и на этой основе показать результаты воздействия дискурса на восприятие информации. За рубежом выходят специальные журналы, представляющие публикации названного направления, созданные в различных странах: «Discourse and Society» («Дискурс и общество») и ((Critical Discourse Studies» («Критические исследования дискурса»).
В работах специалистов по критическому дискурс-анализу особое внимание уделяется социальному, гендерному (половому) и этническому неравенству. Внимание авторов особенно привлекают факты злоупотребления властью в различных сферах общественной жизни. В частности, феминистские критические исследования представляют женщин как угнетенную социальную группу, характеризуют многообразные коммуникативные проблемы, являющиеся следствием угнетенного положения женщин в патриархальном обществе.
Внимание специалистов по критическому дискурс-анализу особенно привлекают отрицательные образы «чужих» как представителей иных рас, этносов и культур. Примером могут служить исследовательские программы, выполненные под руководством Т. ван Дейка в Голландии. При реализации этих программ изучается то, как суринамцы, турки, марокканцы и другие «чужаки» представлены в публикациях голландских СМИ, учебниках, парламентских дебатах, корпоративном дискурсе и др. В исследованиях, выполненных под руководством Рут Водак, детально охарактеризован антииммигрантский и антисемитский дискурс в Австрии.
Европейские исследователи показывают, что в средствах массовой информации иммигранты из неевропейских стран регулярно представляются через образы наводнения, военного вторжения, болезни, нашествия животных, пожара. Важный результат сопоставления националистических дискурсов в различных европейских странах состоит в обнаружении значительного сходства между стереотипами, предубеждениями и другими формами вербального умаления «чужих», которые преимущественно представлены как нарушающие традиционные нормы, т. е. лентяи, преступники, нравственные уроды или фанатики. Подобное мировидение и связанные с ним оценочные инференции постоянно воспроизводятся в СМИ и законодательных актах США, регулирующих образование на испанском и английском языках, трудоустройство и другие аспекты жизни латиноамериканских иммигрантов.
Помимо внутриполитических проблем (гендерное, этническое, социальное неравенство) объектом критического исследования становятся международные отношения. Лингвисты критического направления уделяют много внимания исследованию «неравенства между государствами», которые являются членами международных организаций и де-юре, но не де-факто, обладают равными правами.
При всем многообразии современных вариантов критического анализа политического дискурса все они методологически восходят к трем основным школам:
– когнитивный анализ дискурса Т. ван Дейка;
– дискурс-анализ Н. Фэрклау;
– немецкая школа критического анализа дискурса (З. Егер, У. Маас, Ю. Линк), особое место в которой занимает социолингвистический дискурс-анализ Р. Водак и ее коллег по венской школе дискурс-анализа (Г. Вайс, X. Людвиг, П. Новак, Й. Пеликан, М. Седлак).
В зависимости от исследовательских традиций в понимании дискурс-анализа ученые указывают на различные элементы экстралингвистической действительности, обладающие дискурсообразующим характером. Так, отправной точкой в разработке принципов дискурс-анализа, по Т. ван Дейку, стало положение о том, что пренебрежение социально-когнитивными факторами представляется одним из главных теоретических недостатков большинства работ в русле критической лингвистики и дискурс-анализа. В концепции Т. ван Дейка акцент ставится на моделировании когнитивных структур в общественном сознании посредством анализа дискурса, направленного на легитимизацию социального неравенства.
Другой вариант критического дискурс-анализа предложен британским ученым Н. Фэрклау. Характерными чертами его подхода являются привнесение в дискурс-анализ эвристик анализа интертекстуальности и пристальное внимание к вопросу о различиях в восприятии одного и того же коммуникативного события разными аудиториями. В отличие от критического дискурс-анализа по Т. ван Дейку, последователи Н. Фэрклау обычно отказываются от использования когнитивной методологии, связывая свою позицию с тезисом о принципиальной невозможности проникнуть в «черный ящик» сознания. В концепции Н. Фэрклау язык и семиозис рассматриваются в первую очередь как социальные, а не когнитивные феномены, а основной задачей исследования становится анализ социальных последствий (social effects) определенного дискурса (дискурса глобализации, дискурса «нового капитализма», дискурса «нового либерализма» и др.).
В немецкоязычном научном дискурсе наибольшее распространение получил критический дискурс-анализ по Р. Водак. Анализ дискурса антисемитизма привел Р. Водак к разработке подхода, определяемого ею как социоисторический метод. С помощью этого метода предпринимаются попытки систематически интегрировать всю доступную фоновую информацию в анализе и интерпретации всех уровней письменного или устного текста. Согласно теории Р. Водак, язык не только отображает социальные процессы и социальное взаимодействие, но и конституирует их. Дискурс всегда историчен, т. е. он всегда синхронически и диахронически связан с коммуникативными событиями, происходящими в настоящий момент или происходившими прежде. Фокусировка внимания на социоисторическом контексте дискурса в процессе объяснения и интерпретации – особенность, отличающая этот подход от дискурс-анализа по Т. ван Дейку и сближающая его с идеями об интертекстуальности в дискурс-анализе Н. Фэрклау. Вместе с тем Р. Водак указывает на отсутствие перспектив у критического дискурс-анализа, используемого в отрыве от когнитивной методологии.
Близкие к критическому дискурс-анализу установки прослеживаются в исследованиях, проводимых американскими лингвистами в рамках «риторической критики» (rhetorical criticism), и антимилитаристских работах Дж. Лакоффа, Н. Хомского и других исследователей.
Дескриптивный дискурс-анализ. В отличие от критического дискурс-анализа при дескриптивном подходе превалирует стремление описать и объяснить феномены, избегая при этом собственной (особенно связанной с политическими убеждениями субъекта исследования) идеологической оценки, что, конечно, связано не с отсутствием гражданской позиции, а с представлениями о критериях научной объективности исследования.
В зарубежной политической лингвистике существует множество вариантов дескриптивного анализа политического дискурса. Эти варианты представляют собой набор методик и подходов, пересекающихся по многим параметрам и объединяемых по принципу «фамильного сходства».
Так, Р.Д. Андерсон совмещает анализ политической метафорики с дискурсивной теорией демократизации, суть которой состоит в том, что истоки демократических преобразований в обществе следует искать в дискурсивных инновациях, а не в изменении социальных или экономических условий. Чешский лингвист П. Друлак предпринял попытку синтезировать эвристики концептуального исследования с методами дискурсивного анализа социальных структур по А. Вендту. Базовая идея подхода состоит в том, что дискурсивные структуры являются отражением структур социальных.
Важное место в политической лингвистике занимает комбинаторная теория кризисной коммуникации (CCC-theory) (Ф. Беер, X. де Ландтсхеер). В русле этой теории исследователи указывают на возможность и необходимость объединения субституционального, интеракционистского и синтаксического подходов к анализу политической метафоры, которые не исключают друг друга, а только отражают различные перспективы рассмотрения одного феномена и имеют свои сильные и слабые стороны.
Теория дискурсивного понимания метафоры разрабатывается рядом немецких лингвистов (Й. Вальтер, Й. Хельмиг, Р. Хюльссе). По мнению исследователей, метафора не столько когнитивный, сколько социальный феномен. В первую очередь метафора рассматривается не как средство аргументации, а как отражение общих для определенной группы людей представлений, оказывающих значительное влияние на «конструирование социальной реальности». Согласно названной теории сам дискурс порождает метафоры, а метафоры рассматриваются как «агенты дискурса» (другими словами, индивидуально-когнитивным особенностям участников политической коммуникации отводится малозначимая роль).
Еще одно направление представлено исследованиями в русле постмодернистской теории дискурса (Лаклау, Хансен, Ховарт). Теория постулирует всеобщую метафоричность всякой сигнификации, а анализ политического дискурса считается наиболее подходящим способом выявления этой онтологической метафоричности. Все «пустые означающие» (empty signifiers) политического дискурса конститутивно метафоричны, причем метафоричность проявляется в различной степени. При таком подходе стирается граница между метафоричностью и «буквальностью» (метафорическим может считаться, например, лозунг «We can do it our-selves» – «Мы можем сами собой управлять»), а при анализе дискурса можно говорить только о степени метафоричности «пустых означающих».
Значимое место в дескриптивном анализе политического дискурса занимает метод контент-анализа. Становление и развитие этого метода применительно к исследованию политической коммуникации связано с работами Г. Лассвелла, Н. Лейтес, У. Липпманна, С. Якобсона, Д. Каплана, А. Грея, Дж. Гольдсена и др.
Среди хрестоматийных примеров эффективного использования этой методики – предсказание британскими и американскими аналитиками использования фашистской Германией крылатых ракет «Фау-1» и баллистических ракет «Фау-2» против Великобритании, сделанное на основе анализа пропагандистских кампаний в Германии. Другой пример связан с работой американской военной цензуры в годы Второй мировой войны: повторение определенных тем в прессе послужило основой для обвинения редакторов некоторых СМИ в связях с нацистами.
При использовании контент-анализа исследователи ориентируются на квантитативные данные, на основе которых делаются выводы о качественных характеристиках политической коммуникации. Основная задача таких исследований сводится к выявлению связи между социально-политической жизнью общества и использованием политического языка, поиску закономерностей функционирования политического дискурса, выраженных в статистической форме. Первоначально девизом подобных исследований было «чем больше корпус, тем лучше». Однако многие исследователи акцентировали внимание на важной роли небольшого, но специально подобранного корпуса политических текстов. При подобном подходе материал для контент-анализа связан с конкретным политическим событием, институциональным дискурсом, определенным временным периодом.
Знаменательным исследованием, выполненным в рамках контент-анализа, стала опубликованная в 1991 г. работа X. де Ландтсхеер, в которой на примере голландского политического дискурса было доказано, что в периоды политических и экономических кризисов значительно возрастает количество политических метафор [Landtsheer 1991]. Впоследствии X. де Ландтсхеер и ее коллеги, сопоставив метафорику бельгийского предвыборного дискурса с метафорикой дискурса в периоды между выборами, доказали, что количество метафор в СМИ увеличивается в предвыборный период. Полученные с помощью контент-анализа данные позволили математически доказать тезис о том, что метафора является способом преодоления проблемных ситуаций и средством воздействия на процесс принятия решений.
С помощью контент-анализа лингвисты прослеживают самые рзнообразные корреляции между языком политики и общественными процессами. К примеру, Дж. Мермин провел контент-анализ текстов институционального и медийного политического дискурса США, темами которых были военные операции в Гренаде, Панаме и Ливии. Исследователь показал зависимость между динамикой количества критических мнений по поводу военных операций в СМИ и ужесточением / ослаблением официальной цензуры.
Колоссальный комплекс текстов, относящихся к избирательным кампаниям в США и многих других странах, тщательно обработан в исследованиях В. Бенуа и его коллег. Используя контент-анализ и функциональную теорию анализа политического дискурса, В. Бенуа детально анализирует коммуникативные тактики Восхваления, Нападения и Защиты, которые используются различными кандидатами. Совокупный эффект множества сообщений, воспринятых избирателем из разных источников и реализующих три обозначенные функции, плюс влияние личных мнений и ценностей избирателей должны в конечном счете определить их электоральное решение.
2.4. Комплексные методики изучения политической коммуникации
Во многих современных исследованиях когнитивный, дискурсивный или риторический анализ дополняется методами, характерными для культурологии (лингво-культурологии), психологии (психолингвистики), социологии (социолингвистики), сопоставительной и типологической лингвистики.
Широкое распространение получило обогащение базисных методов политической лингвистики с использованием эвристик нейролингвистических и психолингвистических теорий. Ярким примером может служить нейрокогнитивная теория метафоры, образовавшаяся на стыке нейронной теории языка, теории первичных и сложных метафор и теории концептуальной метафоры.
Нейронная теория языка направлена на выявление нейробиологических детерминант когниции, и с общенаучных позиций ее становление – вполне закономерный этап в развитии когнитивистики как комплексного интердисциплинарного направления в изучении человеческого мышления. Необходимость такого развития теории Дж. Лакофф и М. Джонсон связывают с тем, что когнитивные эффекты на верхнем уровне когниции возможны благодаря нейробиологии на ее нижнем уровне. Если в традиционной когнитивной лингвистике исследователи обычно ограничивались анализом корреляций языковых и когнитивных явлений, т. е. рассматривали языковые явления с позиций принципа когнитивного обязательства, то в нейронной теории языка ощущается значительный естественно-научный уклон. При таком подходе в качестве недостающего звена между когнитивными и лингвистическими феноменами рассматривается уровень моделируемых с помощью компьютеров коннекционистских сетей, соотносимых с нейронной архитектурой человеческого мозга.
Нейрокогнитивный подход к изучению метафоры начинает активно развиваться в конце 90-х годов, когда ряд лингвистов Калифорнийского университета и ученых из института компьютерной науки в Беркли объединяют свои усилия. Важным результатом интеграции этих усилий стало понимание того, что язык, когнитивные процессы и сенсомоторная деятельность связаны с активизацией одних и тех же участков нейронной сети. Например, при восприятии метафор движения в мозге человека осуществляется ментальная симуляция физического действия, результаты которой проецируются обратно на сферу-мишень, привнося инференции, вытекающие из ментальной симуляции моторной деятельности.
Еще одним направлением развития нейрокогнитивной теории метафоры стали практические разработки компьютерных программ, моделирующих семантические сети коннекционистского типа. Такую программу С. Нараянан применил к анализу концептуальных метафор движения, задействованных при осмыслении политики и экономики в американской прессе.
На становление нейрокогнитивного подхода оказали влияние теория первичных и сложных метафор (Дж. Грэди), теория блендинга (М. Тернер, С. Коулсон, Ж. Фоконье) и изучение когнитивных процессов периода «конфляции» (К. Джонсон). Согласно исследованиям этого направления, метафоры можно разделить на первичные (primitive) и сложные (complex). Процесс формирования первичных метафор происходит в раннем детстве в период так называемой фазы конфляции, когда субъектный и сенсорно-моторный опыт еще не разъединены. Связи, установленные в этот период, сохраняются и проявляют себя на протяжении всей жизни человека и служат основой для формирования сложных метафор, которые образуются из первичных путем концептуального блендинга. Первичные метафоры рассматриваются в качестве своеобразных атомов абстрактного мышления, детерминированных телесным опытом, поэтому и сложные метафоры в конечном счете должны быть связаны с сенсомоторной деятельностью.
Подтверждения этой гипотезы предлагают исследователи психолингвистического направления. Основные сомнения у психолингвистов возникали по вопросу о том, сопровождается ли актуализация стертых метафор активными операциями над концептуальными доменами и не являются ли подобные метафоры своеобразными клише, пассивно усваиваемыми носителями языка. Эксперимент по верификации предположения Дж. Лакоффа о «телесном разуме» и подсознательном характере базовых концептуальных метафор был проведен в Калифорнийском университете в Санта Круз Р.В. Гиббсом и Н.Л. Вилсон. В ходе эксперимента были установлены корреляции между моторикой испытуемых и употреблением антропоморфных, в том числе стертых метафор. При этом корреляции не варьировались в зависимости от национальности испытуемых (в эксперименте участвовали носители португальского и английского языков – бразильцы и американцы). Другие подтверждения тесной взаимосвязи между абстрактными концептами и деятельностью мозга по регулированию сенсомоторной деятельности человека предоставляет нейропсихология, точнее, все та же нейронная теория языка (neural theory of language) и теория «зубьев» (theory of cogs). Опираясь на указанные теории и выдвинутые в когнитивной лингвистике гипотезы, американский лингвист Джордж Лакофф и итальянский нейропсихолог Витторио Галлези продемонстрировали, что одни и те же участки мозга «отвечают» как за концепты, связанные с сенсомоторной деятельностью, так и за концепты, связанные с абстрактными идеями.
Осознание того факта, что метафора – первично ментальный, а не языковой феномен, все чаще инициирует обращение ученых к психолингвистическим и психоаналитическим методикам при анализе политического дискурса. Исследования этого направления часто направлены на изучение политической метафоры не как средства убеждения, а как отражения сознательных или бессознательных представлений коммуникантов о политической реальности.
Психолингвистические методы исследования метафорики позволяют получать данные об особенностях осмысления мира политики рядовыми гражданами, определенными социальными группами, что недоступно при традиционном анализе политического дискурса, материалом для которого обычно становятся тексты, созданные журналистами, политиками или их спичрайтерами. Примером использования психолингвистической методики изучения политических метафор может служить проведенное В. Харди анкетирование американских граждан на предмет их отношения к законопроекту об ограничении образования на испанском языке и установлении английского языка в качестве единственного официального языка штата Калифорния. Результаты позволили показать важную роль метафоры в осмыслении политических проблем рядовыми гражданами и вместе с тем продемонстрировали, что метафорическое представление о действительности среди рядовых граждан во многом совпадает с картиной мира, предлагаемой в СМИ.
Помимо анкетирования ученые активно используют анализ интервью (Г. Бонхэм, В. Майер-Шенбергер, Т. Оберлехнер, Д. Xерадствейт). Преимущество метода интервьюирования для анализа политической коммуникации связано с тем, что исследователь получает материал для анализа в ходе естественного общения с коммуникантом, а не из заранее подготовленных текстов, над которыми автор имел достаточно времени подумать (если, конечно, участнику интервью вопросы не сообщались предварительно).
Ряд методов основывается на теориях глубинной психологии. Исследования этого направления объединяются стремлением обнаружить в политических метафорах проявление архетипов коллективного бессознательного (С. Кин, М. Огустинос, С. Пенни).
Отдельным направлением изучения политической коммуникации является политолого-социологический анализ. В данном случае получение научного знания основывается не столько на анализе собственно лингвистических явлений, сколько на пространных аналитических размышлениях исследователя, с опорой на наблюдения философов и социологов в области взаимодействия общественных процессов и политического мышления. Подобное исследование на примере бразильского политического дискурса провела Л. Канедо, показав, что, несмотря на функционирование в Бразилии демократических институтов, понятие «передача власти» находится в тесной связи с традиционной бразильской метафорой политики как семьи.
Представленный обзор свидетельствует, что на современном этапе развития в политической лингвистике формируется оригинальная методологическая система, включающая три базисных метода (когнитивный, риторический и дискурсивный) и целый ряд дополнительных методов. Это обогащает политическую лингвистику: каждый метод имеет свои достоинства и позволяет обнаружить некоторые факты и закономерности, не привлекавшие внимания исследователей, принадлежащих к иным научным школам, что в комплексе создает условия для полного и многоаспектного исследования политического дискурса.
Раздел 3 Антология современной политической лингвистики
В последние годы исследования политической коммуникации активно ведутся на всех континентах, соответствующие публикации регулярно появляются в столь различных государствах, как Новая Зеландия, Пакистан, Тунис, Корея, Южная Африка, Уругвай. Как известно, наука не признает границ, и российский ученый по своим лингвистическим взглядам и методикам может быть ближе к американским специалистам, чем к коллегам с соседней кафедры. Вместе с тем специальные наблюдения позволяют выделить три основных мегарегиональных научных объединения – Североамериканское, Восточноевропейское (постсоветское), основу которого составляют исследования российских ученых, и Европейское, к которому относятся специалисты, работающие в Центральной и Западной Европе. Совершенно особое положение занимают также исследования, выполненные вне Европы и Северной Америки. Представителей каждого из этих объединений связывают не «общее выражение лица» или точный набор признаков, а некоторые черты «фамильного сходства». Именно эти признаки и акцентированы в последующих разделах.
3.1. Политическая лингвистика в Северной Америке
Для представителей североамериканского направления в исследовании политической коммуникации характерны следующие «фамильные черты»: значительная (более половины) доля исследований, выполненных в рамках риторического направления;
– активное использование критического метода анализа дискурса и иных способов демонстрации своей гражданской, политической позиции;
– повышенное внимание к изучению институционального политического дискурса, особенно текстов, созданных широко известными политическими лидерами; показательно, что американские исследователи предпочитают изучать американский политический дискурс и нечасто занимаются сопоставлением политической коммуникации в различных странах;
– повышенное внимание к изучению специфики личностного дискурса и исторического дискурса отдаленных эпох.
Как известно, Северная Америка была и остается одним из признанных лидеров в развитии политической лингвистики: именно здесь работали многие ее основоположники, в том числе Г. Лассвелл, У. Липпманн, П. Лазарсфельд.
Среди работавших в Соединенных Штатах ведущих специалистов, относящихся к риторическому направлению, необходимо назвать Р. Айви, К. Берка, Б. Бэйтса, Дж. Гуднайта, С. Дафтона, К. Джемисон, Р. Карпентера, М. Медхерста, М. Осборна, С. Перри, В. Риккерта, С. Сильберштейн, Р. Скотта, М. Стакки, Т. Уиндта, Ф. Уондера, Д. Хана, М. Харимана.
Как уже отмечалось, работающий в университете Беркли (Калифорния) Джордж Лакофф, который, по существу, заново создал современную теорию когнитивной метафоры, активно занимается и исследованиями политической метафорики. Среди других представителей когнитивной методологии в ее приложении к политическому дискурсу следует назвать таких специалистов, как Ф. Бир, Б. Берген,
Д. Берхо, Дж. Гиденгил, Дж. Льюл, Дж. Милликен, Р. Пэрис, Т. Рохрер, О. Санта Ана, А. Ченки.
Весьма значителен вклад североамериканских специалистов и в развитие методологии дискурсивного направления политической лингвистики. В этом отношении особое место занимают труды Р. Андерсона и В. Бенуа.
Существуют политические феномены, которые особенно часто привлекают внимание американских специалистов. В частности, значительная часть американских публикаций посвящена исследованиям концептуальных метафор, связанных войной в Персидском заливе. Первое исследование было опубликовано Дж. Лакоффом еще в 1991 г. Позднее Лакофф обратился и к исследованию метафор периода Второй войны в Персидском заливе. Проанализировав метафоры, актуализированные администрацией и СМИ США для оправдания этой войны, Дж. Лакофф выделил базовые метафорические (метонимические) модели, которые, дополняя друг друга, занимают центральное место в осмыслении внешней политики в американском сознании.
Дж. Льюл [Lule 2004] на материале дискурса новостей NBC рассмотрел базовые метафоры, актуализированные для осмысления отношений Ирака и США в преддверии Второй войны в Персидском заливе. Метафоры «Ирак – это Вьетнам Буша» и «вьетнамское болото» в американских политических дебатах проанализированы Дж. Гуднайтом [Goodnight 2004].
Детальный анализ «метафорической войны» по косовской проблеме в американском политическом дискурсе представлен в работе Р. Пэриса [Paris 2001]. Как показывает автор, в выступлениях администрации Б. Клинтона и дебатах членов Конгресса доминировали четыре группы исторических метафор: «Вьетнам», «Холокост», «Мюнхен» и «балканская пороховая бочка». Р. Пэрис выделяет два уровня метафорического противостояния политических мнений. Участники дебатов спорили не только об уместности исторических метафор применительно к ситуации в Косово (первый уровень), но и об оценочных смыслах используемых метафор (второй уровень). Например, если мюнхенское соглашение в большинстве случаев рассматривалось как пример нежелания остановить агрессора, то на уроки вьетнамских событий ссылались как противники, так и сторонники военного вмешательства. Противники говорили о невинных жертвах и других ужасах войны, а сторонники считали, что во Вьетнаме американская армия воевала «со связанной рукой за спиной», поэтому не следует повторять вьетнамских ошибок в Косово.
С исследованиями метафор в нарративе войны тесно связаны публикации, посвященные метафорическому представлению событий 11 сентября 2001 г. и их последствиям. Так, К. Халверсон [Halverson 2003] анализирует метафоры в политическом нарративе «Война с террором (11 сент. 2001 – янв. 2002)» и выделяет две основные метафоры, моделирующие осмысление терроризма в американском политическом дискурсе: Антропоморфизм ценностей и Сказка о справедливой войне. Анализ корреляции метафор в американском сознании и событий 11 сентября 2001 г. в сочетании с осмыслением социокультурных причин терроризма представлен в публикации Дж. Лакоффа [Lakoff 2001b].
Метафоры со сферой-источником «Женитьба» в американском политическом дискурсе рассмотрены в учебнике по политической коммуникации Д.Ф. Хана [Hahn 2003]. С. Хайден [Hayden 2003] исследовал политическую эффективность метафор с исходной понятийной областью «Семья». Дж. Лакофф [Lakoff 2004] анализирует две модели со сферой-источником «Семья» во внутриполитическом американском дискурсе. Согласно Модели Строгого Отца дети рождаются плохими, потому что стремятся делать то, что им нравится, а не то, что правильно, поэтому нужен сильный и строгий отец, который может защитить семью от опасного мира и научить детей различать добро и зло. От детей требуется послушание, а единственный способ добиться этого – наказание. Модель устанавливает прямую взаимосвязь дисциплины и морали с благополучием. Модель Воспитывающего Родителя несет смысл тендерной нейтральности: оба родителя в равной степени ответственны за воспитание детей. Дети рождаются хорошими, а задача родителей воспитать их таким образом, чтобы они могли улучшать мир и воспитывать других. Анализируя развертывание этих моделей применительно к различным вопросам внутренней политики (налоги, образование и др.), Дж. Лакофф соотносит политическое доминирование консерваторов с использованием Модели Строгого Отца, а неудачи либералов связывает с особенностями актуализации Модели Воспитывающего Родителя [Lakoff 2004: 5—34].
Экспериментальное исследование по проверке гипотезы Дж. Лакоффа о том, что в основе «левого» и «правого» американского политического дискурса лежат две метафорические модели семьи, провел А. Ченки [Cienki 2004]. На материале текстов из предвыборных теледебатов Дж. Буша и А. Гора (2000 г.) А. Ченки и его коллега независимо друг от друга анализировали две группы выражений: собственно метафоры и метафорические следствия (entailments), апеллирующие к моделям Строгого Отца (SF) и Воспитывающего Родителя (NP). Как показал анализ, Дж. Буш в четыре раза чаще использовал метафоры модели SF, чем А. Гор. В свою очередь, А. Гор в два раза чаще апеллировал к метафорам модели NP. Проанализировав метафорические следствия, А. Ченки указывает, что Дж. Буш опять же в 3,5 раза чаще обращался к модели SF. Вместе с тем исследование показало, что частотность обращения к модели NP у обоих оппонентов была очень близкой, с небольшим перевесом у А. Гора (у Дж. Буша – 221, у
А. Гора 241). Также А. Ченки, проанализировав жесты оппонентов во время дебатов, пришел к выводам, что жесты Дж. Буша и А. Гора сильно различаются и соотносятся у Дж. Буша с моделью SF, а у А. Гора с моделью NP. При этом различия в апелляции к моделям семьи на паралингвистическом уровне еще более показательны, чем на вербальном. Однако, излагая результаты, автор не приводит бесспорных критериев соотнесения жестов с концептуальными метафорами двух анализируемых моделей.
Значительный вклад в развитие учения о когнитивной метафоре внесла теория блендинга. Эвристики теории концептуальной интеграции (блендинга) можно продемонстрировать на примере некогда популярной в Соединенных Штатах метафоры: «Если бы Клинтон был Титаником, то утонул бы айсберг» [Turner, Fauconnier 2000]. В рассматриваемом бленде осуществляется концептуальная интеграция двух исходных ментальных пространств, в котором президент соотносится с кораблем, а скандал с айсбергом. Бленд заимствует фреймовую структуру как из фрейма «Титаник» (присутствует путешествие на корабле, имеющем пункт назначения, и столкновение с чем-то огромным в воде), так и каузальную и событийную структуру из известного сценария «Клинтон» (Клинтон уцелел, а не потерпел крушение). В рассматриваемом примере общее пространство включает один объект, вовлеченный в деятельность и побуждаемый к ней определенной целью, который сталкивается с другим объектом, представляющим огромную опасность для деятельности первого объекта. Очевидно, что в общем пространстве результат этого столкновения не предопределен. Междоименная проекция носит метафорический характер, однако смешанное пространство обладает каузально-событийной структурой, не выводимой из фрейма источника. Если метафорические инференции выводить только из ментального пространства-источника, то Клинтон должен потерять президентский пост. Показательно, что полученные инференции не выводятся и из пространства-цели. В бленде появляется новая структура: Титаник все-таки непотопляем, а айсберг может утонуть. Эта «невозможная» структура не доступна из исходных пространств, она конструируется в бленде и привносит совершенно новые, но понятные инференции.
Важно подчеркнуть стремление многих американских исследователей рассмотреть роль метафоры в развитии социальных процессов. С этой точки зрения особого внимания заслуживают работы Р.Д. Андерсона, посвященные роли метафоры в процессах демократизации общества. В соответствии с его дискурсивной теорией демократизации истоки демократических преобразований в обществе следует искать в дискурсивных инновациях, а не в изменении социальных или экономических условий. По Р.Д. Андерсону, при смене авторитарного дискурса власти демократическим дискурсом в массовом сознании разрушается представление о кастовом единстве политиков и их «отделенности» от народа. Дискурс новой политической элиты элиминирует характерное для авторитарного дискурса наделение власти положительными признаками, сближается с «языком народа», но проявляет значительную вариативность, отражающую вариативность политических идей в демократическом обществе. Всякий текст (демократический или авторитарный) обладает информативным и «соотносительным» значением. Когда люди воспринимают тексты политической элиты, они не только узнают о том, что политики хотят им сообщить о мире, но и о том, как элита соотносит себя с народом (включает себя в социальную общность с населением или отдалятся от народа).
В настоящем разделе представлены статья Р. Андерсона, посвященная метафорическому представлению власти, отрывки из знаменитой интернет-публикации Джорджа Лакоффа «Метафора и Война: Система метафор для оправдания войны в Заливе» и статья Вильяма Бенуа «Функциональная теория дискурса политической кампании».
Ричард Д. Андерсон (Мл.). Richard D. Anderson, Jr
Знаменитый современный американский советолог и славист Ричард Д.ПАндерсон (младший) получил образование в Принстонском университете. В 70—80-х годах XX в. служил политическим аналитиком в Центральном разведывательном управлении США, работал в редакционной коллегии газеты «Нью-Йорк Таймс», был советником по кадрам у конгрессмена Лесли Эспина, в последние годы работает профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Степень доктора философии получил в университете Беркли (Калифорния).
Автор множества публикаций, посвященных политической коммуникации в Советском Союзе (России), США и иных государствах. Член правления Американской ассоциации политических наук. Идея Р. Д. Андерсона о каузальности политических метафор и их предшествовании политическим изменениям получила широкое признание в современной политической лингвистике. Предлагаемая ниже статья была специально подготовлена автором для российских читателей.
О кросс-культурном сходстве в метафорическом представлении политической власти (перевод Е.С. Белова)
Человеческое тело служит основой для многообразной метафорической концептуализации абстракций, в том числе политической власти. Расположение, восприятие, взаимодействие, манипуляция и движение – это процессы, так или иначе связанные с телом и в равной степени знакомые слушателям и говорящим. Это позволяет адресанту предположить, что цель ознакомления слушателя с незнакомыми ему абстракциями может быть достигнута посредством метафорического моделирования с использованием легко узнаваемых телесных образов. Исходя из подобия анатомии людей различных национальностей и схожести телесных переживаний, можно говорить о том, что разноязычные сообщества могли бы моделировать свое собственное метафорическое представление о политической власти, прибегая к одной сфере-источнику. Это предположение идет вразрез с идеями, предложенными «евразийством» в России и американцем С.П. Xантингтоном в его известном труде «Столкновение цивилизаций». В основу названных концепций положено представление о том, что нации различны в своих представлениях о политической власти и эти разногласия обусловливают контраст во внутреннем развитии и непрерывную борьбу культурных сообществ, называемых цивилизациями. Совершенно очевидно, что совпадение языковой формы при выражении одной и той же реалии в разных языках – редкое явление, имеющее место исключительно при общих корнях заимствования. Несмотря на то что в английском и русском языках наблюдается значительное количество совпадений на лексическом уровне, особенно если учесть незначительные расхождения в произношении таких слов, как брат и brother, нас и us или даже отец и father, эти совпадения не могут быть объяснены общими чертами носителей английского и русского языков. Они связаны с общностью лингвистического происхождения, периодическими заимствованиями из русского в английский и наоборот и частым влиянием третьего языка, главным образом греческого или французского. Таким образом, ни соответствия типа democracy – демократия, ни созданные с помощью калькирования people power – народовластие не релевантны по отношению к гипотезе. Что нас интересует, так это схожесть независимых метафор, не обусловленная единым происхождением.
Парадоксальная особенность языка заключается в следующем. В то время как отдельное высказывание – это явление непродолжительное, постоянное его повторение фиксирует разнообразные черты любого естественного языка, остающиеся почти неизменными на протяжении сотен и даже тысяч лет. Как видно из примера брат – brother, говоря о братьях, адресаты повторяли идентичные или близкие по исполнению артикуляционные движения в течение пяти или шести тысячелетий независимо от того, была ли их речь взаимопонятной [Strang 1970: 417]. Как следствие, современная политическая коммуникация любой страны характеризуется использованием метафор и символов, относящихся к далекому прошлому. На протяжении практически всего периода развития языка политическая власть осуществлялась немногим числом правителей над множеством управляемых. Соответственно современное метафорическое представление политической власти отражает базисную оппозицию правители – управляемые.
При тщательном рассмотрении метафор наиболее отстоящих друг от друга языков можно заметить общий признак. Сфера-источник – телесный процесс зрительного восприятия, при котором субъект выделяет определенную фигуру на фоне и затем составляет (компилирует) общую картину, воспринимаемую позже как целостный зрительный образ [Pinker 1997: 211—87]. Аналогично в исходной этимологии каждой из рассматриваемых метафор вершители политической власти представлены некоей фигурой, дифференцируемой на фоне лишенных привилегии власти. В данной статье используется терминология, отобранная из русского, английского, китайского, арабского, яванского языков и языка волоф. Нельзя исключать возможность взаимного влияния этих языков, поскольку контакт между ними либо напрямую, либо посредством арабского или других не названных здесь языков носит очень продолжительный характер. С другой стороны, велика степень разброса выборки и не все из данных языков принадлежат к одной типологической категории.
Политическая власть в русской метафоре. Любая форма политической власти может быть описана как субъект-объектные отношения между теми немногими, кому она дана, и тем большинством, на кого она направлена. Отличительная особенность русского языка состоит в том, что многие слова, используемые для наименования тех, кто осуществляет власть, не являются исконно восточнославянскими. Традиционные номинации князь и король были заимствованы из германского праязыка, царь и император – из латинского, боярин — предположительно из турецкого [Черных 1993, I: 106, 210, 344–345, 431; 1993, II: 361–362]. Таким современным номинациям, как секретарь, министр, президент, депутат русский язык обязан французскому. Пересматривая титул о рангах, Петр I заимствовал шляхетство из польского, а названия некоторых чинов из немецкого и шведского языков [Raeff 1993: 34–35]. Дореволюционные термины государь, дворянин и знать и более поздний председатель имеют восточно-славянское происхождение, но по крайней мере два последних из них, вероятно, образованы от французского с помощью калькирования. Существует мнение, что дворянин может быть производным от немецкого hof (двор (королевский, княжеский)). Изначально дворяне занимали низший ранг в правящем сословии. Только благодаря тому, что обладатель титула царь полагался на них в конфликтах с боярами, положение дворян повысилось [Черных 1993, I: 233–234]. Подобные процессы наблюдаются не только в русском языке. Английские номинации noble, president, senator, member of parliament, representative, secretary и minister происходят от латинских слов посредством французского языка; rule восходит к латинскому, а government пришло из греческого через латинский язык.
Иностранное происхождение политической лексики имеет непосредственное отношение к более широкой версии нашего предположения. Заимствованные слова либо меняют свое графическое обозначение по воле случая, либо модифицируются согласно фонетическим законам принимающего языка. Несмотря на то что – оро– в слове король указывает на восточнославянский вариант, следующий за ним палатализованный л нетипичен, по крайней мере в именах существительных; – арь в слове царь часто встречается в названиях современных русских профессий (хотя нужно редкое чувство юмора, чтобы отнести к одной категории слово царь и такие профессии, как слесарь или токарь), однако только в этом слове ему предшествует одна согласная, а не слоговый корень. На фоне таких исконных слов, как народ и folk, сама чужеродность политической терминологии, обозначающей объект политической власти, создает фонетически заметную фигуру, выделяющуюся на фоне фонетических особенностей исконных слов.
Номинация соборность может рассматриваться как метафора восточнославянского происхождения, созданная для концептуализации качества и характера политической жизни России. Остается спорным вопрос, насколько характерен данный признак российскому дискурсу. Созданное впервые в XIX веке землевладельцем-интеллигентом А. Хомяковым для обозначения качества, присущего Православному Христианству, данное понятие, без убедительных на то оснований, было распространено его младшим коллегой К. Аксаковым применительно к политической жизни, став естественным для традиционной России, но абсолютно неприемлемым во времена Петра I и его наследников [Wieczynskii 1976, I: 82–84; 1980, XVI: 171]. Возможно, последующее ограничение употребления этого понятия внутри узкого круга интеллигентов-дилетантов не позволило лексикографу XIX века Далю включить его в словарь русского языка в виде отдельной статьи. После распада Советского Союза часть современной российской интеллигенции вновь заговорила о соборности как об отличительной черте политики России в сравнении с демократией Запада и присущим ей индивидуализмом. В книге В. Сергеева и НДБирюкова [Sergeyev, Biryukov 1993], уже в заглавии которой выражен контраст между демократией и «традиционной культурой» России, авторы утверждают, что несовместимость соборности с индивидуализмом обусловливает неполноценное функционирование таких выборных институтов власти, как парламент или президентство. Именно на этот аргумент ставила ставку зарождающаяся оппозиция, выступавшая под названием «патриотические силы», создавая добровольные объединения представителей различных взглядов и убеждений с целью формирования прочной коалиции и возрождения подлинной российской государственности [Проханов 1992; Зюганов 2003].
Несмотря на запоздалый характер и узкий круг употребления соборности, данная абстракция суммировала в себе понятия гораздо более конкретные и ощутимые. Основа собор является традиционно общей как для церковной, так и для политической сферы в России, где государство весьма неявно отделено от церкви, если вообще можно говорить о таком разделении. Об этой наразделенности свидетельствуют частые упоминания в хрониках о принудительных постригах в монахи тех, кто попал в немилость за политические убеждения или о заключении в монастыри их жен, сестер, вдов; либо о государственных преследованиях инакомыслящих по религиозным мотивам. Посредством метонимии соборами стали называть знаменитые церковные здания. Приставка и отглагольная основа собробразуют «агентив» собиратель, известный в сочетании с «русских земель» как эпитет, характеризующий Ярослава Мудрого. Номинализация с этой же основой звучала в требованиях императора Павла I, выступавшего за продолжение использования термина собрание вместо общество, ввиду антиправительственной коннотации последнего [Протченко 1985: 127]. В постсоветские времена под именем собор появляются различные самопровозглашенные движения – «патриотические силы»; с принятием Конституции 1993 г. собранием начинают называть законодательную ветвь власти РФ. Во всех вышеназванных примерах (за исключением требований Павла I) собор / собрание относятся к правящему классу, и во всех случаях эта пара являет собой единство, подчиненное высшей инстанции, будь то царь, император или президент.
Чтобы выразить релятивность осуществления политической власти, люди создают метафоры, указывающие на участников этих отношений. Качественные компоненты абстракции соборность характеризуют класс управляемых, а классу правящих характеристики приписываются сочетанием царственная особа. Особа значила больше чем ее близкий синоним лицо; особой именовалось лицо, имевшее вес, признание в обществе [Словарь 1959, VIII: 1142–1144]. И снова мы наблюдаем метафорический образ, в котором особа стоит в стороне, т. е. является видимой фигурой на фоне однородности собравшейся толпы.
Анализируя период перехода от империи к государственному строю, установившемуся после 1917 г., следует отметить дублирование уже знакомой пары-оппозиции соборность / особа в ранее не существовавшей форме. Последователи Ленина, пришедшие к власти в 1917 году и считавшие себя марксистами и атеистами, избавились от теологической составляющей соборности. Тем не менее они подчеркивали свою исключительную роль в управлении и отличие от управляемой ими толпы. Дискурс Советского Союза характеризуется сопоставлением новых понятий: на смену оппозиции соборность / особа пришла пара коллектив / деятель. Конечно, коллектив не выражал того же значения, что соборность; новая власть отчаянно пыталась донести, что их форма правления коренным образом отличается от господства их предшественников. Но с точки зрения этимологии новой метафоры, она была абсолютно аналогична прежней. Вся новизна состояла лишь в замене латинского кон- (фонетически ассимилированного под влиянием следующего согласного) на его точный славянский эквивалент с(о)-, латинской предпрошедшей формы – lect– на семантически эквивалентную славянскую основу глагола-б(о)р-и замене латинского суффикса прилагательного-ив, лишенного флексии и классифицированного носителями современных западноевропейских языков как номинальный суффикс, на такой же суффикс славянского происхожденияность [Onions 1966: 190–191, 489].
Что касается второй части оппозиции, русское слово деятель не выражало изолированность напрямую, но все же обретало нужное сопутствующее значение в контексте. Визуализация образа деятеля достигалась посредством сочетания его с прилагательным видный, а коннотативное значение обособленности – с помощью прилагательного выдающийся. В силу того, что английский и русский языки принадлежат к языковым семьям, утратившим фонетическую оппозицию между аспирированными и неаспирированными звонкими согласными на прото-индоевропейском этапе развития, слова, означающие совершение действия и деления, стали относить к одной группе в обоих языках. Русский глагол делить происходит от неаспирированной формы, в то время как этимологически несвязанный глагол делать производен от аспирированной формы. То же справедливо применительно и к английскому слову deal, семантическое поле которого совпадает с этимологически неродственным do. Исходное значение deal «часть» было вытеснено аффиксированной формой латинского глагола «divide» (вероятно, повторяющаяся комбинация двух протоиндоевропейских элементов, каждый со значением «отдельный») [Onions 1966: 247, 279–280]. Таким образом, фонетическая организация русского языка привела к тому, что ярко выраженное в понятии особа значение обособленности присуще понятию деятель, несмотря на отсутствие доказательств в этимологии данного слова; оно и определяется этимологом-лексикиграфом П. Черных «человек выделяющийся… " [Черных 1993, I: 248]. В силу частого употребления в контексте с такими прилагательными, как «видный, выдающийся», деятель становится фигурой на фоне коллектива. Отглагольное происхождение данного понятия лишь усилило потенциал метафоры контрастом между действительным и страдательным залогом, проявляющимся в оппозиции латинской формы предпрошедшего времени и собственно формы деятель. Созданный фонетико-этимологический контраст порождает обособленность между правящими и управляемыми.
Вопрос, является ли этот контраст соборности и особы, репродуцированный в более поздней оппозиции коллектив – деятель, особенностью русского языка, может быть разрешен через рассмотрение других языков на предмет существования в них аналогичного контрастного метафорического представления недемократических форм политической власти.
Оппозиция noble-commoner в английском языке. Исходя из родственных отношений русского и английского языков, имеющих общий источник, можно проследить параллельность построения оппозиций и схожесть признаков, на которых они основываются. C 1100 по 1400 г. правящая элитa в Англии постепенно совершила переход от нормандского французского (французский диалект норманнов, переселившихся в Англию после 1066) к английскому языку. Достоверно известно, что не раньше 1300 годa французское слово noble вытеснило английское heiemen – современное «high men», означавшее вершителей политической власти [Hughes 2000: 110–111]. Noble восходит к латинскому gnobile, «knowable» – «узнаваемый», а утраченное g все еще встречается в противоположном по значению слове ignoble [Onions 1966: 612]. Современным носителям английского языка безусловно незнаком латинский корень слова noble, однако произносится оно практически так же, как и knowable, и не требуется полномасштабного исследования, чтобы вскрыть инициирующее действие одного на другое и тем самым показать их связанность в когнитивном процессе. Люди у власти были узнаваемы, а те, кем они правили, приобрели наименование commoners. Изначально разделение по признаку власти состояло из трех частей. Крестьяне, составлявшие большинство населения, назывались villeins или rustics («виллан, крепостной» и «житель деревни» соответственно). Затем, изменив правописание, слово villain получило значение «злодей», а rustic стало значить «сельский». Функция обозначения социальной категории была утрачена. Третью категорию лиц, не относящихся ни к знати, ни к крепостным, называли коммонерами (от латинского слова, означающего «город»), т. е. коммонеры – жители города. Но, несмотря на это, в семантике современного английского слова common продолжает существовать этическая составляющая, выраженная в значении «равноценный, равнозначный». Следовательно, знать на фоне равноценных и нераспознаваемых граждан предстает как выделяющаяся группа. Со временем, конечно, социальная категория знати noble лишилась своей политической значимости среди носителей английского языка. Тем не менее слово noble активно употребляется либо в ретроспективе, указывая на социальную категорию прошлого, либо говоря о некотором современном государстве, где она возможна. А вот коррелят common people (простой народ) продолжает свое существование.
На раннем этапе развития английского языка субординация между представителями власти, называемыми heiemen и подчиненных им lowe men, проявляется в визуальной выделенности первых по отношению к последним. Как отмечает Т. Гивон, «в парных антонимичных прилагательных, обозначающих в основном размер, протяженность, высоту, структуру, громкость, яркость, скорость, вес и пр., прилагательное с положительным смыслом передает как значение обладания качеством (т. е. положительный экстремум), так и родовое значение самого качества (т. е. немаркированный член). Это происходит по той причине, что положительный экстремум обладает большей перцептивной выделенностью» [Givon 1989: 161] (акцент на первом из них). Визуализации образа метафоры способствует графический и фонетический контраст между однословным heiemen и двухсловным lowe men с соответствующей интонацией. Обусловленный сменой власти в результате победы 1066 года переход от heiemen к nobles в точности отображает процесс вытеснения понятия особа понятием деятеля при смене власти в 1917 г.
Китайское Jieji. Когда к концу XIX в. китайские мыслители задумались над политической реформой династии Qing (Цинь), они заимствовали у своих японских предшественников (которые использовали китайские иероглифы типа kanji в японской письменности) практику перевода марксистского понятия «социальный класс», традиционно-изображаемого парой иероглифов, транслитерируемой по-латински как jieji. В этих иероглифах снова видна фигуро-фоновая метафора, найденная в парах особа – соборность и знать – коммонер. Традиционно jieji означало «чин шелка» и метонимически ассоциировалось с иерархией китайских правителей, которые получали жалование в виде шелковой ткани разного качества. С приходом династии Цинь термин вышел из употребления. Как отдельные иероглифы jie значит «ступеньки лестницы» – или шире – «лестница», а ji значит «шелковая ткань», т. е. вообще «ткань».
И графически, и на понятийном уровне jieji как метафорическое представление о политической власти выражает зрительный опыт. С одной стороны, лестница и сотканная из нитей ткань имеют одинаковую структуру: обе образованы вертикальными и горизонтальными элементами, пересекающимися под прямым углом. В то же время лестницу можно использовать по назначению лишь при видимых промежутках между ее составляющими, их «разделенности». С тканью – все наоборот: она пригодна, только если нити неразличимы, так как плотно прижаты друг к другу, иначе, получилась бы сеть, лишенная свойств ткани. Графически традиционное и современное рукописное написание jieji отражают концептуально соотнесенные визуальные символы. Формально левая сторона китайского иероглифа в большинстве случаев содержит семантическую подсказку, а правая – намек на звуковое выражение [Unger 1996: 46–47]. Семантическая составляющая jie (читается «фу» и переводится как «холм») часто встречается в словах со значением «возвышение» и в семантически близких им. Начальный элемент иероглифа напоминает английскую прописную букву B (русская В), крайняя левая вертикаль которой удлинена книзу. При взгляде правее перед глазами возникает параллелограмм, состоящий из двух продолговатых и трех коротких штрихов, расположенных под таким углом, что, по крайней мере, западному глазу они напоминают изображение лестницы в перспективе. Смысловая и звуковая составляющие иероглифа ji рисуют очертания складок ткани. В рукописном же исполнении jie и ji изображаются с изогнутыми вертикальными линиями, но горизонтальные штрихи jie более отстоят друг от друга и визуально более четкие, чем соответствующие штрихи ji. В результате этого, образ jie выше, чем образ ji. Что примечательно, вышеупомянутое различие отражено даже в транслитерации pinyin, так как в jie на один буквенный знак больше, чем в ji. (Благодарю своего студента Банг Жоу за написание этого слова и за исследование его исходного определения в китайских источниках, мне недоступных по причине незнания языка.)
При переводе марксистского понятия «социальный класс» как jieji в экстралингвистическом контексте китайский эквивалент приобретает значение, тождественное паре noble – commoner. Контекст этот практически отсутствовал в Китае даже в конце XIX века. Вместо социальных классов общество все еще традиционнo делилось на shi («люди образованные») и simin («обыватели»). Это противопоставление не учитывало крестьян, составлявших большую часть населения Китая. Кстати, это характерно и для оппозиции noble – commoner. Соотнесенное с социальным классом jieji означало осуществление политической власти маленькой по численности правящей элитой. Так же как в случае с парой noble – commoner, когда на смену династии Цинь пришла новая авторитарная республика, заново пришедший в обиход термин jieji заменил ранее существовавшие различия по высоте между shang и xia — «теми, кто выше» и «теми, кто ниже» [Judge 1996: 33].
Арабское «rucat-raciyya». Как отмечает А. Аялон, «до XX века существовало одно арабское выражение, указывающее на политический статус управляемых: raciyya, означающее стадо или стаю домашних животных» [Ayalon 1987: 44]. Соответственно, правителей называли rucat, «пастухами», так как в арабоговорящем мире под стадом обычно имелось в виду стадо овец. Фигура пастуха выделялась на фоне практически не отличимых друг от друга животных. Его вертикальный торс контрастировал с горизонтальными туловищами овец, тем самым возвышая его. С ослаблением турецкого господства возникла новая метафора, служащая для представления местной власти: acyan, в переводе «глаза» [Ayalon 1987: 66]. Значение этой метафоры, связанное с понятиями центрa и вертикальности, вряд ли нуждается в дальнейших комментариях.
Более ранняя оппозиция типа «пастух – стадо» уходит глубоко корнями в семитскую традицию. Например, в Псалме 23, автором которого считается царь Давид, написано: «Господь – Пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться… " Однако контраст вертикального положения правителя и горизонтального положения управляемых имел место задолго до этого. Около 1800 г. до н. э. древний вавилонянин называет приближенного царя awilum, «мужчина», а одного из тех, кем правят, – mushkenum – «тот, кто унижается» [Schloen 2001: 285–286]. Шумерская письменность и в более ранние периоды истории характеризовалась схематическим изображением слова «мужчина» в виде повернутой боком верхней части туловища [Kramer 1963: 302], в то время как правители на письме отображались в виде вертикального штандарта: шеста со знаменем или символом наверху и клиновидным основанием. Это основание помещалось в специальном отверстии, обеспечивавшем вертикальное положение [Szarzyсska 1996: 1—15]. По мере того как семитские языки – аккадский, затем арамейский и в конечном итоге арабский – вытесняли шумерский, возникали новые метафоры, каждая из которых моделировалась на основе исходного признака, противопоставляющего отчетливо видимую вертикальную фигуру на фоне лишенных различия горизонтальных.
Метафора в яванском языке (unggah-ungguh). В традиционном Яванском обществе короли правили с помощью так называемых priyayi. Это заимствованное слово образовалось от санскритского priya – «друг»; совпадение с русским приятель, вероятно, случайно. Они могли состоять с королем в различной степени родственных отношениях или не иметь с ним родства, но занимать более или менее высокую должность при дворе. Когда встречались двое priyayi, им нужно было определить, кто достоин изысканных почестей, зашифрованных в krama – эзотерической форме яванского языка, доступной только детям priyayi. Решение зависело от соотношения веса в обществе, обретенного вследствие близкого родства с королем, и важности занимаемой должности. Сигналом о взаимном умозаключении на этот счет служил акт невербальной коммуникации, состоящий из жеста, известного как unggah-ungguh. Оба вытягивали руки вперед, поворачивали их ладонями кверху и двигали ими вверх и вниз. Эти действия, интерпретируемые как имитация взвешивания, визуально символизируют взаимное определение социального положения вертикальным положением поднятых ладоней. Это, в свою очередь, помещало priyayi в центр внимания и делало их заметными на фоне невидимых wong cilik, «маленьких людей», чей низкий социальный статус и образование лишь в рамках примитивной (ngoko) или средней (madya) форм яванского языка не позволяли им исполнять ритуалы почтительности и лишали смысла unggah-ungguh [Errington 1985: 4, 27–40].
Язык волоф: «явная замедленность». В основном носители языка волоф живут в Сенегале, но, как водится в постколониальной Африке, распространены они и в соседних государствах, чьи границы были установлены колонизаторами без учета местного этнического своеобразия. Язык волоф подразделяется на два варианта. Первый из них – waxu gewel – существовал до колониальных захватов, но все сохраняется и традиционно ассоциируется с членами правящей касты. Waxu geer – вторая разновидность языка волоф, богатая средствами эмоциональной выразительности и метафорическим многообразием, используется обычными гражданами. Частотность употребления waxu geer увеличивается по мере уменьшения социального статуса и всецело применяется кастой griot для выражения мыслей, произносить которые было бы недостойным для людей, занимающих более влиятельное положение. Несмотря на то что носители языка волоф соотносят говорящих на waxu gewel и waxu geer с людьми, обладающими или не обладающими властью, наблюдения показывают, что говорящие, как правило, используют обе разновидности в зависимости от того, наделяют ли их социальное положение или непосредственные нужды правом требовать содействия или заставляют их просить милости у собеседника. Следовательно, превосходя всех по рангу, вождь никогда не пользуется waxu geer. Его речь, как и речь других важных особ, отличается «явной медлительностью»: небрежное бормотание, с частыми повторами и грамматическими ошибками. Народ волоф объясняет необходимость властных людей в ограничении себя waxu gewel тем, что иной раз весомость слов может подавить людей ниже по статусу [Irvine 1990: 131–145]. Пусть вес скорее осязаемая метафора, в ней есть и визуальный компонент. Вес имеет значение, поскольку обладающие властью люди могут давить на остальных соотечественников. Таким образом, в концепции языка волоф, и в этом он не отличается от рассмотренных примеров, наблюдается возвышение класса властных людей, а так как большему весу человека соответствует больший размер, то более властные люди визуально представляются увеличенными относительно менее властных. Пусть из описания языка волоф, доступного мне, следует, что фигуро-фоновая метафора носит имплицитный характер, все же она концептуализирует политическую власть.
Заключение. Исторический период взаимодействия носителей английского и арабского языков характеризуется то и дело возникающими на протяжении тысячелетия противоречиями. В течение трех веков с переменным успехом поддерживали мирное сосуществование русские и китайцы, ввиду конфликтов, возникающих на почве расширения России на восток и устремлений Китая на север. Метафорически возвеличивая себя посредством noble, французы завоевали народ волоф, а голландцы, до сих пор называющие свое правительство overheid (то, что выше), подчинили яванцев силой оружия. Хотя эпизоды вражды редки в истории взаимоотношений носителей русского и английского языков, ни события Холодной войны, ни дальнейшее развитие отношений между независимой Россией и США не позволяют говорить об устойчивом взаимопонимании между странами. Эти разногласия не объясняются культурными различиями в понимании политической власти, поскольку рассматриваемые культурные концепции строятся по одному принципу. Безусловно, на различиях в метафорическом представлении политической власти культура не заканчивается, и ничто из сказанного мною не исключает возможности для какой-либо другой культурной особенности стать причиной конфликта.
Нельзя совсем исключать возможность взаимопроникновения культур, нежели следовать независимой концепции, согласно которой я представил свои наблюдения. Общим источником могла бы быть шумерская письменность. Некоторые ученые считают, что шумерская письменность была привезена в индийский город Хараппа торговцами, проделавшими путь вдоль одной реки и вверх по течению другой, где она либо стала известна захватчикам, привнесшим индоевропейскую речь, либо подверглась влиянию местных жителей, т. е. была адаптирована или видоизменена ими. Возможно, написание букв и символов, характерное для шумеров, способствовало распространению разделения правящих и управляемых на основе вертикально-горизонтального различия. Поскольку при взаимодействии культур вполне возможны неточное понимание и, следовательно, всевозможные модификации, то можно предположить, что шумерская система письма, в которой изначально вертикальное изображение туловища преобразовалось в горизонтальное в результате смены столбцового письма на линейное, стала прототипом концепции представлений об обществе в Ведийском языковом сознании. Из лба верховного божества порождались священнослужители, правители – из рук, подданные – из живота, и все это основывалось на труде тех, кто являлся порождением ног божества. Индусские торговцы могли бы выступaть в роли распространителей данной концепции и привнести их в яванский язык вместе с пришедшим из санскрита словом priya, а буддийские проповедники вполне могли донести идеи о вертикальном представлении власти до Китая, где впоследствии сформировалась оппозиция между «теми, кто выше» и «теми, кто ниже». Переняв определенное понимание власти у китайцев, монголы и татары могли бы принести его на Русь. Греция тем временем пришла к переосмыслению политической метафоры, овладев алфавитом, созданным на основе приобретенной ранее слоговой азбуки. Алфавит дошел до римлян, но вызывал у носителей германских праязыков, включая говорящих на древнеанглийском, большие трудности в понимании, так что в итоге в рамках политической сферы сложилось представление о взаимодействии «высоких» и «низких» сословий. Также от носителей германских праязыков оно могло бы распространиться на Руси вместе со словом kniaz' или позже korol'. Предки тех людей, известные позднее как народ волоф, могли не до конца понять все глубже продвигающихся в Западную Африку арабов и поэтому рассматривать вес как отличительный признак пастуха и стада. Тем более что овец они никогда не видели. Аналогичными ли являются оппозиции, отраженные в языках американских индейцев, мне неясно, так как до сих пор мною не найден источник необходимой информации. Не стоит упускать из виду и возможные тихоокеанские связи, хотя при таком подходе значительно снижается степень достоверности гипотезы о происхождении от общего источника.
Вместе с тем гораздо более убедительна гипотеза, которая объясняет частоту визуальной фигуро-фоновой метафоры в представлениях политической власти частным внутриязыковым изобретением, основанным на схожести телесных переживаний. Как бы там ни было, восприимчивость к однотипным метафорам (независимо от их происхождения) должна свидетельствовать о способности людей к осмыслению визуального контраста и вертикального возвышения за счет обращения к своим собственным повседневным, телесным переживаниям.
Наряду с несостоятельностью предположения об обусловленности противоречий между членами различных культурных сообществ в виду кросс-культурного сходствa концептов политической власти, характер этих концепций тоже исключает гипотезу об их способности объяснить, почему одни страны вступают на путь демократизации, а другие сохраняют авторитарное устройство. Фигуро-фоновый контраст правителей и управляемых не препятствует демократизации, а наоборот, способствует ей. С приобретением навыков познания и концептуализации политического давления посредством метафорического представления фигуры на фоне носители любого языка приобретают способность легко вообразить, что было бы в отсутствии этого давления. Все, что для этого нужно, – отнять либо фигуру, либо фон. Так, в поисках независимости от английских сюзеренов американцы составили конституцию, исключив аристократию (nobility) и оставив только третье сословие (commoners). И хотя многие из авторoв этой конституции выступали за сохранение рабства, истребление местных жителей и ограничение влияния населения на политику, потеря одной из составляющих метафорического выражения политического господства постоянно препятствовала достижению их целей. Если рассматривать пару «деятель – коллектив» в политическом дискурсе России последнего десятилетия XX в., бросается в глаза снижение частотности употребления первого понятия и переосмысление второго, которое, в свою очередь, стало использоваться в контексте трудовые коллективы – рабочая сила предприятий, а благодаря процессу приватизации и вовсе вышло за рамки семантического поля политики. Не вызывает сомнения тот факт, что в метафорически представленном понятии силовики воспроизведена «перцептивная выделенность», характерная для парных антонимичных прилагательных, а сочетание управляемая демократия отображает фонетически несвойственную славянским языкам структуру, характерную для традиционной России. Эти примеры являют собой лишь отдаленные отголоски прошлых метафор, связанных с недемократическим правлением, они предвещают столь же медленное движение с множеством провалов и неудач, свойственных процессу развития любого демократического государства.
ЛИТЕРАТУРА
Ayalon A. Language and Change in the Arab Middle East: The Evolution of Modern Political Discourse. New York, 1987.
Errington J.J. Language and Social Change in Java: Linguistic Reflexes of Modernization in a Traditional Royal Polity. Athens, Ohio: Ohio University, Center for International Studies, 1985.
Givon T. Mind, Code, and Context: Essays in Pragmatics. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1989.
Hughes G. A History of English Words. Oxford: UK, Blackwell, 2000.
Irvine J.T. Registering Affect: Heteroglossia in the Linguistic Expression of Emotion // Language and the Politics of Emotion / Catherine A. Lutz and Lila Abu-Lughod (eds.). Cambridge, 1990.
Judge J. Print and Politics: «Shibao» and the Culture of Reform in Late Qing China. Stanford, 1996.
Kramer S.N. The Sumerians: Their History, Culture, and Character. Chicago, 1963.
Onions C.T. (ed.) The Oxford Dictionary of English Etymology. New York:
Oxford, 1966.
Raeff M. La Noblesse et le discours politique sous le regne de Pierre le Grand // Cahiers du Monde Russe et Sovietique. 1993. Vol. 34 (1–2). P. 33–46.
Schloen J.D. The House of the Father as Fact and Symbol: Patrimonialism in Ugarit and the Ancient Near East. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 2001.
Sergeyev V., Biryukov N. Russia's Road to Democracy: Parliament, Communism, and Traditional Culture. Brookfield, Vt.: E. Elgar, 1993.
Strang B. A History of English. London, 1970.
Szarzycska K. Archaic Sumerian Standards // Journal of Cuneiform Studies. 1996. Vol. 48. P. 1—15.
Unger J.M. Literacy and Script Reform in Occupation Japan. New York: Oxford, 1966.
Wieczynskii J.L. (ed.) The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet History. Gulf Breeze, Fla., 1976/1980.
Зюганов Г.А. Верность. М., 2003.
Протченко И.Я. Лексика и словообразование русского языка советской эпохи: социолингвистический аспект. М., 1985.
Проханов А.А. А ты готов постоять за Россию? // День. 1992. 25–31 окт.
Словарь современного русского языка. М.; Л., 1959.
Черных П. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1993. Т. I, II.
Джордж Лакофф (George Lakoff)
Джордж Лакофф – знаменитый американский когнитивист, создатель теории концептуальной метафоры (совместно с Марком Джонсоном), один из самых известных американских специалистов по политической лингвистике. Закончил Массачусетский технологической институт (по специальности математика и английская литература), в 1965 г. получил докторскую степень по лингвистике в Индианском университете. Преподавал в Гарвардском и в Мичиганском университетах. С 1972 г. работает профессором лингвистики в Калифорнийском университете в Беркли.
Научно-публицистическое исследование «Метафора и война: Система метафор для оправдания войны в Заливе» распространялось автором в Интернете с декабря 1990 г. (опубликовано в 1991 г.) и воспринимается многими специалистами как рубежная, открывающая современный этап развития политической лингвистики. В настоящем учебном пособии представлены фрагменты статьи.
Метафора и война: система метафор для оправдания войны в Заливе (перевод A.M. Стрельникова)
Метафоры способны убивать. Обсуждение вопроса о том, стоит ли начинать войну в Заливе, являло собой целую панораму метафор. Госсекретарь Бейкер представлял себе Саддама Хусейна «сидящим на нашей экономической линии жизни». Президент Буш изображал его «зажавшим в тиски» нашу экономику. Генерал Шварцкопф характеризовал оккупацию Кувейта как продолжающееся «изнасилование». Президент сказал, что США находятся в Заливе, чтобы «защищать свободу, защищать наше будущее и защищать невиновных», и что мы вынуждены «оттеснить Саддама Хусейна». Саддам Хусейн изображался как Гитлер. Важно, буквально жизненно важно понять, какую роль метафорическое мышление сыграло в вовлечении нас в эту войну.
Метафорическое мышление, по своей сути, – ни хорошо, ни плохо; это просто банальность и неизбежность. Абстракции и чрезвычайно сложные ситуации становятся понятны через метафору. На самом деле существует расширенная, и по большей части бессознательная, метафорическая система, которую мы используем автоматически и неосознанно для того, чтобы понять что-то сложное и абстрактное. Часть этой системы посвящена пониманию международных отношений и войны. Теперь мы знаем об этой системе достаточно, чтобы представить себе, как она функционирует <…>.
Важно различать – что метафорично, а что – нет. Боль, увечья, смерть, голод, гибель и ранения любимых не метафоричны. Они реальны, и в этой войне они могли коснуться сотен тысяч реальных людей, иракцев, кувейтцев или американцев.
Война как Политика; Политика как Бизнес
Военные стратеги и стратеги в области международных отношений широко используют метафору анализа «затрат и прибыли». Она происходит от метафоры немецкого генерала Карла Клаузевица, взятой за образец большинством стратегических теоретиков в области международной политики:
ВОЙНА – ЭТО ПОЛИТИКА ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ.
Карл фон Клаузевиц был прусским генералом, чьи взгляды на войну стали доминировать в ходе вьетнамской войны в американских кругах, близких к внешней политике. Они рассматривались как способ рационально ограничить использование военного ресурса в качестве инструмента внешней политики. Клаузевиц, в самых общих чертах, видит войну с точки зрения политического метода анализа «затрат»: у каждого государства есть политические цели, и война может наилучшим образом послужить этим целям. Политическая «прибыль» должна быть на одной чаше весов, тогда как приемлемые «расходы» – на другой. Когда военные расходы превышают политические прибыли, война должна прекратиться.
Здесь в имплицированном виде присутствует еще одна метафора: ПОЛИТИКА – ЭТО БИЗНЕС, где эффективное политическое управление рассматривается как эффективное бизнес-управление. Как и в хорошо налаженном бизнесе, успешное государственное управление должно тщательно следить за расходами и доходами. Эта метафора в политическом преломлении, вместе с метафорой Клаузевица, делает войну материалом для анализа «затрат и прибыли»: определяя выгодные «цели», подсчитывая «расходы», и решая, «стоит» ли достижение целей своих «расходов».
Газета «The New York Times» 12 ноября 1990 года разместила на первой полосе статью, сообщавшую, что «начались общенациональные дебаты о том, следует ли Соединенным Штатам вступать в войну в Персидском заливе». То, как газета описывала дебаты, я называю метафорой Клаузевица (хотя она описывала собственно метафору), и затем поднимала вопрос, «Какова тогда политическая цель страны и какие жертвы мы готовы принести?». «Дискуссия» не о том, насколько подходящей была метафора Клаузевица, а о том, как различные аналитики подсчитали соответствующие доходы и потери. То же относится и к слушаниям в Комитете по Международным отношениям Сената, где метафора Клаузевица явилась основой для большей части обсуждений.
Широкое использование метафоры Клаузевица поднимает живые вопросы: что именно делает ее метафорой? Почему она представляется такой естественной экспертам по международной политике? Как она встраивается в общую систему метафор понимания международных отношений и войны? И что наиболее важно, какие реалии она скрывает?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, давайте обратимся к системе метафорического мышления, которая наиболее широко используется для осознания международной политики. Далее последует дискуссия о роли метафорического сознания в кувейтском кризисе. Первая часть имеет дело с центральными метафорическими системами, использованными в аргументации о кризисе: это система, использованная иностранными политэкспертами, и система, использованная населением в целом. Далее идет речь о том, как эти системы использовались применительно к кризису в Персидском заливе.
Государство как индивид
Государство концептуализируется как индивид, вовлеченный в общественные отношения в мировом сообществе. Его территория является его домом. Он живет в окружении соседей, у него есть друзья и враги. Представляется, что государства обладают врожденными характеристиками: оно может быть мирным или агрессивным, ответственным или безответственным, трудолюбивым или ленивым.
Общее благосостояние государства понимается в экономических терминах как его экономическое здоровье. Серьезная угроза экономическому здоровью может таким образом рассматриваться как смертельная угроза. Если национальная экономика зависит от иностранной нефти, тогда поставка нефти становится «линией жизни» (что подкрепляется образом нефтепровода).
Сила государства в его военной мощи. Зрелость государства – в его индустриализации. Неиндустриализованные страны считаются «неразвитыми», так как индустриализация – естественный этап развития. Страны третьего мира, таким образом, – неразвитые дети, которых необходимо либо научить правильно развиваться, либо дисциплинировать. На те нации, которым не удалось развиться до «нормального» уровня, смотрят как на умственно отсталых детей и судят о них как об «отсталых» нациях. Рациональность – это максимизация выгоды.
В использовании подобных метафор есть скрытая логика: так как в интересах каждого человека быть как можно более сильным и здоровым, рациональное государство ищет способы максимально увеличить свое благосостояние и военную мощь.
Насилие может способствовать получению выгоды. Остановить его можно тремя способами: либо через баланс силы, когда никто по соседству не настолько силен, чтобы угрожать кому бы то ни было. Либо использовать коллективное убеждение и нивелировать насилие. Либо необходим достаточно сильный полицейский, чтобы сдерживать насилие или наказывать его. Такой полицейский должен действовать в рамках морали, в интересах сообщества и с санкции сообщества в целом <…>.
Наиболее распространенная форма дискурса на Западе, где идет война за сведение моральных счетов, – классическая сказка. В ней люди заменяются странами, и получается общий сценарий справедливой войны. Вот, например:
Сказка о справедливой войне
Персонажи: злодей, жертва, и герой. Жертва и герой могут быть одним и тем же человеком.
Сценарий: злодей совершает преступление против невинной жертвы (обычно вооруженное нападение, кража или похищение). Правонарушение происходит из-за дисбаланса силы, и возникает моральный дисбаланс. Герой либо собирает помощников, либо решает выступить в одиночку. Герой несет лишения, переносит трудности, обычно совершая трудное историческое путешествие, иногда за море к коварным землям. Злодей порочен от природы, возможно даже и монстр, и, таким образом, разговаривать с ним не имеет смысла. У героя не остается другого выбора, как вступить со злодеем в битву. Герой побеждает злодея и спасает жертву. Моральный баланс восстановлен. Победа достигнута. Герой, который всегда поступает благородно, доказал свое мужество и достиг славы. Жертва оправдана. Герой получает шумное одобрение вместе с благодарностью жертвы и общества.
В сказке присутствует элемент асимметрии. Герой – смелый приверженец морали, тогда как злодей аморален и труслив. Герой рационален, и хотя злодей может быть хитер и расчетлив, с ним невозможно ладить. Герои, таким образом, не могут договориться со злодеями, они должны их победить. Метафора «ВРАГ КАК ДЕМОН» возникает как результат понимания войны в сказочных терминах.
Наиболее естественный способ оправдать войну с точки зрения морали заключается в применении структуры этой сказки к конкретной ситуации. Это реализуется посредством метафорических дефиниций, отвечающих на вопросы: «Кто жертва? Кто злодей? Кто герой? Каково преступление? Что считать победой?» Каждый набор ответов предоставляет сценарии с различным содержанием.
По мере развития кризиса в Заливе президент Буш пытался обосновать начало войны, используя подобный сценарий.
Правитель как государство
Существует метонимия близкая к метафоре «ГОСУДАРСТВО КАК ИНДИВИД»: ПРАВИТЕЛЬ ВМЕСТО ГОСУДАРСТВА. С помощью этой метонимии мы можем представить себе Ирак как Саддама Хуссейна и тем самым получить одного человека вместо аморфного государства для исполнения роли злодея в сценарии справедливой войны. Именно эту метонимию применял президент Буш каждый раз, когда говорил «Мы должны избавиться от Хуссейна в Кувейте».
Кстати, подобная метонимия применима лишь к тем лидерам, которые осознаются как незаконные. Так, для нас было бы странным описывать американское вторжение в Кувейт словами «Джордж Буш вошел в Кувейт».
Система торговли
Данная система <… > состоит из трех метафор.
Казуальный перенос: результатом является объект, перенесенный с причины на подверженную воздействию часть. Например, санкции рассматриваются как источник экономических трудностей для Ирака. Соответственно, экономические трудности для Ирака рассматриваются, как «идущие» от санкций. Эта метафора превращает решительные действия в перенос объектов.
Метафора Ценностного обмена: ценность чего-либо – это то, на что вы готовы это обменять. Каждый раз, когда мы задаем вопрос, «стоит» ли идти войной на Ирак из-за Кувейта, мы используем метафору Ценностного обмена и метафору Казуального переноса.
Благосостояние является богатством: богатство составляют ценные вещи. Увеличение благосостояния – «доходы»; уменьшение благосостояния – «расходы». Метафора Благосостояние как богатство обладает эффектом перевода качественных характеристик в количественные. Это не только позволяет сравнить качественно разные вещи, но даже дает своего рода правила вычисления прибылей и издержек.
Взятые вместе эти три метафоры представляют действия как коммерческие сделки с сопутствующими доходами и расходами. Перенося понятия из области экономики в область человеческой деятельности в общем, чрезвычайно важно представлять действия как сделки.
Риск
Риск – это действие, предпринятое для достижения положительного результата, когда исход неочевиден и существует значительная возможность отрицательного результата. Так как сфера торговли позволяет нам рассматривать положительные результаты как «доходы», а отрицательные результаты как «расходы», будет естественно представить рискованную затею метафорически как финансовый риск определенного вида, а именно как азартную игру.
Риск как азартная игра
В азартной игре для достижения определенных «прибылей» существуют «ставки», которые можно «потерять». Когда спрашивают, что «на кону» при вступлении в войну, используются метафоры Торговли и Риска как азартной игры. Эти же метафоры использует президент Буш, когда говорит о стратегических перемещениях в Заливе как об «игре в покер», где с его стороны было бы глупо «открыть карты», то есть сделать свои стратегические планы достоянием общественности.
Метафора Математизации
Метафора Торговли и метафора «Риск как азартная игра» лежат в основе нашего повседневного понимания рискованных действий как азартной игры. Здесь на сцену выходит математика, так как существует математика игры, а именно: теория вероятности, теория принятия решения и теория игры. Так как метафоры Торговли и Риска как азартной игры обычны для повседневного сознания, их метафорическую природу обычно не замечают. В результате социологи пришли к выводу, что математика азартной игры применима буквально ко всем формам рискованных действий, и что она способна заложить основу для научного исследования рискованных действий по минимизации риска. <… >
Метафора Клаузевица: война – это политика другими средствами.
Так как политика это бизнес, война становится инструментом максимизации политических доходов и минимизации потерь. По словам Клаузевица, война оправдана, когда при помощи войны можно получить больше, чем без войны. В уравнении Клаузевица отсутствует мораль, за исключением того, что, действуя безнравственно, теряешь политический капитал, а действуя нравственно, преобретаешь его.
Метафора Клаузевица допускает оправдание войны лишь на основе прагматики, а не нравственности. Чтобы оправдать войну, как на нравственной, так и прагматической основе, должны сравняться метафоры из Сказки о справедливой войне и метафоры Клаузевица: «оправданные жертвы» сказки должны равняться «издержкам» Клаузевица, а «победа» в сказке должна равняться «прибыли» Клаузевица.
Метафора Клаузевица является отличной экспертной метафорой, поскольку она требует знания специалистов в области вычисления политических «расходов» и «доходов». Она предполагает использование экономической математики, теории вероятности, теории принятия решения и теории игры для превращения внешней политики в рациональную и научную.
Метафора Клаузевица обычно представляется как несомненно истинная. Теперь мы можем обозначить, что делает ее метафорической. Во-первых, она использует метафору Государство как Индивид. Во-вторых, она превращает качественное воздействие на человека в количественные расходы и доходы, и таким образом представляет политическую деятельность в виде экономики. В-третьих, рассматривает рациональность как коммерцию. В-четвертых, рассматривает войну в категориях лишь одного аспекта войны, политической целесообразности, которая, в свою очередь, концептуализируется как бизнес.
Война как Преступление против личности
Для того чтобы помнить, что скрыто в метафоре Клаузевица, нам следует рассмотреть альтернативную метафору, которую не используют ни профессиональные стратеги, ни общественность для понимания войны.
ВОЙНА – ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ: УБИЙСТВО, НАПАДЕНИЕ, ПОХИЩЕНИЕ, ПОДЖОГ, НАСИЛИЕ И КРАЖА.
Здесь война понимается лишь в нравственном аспекте, а, скажем, не в политическом или экономическом. Данная метафора выделяет те аспекты войны, которые предстают как серьезные преступления.
Существует асимметрия МЫ/ОНИ между тем, как метафора Клаузевица используется обществом, и в метафоре Война как Преступление. Об иракском вторжении в Кувейт сообщали как об убийстве, нападении и насилии. Американское вторжение никогда не обсуждалось в терминах убийства, нападения и поджога. Более того, военные планы США рассматривались, выражаясь языком Клаузевица, как рациональные расчеты. Но про иракское вторжение говорили не как о рациональном шаге Саддама Хусейна, а как о поступке безумца. Мы представляли СЕБЯ рациональными, нравственными и смелыми, а ИХ преступными и сумасшедшими.
Война как Соревнование
Уже давно подмечено, что мы осознаем войну как соревнование по типу шахмат, футбола или бокса. Это метафора, в которой присутствуют очевидные победитель, проигравший и четкое окончание игры. Эта метафора придает большое значение стратегическому мышлению, командной работе, подготовленности, зрителям на мировой арене, славе победы и стыду поражения.
К этой метафоре относятся очень серьезно. На Западе существует давняя традиция дополнительно тренировать военных офицеров в командных видах спорта и шахматах. Военного человека готовят побеждать. Это может привести к конфликту метафор, что и случилось во Вьетнаме, так как метафора Клаузевица пытается добиться максимизации геополитической прибыли, что может быть сообразно или не сообразно абсолютной военной победе. Фактически миф, созданный правыми о том, что война во Вьетнаме велась «лишь одной рукой, тогда как другая была связана за спиной», использует боксерскую версию спортивной метафоры. Ссылаются на то, что принципы Клаузевица применялись во Вьетнаме для ограничения нашего участия в этой войне.
Саддам иррационален?
Злодей в Сказке о справедливой войне может быть хитрым, но чужд рациональности. Вы просто не пытаетесь вразумить дьявола и не вступаете с ним ни в какие переговоры. Логика метафоры требует того, чтобы Саддам Хусейн был иррациональным. Но был ли он таким в действительности?
Администрация запуталась в этом. Использованная стратегами метафора Клаузевица допускала, что враг рационален: он тоже максимизирует прибыли и минимизирует убытки. Изначально нашей стратегией было «увеличить убытки» Саддама Хуссейна. Это означало, что он рационален и максимизирует свою выгоду.
В то же самое время его называли иррациональным <…>. Если бы он был рациональным, он бы следовал логике устрашения. У нас тысячи водородных бомб в боеголовках. У Израиля насчитывается от 100 до 200 готовых к использованию атомных бомб <…>. То, что он не испугался нашего и израильского ядерного арсенала, говорит о его неразумности.
Аналогия с Гитлером также «свидетельствует» о злодейском безумии Саддама. Аналогия основывается на мифе о Гитлере, в котором Гитлер также представал скорее в роли иррационального демона, чем в роль рационального жестокого политика <…>. Саддам Хусейн – несомненно, безнравственный, безжалостный и грубый, но нет подтверждения, что он иррационален. Все, что он сделал, начиная с покушений на политических оппонентов и заканчивая вторжением в Кувейт, может рассматриваться как продолжение его самообогащения. <… >
Арабская точка зрения
Метафоры, использованные для концептуализации кризиса в Заливе, скрывают в себе наиболее мощные политические идеи в арабском мире: арабский национализм и исламский фундаментализм. Первый имеет целью создание основанного на расовом принципе арабского государства из одних арабов, другой же – создание теократического исламского государства. Хотя эти два принципа весьма противоположны, у них есть много общего. Оба они концептуализируются в терминах семьи: арабское братство и исламское братство. Оба рассматривают братства как более законную основу для государства, чем имеющаяся. Оба расходятся с метафорой Государство как индивид, которая рассматривает существующие в данное время государства как нечто объективно существующее с правом существовать вечно.
За нашими метафорами также скрывается не менее важный аспект, присущий арабскому миру: арабское величие. Оба политических движения рассматриваются как пути достижения величия через объединение. Современные государственные границы воспринимаются как препятствующие арабскому величию по двум причинам.
Первая – разделение между богатыми и бедными в арабском мире. Бедные арабы смотрят на богатых как на случайно разбогатевших <… > Метафорическое рассмотрение арабов как одной семьи предполагает, что нефтяное богатство должно принадлежать всем арабам. Для многих арабов национальные границы, обозначенные колониальными властями, остаются незаконными, нарушающими идею арабов о едином «братстве» и доводящими до нищеты миллионы людей.
Для этих доведенных до нищеты миллионов положительной стороной вторжения Саддама в Кувейт было то, что он тем самым бросил вызов государственным границам и выдвинул на передний план проблему разделения на богатых и бедных, проблему, поставленную этими линиями на песке. Если и суждено быть миру в регионе, то эти проблемы нужно решать, скажем, заставляя богатые арабские страны делать обширные инвестиции в развитие бедных арабских стран. До тех пор пока существует огромная бездна между богатыми и бедными в арабском мире <…>, регион будет оставаться нестабильным.
Вторая причина – границы делают арабов слабее. Современные государственные границы становятся причиной конфликтов между арабскими государствами и таким образом делают их слабее. По мнению арабов, то, что мы называем «стабильностью», является проявлением слабости.
Слабость – это главная тема в арабском мире. Она часто концептуализируется в сексуальных терминах, даже более часто, чем на Западе. Американские чиновники, говоря о «насилии» над Кувейтом, концептуализировали слабую, беззащитную страну как женщину, а сильную военную державу как мужчину. Подобным образом у арабов принято концептуализировать колонизацию и последующее доминирование Запада, особенно США, над арабским миром как кастрацию.
Говорят, в Ираке до вторжения США была популярна арабская пословица «Лучше быть петухом один день, чем курицей целый год». Идея ясна: лучше быть мужчиной, то есть сильным и доминирующим на короткий период времени, чем быть женщиной, то есть слабой и беззащитной, в течение продолжительного времени. Большинство арабов поддерживают Саддама Хусейна потому, что его представляют восставшим против США, пусть даже ненадолго. Так как отстаивание достоинства было важнейшей составляющей того, что является «рациональным интересом» Саддама, нет ничего удивительного, что он хотел пойти на войну, чтобы «быть петухом на один день». Одно то, что он выжил в войне с США, делает из него героя в мусульманском мире.
«Издержки» войны
Метафора Клаузевица требует подсчета «расходов» и «доходов» от участия в войне. Что именно включается в эти расчеты, а что нет? Конечно, человеческие потери среди американцев, оборудование и доллары, потраченные на операцию, считаются издержками. Но Вьетнам научил нас, что существуют и социальные потери: травмы семьям и общинам, крушение надежд, психологический эффект у участников военных действий, длительные проблемы со здоровьем, обширные затраты на продолжение совершенствования огромной военной машины. Все это в добавление к финансовым издержкам, которые могли быть потрачены на важные социальные нужды <….>.
Что наиболее отвратительно в расходно-доходном вычислении, так это то, что в сумме получается ноль: «потери» с другой стороны считаются «прибылью» для нас. Во Вьетнаме подсчеты тел убитых вьетконговцев воспринимались как доказательство военной «прибыли». Мертвые записывались в прибыльную часть нашего гроссбуха.
Много разговоров идет о смерти американцев как о «потерях», но при этом не упоминаются смерти среди иракцев. «Расходно-доходная» метафора и сказочный злодей привели нас к обесцениванию жизней иракцев, даже в то время, когда большинство из них никогда не станут злодеями, а были просто невинными призывниками или резервистами из числа штатских, особенно женщины, дети и старики.
Америка как Герой
Классическая сказка дает следующее определение героя: это человек, который спасает невинную жертву и наказывает виновного от природы злодея, и тот, кто делает это скорее по моральным, нежели корыстным, причинам. Так является ли Америка героем в войне в Заливе? <…>
Во-первых, одной из наших главных целей было восстановить в правах «законное правительство Кувейта». Это означает восстановление в правах абсолютной монархии с огромным количеством нарушений прав человека и гражданских свобод. Кувейт не представляет собой невинную жертву, чье спасение сделает нас героями.
Во-вторых, люди, которые страдают от наших атак, по большей части, люди невинные, которые не принимали участие в зверствах по отношению к Кувейту. Убийства и увечья множества случайных невиновных свидетелей в процессе задержания гораздо более мелкого числа злодеев также не сделает никого героем.
В-третьих, в сценарии самообороны, где проблемой является нефть, Америка действует в своих интересах. Но чтобы являться законным героем в сценарии спасения, она должна действовать бескорыстно. Таким образом, вырисовывается противоречивое между интересами героя в сценарии самообороны и совершенно бескорыстным героем сценария освобождения.
В-четвертых, Америка может быть героем для королевских семей Кувейта и Саудовской Аравии, но она не будет героем для большинства арабов. Большинство арабов не мыслят в категориях наших метафор. Множество арабов представляют нас как колониальную власть, использующую законную силу против Арабского брата. Для них мы – злодеи, а не герои.
В-пятых, Америка поставляла вооружение Саддаму Хуссейну до его вторжения в Кувейт, в те годы, когда он был не менее жесток по отношению к иракским гражданам. Классические герои не помогают и не снабжают оружием хорошо известных злодеев.
Америка оказывается классическим героем, лишь если вы невнимательно всмотритесь в применение метафоры к ситуации. Именно в этом случае метафора «Государство как человек» функционирует так, что остаются скрытыми жизненно важные истины. Метафора «Государство как человек» скрывает внутреннюю структуру государств и позволяет нам рассматривать Кувейт как унитарную сущность, беззащитную деву, которую нужно спасти. Метафора скрывает монархический характер Кувейта и то, как правительство Кувейта относится к своим подданным и иностранным рабочим. Метафора «Государство как человек» также скрывает внутреннюю структуру Ирака и, таким образом, умолчивает о людях, которых, скорее всего, убьют или ранят. Она также скрывает деление Ирака на шиитов, суннитов, курдов. Эта же метафора скрывает тот факт, что именно бедняки и национальные меньшинства США пострадают в наибольшей степени, не почуствовав сколько-нибудь значительной пользы. И она же скрывает главные идеи, которыми руководствуются политики, занимающиеся Востоком.
Конечные замечания
Действительность существует. А также существует бессознательная система метафор, которой мы пользуемся для понимания реальности. Что делает метафора? Ограничивает то, что мы замечаем; выдвигает на первый план то, что мы видим, и частично представляет дьявольскую структуру, с которой мы сосуществуем. Из-за проникновения метафоры в сознание мы не всегда можем обсуждать реальность в исключительно точных категориях.
Не существует способа избежать метафоризации мышления, особенно в сложных случаях, таких как проблемы внешней политики. Но я, таким образом, не возражаю против использования метафоры как таковой в дискурсе внешней политики. Мои возражения, в первую очередь, направлены против отрицания присутствия метафоры в дискуссиях о внешней политике, во-вторых, против неспособности понять, что скрывают метафоры, и, в третьих, против неспособности образно мыслить о том, что новые метафоры могут быть более милосердными.
Мы должны уделять больше внимания механизмам метафорического мышления, в особенности потому, что такие механизмы обязательным образом используются в дискуссиях о внешней политике, и потому что, и мы тому свидетели, метафоры, подкрепленные бомбами, способны убивать.
Вильям Л. Бенуа (William L. Benoit)
В. Бенуа – профессор Миссурийского университета (США), главный редактор журнала «Communication Studies» и член редколлегий журналов «Journal of Applied Communication Research», «Southern Communication Journal», «Communication Quarterly^, «Asian Journal of Communication)), «Western Journal of Communication), «Journal of Broadcasting and Electronic Media»; автор «теории построения риторического дискурса» и «функциональной теории дискурса политической кампании», получивших широкое признание в США и других странах. Автор одиннадцати монографий, посвященных анализу политического дискурса избирательных кампаний, теории риторического критицизма, «конверсационной памяти» и теории убеждения.
В последние годы В. Бенуа и его коллеги исследовали дискурс избирательной компании с позиций функциональной теории в десятках стран мира, охватив период 1948–2004 гг. Функциональная теория исследования дискурса избирательных кампаний имеет значительный потенциал. Она успешно использовалась для изучения избирательных кампаний как в США, так и за их пределами. Вполне возможно, что она может быть использована и в условиях России.
Представленная в настоящем издании статья была специально написана В. Бенуа для российских читателей. Исследование впервые опубликовано в «Известиях Уральского государственного педагогического университета. Лингвистика. Выпуск 18» (Екатеринбург, 2006).
Функциональная теория дискурса политической кампании (перевод О.А. Ворожцовой и А.М. Стрельникова)
Во многих странах проводятся избирательные кампании на право занимать государственные должности, по их правила и традиции различны. Так, например, предвыборные политические дебаты проходят в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Греции, Голландии, Израиле, Новой Зеландии, Шотландии, Южной Корее, Швеции, Польше, Тайване, на Украине и в Соединенных Штатах. Политическая телевизионная реклама выходит в эфир в Британии, Франции, Германии, Греции, Израиле, Италии, Корее, Польше, России, Тайване, Турции и Соединенных Штатах. Несомненно, государственный строй различных стран и проводимые в них избирательные кампании имеют ряд отличий. В некоторых странах избиратели голосуют непосредственно за кандидатов; в странах с парламентской формой правления избиратели отдают голоса за политическую партию. Требования к избирателям и правила участия кандидатов и политических партий в выборах также разнятся в отдельных странах. Например, отличием системы правительства в Южной Корее является то, что президент может избираться на один срок и не может иметь вице-президента [Lee, Benoit 2005]. Следует помнить о данных различиях и их важности. Тем не менее основная ситуация на выборах – политические кандидаты, партии и организации, пытающиеся убедить большинство избирателей проголосовать за них или представляемые ими политические партии, – является доказательством существования общих черт. Кроме того, в ситуации унифицирования систем массовой информации во всем мире [Hallin, Mancini 2005] можно утверждать и то, что формы сообщений избирательных кампаний начинают все больше походить друг на друга. Политические дебаты и телевизионная реклама, к примеру, регулируются законодательством, но могут рассматриваться скорее как медийные события, а не как аспекты системы правительства.
В настоящей статье описывается функциональная теория дискурса политической кампании, которая может применяться для анализа сообщений избирательных кампаний в США и, в меньшей степени, в других странах. Очевидно, что данный подход не единственный, однако он заслуживает внимания. Не вызывает вопросов и тот факт, что сообщения политической кампании носят инструментальный характер и направлены на достижение определенной цели (получение политической должности), то есть функциональны по своей сути. Конечно, небольшое количество кандидатов, не имеющих реальных шансов на победу, претендуют на пост в целях саморекламы, но таковых меньшинство. Большинство кандидатов используют предвыборные сообщения для убеждения избирателей проголосовать именно за себя, а не за оппонентов. Анализ языкового материала избирательных кампаний в рамках функциональной теории поможет понять сообщения различных реальных претендентов на государственные посты.
АКСИОМЫ. Функциональная теория дискурса политической кампании основана на 6 исходных положениях, которые подробно представлены ниже. Читатели настоящей статьи, интересующиеся политическими кампаниями, могут судить о соответствии данных положений конкретной ситуации в различных государствах.
1. Голосование – это акт сравнения. При голосовании перед каждым гражданином стоит очевидный выбор, а именно: за какого кандидата (или политическую партию) отдать свой голос. Этот выбор между двумя (или более) возможностями, естественно, содержит в себе сравнительное суждение. Неразумно полагать, что все партии или кандидаты одинаково хороши. Возможно также, что избиратель не примет некоторые предложения кандидата или партии, так как среди большинства хороших могут быть и плохие. Каждый избиратель решает для себя, какой кандидат (или партия) представляется ему наиболее предпочтительным на основании наиболее значимого фактора.
2. Кандидаты должны выделяться среди оппонентов. Первое положение функциональной теории о том, что голосование – это акт сравнения, определяет последующее: если голосование – акт сравнения, то одним кандидатам необходимо сообщить избирателям о том, каким образом они отличаются от других. Если гражданин не видит разницы между двумя кандидатами, у него нет причины предпочитать одного кандидата другому. Это означает, что кандидаты, участвующие в конкурентных избирательных кампаниях, должны четко обозначить свои отличия от оппонентов и донести их до сознания электората.
Однако не стоит полагать, что кандидат на выборную должность должен противоречить своим оппонентам по каждому вопросу. Очевидно, что все кандидаты захотят поддержать оборонную мощь страны, увеличить количество рабочих мест и понизить уровень инфляции. Однако средства достижения данных целей могут быть различными. В связи с этим можно ожидать определенные схожие черты в позициях кандидатов. Но все же, если избирателю необходимы основания для выбора одного кандидата, а не другого, кандидаты должны прояснить избирателю хотя бы некоторые свои отличия от оппонентов.
3. Сообщения политической кампании – важная движущая сила для различения кандидатов. Первые два положения определяют третье: кандидаты используют определенные сообщения в рамках предвыборной кампании для акцентирования своих отличий. Некоторые сообщения попадают к избирателям напрямую: через речи кандидата, телевизионные передачи, печатные агитационные материалы, теледебаты, материалы интернет-сайтов кандидатов. С другой стороны, часть информации (к которой также относится информация из пресс-релизов) доставляется избирателю посредством СМИ – через новости, освещение кампании журналистами. Не только СМИ, но и другие заинтересованные организации и лица также распространяют информацию о кандидатах. Однако анализ показывает, что избиратели не всегда могут полагаться на СМИ для получения данной информации. В своем исследовании Пэттерсон и МакКлюр (1976) пришли к следующему выводу: в 1972 году в США «в ходе коротких дополнительных выборов рекламные материалы президентов содержали в себе гораздо больше информации о выборах, чем сообщения телевизионных комментаторов».
Напомним три основных факта, касающихся освещения предвыборных кампаний: (1) новости выполняют так называемую «функцию швейцара», решая, какие идеи кандидатов донести до избирателей, а о каких умолчать, (2) новостийные СМИ имеют возможность прокомментировать идеи кандидатов, таким образом положительно или отрицательно оценивая последних, и (3) в новостях гораздо большее внимание уделяется вопросам лидерства кандидатов (кто впереди, какова стратегия кампании, ее основные события), нежели политическим позициям кандидатов и их соответствию искомым должностям [Farnsworth, Lichte 2003; Patterson 1980; Robinson, Sheehan 1983]. Итак, избиратели могут получить информацию о кандидатах и их политических взглядах на ряд вопросов не только посредством сообщений кандидатов, но и через новости.
В-третьих, многие избиратели получают информацию о кандидатах и их политических позициях от других избирателей в политических беседах [Lenart 1994]. Необходимо пояснить, что мы не разделяем идею теории «лидеров общественного мнения» [Lazarsfeld, Berelson, Gaudet 1948], в соответствии с которой небольшое количество людей («лидеры общественного мнения») получают информацию из сообщений кандидатов и затем передают ее другим гражданам. Нам представляется, что любой человек может владеть информацией о выборах, не известной для его собеседника, которой они обмениваются в ходе дискуссии на политическую тему. Или, например, сегодня вы рассказали своему другу то, что он не знал о предстоящих выборах, а завтра он расскажет вам что-то новое. Итак, многие избиратели получают информацию о политической кампании, взаимодействуя друг с другом.
Таким образом, избиратели получают информацию о кандидатах и выборах из нескольких источников, а именно: из сообщений самих кандидатов, из освещения кампании в новостях, через сообщения других людей или групп людей и посредством политических дискуссий. Не забывайте о том, что все перечисленные источники имеют очень сложную структуру: кандидаты могут выступать с речами, участвовать в дебатах, телевизионных политических рекламных роликах, появляться в ток-шоу, создавать страницы в Интернете, а также использовать другие формы сообщений (при этом кандидаты могут делать это многократно). У избирателей есть доступ к телевизионным новостям (по разнообразным широковещательным, кабельным и интернет-каналам), а также к самым разнообразным газетам и журналам. Гражданин имеет возможность обсудить выборы с разными людьми, каждый из которых обладает определенной информацией и имеет свою точку зрения. Сообщения из нескольких источников могут подкреплять друг друга, противоречить друг другу или относиться к различным темам. Современная избирательная компания разворачивается в сложном медийном окружении, состоящем из сотен тысяч различных сообщений. Каждый отдельный избиратель не способен получить все сообщения, однако доступная информация о кандидатах на выборную должность может носить комплексный характер (в частности, чем выше искомая должность, тем больше денег кандидаты затрачивают на кампанию и тем более выгодной она становится для СМИ). Хотим пояснить, что ни в коей мере не предполагаем, что все избиратели (или даже большинство избирателей) проявляют значительный интерес к выборам или ищут информацию о кандидатах, их взглядах на проблемы, критически оценивают информацию (и источники информации) и упорно работают над принятием рационального электорального решения. Очевидно, что интерес к выборам и активность в поиске информации о них значительно отличается у разных избирателей. Некоторые граждане никогда специально не занимаются поиском информации о кандидатах, а голосуют на основании той информации, которую пассивно получили во время кампании. Тем не менее сообщения, получаемые в ходе предвыборной кампании, способны информировать и убеждать избирателей, следовательно, заслуживают внимания ученых.
4. Восхваление, нападение и защита – методы создания предпочтительного образа кандидата.
Конечно, кандидатам недостаточно просто отличаться от своих оппонентов; необходимо отличаться и быть привлекательными для избирателей. С.Л. Попкин объясняет это таким образом: «Если кандидат обращает взгляды и интересы противников в свои преимущества, ему удается завоевать большинство голосов граждан, относящихся к разным политическим лагерям» [Popkin 1994: 8]. Например, высказывание вроде «Я – единственный кандидат, предлагающий упразднить нашу систему обороны», безусловно, выделит кандидата из ряда конкурентов, однако вряд ли поможет завоевать много голосов. Таким образом, кандидат должен отличаться от оппонентов в положительную сторону и заставить избирателя сделать желаемый выбор.
Из того, что кандидат должен казаться предпочтительным для большинства своих избирателей, вытекают три потенциальных функции сообщений избирательной компании. Во-первых, сообщения кандидата должны восхвалять его или, другими словами, повествовать избирателям о его положительных сторонах (Benoit 1997). Акцентирование желаемых качеств или взглядов кандидата способно представить его в лучшем свете на фоне оппонентов, в частности для тех избирателей, которые высоко ценят данные качества и взгляды. Итак, один из способов повысить впечатление того, что один кандидат предпочтительнее остальных, – это создавать сообщения, восхваляющие или подчеркивающие его или ее желаемые качества. Конечно, кандидаты зачастую восхваляют одни и те же цели: создание рабочих мест, снижение роста инфляции, защита государственных интересов. Восхваление может представить кандидата в положительном свете, однако может спровоцировать и противоположный эффект.
Вторая функция сообщений, создаваемых в ходе избирательной кампании, – это нападение или критика оппонента. Определение слабых сторон, недостатков оппонента способно сделать его менее привлекательным для избирателей (опять же, тех избирателей, которые положительно относятся к тактике нападения). Это означает, что нападение способно повысить сетевую предпочтительность нападающего кандидата путем понижения привлекательности оппонентов: чем хуже выглядят мои соперники, тем лучше кажусь я на их фоне (не забывайте, что на выборах решение принимается на основании сравнения).
Имеется ряд свидетельств, доказывающих, что избиратели скорее склонны положительно воспринимать нападки на предлагаемый кандидатом политический курс, чем на личности [Johnson-Cartee, Copeland 1989], поэтому некоторые нападения могут вызвать результат обратный желаемому. Результаты другого исследования показывают, что положительная политическая реклама имеет такую же силу воздействия на избирателей, как и отрицательная [Allen, Burrell 2002; Lau, Sigelman, Heldman, Babbitt 1999]. Очевидно, что нападение является одним из способов проведения предвыборной кампании, способным убедить избирателей в предпочтительности кандидата. Тем не менее данное исследование не подтверждает положение о большей эффективности отрицательной агитации по сравнению с положительной.
Многие избиратели говорят, что им не нравится, когда кандидаты поливают друг друга грязью [Merritt 1984; Stewart 1975]. Но это не означает, что метод нападения неэффективен: у избирателей может сформироваться предубеждение по отношению к объекту нападения, даже если им не нравится грязные политтехнологии. И тот факт, что большинству избирателей не нравится поливание кандидатов грязью, является слабой стороной метода нападения, чего нельзя сказать о методе восхваления. Используя нападение, можно получить результат, обратный желаемому, при котором избиратели предпочтут нападающему объект нападения. Эта вероятность может привести к тому, что кандидаты будут чаще использовать восхваление, чем нападение. Исследование политических телепередач в преддверии президентских выборов [Benoit 1999] показало, что метод нападения чаще использовали кандидаты с наименьшими шансами на победу. Итак, кандидат может прибегнуть к нападению в том случае, когда начинает отчаиваться, когда ничто кроме этого не поможет обогнать противников.
Третья возможная функция сообщений в рамках предвыборной кампании – это защита или утверждения, отрицающие нападения [Benoit, 1995]. Своевременная и подходящая защита потенциально способна предотвратить дальнейшее поражение от нападок оппонентов и способна вернуть шансы кандидата, частично утраченные в результате нападений. Тем не менее необходимо знать, что защита имеет ряд возможных недостатков: (1) ответ кандидата на нападение может поставить его в оборонительную позицию на продолжительное время, а кандидату более выгодно предстать перед избирателем нападающим, а не защищающимся; (2) объектом нападок чаще всего являются слабые позиции кандидата, в связи с чем ответная реакция способна обнаружить его некомпетентность. Общая рекомендация кандидатам – как можно больше времени уделять тем темам, в которых они сильны. (3) Кандидат должен уметь сначала определить тему, в рамках которой его критикуют, и лишь затем выступать с опровержениями. Упоминание о нападении напомнит или сообщит избирателям о подозрительной слабости кандидата.
Необходимо упомянуть, что политики и их консультанты в общем представляют себе обозначенные выше функции сообщений избирательной кампании. Например, в 1972 году, когда президент Р. Никсон переизбирался на второй срок, один из его помощников Х.Р. Холдман посоветовал следующее: «Гораздо сложнее будет заставить проголосовать за вас эти 20 процентов неопределившихся избирателей, если вы будете акцентировать свои положительные стороны. Проще до смерти напугать их МакГоверном и заставить проголосовать против него» [Popkin 1976: 794n]. Итак, Х.Р. Холдман понимал, что Р. Никсон потенциально мог получить голоса, восхваляя себя или нападая на своего оппонента. Другой советник, В. Бреглио, работавший с Рональдом Рейганом во время успешной кампании 1980 года, объяснил следующее: «Сейчас в ходе избирательных компаний недостаточно приводить доводы, по которым люди должны голосовать за вас. Следует также представить причины, по которым им не следует голосовать за оппонента». Очевидно, что кандидаты, используя функции восхваления, нападения и защиты в своих сообщениях, способны формировать предпочтения избирателей.
Это означает, что дискурс кампании по выборам можно исследовать с точки зрения высказываний, имеющих своей целью восхваление кандидата, нападение на оппонента (оппонентов) и защиту кандидата от нападения оппонентов. И хотя данные функции сообщений неодинаково частотны, все они присутствуют в сообщениях избирательной кампании и кандидаты используют их для повышения своей политической привлекательности.
5. Дискурс выборов разворачивается вокруг двух тем: политики и личности кандидатов. В своих попытках выделиться политики эксплуатируют две основные темы: собственную личность (также часто используется термин «имидж») и/или свои политические установки (способы решения политических «проблем»). Одни кандидаты пытаются представить себя компетентными и сильными лидерами. Другие пытаются создать впечатление честных и сострадательных людей. Кандидаты также обсуждают свои предложения на будущее или былые достижения в политике по вопросам образования, рабочих мест, национальной обороны, преступности. В дебатах президентской кампании на Украине 2004 года кандидаты Янукович и Ющенко обсуждали такие политические проблемы, как экономика, заработная плата, цены и пенсии. Политика и личность – две основные темы, в рамках которых кандидаты могут пытаться выделить себя из ряда оппонентов.
Некоторые ученые доказывают, что аспект политики гораздо более важен, чем аспект личности. T.E. Пэттерсон и Р.Д. МакКлюр пишут, что «из всей информации, получаемой избирателями из СМИ в ходе кампании по выборам президента, знание о политических установках кандидатов является наиболее значимым» [Patterson, McClure 1976: 49]. Подобной точки зрения придерживается и С.Р. Хофстеттер, отмечающий, что «политические позиции кандидата являются ключевыми элементами, формирующими предпочтения если не всех, то большинства избирателей» [Hofstetter 1976: 77].
Опросы общественного мнения, проведенные в период с 1976 по 2000 год, показывают, что подавляющее большинство американских избирателей основываются в своих предпочтениях на политических установках кандидата, а не на оценке его личных качеств [Benoit 2003]. Более того, мы выявили [Benoit 2003], что победившие на президентских выборах кандидаты в своих предвыборных сообщениях больше обсуждали свои политические предложения, нежели акцентировали внимание избирателей на личных качествах. Однако это не означает, что личность кандидата не имеет значения; значительная часть избирателей искренне верят в важность личности кандидата и считают ее наиболее важным фактором принятия электорального решения на президентских выборах. Тем не менее достоверные факты свидетельствуют о доминировании политических установок кандидата над его личными качествами в ситуации президентских выборов в Америке. И конечно, если бы избиратели в США или любой другой стране уделяли большее внимание личным качествам кандидата, а не его политическим взглядам, ситуация, возможно, изменилась бы и политики чаще акцентировали бы аспект личности.
6. Кандидат должен получить большинство голосов избирателей, участвующих в выборах. Несмотря на то что данное утверждение представляется очевидным, в нем скрывается нечто большее, имеющее значение для политических выборов вообще и президентских выборов в частности. Во-первых, необходимо отчетливо представлять себе, что кандидату нет необходимости убеждать всех и каждого в том, что он предпочтительнее своих оппонентов. Не представляется возможным или необходимым завоевать поддержку каждого гражданина. Позиция политика, например, по вопросу абортов, в одно и то же время поможет ему получить поддержку одних избирателей и вызовет неприязнь у других. Поэтому поддержка избирателей по многим вопросам дихотомична. Так, например, в 2000 году губернатор Дж. Буш хотел разрешить некоторым гражданам самостоятельно инвестировать часть отчислений, выплачиваемых в фонд социального страхования, в то время как вице-президент А. Гор был против этого. Этот вопрос разделил избирателей на два лагеря, поэтому кандидаты в президенты не могли надеяться на поддержку абсолютно всех избирателей. Данный пример иллюстрирует положение о том, что кандидату для победы на выборах нет необходимости добиваться поддержки всех избирателей.
Во-вторых, необходимо ясно осознавать, что значимыми на выборах являются голоса тех избирателей, которые приходят на выборы и голосуют. Поэтому кандидату не требуется поддержка большинства граждан; ему необходима поддержка большинства реально голосующих граждан. Не следует пытаться быть привлекательным для тех, кто не имеет права голосовать, или для тех, кто осознанно не ходит на выборы (хотя, конечно, нельзя быть полностью уверенным в том, кто будет участвовать в голосовании). По этой причине результаты опросов общественного мнения всего лишь свидетельствуют о предпочтениях потенциальных избирателей.
В-третьих, президентские выборы в Америке являются особенными, так как для победы на них кандидату достаточно убедить 270 Выборщиков. Проблема несовершенства института Коллегии Выборщиков активно обсуждалась в ходе президентских выборов 2000 года в Америке. Несмотря на то что Альберт Гор опередил Джорджа Буша на 500 000 голосов избирателей, Буш выиграл выборы, получив большинство голосов Коллегии Выборщиков [Duchneskie, Seplow 2000]. Значимость Коллегии Выборщиков и правило о том, что победителей не судят, в последнее время заставляет кандидатов в президенты бороться за искомую должность все более энергично и настойчиво (например, вкладывать больше средств в политическую рекламу; планировать больше выступлений и агитационных поездок). Естественно, совершенно другая ситуация складывается в государствах с парламентской формой правления, при которой граждане голосуют не за конкретных кандидатов, а за партии.
Итак, кандидаты в президенты распространяют предвыборные сообщения различными средствами (через выступления, телевизионные передачи, дебаты, почтовые рассылки, обращения по радио, через Интернет) в надежде на то, что их информацию получат те, кто уделяет внимание этому средству информации. Восхваление или предоставление информации о достоинствах кандидата (предпочтительных взглядах или качествах) направлено на повышение привлекательности данного кандидата. Нападение или предоставление информации о недостатках оппонентов (политических или личных) понижает их привлекательность для электората. Защита или отражение нападения имеют своей целью восстановление кандидатом своей привлекательности для избирателя.
Три перечисленные функции могут рассматриваться как особая форма экономического анализа: если восхваление убедительно, оно способно повысить результативность кандидата; атаки увеличивают расходы оппонента; а защита снижает уровень предполагаемых затрат. Считаю необходимым прояснить, что избиратели, конечно, не измеряют эффективность приемов восхваления и нападения в числовом формате, как это принято в традиционном анализе. Полагаю, что три обозначенные функции формируют общую оценку кандидатов. Восхваление, будучи убедительным, должно повысить общий политический вес кандидата. Воспринятые публикой нападения на оппонента должны увеличить затраты объекта нападения. Эффективная защита должна снизить предполагаемые затраты защищающегося кандидата. Совокупный эффект множества сообщений, воспринятых избирателем из разных источников и реализующих три обозначенные функции, под влиянием личных мнений и ценностей избирателей должен в конечном счете определить их электоральное решение.
Все сказанное выше объясняет, почему основные идеи кандидата должны постоянно повторяться в ходе избирательной кампании. Благодаря повторению кандидаты усиливают силу воздействия сообщений на внимательно следящих за выборами избирателей. С другой стороны, кандидаты распространяют относительно схожие сообщения в надежде на то, что та часть избирателей, которая уделяет мало внимания выборам, рано или поздно поймет ключевые идеи кандидатов.
ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА. Функциональный подход к изучению коммуникации в ходе избирательных кампаний имеет ряд важных преимуществ перед другими подходами. Положения данного подхода, как мы далее увидим, позволяют предвидеть природу сообщений кампании. Политические телевизионные передачи представляют собой наиболее интенсивно изучаемую форму сообщений в ходе кампаний по выборам президента. Таким образом, начну с объяснения преимуществ функционального подхода перед другими подходами на примере политической рекламы. По моему мнению и мнению большинства ученых, политическая телереклама выполняет две функции: функцию восхваления (позитивная) и функцию нападения (негативная). Тем не менее функциональный подход выделяет еще и третью функцию, функцию защиты, которая не принимается во внимание другими исследованиями. Например, одна из телевизионных программ в поддержку вице-президента Ричарда Никсона в избирательной кампании 1960 года началась с пояснения, что данная реклама является чистым примером защиты, ответом на атаку его оппонента: «Президент Эйзенхауэр отвечает на обвинения Кеннеди и Джонсона тем, что за последние восемь лет Америка ничего не достигла». В приведенном примере есть атака на Р. Никсона и констататация того, что президент Эйзенхауэр будет на нее отвечать. Далее был показан видеоролик, где президент Эйзенхауэр отметил: «Друзья мои, никогда еще Америка не достигала так много за такое короткое время», полностью опровергая, таким образом, указанное обвинение. В действительности это сообщение нельзя понять через отнесение его к положительной или отрицательной рекламе, абсолютно ясно, что в нем есть что-то еще. Оно указывает на атаку оппонента и открыто ее отрицает. Таким образом, вычленяя функцию защиты, наряду с функциями восхваления и нападения, функциональный подход дает более глубокое понимание сообщения в избирательных кампаниях.
Во-вторых, в отличие от большинства других исследований, в силу того, что многие телепрограммы содержат множество высказываний, мы не подразделяем рекламные ролики на полностью положительные (относящиеся к восхвалению) или отрицательные (относящиеся к нападению). Некоторые примеры политической рекламы целиком отрицательны или целиком положительны, но многие являются смешанными по характеру, и эта пропорция не всегда составляет 50/50. В качестве иллюстрации полностью отрицательной рекламы приведем следующую выдержку из текста периода кампании по переизбранию Билла Клинтона в 1996 году: Ценности Америки. Президент запрещает использование смертоносного штурмового оружия, Доул и Грингрич голосуют против. Президент проводит законопроект о разводах, Доул и Грингрич голосуют против. Президент настаивает: сбалансированный бюджет, поддержка системы медицинского страхования и детей-инвалидов; опять – нет. Сейчас Доул подает в отставку, выходит из тупиковой ситуации, которую создали они с Грингричем. Планы Президента: сбалансированный бюджет, защита системы медицинского страхования, реформа социального обеспечения. Выполним наш долг перед нашими родителями и детьми. Ценности Америки.
Курсивом выделены высказывания, относящиеся к восхвалению; примеры осуждения оставлены без выделения. В действительности, даже несмотря на то что это сообщение представлено как пример отрицательной рекламы, для выражения положительных идей использовано в два раза больше слов, чем для выражения отрицательных (44 к 19). Таким образом, анализируя и классифицируя каждое высказывание на основании трех предложенных функций, мы можем более точно определить соотношение компонентов (положительных, отрицательных или связанных с защитой) в данном примере политической рекламы. А это значит, что метод, определяющий данные высказывания как положительные или отрицательные, дает весьма неточное представление о их содержании.
Необходимо отметить, что некоторые ученые при классификации телевизионных программ также используют три параметра: положительный, отрицательный, относительный (объявления, которые одновременно являются положительными и отрицательными). Известно, что не в каждой политической рекламе восхваление и нападение представлены в одинаковой степени (в некоторых из них, например, может быть 25 % или 10 % восхваления и 75 % или 90 % нападения). Использование трех параметров при анализе дает более точные данные, чем использование только двух параметров, но мой подход, рассматривающий каждую реплику (тему) как восхваление, нападение или защиту, все же предпочтительнее.
Подобная проблема возникает и при анализе тематики политической рекламы. Несмотря на то что некоторые рекламные ролики посвящены только 'политике' (политическим взглядам) или только 'личности' (имиджу), большая часть политической телерекламы представляет собой смесь этих двух тем. В ряде предыдущих исследований была представлена классификация рекламных роликов по критерию «доминирующей темы». Другие считали количество роликов, в которых упоминалась определенная тема. Отнесение каждой темы или высказывания либо к 'политике', либо к 'личности' представляет более точную оценку содержания сообщений по сравнению с другими подходами.
В-третьих, многие исследования останавливаются на классификации рекламного ролика как относящегося к 'политике' или 'личности'. Наш анализ идет дальше и, в отличие от большинства современных исследований, рассматривает 'политику' и 'личность' с точки зрения их составляющих ('политику' я разделяю на поступки, планы и общие цели; 'личность' – на личные качества, лидерские качества и идеалы). Например, анализ президентской кампании 1996 года показал, что рекламные ролики Билла Клинтона были подготовлены более тщательно, чем ролики Боба Доула: Б. Клинтон представлял и свои поступки (достижения), и свои планы (особый вид обещаний в ходе кампании), при этом «нападая» на поступки («промахи») Боба Доула и его планы (особый вид обещаний в ходе кампании). Боб Доул, напротив, представлял свои планы (но редко говорил о собственных поступках) и «нападал» на поступки Билла Клинтона (но редко критиковал его планы). Таким образом, анализ, в котором рассмотрение поступков и планов не дифференцируется, не позволяет определить разницу в расстановке приоритетов (в некоторых подходах, как, например, в «теории излюбленной темы» [см., напр. Petrocik, Benoit, Hansen 2003/2004], рассматриваются отдельные темы, такие как преступность, образование, рабочие места или национальная безопасность).
В-четвертых, предыдущие исследования в рамках функционального подхода [Benoit, Blaney, Pier 1998; Benoit 2003] обнаружили, что в ходе предварительных выборов у политической рекламы может существовать целый ряд объектов нападения. Так, в ходе предварительных выборов 2004 года рекламные ролики были направлены на снижение привлекательности президента Дж. Буша (и республиканской партии), кандидатов от демократической партии и правящих кругов. Необходимо отчетливо представлять себе, кто является объектом нападения Говарда Дина – Джо Либерман, Джон Кэрри, Дик Гепхард (все демократы) или республиканец Джордж У. Буш. В других подходах к исследованию президентской телерекламы не учитывается объект нападения.
Более того, функциональный подход сочетает в себе анализ функции (восхваление, нападение, защита) и темы ('политика', 'личность'). Некоторые исследования политических телепрограмм обращаются только к теме или только функции, но никогда не рассматривают их одновременно. Кроме того, исследование таких форм, как дебаты или устные выступления кандидатов, не затрагивает тему сообщений в ходе избирательных кампаний. Таким образом, функциональный подход к исследованию политических избирательных кампаний дает более полное представление о сообщениях в ходе избирательной кампании, чем другие подходы.
И наконец, функциональный подход применялся для исследования таких видов сообщений в ходе избирательной кампании, как политические телепрограммы,
дебаты, выступления по радио, интернет-сайты, новостные программы, речи на съездах партий по выдвижению кандидатур на пост президента (речи принятия, директивы на избирательную кампанию). Мы также начали применять функциональный подход для исследования избирательных кампаний не только в США, но и в других странах. Большинство исследований избирательных кампаний строится на анализе сообщений телевизионных программ и дебатов в ходе всеобщих выборов. Но исследование с позиций функционального подхода позволяет проникнуть в сущность различных выступлений в рамках избирательной кампании. Удивительно, что исследовательские подходы, предложенные для анализа сообщений телепрограмм (позитивные, негативные; 'политика', 'личность'), редко использовались для изучения, например, дебатов или речей в ходе внутрипартийных выборов. Наше исследование систематично, оно применяет одну и ту же методику для анализа различных сообщений, позволяя, таким образом, делать сравнения, не ограничиваясь рамками одного СМИ.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ФАКТЫ. Относительно постоянная частотность трех функций. Как было сказано ранее, согласно функциональному подходу у тактики восхваления нет недостатков, у тактики нападения – один недостаток, у тактики защиты – три. Таким образом, можно предположить следующее:
1. Кандидаты будут использовать тактику восхваления чаще, чем тактику нападения, а тактику нападения чаще, чем тактику защиты. Исследование различных форм сообщений в рамках ряда президентских избирательных кампаний в США подкрепляет это предположение. Данные в таблице 1 показывают, что 68 % всех высказываний – восхваления, 30 % – нападения, 3 % – защита. Тактика восхваления по частотности варьируется от 49 % до 85 %, на-падения – от 15 % до 51 %, защиты – от 0 % до 8 % от общего числа высказываний. Частотность этих трех функций значительно отличается друг от друга, а соотношение по частотности соответствует нашему предположению во всех видах выступлений, кроме одного (политическая реклама по радио, где нет значительной разницы по частотности между восхвалениями и нападениями). Это возможно в силу того, что аудитория радиослушателей более однородна по составу, чем аудитория других СМИ, что позволяет кандидатам демонстрировать свое нападение тем, кто к нему наиболее восприимчив.
Это соотношение остается верным и для предвыборных телевизионных роликов кандидатов на другие должности (местное управление, пост губернатора, в Палату представителей США и в Сенат США). 69 % высказываний относятся к восхвалению (вариации по частотности 61–72 %), 31 % – к нападению (27–38 %) и менее чем 1 % высказываний относятся к защите (0,5–2 %, см. таблицу 2). Данные статистики по непрезидентским дебатам в США выявляют следующее соотношение трех функций: 65 % – восхваление, 29 % – нападение, и 5 % – защита (таблица 3). Исследование телевизионных программ и дебатов в других странах (большинство проведено не в рамках функционального похода и, таким образом, не включает функцию защиты) также обнаруживает это же базовое соотношение: 75 % – восхваление и 25 % – нападение (таблица 4). И в заключении, исследование политических дебатов в других странах (таблица 5) подтверждает то же самое базовое соотношение: восхваление – 54 %, нападение – 48 %, защита составила 8 % от общего количества высказываний. Иногда встречаются исключения (в ходе выборов 2004 года на Украине нападение было более частотным, чем восхваление), однако данное соотношение устойчиво сохраняется на протяжении ряда лет, вне зависимости от уровня искомой должности, формы сообщения и страны. Таким образом, данные подтверждают, что описанное выше частотное соотношение трех основных функций предвыборных сообщений является их атрибутивным свойством.
Функциональный подход позволяет также сделать предположение о сравнительной частотности обсуждения двух тем предвыборного дискурса: 'политика' и 'личность'. Большинство избирателей в США считают, что при голосовании 'политика' является более важным фактором, чем 'личность' [Benoit, 2003]. Исследования Бенуа [2003] показывают, что те кандидаты на пост президента США, которые в ходе своей кампании уделяют 'политике' больше внимания, чем 'личности', имеют более высокие шансы на победу, нежели их оппоненты. Учитывая, что кандидаты отслеживают мнение избирателей, а большинство избирателей в США считают, что в президентской кампании 'политика' важнее 'личности', в рамках функционального подхода сделано предположение о том, что:
2. Кандидаты на пост президента будут больше говорить о 'политике', чем о 'личности'. Таблица 6 показывает, что в каждой описанной форме сообщений в ходе избирательных кампаний на пост президента США, 'политика' (54–78 %) обсуждается чаще, чем 'личность' (22–46 %); среднее соотношение – 67 % к 33 %. То же самое обнаруживается и при анализе телевизионных программ в ходе избирательных кампаний в США на другие должности ('политика' – 57 %, 'личность' – 43 %) (таблица 7). В непрезидентских дебатах в США, 'политика' также более частотна, чем 'личность': 72–28 % (таблица 8). В целом в ходе избирательных кампаний за пределами США 'политике' уделяется большее внимание – 59 % к 41 %. В двух странах соотношение примерно равное (Израиль 1992, Корея 2002); в трех странах 'личность' более частотна, чем 'политика' (Греция 1996, Тайвань 2000, Турция 1995), как показано в таблице 9. И наконец, в политических дебатах за пределами США 'политике' уделялось больше внимания, чем 'личности' (78 % к 22 %) (таблица 10). Подобные исключения возможны в силу двух причин: избиратели в других странах считают 'личность' более важной по сравнению 'политикой', а кандидаты строят свои выступления в соответствии с представлениями избирателей, либо кандидаты неправильно интерпретировали предпочтения избирателей. Какими бы ни были причины, необходимо помнить, что соотношение 'политики' и 'личности' за пределами США не так устойчиво.
Показав, что основные идеи функционального подхода могут быть применены не только для анализа сообщений президентских выборов в США (но и для избирательных кампаний разного уровня в США, и для избирательных кампаний в других странах), в целях экономии места я хочу кратко осветить другие темы в оставшейся части статьи. Коммуникацию можно представить как процесс со своим источником, контекстом и средствами. Функциональный подход изучил каждую из этих переменных в контексте избирательных кампаний, и я кратко представлю результаты проделанной работы.
Источник сообщений в ходе избирательных кампаний. В американской политике доминируют две партии, Демократическая партия и Республиканская партия, и несмотря на то что кандидаты, конечно, принимают во внимание и предпочтения избирателей, и происходящие исторические события, партии имеют отчетливые различия. Было обнаружено, что это также влияет на сообщения в ходе избирательной кампании на пост президента. Хотя практически все кандидаты говорят о 'политике' больше, чем о 'личности', демократы обсуждают 'политику' чаще, а 'личность' – реже, чем республиканцы [Benoit 2004]. Для демократов характерно оправдывать правительственные решения проблемами, что означает, что для них естественно уделять больше внимания 'политике'. Республиканцы выступают за сокращение правительства и в действительности в предвыборном дискурсе говорят о 'политике' меньше. То есть необходимо исследование природы дискурса политических партий в других странах с точки зрения функционального подхода.
Другим аспектом источника является то, что говорит сам кандидат или кто-то другой (анонимный ведущий, 'простой гражданин', общественная фигура, поддерживающая кандидата). На съездах партий по выдвижению кандидатов на пост президента тактика нападения реализуется в речах-директивах, представляемых некандидатами чаще, чем в речи самих кандидатов. Нами замечено, что в предвыборных телевизионных программах президентской кампании, в случае если говорит кто-либо, но не сам кандидат, нападение более частотно. Сообщения, спонсируемые политическими партиями, чаще реализуют тактику нападения, чем сообщения, спонсируемые самими кандидатами. Отметим, что сами кандидаты стремятся реже, по сравнению с другими источниками, использовать тактику нападения в своих сообщениях в ходе избирательной кампании. Можно предположить, что если чрезмерно использовать нападение (вспомним, что многим избирателям не нравится поливание грязью), то это повредит самому нападающему. Тем не менее это исследование выделило два основных способа влияния источника на сообщения кандидатов.
Продолжая исследование в рамках функционального подхода, мы начали сопоставлять сообщения самих кандидатов и сообщения других людей, например, журналистов. Специальное исследование [Benoit, Hansen, Stein 2004] показывает, что освещение президентских дебатов в новостях носит более негативный характер, чем реальное положение дел. И конечно же, новости одержимы повышенным вниманием к самой гонке (кто лидирует, стратегия кампании, события в ходе кампании). (Более подробно об освещении кампании в новостях см.: Robinson, Sheehan 1983; Farnsworth, Lichter 2003; Benoit, Stein, Hansen 2005.)
Контекст избирательной кампании. В рамках функционального подхода нами были рассмотрены две контекстуальные переменные в избирательном дискурсе. В США кандидаты на пост президента должны сначала победить в ходе внутрипартийных выборов до того, как у них появится реальный шанс на финальную победу. Эта часть выборного процесса называется предварительными выборами. В отличие от всеобщих президентских выборов в предварительных выборах тактика нападения используется реже, а тактика восхваления, напротив, чаще. Таблица 1 показывает, что телевизионные программы в период предварительных выборов содержат больше примеров восхваления и меньше нападения, чем телепрограммы во время всеобщих выборов (это же характерно и для дебатов и брошюр прямой адресной рассылки). Это возможно в силу двух причин. Во-первых, можно ожидать, что между членами одной политической партии, соревнующимися в предварительных выборах, больше согласия, чем среди членов разных политических партий. Таким образом, кандидаты в ходе предварительных выборов обсуждают меньше различий в политических программах. Во-вторых, кандидат, победивший в предварительных выборах, нуждается в поддержке других кандидатов своей партии и избирателей, которые предпочли других кандидатов. Именно это побудило Дж. Кэрри реже использовать тактику нападения против Дениса Кукинича,
Джо Либермана и других кандидатов от Демократической партии. Таким образом, этап избирательной кампании влияет на частотность актуализации тактики нападения.
Нами замечено, что в ходе предварительных выборов 'политике' уделяется больше внимания чем 'личности' по сравнению со всеобщими выборами (необходимо помнить, что большинство кандидатов даже в ходе предварительных выборов уделяют больше внимания 'политике'; здесь имеется в виду, что в ходе всеобщих выборов 'политике' уделяется еще больше внимания. См. таблицу 6). Еще раз повторим, что у кандидатов от одной партии, которые соревнуются в ходе предварительных выборов, меньше различий в политических программах. Более того, кандидаты, участвующие во всеобщих выборах (например, президент Дж. Буш и сенатор Дж. Кэрри в 2004 г.; вице-президент А. Гор и губернатор Дж. Буш в 2000-м, президент Б. Клинтон и сенатор Б. Доул в 1996-м), более известны, чем кандидаты предварительных кампаний (например, Денис Кукинич, Кэрол Мосли-Браун или Эл Шарптон в 2004-м). Это значит, что у кандидатов есть основания проводить больше времени, представляя себя избирателям (уделяя больше внимания 'личности' в ходе внутрипартийных выборов). Таким образом, этап избирательной кампании влияет на тему предвыборного дискурса.
Вторая контекстуальная переменная – это срок пребывания в должности. Во многих странах президенту, канцлеру или премьер-министру позволено избираться на второй срок. Президент США может переизбираться один раз. Тем не менее вице-президент обычно претендует на пост президента, после того как президент отслужил два срока, и вице-президент обычно баллотируется как кандидат с опытом в президентстве (примечательно, что вице-президент Дик Чейни сказал, что он не будет баллотироваться на пост президента в 2008 году, когда закончится второй срок президента Джорджа Буша). Подобные кандидаты, в отличие от своих соперников, уделяют больше внимания восхвалению и меньше – нападению. Ключевое отличие между этими двумя группами кандидатов заключается в том, что, несмотря на то что и те и другие обычно имеют опыт пребывания в выборной должности, только один кандидат имеет опыт пребывания в той должности, которой добивается. Например, в отличие от сенаторов президенты имеют опыт административной работы. В отличие от губернаторов президенты имеют опыт ведения внешнеполитической деятельности и поддержания национальной обороноспособности. Поступки таких кандидатов осуждаются больше, чем поступки других претендентов, но внимание, конечно же, уделяется различным аспектам. Подобные кандидаты презентуют свои прошлые поступки (успехи) чаще, чем дискредитируют своих соперников (отмечая их неудачи), и наоборот. Таким образом, установлено, что вопрос о том, имеет ли кандидат опыт пребывания в должности, на которую в данный момент баллотируется, или нет, также влияет на природу предвыборного дискурса.
Средства и источники информации. Необходимо также кратко осветить потенциал средств и источников информации. Таблица 1 показывает, что в США тактика защиты используется в президентских дебатах чаще, чем в любом другом источнике информации для избирателей. Это, должно быть, происходит по нескольким причинам. Функциональный подход предполагает, что дебаты обладают тремя потенциальными недостатками и кандидаты сравнительно редко прибегают к защите. Хотя один недостаток не имеет отношения к дебатам: все те, кто смотрят дебаты, отмечали случаи нападения и последующей защиты. А это значит, что в отличие от прочих средств агитации кандидат, использующий защиту во время предвыборных дебатов, не беспокоится по поводу того, что он или она напомнит избирателям или сообщит им о своем недостатке: аудитория только что стала свидетелем нападения. И хотя кандидаты на пост президента заранее готовятся к дебатам, бывает сложно устоять перед соблазном ответить на нападение соперника. Другие формы сообщений, такие как телепрограммы, не предполагают наличие оппонента и его нападений, на которые необходимо отвечать. Эти сообщения тщательно написаны, и в них отсутствует защита. Но в пылу дебатов кандидаты могут не удержаться от того, чтобы не ответить на нападение, даже несмотря на то что защита имеет ряд недостатков. Данные показывают что сообщения, представленные разными средствами, различны.
Функциональная теория исследований дискурса избирательных кампаний была разработана и первоначально применена для изучения президентских выборов в США. Тем не менее она использовалась для изучения избирательных кампаний на должности разного уровня, как в США, так и за их пределами. Необходимо помнить, что между избирательными кампаниями в разных странах существуют значительные различия. Как было отмечено выше, в Южной Корее не может быть кандидата, который имеет опыт пребывания в избираемой должности, так как на пост президента можно избираться только на один срок и в стране нет поста вице-президента. Исследования политических дебатов в Израиле [Benoit, Sheafer 2006] не обнаружили различий между кандидатами, имеющими опыт президентства, и кандидатами, не имеющими такового опыта. Хотя в 1984 г. разница при подсчете голосов была незначительная и лидер каждой из партий в течение двух лет занимал пост премьер-министра в промежуток между выборами 1984 и 1988 гг. А это значит, что в 1988 г. их фактически можно было назвать кандидатами с опытом пребывания в должности.
Очевидно, что различные формы сообщений, включая выступления кандидатов, телепрограммы, дебаты, а в последние годы и веб-страницы, используются во всем мире в ходе выборов. Функциональный подход позволяет понять природу этих сообщений. Также очевидно, что необходимо продолжать работу над расширением этого подхода, чтобы лучше понимать сообщения, помогающие избирателям выбирать лидеров своих стран.
Таблица 1
Функции дискурса кампании по выборам президента США
Таблица 2
Функции политической рекламы на телевидении в ходе непрезидентских выборов в США
Χ2 (df = 2) = 6169.24, p <.0001
Benoit [2000], Brazeal, Benoit [2001], Pier [2002]
Таблица 3
Функции непрезидентских политических дебатов в США
X2 (df = 1) = 4034.35, p <.0001
Дебаты выборов в Сенат: Benoit, Brazeal, Airne [2006].
Дебаты губернаторских выборов: Airne, Benoit, Brazeal [2006].
Таблица 4
Функции политических телепередач в других странах
* Эти примеры включают в себя также рекламу в газетах.
** Chang [2000], Kaid [1999], Kaid, Holtz-Bacha [1995], Lee, Benoit [2004]; Tak, Kaid, Lee [1997], Wen, Benoit, Yu [2004].
Процент телепередач согласно данным авторов, переведенный в количество передач для статистического анализа по формуле: %2 (df = 1) = 146.84, p <.0001.
Таблица 5
Функции политических дебатов в других странах
X2 (df = 2) = 1514.06, p <.0001
Benoit, Klyukovski [2006], Benoit, Sheafer [2006], Benoit, Wen и Yu [2006], Choi, Benoit [2006].
Таблица 6
Функции дискурса кампании по выборам президента США
Таблица 7
Темы телевизионных передач непрезидентских выборов в США
X2 (df = 1) = 152.84, p <.0001
Benoit [2000], Brazeal & Benoit [2001], Pier [2002]
Таблица 8
Темы непрезидентских политических дебатов в США
X2 (df = 1) = 1328.64, p <.0001
Дебаты выборов в Сенат: Benoit, Brazeal, Airne (2006)
Дебаты губернаторских выборов: Airne, Benoit, Brazeal (2006)
Таблица 9
Темы политических телепередач в других странах
* Эти примеры включают в себя также рекламу в газетах.
** Данное исследование также включает в себя третью категорию – комбинацию, – которая не представлена здесь.
Kaid [1999], Kaid, Holtz-Bacha [1995], Lee, Benoit [2004]; Tak, Kaid, Lee [1997], Wen, Benoit, Yu [2004].
*** Процент телепередач согласно данным авторов, переведенный в количество передач: X2 (df = 1) = 47.42, p <.0001.
Таблица 10
Темы политических дебатов в других странах
ч2 (df= 1) = 1381.1, p <.0001
Benoit, Klyukovski [2006], Benoit, Sheafer [2006], Benoit, Wen, Yu [2006], Choi, Benoit [2006].
Литература
Airne D., Benoit W.L. 2004 Illinois U.S. Senate debates: Keyes versus Obama. American Behavioral Scientist. 2005a. Vol. 49, 343–352.
Airne D., Benoit W.L. Political television advertising in campaign 2000 // Communication Quarterly. 2005b. Vol. 53.
Airne D., Benoit W.L., Brazeal L.M. A functional analysis of gubernatorial political debates. Unpublished manuscript. 2006.
Allen M., Burrell N. The negativity effect in political advertising: A metaanalysis // The persuasion handbook: Developments in theory and practice / J.P. Dillard & M. Pfau (Eds.). Thousand Oaks, CA: Sage
Publications, 2002.
Benoit P.J. Telling the success story: Acclaiming and disclaiming discourse. Albany: State University of New York Press, 1997.
Benoit W.L. Accounts, excuses, apologies: A theory of image restoration strategies. Albany: State University of New York Press, 1995.
Benoit W.L. Seeing spots: A functional analysis of presidential television advertisements from 1952–1996. New York: Praeger, 1999.
Benoit W.L. A functional analysis of political advertising across media, 1998. Communication Studies. 2000. Vol. 51.
Benoit W.L. Presidential campaign discourse as a causal factor in election outcome. Western Journal of Communication. 2003. Vol. 67.
Benoit W.L. Political party affiliation and presidential campaign discourse. Communication Quarterly. 2004. Vol. 52.
Benoit W.L. (in press). Communication in political campaigns. New York: Peter Lang.
Benoit W.L., Brazeal L.M., Airne D. A functional analysis of U.S. senate debates, 1998–2004. Unpublished manuscript. 2006.
Benoit W.L., Blaney J.R., Pier P.M. Campaign '96: A functional analysis of acclaiming, attacking, and defending. New York: Praeger, 1998.
Benoit W.L., Hansen G.J., Stein K.A. Newspaper coverage of presidential primary debates // Argumentation and Advocacy. 2004. Vol. 40.
Benoit W.L., Klyukovski A. A functional analysis of 2004 Ukrainian political debates. Unpublished manuscript. 2006.
Benoit W.L., McHale J.P., Hansen, G.J., Pier P.M., McGuire J.P. Campaign 2000: A functional analysis of presidential campaign discourse. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2003.
Benoit W.L., Pier P.M., Brazeal L.M., McHale J.P., Klyukovksi A., Airne D. The primary decision: A functional analysis of debates in presidential primaries. Westport, CT: Praeger, 2002.
Benoit W.L., Sheafer T. A functional analysis of Israeli Prime Ministerial debates. Unpublished manuscript. 2006.
Benoit W.L., Stein K.A., Hansen G.J. Newspaper coverage of presidential debates // Argumentation and Advocacy. 2004. Vol. 41.
Benoit W.L., Stein K.A., Hansen, G.J. New York Times coverage of presidential campaigns, 1952–2000 // Journalism & Mass Communication Quarterly. 2005. 82.
Benoit W.L., Wen W-C., Yu H-T. A functional analysis of 2004 Taiwanese political debates. Unpublished manuscript. 2006.
Brazeal L.M., Benoit W.L. A functional analysis of Congressional television spots, 1986–2000 // Communication Quarterly. 2001. Vol. 49.
Chang C. Political advertising in Taiwan and the U.S.: A cross-cultural comparison of the 1996 presidential election campaigns // Asian Journal of Communication. 2000. Vol. 10.
Choi Y.S., Benoit, W.L. A functional analysis of French and South Korean political debates. Unpublished manuscript. 2006.
Duchneskie J., Seplow S. Gore's vote lead totals 540, 435 // Philadelphia Inquirer. 2000, December 15.
Farnsworth S.J., Lichter S.R. The nightly news nightmare: Network television's coverage of U.S. presidential elections, 1988–2000. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2003.
Hallin D.C., Mancini P. Comparing media systems: Three models of media and politics. New York: Cambridge University Press, 2004.
Hofstetter C.R. Bias in the news: Network television coverage of the 1972 election campaign. Columbus, OH: Ohio State University Press,
1976.
Johnson-Cartee K.S., Copeland G. Southern voters' reactions to negative political ads in the 1986 election // Journalism Quarterly. 1989.
Vol. 66.
Kaid L.L. Comparing and contrasting the styles and effects of political advertising in European democracies // Television and politics in evolving European democracies / L.L. Kaid (Ed.). Commack, NY: Nova Science, 1999.
Kaid L.L., Holtz-Bacha C. Political advertising across cultures // Political advertising in Western democracies / L. L. Kaid & C. Holtz-Bacha (Eds.). Thousand Oaks, CA: Sage, 1995.
Lau R.R., Sigelman L., Heldman C., Babbitt P.R. The effectiveness of negative political advertising: A meta-analytic assessment // American Political Science Review. 1999. Vol. 93.
Lazarsfeld P.F., Berelson B., Gaudet H. The people's choice: How the voter makes up his mind in a presidential campaign (2nd ed.). New York: Columbia University Press, 1948.
Lee C., Benoit W.L. A functional analysis of presidential television spots: A comparison of Korean and American ads // Communication Quarterly. 2004. Vol. 52.
Lee C., Benoit W.L. A functional analysis of the 2002 Korean presidential debates // Asian Journal of Communication. 2005. Vol. 15.
Lenart S. Shaping political attitudes: The impact of interpersonal communication and mass media. Thousand Oaks, CA: Sage, 1994.
Merritt S. Negative political advertising: Some empirical findings // Journal of Advertising. 1984. Vol. 13.
Patterson T.E. The mass media election: How Americans choose their president. New York: Praeger, 1980.
Patterson T.E., McClure R.D. The unseeing eye: The myth of television power in national politics. New York: Putnam, 1976.
Petrocik J.R., Benoit W.L., Hansen G.L. Issue ownership and presidential campaigning, 1952–2000 // Political Science Quarterly. 2003–2004. Vol. 118.
Pier P.M. He said she said: A functional analysis of differences between male and female political campaign messages. Unpublished dissertation, University of Missouri. 2002.
Popkin S.L. The reasoning voter: Communication and persuasion in presidential campaigns (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press, 1994.
Popkin S.L., Gorman J., Smith J., Phillips C. Comment: toward an investment theory of voting behavior: What have you done for me lately? // American Political Science Review. 1976. Vol. 70.
Robinson M.J., Sheehan M.A. Over the wire and on tv: CBS and UPI in campaign '80. New York: Russell Sage, 1983.
Stewart C.J. Voter perception of mud-slinging in political communication // Central States Speech Journal. 1975. Vol. 26.
Tak J., Kaid L.L., Lee S. A cross-cultural study of political advertising in the United States and Korea // Communication Research. 1997.
Vol. 24.
Wen W.C., Benoit W.L., Yu T.H. A functional analysis of the 2000 Taiwanese and U.S. presidential spots // Asian Journal of Communication, 2004. Vol. 14.
3.2. Политическая лингвистика в Центральной и Западной Европе
Как уже отмечалось выше, Европа была одним из двух ведущих мегарегионов, в которых зарождалась политическая лингвистика. К числу «предтеч» современной политической лингвистики справедливо относят работавшего в Германии Виктора Клемперера и английского писателя Джорджа Оруэлла.
Среди наиболее ярких представителей европейской политической лингвистики второй половины прошлого века – Р. Бахем, К. Буркхардт, Т. ван Дейк, Р. Водак, В. Дикманн, Й. Кляйн, Г. Кресс, У. Маас, К. де Ландтсхеер, М. Пеше, М. Фуко, Н. Фэрклау, П. Чилтон, К. Шэффнер, 3. Эгер и др.
Исследования представителей Центральной и Западной Европы объединяют следующие признаки «фамильного сходства»:
▪ высокая (более 70 %) доля исследований, выполненных в рамках когнитивного направления;
▪ активное использование критического анализа дискурса и контент-анализа дискурса как методов изучения политической коммуникации;
▪ повышенный интерес к исследованию медийного политического дискурса;
▪ большое количество публикаций, посвященных сопоставительному изучению политической коммуникации в различных национальных дискурсах;
▪ высокая доля когнитивного описания метафор на основе выявления специфики сфер-мишеней метафорической экспансии.
В современной европейской лингвистике обнаруживается стремление к синтезу методов когнитивной лингвистики и дискурс-анализа. К числу публикаций такого рода относятся работы А. Мусолффа, посвященные дальнейшему развитию когнитивной методики. В частности, он считает, что метафора функционирует в политическом дискурсе как живой организм, обладающий свойствами наследственности и изменчивости, т. е. «эволюционирует» и «выживает» в борьбе с другими метафорами.
Отдельное внимание исследователей привлекает осмысление и уточнение постулатов теории «телесного разума». Й. Цинкен [Zinken 2003], отмечая значимость сенсомоторного опыта человека для метафорического осмысления действительности, подчеркивает, что при анализе метафор в политическом дискурсе важно учитывать культурный, исторический опыт. Выделив в отдельную группу интертекстуальные метафоры (intertextual metaphors), исследователь показал их идеологическую значимость для осмысления политических событий в польском газетном дискурсе. Например, противники вступления Польши в Евросоюз использовали для концептуализации будущего своей страны интертекстуальную метафору Освенцим, коммунистов в Польше в 1989 г. часто метафорически представляли завоевателями-крестоносцами и т. п.
Оригинальный подход к концептуальной метафоре сложился в Люблинской этнолингвистической школе. В рамках этой школы разработана лингвокогнитивная теория метафоры, объединяющая антропологический и когнитивный ракурсы и учитывающая социокультурные условия функционирования языка. Й. Цинкен демонстрирует эвристики отдельных идей этого подхода на примере исследования корпуса текстов, отражающих метафорическое осмысление изменений в немецком публичном дискурсе конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века.
Исследуя частотность метафорических моделей, автор разделяет их на две группы: основные и образные. К основным относятся модели (сигнификативные дескрипторы) Персонификации, Пространства и Объекта, которые становятся основой для развертывания остальных моделей. Например, метафора войны имплицитно подразумевает наличие поля боя (Пространство), воинов (Персонификация) и оружия (Объект). Остальные модели (сигнификативные дескрипторы) немецкого дискурса располагаются по мере убывания частотности следующим образом: ДВИЖЕНИЕ (период конца 80-х – начала 90-х годов получил в Германии название Wende-Periode – Поворотный период), ВОЙНА, АРХИТЕКТУРА, ДОРОГА. Далее следуют ОРГАНИЗМ и МИР РАСТЕНИЙ. Замыкают список ФАУНА, ПОГОДА, СПОРТ, МЕХАНИЗМ и др. Исходя из подобных результатов исследователь пытается установить корреляцию между частотностью моделей и доминантной перспективой (perspective) (подходом к описанию ситуации).
В европейской политической лингвистике нередко обнаруживается синтез методов концептуальных исследований и дискурс-анализа. Так, П. Друлак предпринял попытку синтезировать эвристики концептуального исследования с методами дискурсивного анализа социальных структур по А. Вендту. Базовая идея подхода состоит в том, что дискурсивные структуры (в том числе и метафорические) являются отражением структур социальных. Исследователь проанализировал метафоры, которые использовали лидеры 28 европейских стран в дебатах о составе и структуре Европейского Союза (период 2000–2003 гг.). Выделив концептуальные метафоры «самого абстрактного уровня» (КОНТЕЙНЕР, РАВНОВЕСИЕ КОНТЕЙНЕРОВ и др.), П. Друлак выявил, что лидеры стран ЕС предпочитают метафору КОНТЕЙНЕРА, а лидеры стран-кандидатов на вступление в ЕС – метафору РАВНОВЕСИЯ КОНТЕЙНЕРОВ. Другими словами, лидеры стран ЕС предпочитают наделять надгосударственное объединение чертами единого государства, а лидеры стран-кандидатов предпочитают видеть в ЕС сбалансированное объединение государств. В другой публикации П. Друлак [Drulak 2005] на основе синтеза индуктивного и дедуктивного, квантитативного и квалитативного методов анализа политических метафор предлагает детальную характеристику методики герменевтического анализа метафорических моделей в дискурсе международных отношений.
Во многих публикациях методика концептуального анализа метафор в политическом дискурсе дополняется методами критического дискурс-анализа и сочетается с гуманистическим осмыслением анализируемых событий. Так, в январе 1998 г. резко увеличилось количество курдов-иммигрантов, ищущих убежища в Европе. Исследуя осмысление этих событий в австрийских газетах, Е. Эль Рефайе выявляет, что доминантные метафоры изображают людей, ищущих убежища, как нахлынувшую водную стихию, как преступников, как армию вторжения. Регулярная апелляция к этим образам во всех исследованных газетах представляется показателем того, что «метафоры, которыми мы дискриминируем» [El Refaie 2001: 352], стали восприниматься как естественный способ описания ситуации.
Ирландские лингвисты Х. Келли-Холмс и В. О'Реган [Kelly-Holmes, O'Regan 2004] рассматривают концептуальные метафоры в немецкой прессе как способ делегитимизации ирландских референдумов 2000 и 2001 г. Как известно, в 2000 г. в Ницце было достигнуто соглашение об институциональных изменениях, необходимых для принятия новых стран в ЕС. Ирландия – единственная страна ЕС, в конституцию которой нужно было внести поправки, чтобы ратифицировать этот договор. Ирландское правительство считало вопрос решенным, однако ирландский народ проголосовал против изменения конституции на первом референдуме, что не замедлило отразиться в немецкой прессе. Недовольство тем фактом, что 3 млн ирландцев должны решать судьбу 75 млн новых членов ЕС, отображалось в немецкой прессе с помощью метафор дома и родства (ирландцы хотят закрыть дверь перед двоюродными братьями и оставить их на пороге), криминальных метафор (ирландцы требуют выкуп за 12 стран) и др. При рассмотрении подобных фактов следует учитывать, что до проведения референдума ирландско-немецкие отношения носили позитивный характер и даже метафорически представлялись как любовные отношения. Накануне второго референдума, который закончился положительным голосованием, в немецкой прессе активизировались негативные смыслы метафор из самых разнообразных сфер-источников: СЕМЬЯ (Германия/ЕС – терпеливый родитель, Ирландия – непредсказуемый подросток, испорченный ребенок); ШКОЛА (ученика нужно наказать, Брюссель ставит Ирландии плохие отметки); ДОМ (Ирландия хочет разрушить дом); БОЛЕЗНЬ (Ирландия больна датской болезнью и может заразить Австрию (датчане проголосовали против Маастрихтского договора в 1992 г.)), ВОЙНА (война за положительное голосование) и др. Как показали исследователи, метафорическая концептуализация событий накладывается на более общий уровень категоризации (оппозиционирования): МЫ (немцы) – честные, щедрые, альтруистичные, высокоморальные, тогда как ОНИ (ирландцы) – жадные, заблуждающиеся, неблагодарные, аморальные. В этом контексте постоянно противопоставлялись «хорошая старая Ирландия» и «плохая новая Ирландия».
Важное место в европейской политической лингвистике занимает комбинаторная теория кризисной коммуникации (CCC-theory) К. де Ландтсхеер и ее единомышленников. Исследователи указывают на возможность и необходимость объединения субституционального, интеракционистского и синтаксического подходов к анализу политической метафоры, которые не исключают друг друга, а только отражают различные перспективы рассмотрения одного феномена и имеют свои сильные и слабые стороны. Некогда К. де Ландсхеер доказала на примере анализа голландского политического дискурса, что между частотностью метафор, с одной стороны, и политическими и экономическими кризисами, с другой, существуют корреляции. В очередном исследовании К. де Ландсхеер и Д. Вертессен [Vertessen, De Landsheer 2005], сопоставив метафорику бельгийского предвыборного дискурса с метафорикой дискурса в периоды между выборами, обнаружили, что показатель метафорического индекса (включающего такие критерии, как частотность, прагматический потенциал сферы-источника и др.) увеличивается в предвыборный период. Подобные факты, по мысли авторов, еще раз подтверждают тезис о важной роли метафоры как средства воздействия на процесс принятия решений и инструмента преодоления проблемных ситуаций в политическом дискурсе.
Еще одно направление представлено исследованиями в русле постмодернистской теории дискурса Э. Лаклау. Теория постулирует всеобщую метафоричность всякой сигнификации, а анализ политического дискурса считается наиболее подходящим способом выявления этой онтологической метафоричности. Все «пустые означающие» (empty sighifiers) политического дискурса конститутивно метафоричны, причем метафоричность проявляется в различной степени (соответственно невозможно говорить и о «чистой буквальности»). При таком подходе стирается граница между метафоричностью и «буквальностью» (метафорическим может считаться, например, лозунг «We can do it ourselves» – «Мы можем сами собой управлять»), а при анализе дискурса можно говорить только о степени метафоричности «пустых означающих».
Неудивительно, что на фоне расширения ЕС вопросы межкультурного взаимодействия вышли на первый план и внимание многих европейских лингвистов сосредоточилось на сопоставительном анализе политических метафор в национальных европейских дискурсах. Например, Е. Семино [Semino 2002] исследовала метафорическую репрезентацию евро в итальянской и британской прессе и показала, как метафоры в дискурсе этих двух стран отображают противоположные оценочные смыслы. В работе финского исследователя М. Луомаахо [Luomaaho 2004] на основе анализа западноевропейского дискурса коллективной безопасности показано, что дебаты на Межправительственной конференции 1990–1991 гг. представляли собой конфликт метафор «атлантистов» (сторонников США и членов НАТО) и «европеистов» (сторонников европейской самодостаточности). Если США и страны-члены НАТО видели в 3ападноевропейском Союзе опору атлантического альянса, то «европеисты» – защищающую руку. Органистические метафоры сторонников самодостаточности вступали в противоречие с архитектурными метафорами «атлантистов» и представляли европейское сообщество как независимый от НАТО политический субъект.
Р. Водак и ее коллеги провели комплексное сопоставительное исследование европейского политического дискурса на материале 15 консервативных и либеральных газет восьми европейских стран. Исследователи анализировали представление Брюссельской межправительственной конференции 2003 г., которая была посвящена проекту европейской конституции. По общему мнению, конференция закончилась неудачно, но в каждой стране было свое видение того, какие субъекты политической деятельности несут ответственность за эту неудачу. Как показали исследователи, метафоричность прессы значительно варьировалась от страны к стране. Например, в австрийских газетах метафоры были очень редки, в то время как испанские журналисты активно использовали образные средства для описания и анализа тех же событий [Oberhuber et al. 2005].
А. Мусолфф [Musolff 2000] прослеживает «эволюцию» метафоры «ЕВРОПА – ЭТО ДОМ / СТРОЕНИЕ» за последнее десятилетие XX в. на материале английских и немецких газет. Вслед за рядом исследователей автор моделирует два различных концепта: российский концепт «дом» (многоквартирный дом) и западноевропейский вариант (частный дом, обнесенный забором). При переводе метафоры Горбачева европейцы актуализировали другой прототип, что и объясняет, по мнению автора, популярность этой метафоры в европейском дискурсе. Автор выделяет два периода в развитии метафоры дома. 1989–1997 гг. – это оптимистический период, когда разрабатывались смелые архитектурные проекты, укреплялся фундамент, возводились столбы и др. По мере роста противоречий в 1997–2001 гг. начинают доминировать скептические (реконструкция, хаос на строительной площадке) или пессимистические (горящее здание без пожарного выхода) метафоры. Оптимистический период характеризуется значительным сходством британских и немецких метафор. Сравнивая метафоры второго периода, автор отмечает, что немцы были менее склонны к актуализации негативных сценариев (необходим более реалистичный взгляд на строительство), в то время как англичане чаще отражали в метафоре дома пессимистические смыслы (немцы – оккупанты евродома или рабочие, считающие себя архитекторами).
В других публикациях А. Мусолфф [Musolff 2001a, 2001b] сопоставляет метафоры со сферой-источником: ДОРОГА / ДВИЖЕНИЕ / СКОРОСТЬ в британской и немецкой прессе, освещающей политические процессы в Европейском Союзе. Анализ материала обнаружил различия в эксплуатации прагматических смыслов метафор немцами и британцами, которые используют потенциал сферы-источника для отображения различных взглядов на перспективы развития ЕС: британцы критикуют Германию за излишнюю поспешность, немцы метафорически порицают Великобританию за медлительность.
При другом подходе за основу берется сфера-магнит метафорической экспансии. Например, в публикациях Й. Цинкена [Zinken 2004a, 2004b] представлена широкая панорама метафорических моделей в политическом нарративе «Переходный период в Германии» (Wende-Periode: конец 80-х – начало 90-х годов) на материале немецкой прессы. Метафорическому представлению второй войны в Персидском заливе посвящена публикация Дж. Андерхилла [Underhill 2003], автор которой выявляет в британской прессе 13 метафорических моделей.
Точкой отсчета для исследования может служить не концептуальная сфера, а адресант политической коммуникации. В исследовании И. ван дер Валка, которое посвящено сопоставлению речевых стратегий в франко-голландском расистском дискурсе, выявлены ведущие метафоры в идиолекте Ж. Ле Пена. Для негативной репрезентации иммигрантов лидер Народного Фронта использует метафоры водного потока и войны. Соответственно Франция выступает в роли жертвы, которую освободитель Ж. Ле Пен (сравнивающий себя с Ж. д'Арк и У. Черчиллем, а деятельность своей партии с антифашистской борьбой) должен спасти. Для положительной самопрезентации Ж. Ле Пен активно эксплуатирует мелиоративные смыслы метафоры родства [Valk 2001]. Самостоятельный интерес в этой группе представляют корпусные исследования метафор в идиолектах известных политиков, что позволяет выявить общие закономерности метафорического моделирования действительности и стандартные сценарии, актуализируемые в речи политиков для манипуляции общественным сознанием. Так, Дж. Чартерис-Блэк [Charteris-Black 2004], проанализировав риторику британских и американских политиков (У. Черчилля, М.Л. Кинга, М. Тэтчер, Б. Клинтона, Т. Блэра, Дж. Буша), показал, как метафоры регулярно используются в их выступлениях для актуализации нужных эмотивных ассоциаций и создания политических мифов о монстрах и мессиях, злодеях и героях.
В настоящем разделе представлена статья Р. Водак (Австрия / Великобритания), одного из ведущих специалистов в области критического дискурс-анализа. Две следующие работы, посвященные исследованию политической метафорики, принадлежат известным европейским специалистам в этой области – П. Друлаку (Чехия) и А. Мусолффу (Великобритания). Раздел завершает исследование Д. Бэнкса (Франция), представившего пример анализа политического дискурса с позиций системной функциональной лингвистики.
Рут Водак (Ruth Wodak)
Рут Водак – один из наиболее известных специалистов по критическому анализу дискурса, профессор Ланкастерского университета (Великобритания), возглавляет исследовательский центр Витгенштейна «Дискурс, политика, идентичность» в Венском университете. В фокусе внимания лингвиста – анализ дискурса, гендерные проблемы, язык политики, предрассудки и дискриминация, организационный дискурс, политика идентичности, этнографические методы лингвистических исследований. Является членом редакционной коллегии многих лингвистических журналов и соредактором журналов «Discourse and Society», «Critical Discourse Studies», «The Journal of Language and Politics». Читала лекции в Упсале, в университетах Стэнфорда, Миннесоты, Восточной Англии и Джорджтауна.
Взаимосвязь «дискурс – общество»: когнитивный подход к критическому дискурс-анализу (перевод О.А. Солоповой)
1. Предисловие[3]
В настоящей статье нам бы хотелось показать, какое влияние социокогнитивные теории оказывают на наши исследования, а также очертить потенциальные перспективы применения когнитивного подхода в рамках критического дискурс-анализа (КДА). Несмотря на то что в последнее время мы не занималась проблемами дискурса и когнитивистики, принципы, модели, «эвристические метафоры»[4] социокогнитивного подхода осознанно и неосознанно использовались в данной работе, являясь основанием для многих теоретических выкладок и положений. Следует также обратиться к проблематике моих исследований ранних лет, в которых уделяется внимание анализу когнитивных структур. В частности, наибольшее влияние на мои исследования оказали теории Т. ван Дейка и Дж. Лакоффа.
Обращаясь к нашим первым работам в области дискурса и когнитивной лингвистики, выполненным практически тридцать лет назад, начнем с тривиального, но тем не менее необходимого аргумента, доказывающего положения, выдвинутые в данной статье.
Несмотря на уверенность человека в том, что нельзя «заглянуть» в сознание другого (в «черный ящик»), (практически) каждый из нас убежден, что существуют определенные ментальные процессы, которые связывают производство и понимание текста как с высказыванием, текстом и коммуникацией, так и с социальными явлениями. Данный факт становится особенно очевидным при анализе таких феноменов, как языковое поведение, стереотипы, предрассудки, присущие социальным группам. Более того, мы обязаны принимать во внимание убеждения, мнения, воспоминания о прошлом при изучении проблемы идентичности, изложении событий прошлого, поскольку они являются обязательными составляющими рассматриваемых дискурсивных практик; такие понятия, как «коллективная память», «воображаемое сообщество» есть неотъемлемые категории когнитивных процессов [Halbwachs 1985; Anderson 1988; Confino 1997; Wodak et al. 1999; Heer et al. 2003; Musolff 2004].
Кроме того, даже в повседневной жизни мы постоянно на собственном опыте убеждаемся, как мы неизбежно и чаще всего автоматически сводим сложности жизни к определенным ментальным моделям, общеизвестным истинам, которые влияют на принятие решений и межличностное взаимодействие [Luhmann 1984]. Будучи носителем определенной культуры, человек научился быстро распознавать систематически повторяющиеся события, соответственно реагировать на них и обновлять информацию (см. [Kunda 1999], исследование которого посвящено культурному знанию). Таким образом, когнитивный и социокогнитивный подходы должны стать частью исследований дискурсивных практик [см. более полный обзор по КДА Wodak, Meyer 2001; Wodak 2004a], поскольку задачей любого направления в КДА является анализ/понимание и объяснение социальных проблем междисциплинарного характера. В своем недавнем исследовании В. Коллер [Koller 2005], занимаясь, с одной стороны, традиционным исследованием метафор, с другой – фокусируя внимание на социальной стороне дискурса, указывает на новые возможности использования когнитивной теории в КДА. В заключении исследователь верно отмечает, что даже если когнитивные процессы можно изучить лишь опосредованно (критика, выдвинутая в работе [Chouliaraki, Fairclough 1999]), те же положения являются истинными и в отношении идеологии: «Лингвисты должны осознавать, что любое исследование когнитивных схем выражает себя в новых когнитивных схемах, так же как любое исследование идеологии всегда идеологизировано» [Koller 2005: 220]. Продолжая дискуссию об «идеологии», Р. Дирвен [Dirven 2005] исследует характерные особенности нацистской идеологии «высшей и низшей расы». Интегрируя теорию Т. ван Дейка [van Dijk 1998] и недавние исследования метафорического моделирования [Hawkins 2001], автор различает два типа «идеологий» (в широком и узком смысле). Он приходит к выводу, что «когнитивная лингвистика предлагает анализ критической оценки «идеологии», а не идеальные способы ее концептуализации» [Dirven et al. 2005].
Однако следует отметить, что большинство когнитивных исследований в области КДА (за исключением работ Т. ван Дейка) сведено к изучению метафорических единиц в традициях теории когнитивной метафоры в узком и широком смысле (см. литературу выше). Поэтому мне бы хотелось указать на другие области научного анализа, в которых существует связь между дискурсом и когнитивным подходом.
2. Нерешенные проблемы? Взаимосвязь «дискурс – общество»
Взаимосвязь «язык – общество» имеет огромное значение для развития теории дискурса в целом и критического анализа в частности. Однако данная проблема недостаточно разработана, именно с ней связаны основные трудности многих исследований [Fairclough, Wodak 1997; van Dijk 2003, 2005; Wodak 2001; Weiss, Wodak 2003; Chilton, 2004].
«Критические лингвисты» в большинстве своем согласны с тем, что осмысление сложных взаимоотношений между дискурсом и обществом наиболее полно и естественно достигается при сочетании лингвистического и социального подходов. Несмотря на это, в большинстве работ когнитивный подход исключается из дискурс-анализа, считается неуместным.
Б. Бернстейн и У. Лабов, основоположники социолингвистики, осознав этот факт более тридцати лет назад, предложили новые подходы, известные как теории «различия» и «недостатка». Однако социологические, лингвистические и когнитивные категории невозможно сопоставить непосредственно, поскольку они зависят от «различных горизонтов» (в терминах Хассерла: имеют расхождения в Horizontgebundenheit).
Например, в общественно-политическом контексте термин «representation» (представлять политическую партию, группу и т. д.) имеет более широкое значение, чем в лингвистических исследованиях (семантический термин, единица, вербально или визуально обозначающая что-то) и абсолютно в ином значении используется в когнитивистике («социальные представления» – фреймы, когнитивные ориентации в ситуации общения, структуры знаний определенной социальной группы [см. Moscovici 2000]).
Аналогично понятие «institution» используется в различных значениях в дискурс-анализе и социологии (лингвисты часто не проводят различия между терминами «institution» и «organization», тогда как социологи трактуют «institution» как набор абстрактных правил и законов общественной жизни, а «organization» как конкретное учреждение; [см. Giddens 2000]). Вследствие этого требуется теория – «посредник», сочетающая социологические, когнитивные и лингвистические категории.
До настоящего времени в КДА единой теории подобного плана не существовало. Можно говорить о теоретическом синтезе концептуальных подходов, предлагаемых различными школами, свидетельством чему являются исследование Л. Чаулиараки, Н. Фэрклау [Chouliaraki, Fairclough 1999], дискурсивные формации М. Фуко, habitus П. Бурдье, регистр М. Халлидея и языковой код Б. Бернстейна [Lemke 1995]. Безусловно, синтез подходов не является ни монистической моделью теории, ни «более верным», чем те теории, концептуальные идеи которых он вбирает в себя. В основном он рассматривается как «концептуальный прагматизм» (Mouzelis), фокусируя внимание скорее на «критериях утилитарности, чем истины» [Mouzelis 1995: 9].
Цель прагматического подхода состоит не столько в том, чтобы составить конечный список пропозиций и обобщений вне контекста, сколько в том, чтобы связать вопросы формирования новой теории и концептуализации с теми проблемами, которые подлежат анализу. В этом смысле, исследователи должны задаваться вопросом: «Какие концептуальные подходы уместны для исследования данной проблемы и данного контекста?», а не – «Нужна ли подобная теория?».
Пытаясь ответить на эти вопросы, обратимся к проблеме «взаимосвязи дискурса и общества» (т. е. посредничества) с точки зрения когнитивной лингвистики. Подобная попытка весьма успешно предпринята в исследованиях Т. ван Дейка. Положение о том, что дискурсивный контекст требует адекватной интерпретации, общепризнано и ведет к интеграции когнитивных теорий в КД^. В последнее время в работах «критических лингвистов» в фокусе внимания находятся понятие «контекста» (в значении «общества» или «социальных практик»), разработка «контекстуальной модели» [van Dijk 2001; Panagl, Wodak 2004; Wodak, Weiss 2004]. В результате этих исследований актуальными стали проблемы, связанные со «знанием». Как мы понимаем/декодируем высказывания в контексте? Почему один и тот же текст или высказывание воспринимается по-разному различными группами слушателей/авторов/зрителей? Зависит ли это от их когнитивных/концептуальных фоновых (уже имеющихся) знаний? Итак, мы прошли долгий путь со времен Б. Бернстейна и У. Лабова!
3. Модели производства и понимания текста/дискурса
Пытаясь ответить на эти важные вопросы, в последние десятилетия исследователи критического дискурс-анализа занимались проблемой взаимосвязи «дискурс – общество», используя разнообразные когнитивные модели для объяснения «понимания и восприятия текста» [van Dijk, Kintsch 1983; Lutz, Wodak 1987; Wodak 1996; O'Halloran 2003]. Все вышеперечисленные работы базируются на когнитивных стратегиях, в основе которых лежат ментальные процессы декодирования текста[5].
В исследовании, посвященном восприятию и пониманию новостей [Lutz и Wodak, 1987], мы эмпирически доказали, что при получении новой информации из радиопередач понимание направляют ментальные репрезентации, именно ментальные модели способствуют связи вновь полученной информации с уже известной. По причине различных убеждений и систем знаний тексты новостей понимаются и запоминаются избирательно, что зависит от когнитивных фреймов определенной социальной группы. Данные выводы были получены в результате следующего эксперимента: мы попросили группу людей изложить наиболее важную информацию после прослушивания текстов новостей [Wodak 1987]. Новостные события в изложении опрашиваемых всегда были связаны с их личным опытом, а комментарии к ним – с собственным видением их дальнейшего развития. Это объясняет, почему люди приходят к различным умозаключениям, получая одну и ту же информацию. Пересказ новостей в значительной степени также зависел от фоновых знаний, мнений и предвзятых стереотипов, т. е. информация была сформулирована в рамках существующих в сознании говорящих моделей отображения стереотипной ситуации [Wodak 1996].
В данной работе нами предложена модель производства и понимания текста, которая включает несколько параметров: знание и опыт (т. е. когнитивные структуры: фреймы, схемы и сценарии; [см. Schank, Abelson 1977]), влияющие на производство и декодирование дискурса, жанров, текстов, авторы и целевая аудитория которых имеют возрастные, гендерные, социальные и другие различия. Кроме того, мы рассматриваем производство и понимание текста как рекурсивные процессы, для которых характерна не только постоянная обратная связь с ментальными моделями, хранящимися в кратковременной и долговременной памяти, но и обновление этих моделей.
Процессы обновления информации неразрывно связаны с систематическими, сознательными и подсознательными стратегиями (в настоящее время мы бы назвали этот процесс отбором релевантной информации, хотя определение «релевантности» субъективно; [Sperber, Wilson 1986]). Результаты нашего исследования наталкивают на мысль о когнитивной связи между языком/дискурсом и обществом.
Еще одно междисциплинарное (этнографическое и критическое) исследование посвящено изучению особенностей коммуникативного поведения пациентов, пытавшихся покончить жизнь самоубийством [Wodak 1986]. Нами было отмечено, что мужчины и женщины, так же как и пациенты различного социального статуса, излагают свои проблемы в абсолютно разных жанровых формах: для пациентов-женщин характерно использование «нарратива», для мужчин – менее персонифицированные способы повествования. Пациенты из рабочего класса описывают произошедшие события фрагментарно, тогда как рассказы более образованных пациентов логично выстроены. Существенные различия в выборе жанров определили процесс лечения и стиль общения между врачами и пациентами. Более того, во время лечения изменились и сами жанры: когда насущные проблемы отошли на второй план, о них рассказывали в менее заинтересованной форме, которая сочетала в себе элементы различных жанров. В результате эмоционального и медицинского воздействия изменились и фреймы (жизненный опыт), и схемы (структурированные модели опыта и знаний).
В настоящей статье я вновь пытаюсь связать дискурс и общество посредством когнитивного подхода к производству текста. Будучи социолингвистом по образованию, я была заворожена статистическими данными о существенной зависимости между гендером и социальным статусом, с одной стороны, производством и пониманием текста – с другой. Использование когнитивных концепций в социолингвистике оказалось инновационным [см. также Cicourel 1969, 2002], оно позволило развить ранние, иногда наивные предположения о непосредственных связях между социальными «переменными» и лингвистической реализацией.
4. Двигаясь дальше: исследование дискурсов сексизма, расизма, ксенофобии и антисемитизма
В книге Т. ван Дейка «Prejudice in Discourse» [van Dijk 1984] предложена социокогнитивная модель, в соответствии с которой автор объясняет (вос)производство стереотипов и предубеждений сочетанием целого комплекса когнитивных процессов, наиболее важный из которых – хранение опыта индивида как ситуативной модели в краткосрочной и долгосрочной памяти. Этот теоретический подход может быть интегрирован с нашим собственным исследованием в этой области, сфокусированном на интертекстуальности. Оно включает в себя детальную разработку исторического «измерения» и трехсторонней методологии (дискурсивно-исторический подход) [Reisigl, Wodak 2001; Wodak 2001, 2004b].
Помимо желания объяснить, почему воспроизводство и восприятие событий, высказываний и т. п. связано с предрассудками, хотелось бы остановиться и на том, каким образом подобные предубеждения становятся широко распространенными, как и почему в конкретные периоды времени они привязаны к определенным идеологиям в заданном социополитическом контексте. Именно здесь теории, основанные на коллективной памяти и коллективном опыте, должны быть подтверждены релевантными эмпирическими результатами.
Например, антисемитские убеждения имеют различные исторические корни в Австрии, Германии, Франции и Италии. Они зависят от сложных исторических и социополитических факторов и событий (религия, индустриализация, национал-социалистическая идеология и т. д.). У этих стереотипов многовековая история. В настоящее время самые различные стереотипы («синкретический антисемитизм») не только присутствуют в сознании рядовых граждан, но и намеренно используются в политических целях в дискурсе элит [Pelinka, Wodak 2002; Wodak 2004b].
В исследовании, посвященном «делу Уолдхейма» в 1986 [Wodak et al. 1990; Mitten 1992] и более поздних работах, где анализируется дискурс дебатов по этой проблеме (в различных жанровых формах: в газетах, ток-шоу на телевидении, в новостном дискурсе телевидения и радио, в разговорах на улице и т. д.), нам удалось установить происхождение некоторых стереотипов, реализующихся в имплицитных и эксплицитных антисемитских высказываниях официальных лиц при обращении к аудитории, и наоборот. Собранный материал показывает, что некоторые термины были «приспособлены» к новым контекстам, их эксплицитные расистские/антисемитские смыслы легко превратились в понятные для говорящих/читающих/слушающих намеки, основанные на коллективном знании. Значение и использование «East coast», по-видимому, аллюзия на «могущественных еврейских лобби в Нью-Йорке», – явный тому пример. Вначале этот термин эксплицитно использовался в словосочетаниях, выражающих антисемитские настроения автора, затем в австрийском дискурсе стал употребляться самостоятельно, вне контекста. В терминах когнитивной лингвистики выражение «East coast» приобрело статус концептуальной метафоры, фрейма. Данное исследование является дальнейшим развитием дискурсивно-исторического подхода, который включает в себя когнитивные теории последних лет [Reisigl, Wodak 2001].
Таким образом, стереотипы и предубеждения проявляются и возрождаются к жизни в метафорах, аналогиях, намеках и рассказах. Подобные культурные фреймы трудно изменить, что и объясняет неудачную попытку рационального «просвещения» [Horkheimer, Adorno 2002]. Системы предубеждений также объясняют широко распространенный феномен «антисемитизма без евреев и антисемитов» [Bunzl, Marin 1983; Marin 2000]: человек может никогда не встречаться с евреями и не иметь отрицательного опыта взаимодействия с ними, но иметь о них негативное суждение. Опросы общественного мнения говорят о том, что антисемитские настроения более сильны и распространены в том случае, если отсутствуют контакты с представителями данной социальной группы. Представления, предположения и воображение, основанные на фольклоре и предрассудках, передаваемых из поколения в поколение, хранятся как ментальные модели и коллективные установки. То же самое касается гендерного, этнического неравенства, неравенства сексуальных меньшинств.
Кроме того, ситуативные модели интегрируют и подпитывают предрассудками каждое новое событие. Даже если это событие означает нечто совершенно иное, оно автоматически обрабатывается как антисемитское. Новый опыт взаимодействия искажен, приспособлен и интегрирован с предыдущими ситуативными моделями, хранящимися в коллективной памяти. Например, «позитивный» анекдот о еврее или турке обычно расценивается как исключение, поскольку противоречит схеме, тогда как «негативный» опыт предоставляет собой «доказательство или свидетельство» для уже имеющихся антисемитских убеждений [Wodak, Matouschek 1993].
5. Изменение фреймов?
Джордж Лакофф в своей последней книге «Don't Think of an Elephant!» [Lakoff 2004] анализирует «формирование фреймов» как средство политической пропаганды. Он исследует избирательные кампании Джорджа Буша и Джона Керри в США (2004 г.) и утверждает, что команда Буша достигла успеха, так как первой смогла задать рамки избирательной гонки. Основная причина неудачи Керри состоит в том, что он лишь реагировал на повестку дня, выдвинутую Бушем, не предлагая встречных проблем, которые могли бы направить дебаты в ином направления. Для каждого «критического лингвиста» данный вывод, безусловно, интересен: автор утверждает, что определение новой повестки дня может заставить электорат поверить другой программе.
Более подробно останавливаясь на теоретических положениях и эмпирических результатах, изложенных выше, следует отметить, что если системы убеждений существуют на когнитивном и эмоциональном уровнях, имеют исторические корни, то изменить фреймы – учитывая, что это больше, чем внешнее изменение языка, – оказывается очень сложно. Системы убеждений и идеологий должны быть переформулированы и заменены другими. Исследования, посвященные расизму, гендерной дискриминации, антисемитизму, показывают, что подобные изменения – если они вообще возможны – займут долгое время, их результатом станет коренное перерождение («катарсис»), которое позволит заменить существующие ментальные репрезентации и долговременные ситуативные модели новыми.
Два следующих ниже примера подтверждают данное положение.
Центром избирательной кампании в США в 2004 г. были дебаты относительно «ценностей». Определение ценностей было предложено лагерем Буша: к их числу Буш относит традиционные семейные ценности, типичные гендерные роли (кампания против однополых браков), религию, национализм, патриотизм и т. д. Лагерь Керри не смог сделать акцент на «ценностях», хотя, безусловно, проблемы социального благосостояния, национального здравоохранения, борьбы с бедностью и финансирования образования многими избирателями рассматривались как законные позитивные ценности. Фрейм «ценности» был «присвоен», колонизирован; возможность обсуждения иных ценностей более не рассматривалась. Что дальше: создать новый ярлык? Придумать новые коллективные установки, новые когнитивные фреймы? Новую концептуальную метафору? Принципы, предложенные Дж. Лакоффом [Lakoff 2004], представляют собой риторические правила, следуя которым можно выиграть политические дебаты, но они не решают проблемы «восстановления территории» и семантического поля ценностей.
Второй пример касается еще одного интересного семантического процесса, который наблюдается в настоящее время: сплав двух различных понятий «иммигранты» и «беженцы». В дебатах по проблеме иммиграции в страны Евросоюза эти два понятия смешаны и вербализированы как «нелегалы; нелегальные иммигранты; нелегальные беженцы; лица, ищущие убежища; экономические иммигранты; экономические беженцы; лица, не имеющие законных оснований на предоставление убежища» и т. д. В средствах периодической печати, в лозунгах, листовках и других материалах пропаганды [Baker, McEnery 2005] они часто используются в одном тексте и даже абзаце, подразумевая одно и то же явление. Таким образом, две ранее различные семантические группы воспринимаются одинаково: любой въезд в страну (например, в Великобританию, это пример из британских СМИ) считается «нелегальным». Данная стратегия используется для оправдания и легитимации меньшего числа иммигрантов и просителей политического убежища [Van Leeuwen, Wodak 1999; Wodak, Van Dijk 2000[6]]. Кроме того, эти ярлыки тянут за собой целый шлейф метафор, например, «наводнять», «затоплять» и др. [Reisigl, Wodak 2001]. Однако для (вос)производства данного контекста используются не только метафорические фреймы, но и ситуативные модели. Листовки, распространяемые британской национальной партией (BNP) в 2004 г., сочетали в себе визуальные, текстовые, риторические, прагматические, семантические и аргументативные лингвистические стратегии и приемы, в конечном счете нацеленные на производство дискурса ксенофобии[7].
Приведенные примеры показывают, что социокогнитивные модели объясняют феномены в разных областях исследования. Эти примеры также доказывают, что, с одной стороны, только внешнее изменение языка будет неэффективным, с другой – для обоснования долгой, порой «вечной» жизни предрассудков следует принимать во внимание глубинные когнитивные концепты [Adorno, 1973/1950]. Другими словами, такие сложные явления, как расизм, антисемитизм, и т. д., можно объяснить, лишь опираясь на междисциплинарные теории. Не решив фундаментальной проблемы взаимосвязи «дискурс – общество» в настоящей статье, хочется надеятся, что приведенные аргументы за интегрирование когнитивного анализа как части этой сложной проблемы окажутся важным шагом вперед.
Литература
Adorno T.W. Studien zum autoritaren Charakter. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973. (Originally published 1950.)
Anderson B. Die Erfindung der Nation: Zur Karriere eines erfolgreichen Konzepts. Frankfurt a. Main/New York: Campus, 1988. (In
English 1983.)
Baker P., McEnery T. A Corpus-based Approach to Discourses of Refugees and Asylum Seekers in UN and Newspaper Texts // Journal of Language and Politics. 2005.
Bunzl J., Marin B. Antisemitismus in Osterreich. Innsbruck: Universitat-sverlag, 1983.
Chilton P. Analyzing Political Discourse: Theory and Practice. London: Routledge, 2004.
Chouliaraki L., Fairclough N. Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh: University of Edinburgh Press, 1999.
Cicourel A. Method and Measurement in Sociology. New York: New York University Press, 1969.
Cicourel A. Le raisonnement medical. Une approche socio-cognitive. Paris: Seuil, 2002.
Confino A. The Nation as a Local Metaphor. Chapel Hill: University of
North Carolina Press, 1997.
Delanty G., Jones P.R., Wodak R. (eds) (in press). Voices of Migrants. Liverpool: Liverpool University Press.
Dirven R., Polzenhagen F., Wolf H. – G. Cognitive Linguistics, Ideology, and Critical Discourse Analysis // D. Geeraerts and H. Myckens (eds) / Handbook of Cognitive Linguistics. Oxford: Oxford University Press, 2005 (in press).
Fairclough N., Wodak R. Critical Discourse Analysis // Discourse Studies / T.A. van Dijk (ed.). London: Sage, 1997. Vol. II.
Giddens A. Sociology. London: Polity, 2000.
Halbwachs M. Das kollektive Gedachtnis. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985.
Hawkins B. Ideology, Metaphor and Iconographic Reference // Language and Ideology / R. Dirven, R. Frank, C. Ilie (eds). Amsterdam: Benjamins, 2001. Vol. II.
Heer H., Manoschek W., Pollak A., Wodak R. (eds). Wie Geschichte gemacht wird. Erinnerungen an Wehrmacht und Zweiten Weltkrieg. Vienna: Czernin, 2003.
Horkheimer M., Adorno T.W. Elements of Anti-Semitism: Limits of Enlightenment // Dialectic of Enlightenment / M. Horkheimer, T.W. Adorno (eds). Stanford: Stanford University Press, 2002. (Originally published 1987.)
Koller V. Critical Discourse Analysis and Social Cognition: Evidence from Business Media Discourse // Discourse & Society. 2005. Vol. 16(2).
Kunda Z. Social Cognition: Making Sense of People. Cambridge, MA: MIT Press, 1999.
Lakoff G. Don't Think of an Elephant! Berkeley: Chelsea Green, 2004.
Lemke J.L. Textual Politics: Discourse and Social Dynamics. London: Taylor & Francis, 1995.
Luhmann N. Soziale Systeme: Grundrisse einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a. Main: Suhrkamp, 1984.
Lutz B., Wodak R. Information fur Informierte. Vienna: Akademie der Wissenschaften, 1987.
Marin B. Antisemitismus ohne Antisemiten. Vienna: Campus, 2000.
Mitten R. The Politics of Antisemitic Prejudice. The Waldheim Phenomenon in Austria. Boulder, CO: Westview Press, 1992.
Moscovici S. Social Representations. Explorations in Social Psychology. Cambridge: Polity Press, 2000.
Mouzelis N. Sociological Theory: What Went Wrong? Diagnosis and Remedies. London: Routledge, 1995.
Musolff A. Metaphor and Political Discourse. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004.
O'Halloran K. Critical Discourse Analysis and Language Cognition. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003.
Panagl O., Wodak R. (eds). Text und Kontext. Wurzburg: Konigshausen & Neumann, 2004.
Pelinka A., Wodak R. (eds). 'Dreck am Stecken'. Politik der Ausgrenzung. Vienna: Czernin, 2002.
Reisigl M., Wodak R. Discourse and Discrimination. London: Routledge, 2001.
Schank R.C., Abelson R.P. Scripts, Plans, Goals and Understanding. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1977.
Sperber D., Wilson D. Relevance, Communication and Cognition. Oxford: Blackwell, 1986.
van Dijk T.A. Prejudice in Discourse. Amsterdam: Benjamins, 1984.
van Dijk T.A. Critical Discourse Analysis // Handbook of Discourse Analysis / D. Tannen, D. Schiffrin, H. Hamilton (eds). Oxford: Blackwell, 2001.
van Dijk T.A. The Discourse-Knowledge Interface // Critical Discourse Analysis / Theory and Interdisciplinarity / G. Weiss, R. Wodak (eds). London: Macmillan, 2003.
van Dijk T.A. Contextual Knowledge Management in Discourse Production. A CDA Perspective // New Agenda in (Critical) Discourse Analysis / R. Wodak, P.A. Chilton (eds.). Amsterdam: Benjamins, 2005.
van Dijk T.A., Kintsch W. Strategies of Discourse Comprehension. New York: Academic Press, 1983.
van Leeuwen T., Wodak R. Legitimizing Immigration Control: A Discourse-historical Analysis // Discourse Studies. 1999. Vol. 1(1).
Weiss G., Wodak R. Theory and Interdisciplinarity in Critical Discourse Analysis. An Introduction // Theory and Interdisciplinarity in Critical Discourse Analysis / G. Weiss and R. Wodak (eds). London: Palgrave/Macmillan, 2003.
Wodak R. Language behaviour in Therapy Groups. Los Angeles: University of California Press, 1986.
Wodak R. And Where is the Lebanon? A Socio-psycholinguistic Investigation of Comprehension and Intelligibility of News // Text. 1987.
Vol. 7(4).
Wodak R. Disorders in Discourse. London: Longman, 1996.
Wodak R. What CDA is About: A Summary of its History, Important Concepts and its Developments // Methods of Critical Discourse Analysis / R. Wodak, M. Meyer (eds). London: Sage, 2001.
Wodak R. Critical Discourse Analysis // Qualitative Research Practice / C. Seale, G. Gobo, J.F. Gubrium, D. Silverman (eds). London: Sage,
2004a.
Wodak R. Discourses of Silence // Discourse and Silencing / L. Thies-meyer (ed.). Amsterdam: Benjamins, 2004b.
Wodak R. Sprache und Politik. Einige Grenzen diskursanalytischer Vorgangsweisen // Analecta homini universalidicata. Festschrift fur Oswald Panagl zum 65. Geburtstag / T. Krisch, T. Lindner and U. Muller (eds). Stuttgart: Verlag Hans-Dieter Heinz, 2004c. Band II.
Wodak R., Matouschek B. We are Dealing with People whose Origins one Can Clearly Tell Just by Looking: Critical Discourse Analysis and the Study of Neo-Racism in Contemporary Austria // Discourse & Society. 1993. Vol. 4(2).
Wodak R., Meyer M. (eds). Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage, 2001.
Wodak R., van Dijk T.A. (eds). Racism at the Top. Klagenfurt: Drava, 2000.
Wodak R., Weiss G. Visions, Ideologies and Utopias in the Discursive Construction of European identities: Organizing, Representing and Legitimizing Europe // Communicating Ideologies: Language, Discourse and Social Practice / M. Putz, A. Neff, G. van Artselaer, T.A. van Dijk (eds). Frankfurt a. Main: Peter Lang, 2004.
Wodak R., de Cillia R., Reisigl M., Liebhart K. The Discursive Construction of National Identity. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999.
Wodak R., Pelikan J., Nowak P., Gruber H., de Cillia R., Mitten R. Wir sind alle unschuldige Tater! Diskurshistorische Studien zum Nachkrieg-santisemitismus. Frankfurt a. Main: Suhrkamp, 1990.
Петр Друлак (Petr Drulak)
Петр Друлак получил образование в Пражском институте экономики, Антверпенском университете, Мичиганском университете и Флорентийском университете. Профессор Института политологических исследований и Института международных исследований Карлового университета, директор Пражского института международных отношений, главный редактор ежеквартального журнала «Mezinarodni vztahu» («Международные отношения»). Председатель редакционной коллегии журнала «Perspectives» («Перспективы»).
Сфера интересов – политический дискурс и теория международных отношений. Публикации: Drulak P. Theory of International Relations. Praha: Portal, 2003. Drulak P. (ed.). National and European Identities in EU Enlargement. Praha: Institute of International Relations, 2001. Drulak P. Metaphors and Creativity in International Politics. Research Cluster «Discourse, Politics, Identity», Working Paper No. 3/2005. Lancaster: Institute for Advanced Studies at Lancaster University, 2005. Drulak P. Metaphors Europe lives by: language and institutional change of the European Union. Working Paper Department of Social and Political Sciences, Florence: European University Institute, EUI Working Paper SPS No. 2004/15. Drulak P., Drulak R. (ed.). Creating and Analyzing International Politics. Praha: University of Economics, 2000.
Представленная ниже статья специально подготовлена П. Друлаком для русскоязычных читателей.
Метафора как мост между рациональным и художественным (перевод О.А. Ворожцовой)
В западном обществе традиционно проводится четкая граница между рациональным познанием мира и его художественным переживанием. В то время как первое относится исключительно к царству науки, второе проявляется в искусстве. Традиционно точки зрения ученых рассматривались не только как несовместимые с взглядами представителей искусства, но и всегда ставились на первое место и расценивались как единственный источник значимой информации о мире. В отличие от науки искусству в лучшем случае отдавалось должное за способность проникать в суть вещей, но в тоже время оно постоянно критиковались за то, что сбивает с верного пути и наносит вред истинному знанию.
Показательны в этом отношении труды Платона и Аристотеля. Платон критически относился к художественным достижениям своего времени. Он рассматривал их как очень несовершенные попытки копирования чувственной реальности, которая сама является всего лишь плохой копией истинной реальности вещей. По Платону, истинная реальность доступна только на основе рационального абстрагирования, которое дает универсальную истину. С другой стороны, ничто не является настолько далеким от истины, как копия копии, созданная художниками [Plato 595–608]. Этот платонический идеал познания, основанного на рациональном абстрагировании, направленном на универсальное объективное знание, которое несовместимо с особенностями и чувственностью художественного переживания, является еще одним из мифов современной науки и рациональности.
Даже несмотря на то что Аристотель относился к искусству более благосклонно, чем Платон, его подход к художественному остался ограниченным. С одной стороны, он высоко ценил художественное озарение, заявляя, что поэзия ближе к истинному пониманию, чем история (Aristotle). С другой стороны, Аристотель предупреждал против загрязнения рационального познания поэзией, с ее чувствами и образным языком. В этом отношении он развил идею Платона о рациональном познании. Платоническая наука, которая может открыть вневременные причинные законы вселенной, стала оказывать наиболее сильное влияние с началом развития естественных наук в XVII веке. В дальнейшем убеждение в существовании объективного знания о мире распространилось и на социальные науки. Это убеждение отдавало предпочтение объективной точке зрения на общественные науки, сформулированной на основе естественных наук, по сравнению с субъективной точкой зрения гуманитарных наук, углубляя таким образом пропасть между рациональным и художественным.
Тем не менее именно успех естественных наук привел к серьезным сомнениям в возможности существования неизменного знания универсальных законов. Сначала теория относительности Эйнштейна показала, что считавшееся солидным научным знанием в любое время может быть поставлено с ног на голову. Но, что важнее, квантовая теория лишила науку уверенности, которая раньше ассоциировалась с научным знанием, таким образом, привнося концептуальные скрытые смыслы, которые противоречат тому, что обычно считается нормальным или рациональным.
Современная философия науки отреагировала на это и повернулась от платонического варианта определенного вневременного знания к признанию того, что знание обременено временем и социальными условиями. Карл Поппер (1959–2002), ярый критик платонического идеала общества, начал этот поворот, отрицая идею подтверждения гибких универсальных законов и замещая ее идей опровержения гибких гипотез, подтвержденных доказательствами, которые, скорее всего, когда-то будут опровергнуты. С этой точки зрения наука больше не может изрекать вечные истины, она может лишь давать более или менее обоснованные гипотезы об устройстве мира. Последователи Поппера сделали притязания науки на объективность еще более относительными, указав на социальную роль сообщества ученых в определении того, что является истинным, а что – нет, показав, что объективного знания, которым можно абсолютно объективно проверять теории, нет как такового, так как знания всегда зависят от теории [Kuhn 1962, 1993; Lakatos, Musgrave 1970].
Тем не менее среди последователей К. Поппера был Пол Фейерабенд, пришедший к наиболее радикальным выводам. Он утверждал, что научная практика не должна быть ограничена традиционными методологическими объектами, которые основаны на объективистских идеалах, не способных стимулировать плодотворные исследования [Feyerabend 1993/1975]. В этой связи Фейерабенд [2004] также оспорил традиционное деление на науку и искусство, указывая, что фактически они тесно связаны. Он показал, что и наука, и искусство подвергаются трактовке набором несоразмерных подходов, например, романский / готический стили в искусстве или физика Аристотеля / физика Галилея в науке, которые создают свои собственные относительные реальности, различия между которыми нельзя охватить понятиями прогресса, подтверждения или истинности.
Таким образом, П. Фейерабенд отрицает традиционное превосходство платонического абстрактного знания над художественным переживанием частного. Он говорит, что поэзия размышляла над индивидуальной идентичностью и общественными законами задолго до психологии и социологии, которые, как он считает, все еще во многом отстают от поэзии. Похожим образом он показывает, что законы формальной логики были введены классической традицией. Вместо традиционного доминирования абстрактного знания П. Фейерабенд предлагает множество стилей как универсальных, так и частных, полезное знание из которых должно извлекаться демократическим выбором, а не диктатурой абстрактно-рационалистических догм.
Метафоры
П. Фейерабенд проницательно критикует самопровозглашенную объективность и истинность абстрактного рационализма, приходя к выводу, что наука и искусство в действительности не очень отличаются друг от друга. Тем не менее он не предлагает никакого механизма, который бы сделал возможным диалог между этими спорно близкими способами освоения мира. Более того, тот факт, что он настаивает на несоразмерности различных научных и художественных стилей, может привести к выводу, что подобный диалог вообще невозможен, так как каждый стиль ограничен своей реальностью со своим собственным языком. Это ставит под сомнение саму возможность демократического выбора полезного знания, предложенную П. Фейерабендом, так как никакие дебаты не могут состояться между самодостаточными стилями, что должно бы подготовить почву для такого выбора.
Рассмотрев мысли П. Фейерабенда о том, что наука и искусство близки друг к другу, а также его доводы об особенностях различных стилей, мы пришли к выводу, что можно найти общее основание, на базе которого различные стили сходятся и могут быть сравнены. Это общее основание – метафоры, без которых не может обойтись ни один стиль. В то время как значение метафоры в искусстве неоспоримо, ее распространение на рациональное познание, возможно, не настолько очевидно. Отсюда следует, что необходимо краткое обсуждение роли метафоры в науке и, шире, самой теории метафоры.
Метафору традиционно рассматривают как «прием осмысления чего-либо в терминах чего-либо еще» [Burke 1945; 503 цит. по Cameron 1999a: 13]. Она связывает два различных явления, выявляя их сходства и идентичность. Дж. Лакофф и М. Джонсон [1980], чья теория метафоры взята за основу в данном исследовании, трактуют метафору и как фигуру речи, и как фигуру мысли. В их понимании метафоры объединяют две концептуальные сферы – сферу-источник и сферу-мишень, делая возможным осмысление сферы-мишени в терминах сферы-источника. Другими словами, то, что мы знаем о сфере-источнике, также относится и к сфере-мишени, так как метафора устанавливает формальную идентичность между ними, заявляя, что «А – это В». Это определение метафоры также включает в себя аналоговое мышление.
Удивительно высока степень зависимости от метафор глубоко математических теорий естественной науки. Их история полна примеров, когда неожиданные метафоры значительно углубили наши знания о мире и стали частью традиционного образа мыслей [Duhem 1974; цит. по Bourdieu et al. 1991: 194–195]. Например, рассматривая СВЕТ как ЗВУК Х. Гюйгенс создал теорию световых волн, что сделало анализ света более доступным для понимания. Рассматривая ЭЛЕКТРИЧЕСТВО как ТЕПЛО Ом смог приложить детально разработанное знание о последнем для изучения нетронутой области первого. На практике эти метафоры едва заметны, так как научная процедура состоит в использовании набора уравнений, разработанных для анализа сферы-источника (звук, тепло), для анализа сферы-мишени (свет, электричество).
Эта процедура своей кажущейся нейтральностью и объективностью заставляет нас забывать, что сама правомерность перенесения лежит в определенной метафоре. Метафоры не только предлагают новые идеи, которые вводятся в теории, иллюстрируя, таким образом, мощнейший механизм ars inveniendi [Bourdieu et al. 1991: 5], но и предоставляют материал для логических построений теорий, а также дают объяснения. Таким образом, эти «научные метафоры» [Bourdieu et al. 1991: 55] – сердце теорий, их суть, «без которой теории были бы абсолютно бесполезны и не заслуживали бы своего гордого имени» [Campbell 1967; цит. по Bourdieu et al. 1991: 196].
Что истинно в абстрактном мире естествознания, еще более истинно в области социальных наук. Базовые концепты, используемые в рациональном познании общества, неизбежно метафоричны [Lambourn 2001]. Даже сами концепты государство и общество, как правило, метафорически представляются как ЛЮДИ, которые принимают решения, обладают органами, вступают в отношения, переносят болезни, имеют свое настроение. По сравнению с другими, метафор общества намного больше, общество часто рассматривается как ОБЪЕКТ, движимый силами, основанными на физических законах, как СЕМЬЯ или как БОКСЕРСКИЙ ПОЕДИНОК.
Важно, что едва ли какое-либо определение такого запутанного концепта как общество может обойтись без метафорической связи с менее запутанным и более знакомым единством. В этой связи, П. Де Ман (1978/ 1984) удачно указывает на неизбежность метафорического языка, продемонстрировав, что Дж. Локк, несмотря на его низкую оценку образного языка, сам зависит от метафор. П. Де Ман также показывает неотъемлемую и непризнанную роль метафор в работах К. Кондильяка и И. Канта. Аналогично Платон, несмотря на его резкую критику образного языка поэтов сам использует метафору, вводя образ пещеры, для того чтобы выразить одну из своих важнейших идей [Lakoff, Johnson 1980].
Над повсеместностью метафоры и в рационалистском, и в поэтическом дискурсе размышляют многие ученые [Ricoeur 1975; Lakoff, Johnson 1980]. В этой связи особенно важна революционная работа Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Они не только рассматривают метафору как центральное явление нашего мышления и поведения, но также предлагают когнитивный метод образной рациональности [Lakoff, Johnson 1980: 210]. Предполагается, что этот метод разрешит противоречия между тем, что они называют объективизмом и субъективизмом. В то время как объективизм относится к научному рациональному познанию, которое доминирует в западном мышлении, субъективизм представляет индивидуальный опыт, состоящий из чувств, эмоций и воображения, которым романтизм уделяет особое внимание и которые чаще всего представлены в искусстве [Lakoff, Johnson 1980: 202–206].
Дж. Лакофф и М. Джонсон говорят, что образно-рациональный метод, основанный на метафоре, может связать сущностные свойства и некоторые радикальные требования объективизма и субъективизма. С субъективистской точки зрения метафоры отражают субъективное эмоциональное переживание мира, чем дают беспристрастное отражение, они часто являются средством индивидуального воображения, связывая отдельные концепты неожиданным образом. С точки зрения объективизма, чтобы быть понятыми, метафоры и язык в целом должны быть связаны с общественным опытом, который социален и, таким образом, в некоторой степени объективен, хотя это и не абсолютно универсальная объективность, а объективность, связанная с определенным культурным целым.
Более того, конкретные метафоры могут быть рациональным путем выведены из более абстрактных концептуальных связей. Например, из абстрактной метафоры ОБЩЕСТВО – это ЧЕЛОВЕК можно вывести следующие (перечислим лишь несколько) метафоры: «Европа больна», «Россия чувствует себя униженной» или «Польшу подвели». Подведем итоги. Несмотря на то что метафоры могут быть субъективны и эмоциональны, они являются частью квазиобъективного общественного опыта и могут быть рационально выведены из высоко абстрактных моделей.
Таким образом, образная рациональность метафор представляет идеальную общую основу для сведения воедино рационального познания и художественного переживания. В настоящее время метафоры обычно рассматриваются либо применительно к науке [Lakoff, Nunez 2000], либо применительно к искусству [Lakoff, Turner 1989]. Тем не менее редко рассматриваются метафоры и научных текстов, и художественных работ с целью изучения того, как эти два способа нашего познания мира могут быть соединены в рамках одного метода. Именно такая попытка предпринимается в данной работе. Во-первых, работа показывает, что научное осмысление европейской интеграции основано по большому счету на трех абстрактных концептуальных метафорах. На следующем этапе эти метафоры сравниваются с метафорическими образами на плакатах об европейской идентичности, выполненных студентами, изучающими прикладное искусство. Во-вторых, в работе анализируются метафоры войны в работах Э. Юнгера в сравнении с современными исследованиями по войне.
Европейская интеграция
Европейскую интеграцию, которая в настоящее время ассоциируется с ЕС, изучают с разнообразных точек зрения [Rosamond 2000]. Неизбежно каждый из ракурсов рассмотрения основывается на абстрактных метафорах, которые определяют институциональные основания ЕС. Удивительно, но, несмотря на разнообразие, большинство теорий европейской интеграции можно представить лишь тремя метафорами: ЕС – это КОНТЕЙНЕР, ЕС – это РАВНОВЕСИЕ КОНТЕЙНЕРОВ, ЕС – это ДВИЖЕНИЕ [Drulak 2004]. Каждая из этих трех метафор представляет устоявшееся течение в осмыслении ЕС.
Метафора КОНТЕЙНЕРА подразумевает, что ЕС как единство – это зафиксированное целое, которое функционирует как государство. Это предполагает фундаментальную схожесть или даже идентичность между внутренним порядком одного государства и внутренним порядком ЕС. В этом случае говорят о «европейском доме» или «европейской независимости». Несколько школ осмысления ЕС основываются на метафоре КОНТЕЙНЕРА. Федералисты утверждают, что в целях предотвращения еще одной войны и достижения высоких результатов экономического и технологического развития Европа стремится стать европейским государством, которое заменит существующую межгосударственную систему [e.g. Burgess 1989; Rosamond 2000: 20–31]. Похожая точка зрения предлагается в сравнительной политике, согласно которой политика ЕС развилась в систему, которая скорее сравнима с внутренней политикой демократического государства, чем с системой международных отношений, следовательно, более продуктивно изучать ЕС посредством теорий и концептов сравнительной политики, чем с точки зрения международных отношений [Hix 1994, 1996]. Наконец, европейский конституционализм полагает, что система законов ЕС ближе к системе законов федерального государства, чем к международному законодательству.
Метафора РАВНОВЕСИЯ КОНТЕЙНЕРОВ дает нам понять, что ЕС – это взаимодействие между зафиксированными целыми, которые постоянно ищут взаимные компромиссы. Это привлекает традиционную метафору – баланса силы, которая формирует международное сознание с XVI века [Sheehan 1996]. В этой связи говорят о «балансе силы» или «соревнующихся национальных интересах» внутри ЕС. В настоящее время метафора РАВНОВЕСИЯ лучше всего выражена в работах Андрю Моравшика, представителя течения либерального международного правления [Moravcsik 1998]. Можно поспорить с тем, что в основных понятиях этого течения легко обнаруживаются ключевые концепты мышления, связанные с метафорой «баланса силы». Вместе с тем эта метафора подчеркивает приобретенную мудрость европейских дипломатов, которые рассматривают ЕС как арену для борьбы соревнующихся национальных интересов.
Метафора ДВИЖЕНИЯ не предполагает наличия зафиксированных постоянных деятелей. ЕС в этом случае понимается текучим, его главной чертой является постоянное изменение. Таким образом, часто говорят о «постоянном заключении договоров» или о «торможении поезда». Эта идея лежит в основе неофункционального подхода [e.g. Haas 1958; Schmitter 1996], который концентрирует внимание на процессе интеграции, а не на его результатах. Несмотря на то что неофункционализм больше не является доминирующим течением в осмыслении Европы, некоторые современные влиятельные теории основаны на наследии неофункционализма. Подходы в рамках течения европейского правительства [Christiansen 1997; Jachtenfuchs 1997; Joergenssen 1997; Joerges 2002; Kelstrup 1998; Marks, Hooghe, Blank 1996] концептуализируют ЕС как ДВИЖЕНИЕ, говоря либо о форме децентрализованного самоанализирующего правления, либо о процессе европейской конституции. Институциалистские подходы также внедряют метафору ДВИЖЕНИЯ [Armstrong, Bulmer 1998; Checkel 1999; Pierson 1998]: исторический институциализм пытается предложить «скорее движущуюся картинку, чем фотографию» процесса интеграции [Pierson 1998: 30], социологический институциализм изучает когнитивные и нормативные изменения [Checkel 1999]. И наконец, конструктивисты основываются на предположении, что «социальные сущности по своей природе подвержены изменениям» [Christiansen et al. 1999: 538] и, таким образом, признают «трансформационный аспект» неофункционализма.
Даже несмотря на то что метафоры КОНТЕЙНЕРА, РАВНОВЕСИЯ и ДВИЖЕНИЯ были рассмотрены на примере теорий европейской интеграции, они с таким же успехом относятся к художественному осмыслению Европы. Хорошим примером художественного осмысления Европы является недавняя выставка плакатов на тему европейской идентичности [Drulak 2006]. Выставка, организованная Чешским Советом по международным отношениям весной 2006 года, проделала путь из Праги в Варшаву и Брюссель и собрала около 170 плакатов молодых художников из 8 стран ЕС.
Каждый плакат пытался показать европейскую идентичность наиболее убедительным образом. Интересно, что большинство плакатов можно понять через три описанные выше метафоры.
Большая часть плакатов основана на метафоре КОНТЕЙНЕРА. Европейская идентичность изображается как кувшин, фигура человека, отпечаток человеческого тела (обычно отпечаток пальца или стопы), разноцветный клубок или дерево, вершина которого представляет собой карту Европы. Именно посредством различных видов карт Европа представлена как единое целое, имеющее одну форму и один цвет, то есть то, что чаще всего выражает метафора КОНТЕЙНЕРА. С другой стороны, о хрупкости европейской конструкции говорит изображение Европы как песчаного замка.
Все же хрупкость чаще ассоциируется с метафорой РАВНОВЕСИЯ. На самом деле многие плакаты, относящиеся к этой метафоре, изображают Европу действительно хрупкой: стопка тарелок, стаканов, карточный домик. Эта метафора также реализуется посредством отпечатков пальцев и стоп. То есть в то время как метафора КОНТЕЙНЕРА подчеркивает, что это один отпечаток, метафора РАВНОВЕСИЯ приводит несколько отпечатков, количество которых часто соответствует количеству членов ЕС. Похожим образом метафора РАВНОВЕСИЯ выражается посредством карты, но в отличие от карт, используемых в метафоре КОНТЕЙНЕРА, эти плакаты показывают разнообразие цвета и форм карт, представляя таким образом членов ЕС. РАВНОВЕСИЕ также может быть выражено семантически; когда знаки различных знаковых систем составляют надписи, относящиеся к Европе и европейской идентичности, как в случае с победившим плакатом с надписью «evf0pean identity», где различные части Европы символически представлены знаками различных алфавитов, а их равновесие представлено четким значением надписи «европейская идентичность».
Даже несмотря на то что метафору ДВИЖЕНИЯ нелегко запечатлеть на статичной картинке, некоторые плакаты преуспели в этом. Движение было представлено пружиной, надписью «Европа» на отъезжающей машине, руками, указывающими в определенном направлении, или пальцами, сходящимися в одну точку вдали. Движение также может быть выражено контрастирующими политическими и культурными символами. Так, один плакат показывает, как оливковая ветвь изменяется в свастику, которая затем превращается в серп и молот и в конце концов преобразуется в золотые звезды Европы. Похожим образом другой плакат показывает, как символы ЕС разъедают и уничтожают коммунистические символы.
Но все же ряд плакатов не подпадает ни под одну из этих трех метафор. В этом отношении они обогащают наше понимание, приводя альтернативные метафоры, которые среди прочего проводят ассоциативные связи между ЕС и ПОТРЕБЛЕНИЕМ, ОТНОШЕНИЯМИ С ТУРЦИЕЙ или ПУСТОТОЙ. Плакаты, относящиеся к ПОТРЕБЛЕНИЮ, по большей части играют со словом «Европа», представляя его как логотип Coca Cola, или помещая его на вывеску рядом с китайским рестораном, или составляя его из букв логотипов модных продуктов. Отношения с Турцией обычно выражаются посредством игры между европейскими звездами и турецким полумесяцем. И в заключение идея пустоты выражается через изображение людей с закрытыми лицами или без лица.
Война
Война – это один из ключевых вопросов, который изучается в рамках дисциплины «Международные отношения». В действительности этот предмет традиционно определяется как изучение войны и мира между государствами. Следовательно, недостатка в теоретическом осмыслении войны в литературе нет. Большая часть этого рационального познания войны концентрируется на возможных причинах, пытаясь ответить на вопрос, почему начинаются войны. Сделав обзор современной литературы [Diehl 2005], мы пришли к выводу, что большая часть этих объяснений может быть представлена одной из следующих пяти метафор войны: ВОЙНА – это ИГРА, УРОЖАЙ, НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, КЛЕЙ, ЗАКОН.
Метафора ИГРЫ объясняет войну как намеренное столкновение государств, которые ведут себя как рациональные субъекты. Каждый из них точно определился со своей ставкой в конфликте и старается увеличить ее за счет других. Эта очень влиятельная точка зрения типична для реалистической традиции международного мышления от Фукидида до К. фон Клаузевица и К. Волца [Waltz 1979]. Эти теории концентрируют внимание на стратегическом взаимодействии между государствами, которое часто моделируется посредством математической теории игры [Fearon 2005], еще больше основывающей войну на рациональности.
Метафора УРОЖАЯ представляет войну источником материальной наживы отдельных людей или правящих групп. В отличие от предыдущей метафоры, эта метафора не обращается к взаимодействию с другими, они концентрируется на материальной выгоде. С этой точки зрения государства вступают в войну, так как ожидают от нее выгоды [Bueno de Mesquita 2005]. Похожим образом элита может стратегически выстроить союзы, которые бы провоцировали войны, которые приносят им материальную выгоду [Fearon, Laitin 2005].
Очень противоречивая группа основана на метафоре НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, согласно которой войны – результат случайных неудач и непонимания. Таким образом, богатая литература по ошибкам восприятия показывает неспособность тех, кто принимает решения, правильно оценивать угрозы и возможности, что впоследствии ошибочно приводит их к войне. Такие ошибки восприятия возникают из-за психологических факторов, институциональных факторов или нехватки информации. Кроме того, несчастные случаи могут происходить из-за такого институционального устройства, которое склонно к совершению таких ошибок как на внутреннем уровне, как, например, неуклюжие стандартные официальные процедуры, которые порождают бюрократическую инертность, что также отметили студенты [Allison 2005], так и на международном уровне, например, секретная дипломатия, которую идеалисты обвиняют в развязывании Первой мировой войны.
Согласно метафоре СКЛЕИВАНИЯ, войны усиливают международные связи воюющих сторон. Дж. Леви говорит о «гипотезе козла отпущения», которая лежит в основе «отвлекающих внимание» теорий войны [Levy 2005b]. Мотивы для того, чтобы найти «козла отпущения», противоречивы и разнообразны. Марксисты находят эти мотивы в экономической эксплуатации, социологи говорят о предотвращении внутренних политических конфликтов, культурные антропологи рассуждают о стремлении к культурной однородности.
В заключение, метафора ЗАКОНА подразумевает, что война – неизбежная часть человеческого существования. Это может быть либо закон природы, согласно которому люди сражаются за природные ресурсы [Homer-Dixon 2005], такие как еда, вода, стратегические ресурсы, либо закон культуры, согласно которому культурные нормы делают ожесточенный конфликт неизбежным. Культурологи расходятся по вопросу об онтологическом статусе культурных норм. В то время как некоторые приписывают им ту же объективность, которой обладают законы природы, конструктивисты указывают на то, что эти нормы состоят из дискурсов, а следовательно, нормы изменчивы [Fearon, Laitin 2005]. Тем не менее сторонники обоих подходов сходятся во мнении, что культурные нормы оказывают решающее влияние на личности и могут привести к войнам.
Несмотря на то что количество попыток рационального познания войны велико, еще более многочисленны попытки ее художественного осмысления. Война становилась сюжетом эпосов, стихов, романов, симфоний и живописных полотен с незапамятных времен, собирая таким образом сокровищницу военных метафор. Обзор этих метафор не уместится и в целой книге, не говоря уже об этом кратком эссе. Таким образом, мы концентрируем внимание только на одном авторе, чье литературное изучение войны очень значимо.
Эрнст Юнгер – один из величайших немецких писателей XX века. Он пережил Первую мировую войну солдатом и размышления о своем опыте выразил в ряде известных книг. Э. Юнгер не пытался изучать причины войны рациональными методами. Вместо этого он стремился донести до читателей то, что ему пришлось пережить на войне. Несмотря на это, его метафоры войны, по существу, такие же, как и описанные выше, но он развил их в таких направлениях, которые довольно неожиданны с рационалисткой точки зрения. Недавнее исследование выделило группу абстрактных метафор, на которых основано его повествование о войне [Verboven 2003]. Э. Юнгер метафорически представлял войну как ПРИРОДУ, СПЕКТАКЛЬ, ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСФОРМАЦИЮ, СВЯЗЬ и ИГРУ.
Метафора ПРИРОДЫ внедряет в повествование, описывающее войну, слова, обозначающие природные явления, такие как природные условия (дождь, гроза, ветер), движение воды (течет, волны), катастрофы (землетрясения, извержение вулкана, ураган). Это метафора соответствует теоретической метафоре ЗАКОНА, точнее, ЗАКОНА ПРИРОДЫ. Обе подразумевают одинаковую безразличную и неизбежную природу войны.
Метафора СПЕКТАКЛЯ представляет войну как концерт или драму, которая ставится в театре. Таким образом Э. Юнгер говорит о мелодии войны, танце огня; пейзаж описывается как сцена, которая занята актерами, играющими роли солдат. Авторы, композиторы и режиссеры спектакля невидимы, они vis major (Бог, император, судьба), они не подвластны ни одному участнику спектакля. Снова пробуждается идея неизбежности, но в этот раз она скорее культурная, чем природная. Следовательно, метафора ЗАКОНА опять применима здесь, но теперь это ЗАКОН КУЛЬТУРЫ.
Метафора ПРОИЗВОДСТВА выражается в словах, обозначающих экономические процессы, промышленные и сельскохозяйственные реалии. Таким образом, битвы представлены как железоделательные заводы, шлемы растут из вспаханной огнем земли, военные операции стоят много крови. Эта метафора в значительной степени пересекается с описанной выше метафорой УРОЖАЯ, так как обе представляют войну как процесс, который создает добавленную стоимость.
Метафора ТРАНСФОРМАЦИИ указывает на коренные изменения солдат, материала и пейзажа, особенно солдат, которые превращаются в отравленных зверей, одичавших от войны. Солдаты описываются как пчелы, влетающие в улей, как варвары, которыми управляют только инстинкты и которые теряют над собой контроль вместе со здравым смыслом. В некоторой степени эта метафора пересекается с теоретической метафорой СКЛЕИВАНИЯ. В обеих метафорах человеческая индивидуальность утрачена, она растворяется в массе, которой можно манипулировать. Таким образом, формируется нечто новое – «новая раса» борцов.
Метафора СВЯЗИ концептуализирует войну как обмен информацией. Таким образом, перестрелки сравниваются со спором, а солдаты посылают врагу железные приветы. Метафора СВЯЗИ хорошо входит в описанную выше метафору ИГРЫ, так как она связана с подачей сигналов, что является частью игры.
Метафора ИГРЫ связывает войну с играми и спортом, в которые играют и которыми занимаются солдаты. Солдаты либо играют в какую-либо неопределенную игру, где есть враг, либо они испытывают удачу, играя в кости, либо жонглируют. Существует очевидная связь между этой метафорой и теоретической метафорой ИГРЫ, даже несмотря на то что последняя в некотором роде уже, так как она говорит только о стратегическом взаимодействии между рациональными актерами.
Выводы
С незапамятных времен в западной культуре царит противоречие между разумом и чувствами, наукой и искусствами, объективным и субъективным. Даже несмотря на то что каждый полюс этих дихотомий представил нам важные знания как о природе, так и об обществе, что запечатлено в великих произведениях искусства и научных работах, полюса этих дихотомий традиционно рассматриваются как непримиримые и несоразмерные.
Изучив недавние достижения научной теории познания, мы считаем, что это не совсем так. Ни научный дискурс, ни художественный опыт не могут обойтись без метафор. Более того, как показывает наше исследование европейской интеграции и войны, одни и те же метафоры лежат в основе обоих видов мышления. Метафоры, полученные из теоретического осмысления Европы и войны, можно использовать для понимания художественного осмысления Европы и войны. Так же как и наоборот. Метафоры, лежащие в основе художественных работ о войне и Европе, могут обогатить наше теоретическое понимание этих явлений.
Существуют, по крайней мере, два способа, которыми художественные метафоры могут внести вклад в рациональное познание. Во-первых, они часто показывают нам неожиданные скрытые смыслы метафор, которые до этого были установлены теоретически. Например, художественное переживание намного успешнее выражает идею хрупкости Европы, понимаемой как РАВНОВЕСИЕ, по сравнению с рационалистским развитием этой метафоры. Таким же образом художественное переживание войны как игры напоминает нам, что концепт игры намного шире, чем просто стратегическое взаимодействие рациональных актеров, на которое ссылаются большинство рационалистических пользователей метафоры ИГРЫ.
Во-вторых, художественные метафоры позволяют выражать идеи, которые еще не вошли в рационалистическое мышление. Так, легко всплывающее в памяти представление об ЕС как о ПУСТОТЕ еще не подвергнуто тщательному теоретическому анализу. Мы еще мало знаем о рациональном изучении представления о ЕС как об ограниченном пространстве, об отношениях ЕС с «чужими», например, с Турцией. В то же время художественному переживанию войны, ее психологическому и социальному воздействию на людей не хватает рациональной проработанности.
Подведем итоги: возможно, есть веские причины сохранить рационалистские и художественные работы как два различных способа освоения мира. Тем не менее нет причин рассматривать их абсолютно несоразмерными, неспособными на диалог. Наоборот, примеры по европейской интеграции и по войне подтверждают, что такой диалог возможен, что обогащает при этом оба способа освоения мира.
ЛИТЕРАТУРА
Allison G. Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis // War /
Diehl P. F. (ed.). Vol. III. London: Sage, 2005.
Aristotle. Poetics. Praha: Svoboda, Czech translation.
Bueno de Mesquita B. An Expected Utility Theory of International Conflict // War / Diehl P. F. (ed.). Vol. III. London: Sage, 2005.
Bourdieu P., Chamboredon J. – C., Passeron J. – C. The Craft of Sociology: Epistemological Preliminaries. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1991.
Burgess M. Federalism and European Union: Political Ideas, Influences and Strategies in the European Community, 1972–1987. London: Routledge, 1989.
Cameron L. Operationalising «metaphor» for applied linguistic research // Researching and Applying Metaphor / Cameron L., Low G. (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Campbell N.R. Foundations of Science: The Philosophy of Theory and Experiment. New York: Dover Publications, 1967.
Checkel J.T. Social construction and integration // Journal of European Public Policy. 1999. Vol. 6(4), special issue.
Christiansen T. Reconstructing European Space: From Territorial Politics to Multilevel Governance // Reflective Approaches to European Governance / Joergenssen K.E. (ed.). London: MACMILLAN, 1997.
De Man P. The Epistemology of Metaphor // Language and Politics / Shapiro M. J. (ed.). Oxford: Basil Blackwell, 1978/1984.
Diehl P.F. (ed.). War, Vol. I–III. London: Sage, 2005.
Druldk P. Metaforicke plakaty Evropy // Mezinarodni politika. 2006. № 4.
Druldk P. Metaphors Europe lives by: language and institutional change of the European Union. Working Paper, Department of Social and Political Sciences, Florence: European University Institute, EUI Working Paper SPS No. 2004/15.
Duhem P. The Aim and Structure of Physical Theory. New York: Atheneum, 1974.
Fearon J.D. Rationalist Explanations for War // War / Diehl P.F. (ed.). Vol. II. London: Sage, 2005.
Fearon J.D., Laitin D.D. Violence and the Social Construction of Ethnic Identity // War / Diehl P.F. (ed.). Vol. II. London: Sage, 2005.
Feyerabend P. Against Method. London: Verso, 1993/1975.
Feyerabend P. Wissenschaft als Kunst / Czech translation. Praha: Jezek, 2004.
Haas E. The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces 1950–1957. Stanford, CA: Stanford University Press, 1958.
Homer-Dixon T.F. On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict // War / Diehl P.F. (ed.). Vol. III. London: Sage, 2005.
Jachtenfuchs M. The Governance Approach to European Integration // Journal of Common Market Studies. 2001. Vol. 39(2).
Joergenssen K.E. Introduction: Approaching European Governance. // Reflective Approaches to European Governance. Joergenssen, Knud Erik (ed.). London: MACMILLAN, 1997.
Joerges C. The Law in the Process of Constitutionalizing Europe. EUI Working Paper LAW, 2002/4, San Domenico: European University Institute, 2002.
Kelstrup M. Integration Theories: History, Competing Approaches and New Perspectives // Explaining European Integration / Wivel A. (ed.). Copenhagen: Copenhagen Political Studies Press, 1998.
Kuhn T. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
Kuhn T.S. Metaphor in science // Metaphor and Thought / Ortony, Andrew (ed.). Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Lakatos I., Musgrave A. (ed.) Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago: Chicago University Press, 1980.
Lakoff G., Turner M. More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago: Chicago University Press, 1989.
Lakoff G., Nunez R. Where Mathematics Comes From: How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being. New York: Basic Books, 2000.
Lambourn D. Metaphor and its Role in Social Thought // International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences. Elsevier Science Ltd., 2001.
Levy J. Misperception and the Causes of War: Theoretical Linkages and Analytical Problems // War / Diehl P.F. (ed.). Vol. III. London: Sage, 2005a.
Levy J. The Diversionary Theory of War: A Critique // War / Diehl P.F. (ed.). Vol. III. London: Sage, 2005b.
Marks G., Hooghe L., Blank K. European Integration from the 1980s: State-Centric v. Multilevel Goverenance // Journal of Common Market Studies. 1996. Vol. 34(3).
Moravcsik An. The Choice for Europe: Social Purpose & State Power from Messina to Maastricht. London: UCL Press, 1998.
Pierson P. The Path to European Integration: A Historical-Institutiona-list Analysis // European Integration and Supranational Governance / Wayne S., Sweet A.S. (eds). Oxford: Oxford University Press, 1998.
Popper K. The Logic of Scientific Discover. 14th Printing. London: Routledge, 1959/2002.
Plato. Republic / Czech translation. Praha: Svoboda. Ricoeur P. La metaphore vive. Paris: Editions du Seuil, 1975. Rosamond B. Theories of European Integration. London: MACMILLAN, 2000.
Schmitter P.C. Examining the Present Euro-Polity with the Help of Past Theories. // Governance in the European Union / Marks G. et al. (ed.). London: Sage, 1996.
Sheehan M. The Balance of Power: History and Theory. London: Routledge, 1996.
Verboven H. Die Metapher als Ideologie: Eine kognitiv-semantische Analyse der Kriegsmetaphorik im Fruhwerk Ernst Jungers. Heidelberg: Universitatsverlag WINTER, 2003.
Waltz K. Theory of International Politics. Reading: Addison-Wesley, 1979.
Weiler J.H.H. The Constitution of Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
А. Мусолфф (A. Musolff)
Андреас Мусолфф – профессор Даремского университета (Великобритания). Автор ряда монографий, посвященных анализу политического дискурса Германии и Великобритании: «Krieg gegen die Offentlichkeit. Terrorismus und politischer Sprachgebrauch» (Opladen, 1996), «Mirror Images of Europe. The imagery used in the public debate about European Politics in Britain and Germany» (Munchen, 2000), «Metaphor and Political Discourse. Analogical Reasoning in Debates about Europe» (Basingstoke, 2004). Представленная ниже работа является частью исследовательского проекта по изучению нацистского политического дискурса и специально подготовлена автором для данного издания.
Политическая «терапия» посредством геноцида: антисемитские концептуальные образы в книге Гитлера «Майн кампф» (перевод Ю.А. Ольховиковой)
1. Введение
Сейчас, когда «опровержение Холокоста» снова стало предметом политических споров, особенно в форме заявлений о том, что Гитлер ничего о нем не знал, так как по мнению таких ревизионистских историков, как Дэвид Ирвинг, не существует никаких письменных документов автора [Lipstadt 1995, Evans 2001, Guttenplan 2001, Ingram 2006], обращение к его образам может показаться странным.
Конечно, метафоры Гитлера известны своей жестокостью и исключительным расизмом – но в какое сравнение они идут с его реальными акциями геноцида? Кроме того, более 40 лет назад Алан Буллок утверждал, что метафоры эти были не новы, а лишь являлись «отражением антисемитских изданий и памфлетов, которые он читал в Вене до 1914 года» [Bullock 1962: 39]. Однако если они были такими избитыми и клишированными, почему так много людей подверглось убеждению? Этот вопрос мы и будем исследовать, взяв за основу предположение, разработанное в когнитивной семантике, о том, что метафора не является лишь фигурой для украшения речи, а, обладая способностью концептуализации, может создавать общественную «реальность».
Идеологическая функция и пропагандистский эффект образов, использовавшихся Гитлером и другими нацистами в соответствующих текстах, не раз подвергались анализу как усилиями историков и исследователей общественного дискурса [Hilberg 2003, vol.1: 2—19; Fest 1974: 292–304, Jackel 1981: 57–59, 89–91; Burrin 1994: 27–28, 31–36; Friedlander 1998: 87–88; Kershaw 1999: 244], так и усилиями лингвистов [Burke 1939; Klemperer 1946; Sternberger, Storz and Suskind 1986; Steiner 1979: 136–151; Seidel, Seidel-Slotty 1961; Ehlich 1989; Schmitz-Berning 1998; Polenz 1999: 541–554; Rash 2005]. Детально изученные примеры сложились в следующие метафорические образы: «Пробуждение» Германии под властью нацистов, предположительный «очищающий» эффект «кровавой бани» войны и болезнетворный паразитический статус евреев, славян, цыган и других народов, не принадлежащих к арийской расе. Теоретической парадигмой таких исследований стало представление о метафоре исключительно как фигуре речи, основанной на имплицитном переносе значения, что противоречит современным представлением о метафоре как особой форме коммуникации [Lakoff, Johnson 1980; Johnson 1981; Musolff 2005].
Хотя главная цель такого подхода (критика демагогического использования образов) видится безупречной в моральном плане, мы можем задать вопрос о том, помогает ли традиционный подход выявлять наиболее существенные аспекты политической метафоры. Когнитивный подход к изучению метафоры, развивавшийся на протяжении трех десятилетий [Lakoff, Johnson 1980; Kovecses 2002; Fauconnier, Turner 2002], показал, что было бы ошибкой считать метафору признаком лишь высокохудожественной речи, поскольку в действительности метафоры важны и частотны в любом дискурсе. Методы когнитивного анализа метафоры сосредотачивают внимание не столько на стилистической, сколько на концептуальной роли метафоры. Задача такого анализа – показать, как различные сферы знания и опыта («domains») смешиваются и понятия одной сферы трактуются в понятиях другой. Метафорический перенос из сферы-источника («source domain») в сферу-мишень («target domain») формирует наше представление о мире с точки зрения того, как мы категоризируем собственный опыт в общественной практике. В метафорической аргументации концепты сферы-источника без труда дают возможность сделать предположительный вывод о концептах сферы-мишени. Они функционируют как часть сценария [Mussolf 2004, 2005], который обеспечивает внутреннюю логичность и обоснованность переноса значения. Настоящее исследование призвано свидетельствовать о том, что метафоры, использованные Гитлером для описания своего мировоззрения, и в особенности своих антисемитских взглядов, были не просто украшением речи, а сформировали концептуальную систему, послужившую оправданием и образцом для каждого серьезного последователя и требующую претворения в жизнь путем осуществления программы Холокоста.
2. Тело и Болезни как сфера-источник политической идеологии
Основой для политических взглядов Гитлера было представление о немецкой нации как о (человеческом) теле, которое нужно было оградить, а в случае заболевания вылечить от болезни. Все «евреи», которых Гитлер относил к одной суперкатегории, являлись главной причиной, а точнее, самой болезнью в форме «паразита». Избавление от этой «угрозы жизни нации» находилось в руках самого Гитлера и его партии как единственных компетентных «целителей». Модель «политическая структура – это человеческое тело» отнюдь не является изобретением ни Гитлера, ни нацистов, ни даже антисемитов или расистов. Она была и остается частью огромной системы метафор, известных как «Великая цепь бытия». Эта центральная для западной философской традиции система метафор наиболее рельефно проявилась в «Истории идей» (Lovejoy 1936, Tillyard 1982, Kantorovicz 1997, Hale 1971; Sontag 1978) и достигла расцвета в политической философии в эпоху Ренессанса, когда их использовали такие выдающиеся мыслители, как Н. Макиавелли, Т. Мор, Ф. Бэкон и Т. Гоббс. Однако, как показывают современные когнитивные исследования, традиция переноса значений из области тела, жизни и здоровья на область государства и общества продолжается по сегодняшний день и находит частое применение в политическом дискурсе [Johnson 1987; Lakoff, Turner 1989; Hawkins 2001: 27–50; Musolff 2003: 327–352].
Эти выводы не претендуют на то, чтобы считать все заимствованные из этого комплекса метафоры идентичными в когнитивном плане. Если бы Гитлер использовал в своих работах лишь образы эпохи Ренессанса, он бы выставил себя на посмешище, а не привлек те огромные массы последователей, которые помогли ему прийти к власти и осуществить на практике план геноцида. Для того чтобы понять, что отличает «диагноз» национального кризиса Германии, поставленный Гитлером, от других концептуальных образов государства как «тела», нам нужно более детально рассмотреть соответствующие политико-метафорические словоупотребления. С этой целью был проведен анализ таких словоупотреблений на материале «Майн Кампф». Базу данных составляют около 380 000 слов немецкого текста [Hitler 1933] и его перевода на английский язык, сделанного Р. Манхаймом в 1943 г. [Hitler 1992]. В анализируемом материале были обнаружены 207 (93 немецких и 114 английских) выражений из следующих концептуальных областей: (1) общие биологические категории, (2) части тела и его органы, (3) физиологические функции, (4) болезни и другие патологические явления, (5) возбудители болезней, (6) лечение и выздоровление. В ходе анализа мы сосредоточим внимание на ключевых высказываниях, отражающих главную линию в построении аналогии тело – государство в произведении «Майн кампф». Первую группу цитат можно обнаружить в рассуждениях Гитлера о факторах, по его утверждению, вызвавших падение Германской империи в 1918 году:
(1) [Этот военный крах] был первым катастрофическим и очевидным для всех следствием нравственного и морального отравления [einer sittlichen und moralischen Vergiftung], ослабления инстинкта самосохранения, которые на протяжении многих лет подрывали стабильность Рейха. [Hitler 1933: 252; 1992: 210].
(2) Этот яд [еврейской прессы] сумел беспрепятственно проникнуть в кровь нашего народа [Blutlauf unseres Volkes] и сделать свое дело, а государство не было сильно настолько, чтобы справиться с болезнью [Krankheit] [Hitler 1933: 268; 1992: 224].
(3) Почти удачей для граждан Германии можно считать то, что период медленного развития болезни [schleichende Erkrankung] был внезапно прерван такой ужасной катастрофой [крахом 1918 года], так как иначе падение нации было бы более медленным, но, тем не менее неизбежным. […] Не случайно человек скорее справился с чумой, чем с туберкулезом. […] Это справедливо и по отношению к заболеваниям тела нации [Erkrankungen von Volkskorpern]. Если болезнь не проявляет форму катастрофы с самого начала, человек постепенно начинает к ней привыкать и в конце концов, хоть на это и может потребоваться какое-то время, неизбежно погибает [Hitler 1933: 252–254; 1992: 211–212].
(4) [Еврейсто] есть и будет типичным паразитом, который распространяется подобно заразной бацилле [der typische Parasit, ein Schmarotzer, der wie ein schadlicher Bazillus sich immer ausbreitet], как только попадает в благоприятную среду. Да и само его существование подобно существованию паразитов: где бы оно ни появилось, народ-хозяин рано или поздно вымирает [Hitler 1933: 334; 1992: 277].
Из этих цитат можно выделить предварительное представление Гитлера на предмет перспективы состояния здоровья немецкой нации. Ведь еще до Первой мировой войны тело нации страдало от болезни, что и привело к военному краху, и было следствием заражения «крови тела» евреями, в особенности их прессой. Гитлер также утверждает, что он является более авторитетным в постановке «диагноза» болезни Германии, чем довоенные политики, которые в лучшем случае могли идентифицировать какие-то общие симптомы, игнорируя при этом скрытую причину [Hitler 1933: 360; 1992: 298]. Гитлер не дает воображению читателя возможности подумать о том, кто в действительности способен сразиться с этой смертельной угрозой в борьбе за «жизнь» «тела нации». В одном из самых пресловутых заявлений он четко указывает на себя и того, чьим командам он подчиняется:
(5) […] сегодня я верю, что действую в соответствии с волей Всемогущего Создателя: борясь за уничтожение еврейства, я борюсь за дело Божье [Indem ich mich des Juden erwehre, kampfe ich fur das Werk des Herrn]. [Hitler 1993: 70; 1992: 60]
При первой же попытке проанализировать концептуальное поле вышеперечисленных примеров нам удалось выделить следующие модели:
(6.1) НЕМЕЦКАЯ НАЦИЯ – ЭТО ТЕЛО.
(6.2) ОСЛАБЕВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИНКТА САМОСОХРАНЕНИЯ – ЭТО ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ.
(6.3) ВОЕННЫЙ КРАХ 1918 ГОДА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ – ЭТО СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ.
(6.4) ВЛИЯНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ПРЕССЫ – ЭТО ПРИЧИНА ЗАБОЛЕВАНИЯ (ОСОБЕННО ЗАРАЖЕНИЯ).
(6.5) «ЕВРЕИ» – ЭТО ВОЗБУДИТЕЛЬ ЗАРАЗЫ (т. е. МИКРОБ, ВИРУС, ПАРАЗИТ).
(6.6) «ЗАЩИТА» ПРОТИВ (= ПОЛНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ) «ЕВРЕЕВ» – ЭТО ИЗЛЕЧЕНИЕ ОТ БОЛЕЗНИ.
Все вышеперечисленные модели определяют основные параллели сопоставлений, но едва ли передают их систематические значения. Такая группа понятий из сферы-источника, как ТЕЛО – БОЛЕЗНЬ – ЛЕЧЕНИЕ, использованных в идеологии Гитлера, формирует сложный и неоднозначный сценарий, мини-историю, дополненную изложением мотивов и выводами о ее исходе, а именно: историю о ТЕЛЕ, СТРАДАЮЩЕМ ОТ БОЛЕЗНИ ВСЛЕДСТВИЕ ЗАРАЖЕНИЯ И ПОЭТОМУ
НУЖДАЮЩЕМСЯ В ЛЕЧЕНИИ. Такой сценарий содержит «структуру событий» для соответствующего построения различного рода предположений о причинах и следствии, предполагаемых и прогнозируемых событиях. Именно перенос такого сценария целиком на «сферу-мишень» приводит читателя к ряду умозаключений, например, к ожиданию того, что ПОЯВИТСЯ ЦЕЛИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ИЗЛЕЧИТ БОЛЕЗНЬ НАЦИИ.
Выражение основных политических идей Гитлера зависит от параллелей, обусловленных сценарием сферы-источника.
Единственным политически релевантным «фактом», на который мог ссылаться Гитлер, стал кризис Германии после Первой мировой войны. Метафорическая интерпретация этого кризиса как «болезни» позволяет говорить о двух логически обоснованных видах сценария с обязательным наличием эквивалентных событий в сфере-источнике:
(7) Сценарий-источник
A) ЗАРАЖЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫМ ТЕЛОМ (БАЦИЛЛОЙ, ВИРУСОМ, ПАРАЗИТОМ) – ЭТО ПРИЧИНА
B) ТЯЖЕЛОЙ СМЕРТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ (ЗАРАЖЕНИЕ КРОВИ) ТЕЛА НЕМЕЦКОЙ НАЦИИ, КОТОРУЮ МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ
C) ЛЕЧЕНИЕМ ЭТОЙ БОЛЕЗНИ, СОСТОЯЩЕМ В УНИЧТОЖЕНИИ ЕЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ.
(8) Сценарий-цель I
A') ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ СИЛА ЕВРЕЙСКОЙ ПРЕССЫ И ВЛИЯНИЕ ЕВРЕЕВ НА НЕМЕЦКОЕ ОБЩЕСТВО В ЦЕЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ
B') НАЦИОНАЛЬНОГО КРИЗИСА ГЕРМАНИИ,
КАК УЖЕ ПОКАЗАЛ ВОЕННЫЙ КРИЗИС 1918 ГОДА И ПОСЛЕДУЮЩИЙ УПАДОК, КОТОРЫЙ МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ ЛИШЬ
C') ПУТЕМ УСТРАНЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ЕВРЕЕВ НА ГЕРМАНИЮ.
Для того чтобы прийти к таким антисемитским выводам, Гитлер тщательно подбирает слова в соответствии со сценарием-источником. Рассматривая причину заболевания, он пользуется термином «заражение». В итоге такое сопоставление вызывает мысль о том, что влияние «евреев» на немецкую нацию подобно влиянию исключительно опасного возбудителя заболевания. И это, в свою очередь, подталкивает к соответствующему выводу, а именно необходимости радикального избавления от заразы. Гитлер вновь прибегает к уловкам, основанным на простом человеческом опыте: болезнь требует вмешательства квалифицированного врача. Таким образом ему удается прийти к желаемому выводу о том, что он является единственным компетентным «целителем» «пациента» в лице Германии. Этот вывод влечет за собой ряд дальнейших предположений: болезнь, в общем-то, излечима, и цель оправдывает средства, применяемые врачом, само лечение является вполне целесообразным и т. д. На уровне сферы-источника (медицинской практики) такие умозаключения казались относительно простыми, тогда как применимо к сфере-мишени (обществу) они были по меньшей мере проблематичными и требовали серьезного подкрепления в ходе обсуждения. Однако, являясь частями общего сценария-модели, такие предположения являются приукрашенными, но тем не менее принимаются как должное. Предположительный интерес человека к теме болезней и ожидание излечения еще на уровне сферы-источника исключительно важны для идей Гитлера в силу своей яркой очевидности. И только если БОЛЕЗНЬ принимается в качестве подходящего сценария для описания политической системы Германии после Первой мировой войны, то и необходимость найти подходящее лечение, и сам врачеватель принимаются как само собой разумеющееся. Без всего этого модель НЕМЕЦКАЯ НАЦИЯ – ЭТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО стала бы лишь упражнением в перераспределении категорий. Но она, напротив, выступает в качестве самостоятельного прогноза: нация становится пациентом, которому срочно требуется лечение; есть и целитель, и точный диагноз: правильность курса лечения не подлежит сомнению.
Такой сценарий можно применить при описании идеологии Гитлера как особой «избавительной», «истребляющей» и «устраняющей» формы антисемитизма, о чем свидетельствуют и недавние исследования (Browning 1992a, b, 2004; Goldhagen 1996; Freilander 1998; Bauer 2001). Все эти характеристики относятся к прогнозируемому исходу Холокоста как «терапии», которую Гитлер планировал предпринять в отношении «тела немецкой нации». Определение антисемитизма Гитлера как истребляющего и устраняющего больше применимо к описанию конечного результата геноцида, тогда как понятие «избавительный» характерно для представления Гитлером самого себя и своих действий. Оно также организует концепты в систему, находящую свое продолжение в следующем разделе. Идея «избавления» относится не просто к национальному кризису, а к всемирной катастрофе, для преодоления которой и требуется предполагаемый спаситель.
3. Сады мироздания и замысел Творца
Попытку Гитлера дать божественное подкрепление своему сценарию «болезнь – лечение» можно обнаружить в 11 главе «Майн кампф» «Народ и раса» («Volk und Rasse»). Если бы неподготовленный и неискушенный в вопросах истории читатель открыл книгу наугад и начал читать с этой главы, он бы мог подумать, что читает суперупрощенную теорию о передаче наследственности в «царстве зверей», а не политический трактат. Начало главы представлено звучащим очень по-детски предисловием к процессу размножения среди животных:
(9) На свете есть много истин, казалось бы, совершенно очевидных, но в силу их очевидности обычные люди их не замечают или, во всяком случае, не понимают их значения. […] все без исключения люди каждый день так или иначе общаются с природой; они воображают, что им понятно почти все, а между тем за редким исключением люди совершенно слепо проходят мимо одного из важнейших явлений: строгого разделения на виды всего живущего на земле. […] Синичка идет к синичке, зяблик к зяблику, аист к аисту […] (Hitler 1933: 311; 1992: 258).
Даже самый неискушенный читатель будет удивлен заявлению Гитлера о том, что эти «истины» неизвестны «простым людям», которые «бродят по садам мироздания» – ведь, в конце концов, его наблюдения за жизнью синичек и зябликов далеко не оригинальны. Быстро расправившись с некоторыми заведомо ложными исключениями из вселенского закона, Гитлер возвращается к своей основной идее. Людям, принадлежащим к разным расам, как и животным разных видов, недопустимо скрещиваться между собой:
(10) Исторический опыт […] c ужасающей ясностью доказывает, что каждое смешение крови арийцев с кровью более низко стоящих народов неизбежно приводило к тому, что арийцы теряли свою роль носителей культуры. […] Таким образом, можно сказать, что результатом каждого скрещивания рас является:
а) снижение уровня более высокой расы;
б) физический и умственный регресс и, как следствие, медленный, но верный процесс вырождения.
Содействовать такому развитию не означает ничего иного, как грешить против воли всевышнего Творца [Sunde treiben wider den Willen des ewigen Schopfers].
(Hitler 1933: 313; 1992: 260).
Помимо отвращения к такому сочетанию расизма и богохульства любой более или менее разборчивый читатель стал бы противиться двум совершенно нелогичным выводам в этом месте: сопоставление «видов» и «рас» и отождествление эволюции культурной с эволюцией биологической. Даже такой историк, как Е. Еккель (Jackel 1981: 89), пытавшийся со всей серьезностью отнестись к мировоззрению Гитлера, находил совершенно гнусным смешивание биологии и культуры в гитлеровском понятии «человеческие расы»: «Нет никакой нужды в комментировании нелепости таких доводов». Однако логическая или научная нелепость его теории рас не имеет ни малейшего отношения к ее убедительности в плане предположений посредством метафор/ аналогий. Объединяя, хоть и абсурдно с научной точки зрения, представление наций в виде тел в единый концепт человеческих рас, Гитлеру удалось усилить внутренние связи в основном сценарии и соотнести его с псевдорелигиозной теорией. Может показаться, что такая интерпретация недооценивает «натуралистическое», научное обращение к понятию «нация», что привело к множеству толкований нацистского антисемитизма как формы социального дарвинизма. (Zmarzlik 1963; Kelly 1981; Weindling 1989, Evans 1997, Weikart 2004). Тем не менее, даже если Гитлер считал свое видение «рас» совместимым с генетикой и евгеникой того времени, оно имело слишком мало общего с идеей эволюционного развития, чтобы его можно было поставить в один ряд с научным дарвинизмом.
В действительности Гитлер не имел понятия об эволюции в дарвиновском представлении, а именно, что «виды изменились и все еще изменяются, сохраняя и накапливая благоприятные признаки» (Darwin 1901: 646). Напротив, он имел целью прямо противоположное такой теории, т. е. подчеркивание контраста между человеческими расами и представление их как можно более разобщенными. С его точки зрения, расы – коллективные существа с постоянными характеристиками и предназначением согласно замыслу Творца фундаментально отличны друг от друга (как задумал Гитлер). Автор «Майн кампф» не оставил сомнения о том, что он думал по поводу родства «Человека» и животных:
(11) Народное государство […] должно начать с того, что поднимет брак с уровня непрерывного осквернения расы и придаст ему должный статус, призванный являть людей в образе Господа [Ebenbilder des Herrn], а не помесь человека и обезьяны [MiBgeburten zwischen Mensch und Affe] [Hitler 1933: 444–445; 1992: 365–366].
В противовес научному дарвинизму даже малейшая возможность посредничества, связи или скрещивания среди представителей разных рас являлась отвратительной в глазах Гитлера. Он считал результаты такого смешения уродством и нарушением замысла «всевышнего Творца». Этого нельзя было допустить, а если в результате какой-то жуткой случайности они все-таки появлялись на свет, то долгом каждого, «кто радел за дело Божье» (см. выше примеры 5 и 10), было их уничтожение. Заявляя, что он лишь выполняет свой долг, Гитлер не подвергает сомнению то, что он осознал принципы, лежащие в основе всего мироздания. И в этой серьезной ситуации национальная БОЛЕЗНЬ Германии – это лишь пробный случай перед вселенским кризисом мироздания. В этой грандиозной версии основного сценария БОЛЕЗНЬ/ЗДОРОВЬЕ все группы существ пытаются сохранить и улучшить здоровье, чтобы усилить и укрепить видовую ценность своей расы в иерархии творения. И наоборот, «любое смешение высокой расы с более низкой» ведет к деградации и ставит под вопрос работу Творца над созданием «человека более высокой породы» [Hitler 1933: 313; 1992: 60]. Гитлер даже допускал возможность полного провала этого важного замысла:
(12) Если еврейство при помощи своей марксистской веры одержит победу над другими нациями мира, то корона его станет погребальным венком всего человечества, и эта планета, как и тысячи лет назад, уйдет в небытие, лишившись людей [Hitler 1933: 70; 1992: 60].
Учитывая такое апокалипсическое видение прошлого и будущего человечества, необходимо выделить третью группу в базовом сценарии болезни и лечения, где и концентрируются основные антисемитские концептуальные метафоры, использованные Гитлером в «Майн кампф». Эта группа может быть представлена в виде сценарных моделей второго порядка на уровне «сферы-мишени».
(13) Сценарий-мишень II
A'') ДЬЯВОЛЬСКИЕ СИЛЫ СПОБОБСТВУЮТ
НЕЕСТЕСТВЕННОМУ СМЕШЕНИЮ РАС И ПОТОМУ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
B'') УГРОЗУ ПЛАНУ ТВОРЦА ПО НЕПРЕРЫВНОМУ УЛУЧШЕНИИ РАС, И ПРЕДОТВРАТИТЬ ЭТО МОЖЕТ ЛИШЬ
«) ВМЕШАТЕЛЬСТВО СПАСИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО ЗАМЫСЛА.
По сравнению с моделями первого порядка, опиравшимися на жизненный опыт человека, сценарий-мишень II является совершенной экстраполяцией даже в системе концептов Гитлера, сравнивая национальный кризис со всемирной драмой. Тем не менее логичность его метафор при сопоставлении, даже в таком фантастическом сценарии, кажется правдоподобной. Здесь сохраняется само основание для переноса значения, заимствованное из сценария-цели I, а именно БОЛЕЗНЬ, за которой следуют ДИАГНОЗ и ЛЕЧЕНИЕ. На этом же уровне такое основание исчезает, если можно так выразиться, но соответствующая структура событий, хоть уже и не такая очевидная, все-таки прослеживается как когнитивное эхо. И, вдобавок ко всему, мировое значение системы антисемитских метафор Гитлера можно считать упрощенной версией библейского сценария о падении и избавлении Человека.
Именно в этом значении З. Фридлендер [Friedlander 1998] говорит об особом «избавительном» аспекте антисемитизма гитлеровских нацистов, а Х. – Э. Берш приписывает им создание «политической религии», сравнивает библейские аллюзии в «Майн кампф» с мистическими аспектами работ других ведущих идеологов национал-социализма, таких как Дитрих Эккарт, Йозеф Геббельс и Альфред Розенберг, и приходит к выводу о том, что одним из главных компонетов фашистской идеологии была «религиозная составляющая» [Barsch 2002: 277–318, 380]. Однако спорным является то, насколько неконкретное и единичное использование Гитлером религиозных понятий (дьявольское еврейство, богоподобные или божественные арийцы, создание Божье, Божья воля, провидение, вера, грех) способно было создать логическую структуру, чтобы считаться «политической религией». На наш взгляд, более содержательные и систематические отсылки к мистическим текстам Библии в работах Розенберга и Эккарта дают им больше шансов претендовать на ведущую роль в раскрытии религиозного содержания нацизма, чем Гитлеру. С другой стороны, библейские отголоски в самой идее дьявольской угрозы человечеству и всему мирозданию с их последующим избавлением в «Майн кампф» Гитлера несомненно смогли представить хорошо знакомую большинству читателей последовательность событий, дав возможность провести параллели с другими группами его концептуальных метафор. Эти параллели заметно усилили логичность и доказательность всего сценария.
4. Заражение «расы» и крови
Апокалипсический прогноз Гитлера по поводу состояния здоровья нации и мироздания все еще не был строгой гарантией полного истребления расовой группы – потенциального ВОЗБУДИТЕЛЯ БОЛЕЗНИ. Для лечения даже самого страшного заболевания совсем необязательно полное истребление возбудителя. Это справедливо и по отношению к «болезням общества», которые воспринимаются как серьезная, но преодолимая угроза «телу политики». По утверждению З. Зонтага [Sontag 1978: 71–76], метафора БОЛЕЗНИ в политических теориях эпохи Ренессанса и Просвещения имела своей главной целью «воодушевление правителей на поиски более рациональной политики», когда совсем не предполагалось уничтожение социальных групп, наций и рас. Полной противоположностью оказались радикальные выводы Гитлера из наихудшего возможного сценария, а его апокалипсический взгляд на угрозу всем видам еще больше поднял ставки.
Евреи были в представлении Гитлера марионетками в мировом заговоре. Гитлер твердо верил в существование «Договора старейшин Сиона», но даже он допускал, что евреи могут не знать о той роли, которую им предстоит сыграть [Hitler 1933: 337; 1992, 279]. Для того чтобы вплести эту теорию заговора в свой антисемитский сценарий болезни и лечения, ему требовалось объединить абстрактный образ «еврейства» с конкретным актом заражения крови как причины заболевания, который уже был употреблен им ранее (пример 3) по отношению к еврейской прессе. Понятие ЗАРАЖЕНИЯ КРОВИ находилось в центре целой серии вариантов для придания большей жестокости в «Майн кампф». В основной версии Гитлер уподобляет евреев гадюке или ядовитой змее (Viper, Kreuzotter, Schlange), при укусе которой яд (Gift, Volkergift, Vergiftung) сразу проникает в кровеносную систему (Blut, Blutzufuhr, Blutlauf) жертвы [Hitler 1933: 268, 316, 346, 751; 1992: 223–224, 262, 268–269, 288, 605]. В другом случае «еврейство» представлено как кровопийца, пиявка (Blutegel, Blutsauger) или простой паразит (Parasit, Schmarotzer) [Hitler 1933: 334, 335, 339, 340; 1992: 276, 281, 282, 296]. Б. Хоукинс [2001: 46], особым образом относившийся к стилю письма Гитлера и других последователей нацизма, ярко осветил контраст между высокой ценностью существа, «которое имеет самое прямое отношение к жизни внутри тела», и крайне негативной оценкой паразитов, «поддерживающих жизнь в своем теле, высасывая питательные вещества из другого». По третьей версии «еврейство» является бациллоносителем (Bazillus, Bazil-lentrager, Erreger) [Hitler 1933: 62, 334, 360; 1992: 54, 277, 298]. Эта версия связана с еще одним вспомогательным сценарием разложения (Faulnis), где евреи предстают в роли разлагающего фактора (Ferment der Zersetzung), такого как грибок (Spaltpilz) или личинка (Made), либо способного к размножению возбудителя: паразита, особенно крысы (Ungeziefer, Ratten), разносчиков губительных продуктов гниения (Leichengift) [Hitler 1933: 135, 186, 331, 361; 1992: 113, 155, 274, 298]. В свою очередь, сценарий инфекции схож с общим понятием эпидемии (Seuche), которым Гитлер также пользуется для описания влияния «еврейства» на общество, а именно, эпидемии чумы (Pest) и сифилиса (Versyphilitisierung) [Hitler 1933: 63, 269, 272; 1992: 54, 224, 226].
Кровь для Гитлера также была носителем расовой наследственности, и рождение общих детей у представителей разных рас, являясь кровосмешением, вело к «физическому и умственному регрессу и, как следствие, медленному, но верному процессу вырождения» (см. пример 10). Вера в то, что мы бы назвали «генетическими» различиями крови, была основана не на особом суеверии Гитлера, а соответствовала околонаучной теории о том, что в крови ребенка присутствует кровь и, следовательно, наследственность обоих родителей. Такое отношение к крови как «четырем видам темперамента» сохранялось до XIX века, и только в XX веке получила общее признание «генетика» Менделя [Jones 2000: 38–40]. Таким образом, Гитлер мог рассчитывать на то, что его аудитория поймет равенство «КРОВЬ = НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ» как традиционное при обсуждении наследственности. Неизбежным выводом станет следующий: «ЗАРАЖЕННАЯ КРОВЬ» значит «ЗАРАЖЕННАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ». В рамках этой конструкции потенциальный «ВОЗБУДИТЕЛЬ ЗАРАЖЕНИЯ КРОВИ» «ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕЛА» Германии, как и арийской расы и мира в целом, т. е. «еврейство», представляло опасность не только для одного поколения, а для будущего всего человечества. Такая продолжительная угроза делала еще более необходимым истребление всех потенциальных возбудителей: бацилл, ядовитых змей, пиявок и паразитов.
Однако в приводимой Гитлером аргументации все еще не хватало ключевого элемента в сценарии ЛЕЧЕНИЕ ПУТЕМ УНИЧТОЖЕНИЯ для того, чтобы сделать нужный исход моральной необходимостью. Согласно терминологии сферы-источника, т. е. биологического или медицинского дискурса, бациллы, ядовитые змеи, пиявки и паразиты обычно и называются «возбудителями заболевания». Но, будучи организмами, лишенными сознания и сознательности, они не могут нести ответственности за результат своей «деятельности». Гитлер же, напротив, приписывает еврейству полное осознание того, что оно является возбудителем заражения крови, и прежде всего объясняет, каким образом им удавалось совершать такое губительное расовое кровосмешение. Все это раскрывает нам очень низкую, порнографическую сторону антисемитизма, которая едва заметна за консервативными фразами текста, но очевидна в речи и монологах правящих кругов [Picker 1965; Jochmann 1992]. В одном из отрывков, пользующихся особо дурной славой, Гитлер открыто говорит о том, как он представляет себе такое «кровосмешение»:
(14) Черноволосый молодой еврейчик вертится около нашей невинной, ничего не подозревающей девушки, и на его наглом лице можно прочитать сатанинскую радость по поводу того, что он сможет безнаказанно испортить ее кровь [das er mit seinem Blute schandet] и тем самым лишить наш народ еще одной здоровой немецкой матери. Всеми средствами стараются евреи разрушить расовые основы того народа, который должен быть подчинен их игу. Евреи не только сами стараются испортить как можно большее количество наших женщин и девушек. Нет, они не останавливаются и перед тем, чтобы помочь в этом отношении и другим народам [Hitler 1933: 357; 1992: 295].
Неотъемлемым компонентом этой ужасной версии «заражения крови» является резкий контраст между заведомо порочной агрессией «черноволосого молодого еврейчика» и абсолютной невинностью «ничего не подозревающей девушки». Таким образом, осквернение «евреями» не-еврейской крови признается односторонним актом преступной агрессии. Это подразумевает оправдание любых оборонных действий, как со стороны самой жертвы, так и спасителя, пришедшего ей на помощь. Понятие ОСКВЕРНЕНИЕ КРОВИ обычно имело значение нежелательных половых связей [Grimm 1984: 190–191] и само по себе не являлось очень ярким образом, но становилось очень ярким и важным в метафорической версии Гитлера о ЗАРАЖЕНИИ КРОВИ КАК ПРИЧИНЕ БОЛЕЗНИ НАЦИИ. Здесь Гитлер проводил параллель между сферой-мишенью и биологической сферой-источником, добавляя моральный аспект сексуального нападения еврея на жертву другой расы. Такой поворот событий является спорным, и поэтому нам придется внести последнюю поправку к сценарной схеме, а именно: ввести промежуточное звено между исходными сценариями сферы-источника и сферы-мишени:
(15) Промежуточный сценарий II
A''') НАМЕРЕНИЕ ЕВРЕЕВ УНИЧТОЖИТЬ ОСНОВНЫЕ УСТОИ ДЕВСТВЕННОЙ РАСЫ/ НАРОДА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ
B''') ОСКВЕРНЕНИЯ РАСЫ НЕВИННОЙ ДЕВУШКИ ЕВРЕЙСКИМ НАСИЛЬНИКОМ, ЧТО МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ/НАКАЗАТЬ ПУТЕМ
C''') НАКАЗАНИЯ ЕВРЕЯ-ПРЕСТУПНИКА.
По версии этого сценария «евреи» рассматриваются в качестве особо чуждого человечеству вида паразитов, которые в отличие от природных паразитов, действующих бессознательно, намеренно пытаются проникнуть в наибольшее количество рас. И так как заражение имеет для жертвы летальный исход, потенциальная «победа» поработителей станет и своего рода возмездием им: вместе с побежденным народом умрет и паразит: конец свободе порабощенных евреями народов становится вместе с тем концом и для самих этих паразитов. После смерти жертвы раньше или позже издыхает и сам вампир [Hitler 1933: 358; 1992: 296]. Следовательно, евреи становятся всеобщими супер-паразитами, у которых есть не только желание уничтожить другие расы, но которые будут это делать, так сказать, из принципа, даже рискуя уничтожить самих себя. Гитлеру удалось провести параллели между биологическим понятием ЗАРАЖЕНИЯ КРОВИ и нравственным ОСКВЕРНЕНИЕМ КРОВИ, успешно стирая тем самым границы между биологическим и общественным. Это позволило ему без особых усилий и доказательств миновать различные уровни в сфере-источнике и сфере-мишени. Называя «еврейство» заразным паразитом, Гитлер, по его мнению, дает «достоверную» характеристику, соответствующую сценариям и сферы-источника, и сферы-мишени.
5. Заключение
Проследив развитие образов в биолого-медицинском сценарии «Майн кампф», мы пришли к тому, что можно назвать «гранитным фундаментом» идеологии Гитлера [Hitler 1933: 22; 1992: 21]. Он включает в себя рассмотрение предполагаемого расового конфликта между арийцами/немцами и евреями, где последние предприняли смертельную атаку по осквернению крови тела немецкой нации. Как уже говорилось выше, термин ЗАРАЖЕНИЕ КРОВИ может пониматься в трех значениях: а) как реальный акт осквернения крови через изнасилование евреем девушки арийской расы, б) как составная часть исходного сценария заболевания и излечения и в) как элемент аллегории в псевдорелигиозном, апокалипсическом повествовании о дьявольском заговоре против великого замысла Творца. Такой анализ позволяет объяснить метафорическую природу антисемитизма Гитлера, признавая его предвестником Холокоста. Метафорические модели, по которым строится образ евреев как паразитов, становятся внешне очень логичными и связными не по причине своего особенного содержания, а через введение их в состав сценариев, обладающих четкой внутренней логикой. Таким образом, стал возможным перенос выводов, полученных на уровне сферы-источника о биогигиенических мерах (необходимости полного уничтожения причины болезни) на уровень сферы-мишени («борьбы против так называемого влияния еврейства»). Более того, Гитлер не остановился на моделях, находящихся лишь в одном измерении, а дополнил их идеей о всеобщем «избавлении путем уничтожения» и промежуточным звеном между сферой-источником и сферой-мишенью. Это позволило ему говорить о достоверности преступления против чистоты крови и о справедливости системы соответствующих метафор для описания роли «еврейства» в немецком обществе и мире в целом.
Внутри такой всеобъемлющей «суперсистемы» антисемитских метафор концептуальные границы между сферой-источником и сферой-мишенью были стерты: для Гитлера любой контакт между немцами и евреями становился кровосмешением и, следовательно, осквернением и заражением крови. Разница концептов сферы-источника и сферы-мишени сложилась в систему убеждений, не поддающихся критике, так как теперь разные уровни сценария стали взаимодополняющими. Спорные утверждения на уровне сферы-мишени были «доказаны» на уровне сферы-источника, и наоборот. Факты, не соответствующие нужному сценарию, могли быть просто отвергнуты как обманный трюк, использованный «великим мастером лжи», т. е. «еврейством» [Hitler 1933: 253, 335; 1992: 277, 289]. И если бы при разработке идеологических метафор в духе Макиавелли нужно было добиться наибольшего эффекта, то гитлеровская многослойная модель национального и всеобщего избавления путем геноцида, несомненно, могла бы считаться наиболее эффективной концептуальной системой всех времен.
Эти результаты проливают новый свет на основные аспекты исследования Холокоста, которые обсуждались и историками, и широкой публикой. Разрешить спор о происхождении Холокоста, преднамеренном или больше функциональном [Browning 1992a: 86—121; Cesarani 1996: 1—29; Kershaw 2000: 93—133], помогает проникновение в саму суть системы концептуальных метафор Гитлера в «Майн кампф»: казалось бы, для него полная ликвидация была наиболее благоприятным «решением» того, что он называл «еврейским вопросом», причем уже в 1924—25 гг., когда и была написана книга. И если это действительно так, то реализация его планов по осуществлению геноцида была скорее вопросом времени и обстоятельств, а не просто одним возможным вариантом из нескольких. Это требует от нас серьезно относиться к метафорам «Майн кампф», понимать их в широком смысле и не пренебрегать ими. Хорошо известно, что многие современники Гитлера 20—30-х годов не понимали их истинного значения. Однако веским контраргументом может считаться тот факт, что далеко не все поняли прогнозы, изложенные Гитлером в «Майн кампф», такие как, например, военная экспансия и завоевание «жизненного пространства» на Востоке, однако это не помешало им претвориться в жизнь.
Предметом дальнейшего эмпирического исследования может стать определение того, каким образом и на какой ступени на «пути к геноциду» [Browning 1992] разные слои немецкого общества поняли значение сценария лечения немецкой нации путем уничтожения евреев – разносчиков заразы. По данным исследования общественного мнения 1930 года [Bankier 1992, Friedlander 1998, Evans 2005], толкование значений на различных сценарных уровнях системы метафор Гитлера не было одинаковым. Вполне понятно, что они с самого начала полностью «понимались» ближайшим кругом соратников Гитлера, тогда как обществу, включая и будущих жертв, они представлялись сумасбродной вульгарной болтовней. Даже те сторонники нацистского движения, которые не гнушались ни крепкого словца, ни акций агрессии против еврейского народа, могли и не видеть в сценарии БОЛЕЗНЬ – ЛЕЧЕНИЕ намеков на геноцид. Для них, как и многих других (офицеров и солдат вермахта), посвященных в истинный смысл идеи до и во время вторжения в Советский Союз [Bartov 1991; Burrin 1994: 115–131, 140–147; Browning 1996: 137–174], полное осознание всех значений такого сценария оказалось бы фактически новой информацией, но вместе с тем к ним пришло бы и понимание концептуальной модели, которая на их глазах «становилась реальностью».
Предметом дальнейшего исследования будет и определение того, каким образом немцы получали сведения о реальных зверствах [Bankier 1992, 1994] и как относились к ним в нацистской Германии, стране, где на евреев было поставлено клеймо «заразного паразита», причем пропаганда такого образа глубоко проникла в разные слои общества. И снова результаты могут колебаться между толкованием сценария как более или менее сознательного способа несколько приукрасить неприятные воспоминания свидетелей событий и тем, что он цинично использовался в качестве прикрытия самими преступниками и их сообщниками. Последнее бы хорошо сочеталось с маскировочным жаргоном, характерным для периода Холокоста, в который входили «сосредоточение», «депортация», «особое обращение», «окончательное решение» и т. д. Тогда первый вариант прочтения сценария мог бы стать выгодным для преступных руководителей Холокоста, встав на защиту их действий по уничтожению (истреблению евреев как возбудителя заражения крови). В этом случае различные слои общества могли бы и сами догадаться, что за лечение требуется в случае такого заражения.
Проведенный анализ ключевых антисемитских метафор в «Майн кампф» показал, что когнитивное воссоздание метафорических образов в такой расистской идеологии, как нацизм, не может ограничиваться отношением к метафорическим выражениям лишь как приему украшения речи. Более того, требуется их тщательное изучение на предмет понятийных связей, заключенных в сценариях, в особенности того, как они способствуют переключению сознания между уровнями буквального и переносного значений, когда речь идет об оправдании геноцида и его подготовке. Система антисемитских метафор, разработанная нацистами, представляет собой яркий пример того, как сила когнитивных смыслов может сослужить службу расистскому клеймению и последующему геноциду, являясь «предупреждением истории» о том, насколько высока цена непонимания и недооценки метафор в политическом дискурсе.
Литература
Bankier D. The Germans and the Final Solution: Public Opinion under Nazism. Oxford: Blackwell, 1992.
Bankier D. German public awareness of the Final Solution // The Final Solution. Origins and Implementation / D. Cesarani (ed.). London/ New York: Routledge, 1996.
Bdrsch C. – E. Die politische Religion des Nationalsozialismus. Munich: Fink, 2002.
Bartov O. Hitler's Army. Soldiers, Nazis and War in the Third Reich. New York: Oxford: Oxford University Press, 1991.
Bartov O. (ed.). The Holocaust: Origins, Implementation, Aftermath. London/New York: Routledge, 2000.
Bauer Y. Rethinking the Holocaust. New Haven/London: Yale University Press, 2001.
Browning C. The Path to Genocide. Essays on Launching the Final Solution. Cambridge: Cambridge University Press, 1992a.
Browning C. Ordinary Men. Reserve Battalion 101 and the Final Solution in Poland. New York: HarperCollins, 1992b.
Browning C. Hitler and the Euphoria of Victory // The Final Solution. Origins and Implementation / Ed. D. Cesarani. London/New York: Routledge, 1996.
Browning C. The Origins of the Final Solution: The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939 – March 1942 / With contributions by Jurgen Matthaus. London: Heinemann, 2004.
Bullock A. Hitler. A Study in Tyranny. Harmondsworth: Penguin, 1962.
Burke K. The Rhetoric of Hitler's 'Battle' // The Southern Review. 1939. Vol. 5.
Burrin P. Hitler and the Jews: The Genesis of the Holocaust. London:
Edward Arnold, 1994.
Cesarani D. (ed.). The Final Solution. Origins and Implementation. London/New York: Routledge, 1996.
Darwin C. The Origin of Species by Natural Selection or the Preservation of favoured Races in the Struggle for Life. London: John Murray, 1901.
Ehlich K. (ed.). Sprache im Faschismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989.
Evans R.J. In Search of German Social Darwinism // Rereading German History, 1800–1996. From Unification to Reunification. London: Routledge, 1997.
Evans R.J. Lying about the Holocaust. History, holocaust and the David Irving trial. New York: Basic Books, 2001.
Evans R.J. The Third Reich in Power, 1933–1939. London: Penguin, 2005.
Fauconnier G., Turner M. The Way We Think. Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities. New York: Basic Books, 2002.
Fest J.C. Hitler. Eine Biographie. Frankfurt am Main/Berlin/Vienna: Propylaen, 1974.
Friedlander S. Nazi Germany and the Jews. – Vol. 1: The Years of Persecution, 1933–1939. London: Phoenix, 1998.
Goldhagen D.J. Hitler's Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust. New York: Knopf, 1996.
Grimm J., Grimm W. Deutsches Worterbuch. Vol. II (originally 1860). Munich, 1984.
Guttenplan D.D. The Holocaust on Trial. History, Justice and the David Irving libel case. London: Granta Books, 2001.
Hale D.G. The Body Politic. A Political Metaphor in Renaissance English Literature. The Hague/Paris: Mouton, 1971.
Hawkins B. Ideology, Metaphor and Iconographic Reference // Language and Ideology. Volume II: Descriptive Cognitive Approaches / Eds. R. Dirven, R. Frank, C. Ilie. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2001.
Hilberg R. The Destruction of the European Jews. 3 vols. New Haven/ London: Yale University Press, 2003.
Hitler A. Mein Kampf / 23rd ed. Munich: Franz Eher Nachfolger, 1933.
Hitler A. Mein Kampf / Translated by Ralph Manheim. With an introduction by D.C. Watt. London: Pimlico, 1992.
Ingram R. Irving: the author of his own downfall. The Independent, 25 February 2006.
Jackel E. Hitler's Worldview: A Blueprint for Power / Translated from the German by Herbert Arnold. Foreword by Franklin L. Ford. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981.
Jochmann W. (ed.). Adolf Hitler, Monologe im Fuhrerhauptquartier 1941–1944. Die Aufzeichnungen Heinrich Heims. Munich: Heyne, 1982.
Johnson M. (ed.). Philosophical Perspectives on Metaphor. Minnesota: University of Minnesota Press, 1981.
Johnson M. The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason. Chicago: University of Chicago Press, 1987.
Jones S. The Language of the Genes. Biology, History and the Evolutionary Future. London: Flamingo, 2000.
Kantorowicz E.H. The King's Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology. With a new Preface by William Chester Jordan. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1997.
Kelly A. The Descent of Darwin. The Popularisation of Darwinism in Germany 1860–1914. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1981.
Kershaw I. Hitler, 1889–1936: Hubris. London: Penguin, 1999.
Kershaw I. The Nazi Dictatorship: Problems and Perspectives of Interpretation. London: Arnold, 2000.
Klemperer V. LTI. Notizbuch eines Philologen. Leipzig: Philipp Reclam jr., 1946.
Kdvecses Z. Metaphor: A Practical Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2002.
Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
Lakoff G., Turner M. More than Cool Reason. A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago/London: University of Chicago Press, 1989.
Lipstadt D. Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory. London: Penguin, 1995.
Lovejoy A.O. The Great Chain of Being. A Study of the History of an Idea. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936.
Musolff A. Ideological functions of metaphor: The conceptual metaphors of health and illness in public discourse // Cognitive Models in Language and Thought: Ideologies, Metaphors and Meaning / Dirven, R., Frank, R., Putz, M. (eds.). Berlin/New York: Mouton de
Gruyter, 2003.
Musolff A. Metaphor and Political Discourse. Analogical Reasoning in Debates about Europe. – Basingstoke: Palgrave-Macmillan, 2004.
Musolff A. Ignes fatui or apt similitudes? – the apparent denunciation of metaphor by Thomas Hobbes // Hobbes Studies XVIII. 2005.
Musolff A. Metaphor Scenarios in Public Discourse // Metaphor and
Symbol. 2006. Vol. 21(1).
Picker H. (ed.). Hitlers Tischgesprache im Fuhrerhauptquartier 1941–1942. Berlin/Vienna: Ullstein, 1997.
Polenz P. Deutsche Sprachgeschichte vom Spatmittelalter bis zur Gegenwart III: 19. und 20. Jahrhundert. Berlin/New York: W. de Gruyter, 1999.
Rash F. A Database of Metaphors in Adolf Hitler's
Mein Kampf. /%7Emlw032/Metaphors_Mein_ Kampf.pdf. 2005.
Schmitz-Berning C. Vokabular des Nationalsozialismus. Berlin/New York: de Gruyter, 1998.
Seidel E., Seidel-Slotty I. Sprachwandel im Dritten Reich. Halle: VEB, 1961.
Sontag S. Illness as Metaphor. New York: Vintage Books, 1978.
Steiner G. The Hollow Miracle // Language and Silence. Essays 1958–1966. Harmondsworth: Penguin, 1979.
Sternberger D., Storz G., Suskind W.E. Aus dem Worterbuch des Unmenschen. Frankfurt am Main/Berlin: Ullstein, 1986.
Tillyard E.M.W. The Elizabethan World Picture. Harmondsworth: Penguin, 1982.
Weikart R. From Darwin to Hitler. Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany. Basingstoke: Palgrave-Macmillan, 2004.
Weindling P. Health, Race and German Politics Between National Unification and Nazism, 1870–1945. Cambridge: Cambridge University
Press, 1989.
Zmarzlik H. – G. Der Sozialdarwinismus in Deutschland als geschichtliches Problem // Vierteljahreshefte fur Zeitgeschichte. 1963. Bd. 11.
Дэвид Бэнкс (David Banks)
Дэвид Бэнкс получил образование в Кэмбриджском университете (колледж Черчилля), с 1975 г. работал преподавателем в университетах Багдада, Парижа, Нанта и Бреста, доктор наук с 1983 г. С 1999 г. профессор Университета Западной Бретани (Брест, Франция). Директор ERLA (Объединение исследователей прикладной лингвистики), председатель AFLSF (Французская ассоциация системной функциональной лингвистики). Автор и редактор 10 книг, среди которых «Введение в системную лингвистику английского языка» (Paris: Hartmann), «Лингвистические аспекты пропагандистских текстов» (Paris: Hartmann). В последнее время занимается лингвистическим анализом научного и политического текста. Представленная статья впервые напечатана на французском языке. Для настоящей антологии статья существенно переработана и дополнена автором, чтобы сделать ее более понятной читателям, которые не знакомы с деталями французской избирательной системы.
В статье анализируется profession de foi (предвыборная брошюра) крайне правого кандидата Национального фронта во втором туре президентских выборов 2002 г. во Франции. Исследование опирается на положения системной функциональной лингвистики. Документ содержит интертекстуальные ссылки, удивительным образом характеризующие политическую позицию кандидата. Он широко использует звательный падеж, который имеет высокую степень воздействия, но слабо способен выражать идеи. Использование отрицательных повелительных конструкций предполагает, что читатель находится в позиции потенциального воздействия. Грамматическая метафора придает содержанию статус предположения. Документ в целом представляет собой призыв с небольшим количеством явного содержания.
Представляя неприемлемое: обращение Ле Пена перед вторым туром президентских выборов во Франции (2002 г.) (перевод А.А. Прокопьевой)
Введение
В апреле 2002 года президентские выборы во Франции закончились с результатом, вызвавшим большое удивление и получившим резонанс далеко за пределами Франции. Для того чтобы понять, что случилось, необходимо знать некоторые детали довольно своеобразной французской выборной системы. Она предусматривает два тура. Чтобы пройти первый тур, кандидаты должны получить 200 подписей членов избирательной коллегии (grands electeurs), большинство из которых занимают выборные должности мэров и сенаторов. Они могут отдать свою подпись в пользу одного из кандидатов; однако это не предполагает необходимости голосовать за этого кандидата, а всего лишь означает признание законности его выдвижения. Так, например, некоторые подписавшиеся отдают свои голоса за кандидата с крайними взглядами на основании демократического права этого кандидата выдвигаться. После первого тура два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, проходят во второй тур, который проводится две недели спустя. В 2002 году в первом туре были представлены 16 кандидатов. Это было самое большое количество кандидатов за все время проведения президентских выборов во Франции.
Во Франции распространено мнение (или существовало до 2002 года), что можно проголосовать за понравившегося кандидата в первом туре, даже если он не имеет шансов на победу, поскольку во втором туре всегда есть возможность проголосовать за лидирующего кандидата. Это означает, что количество голосов, отданных за главных кандидатов, сокращается, так как часть их электората выбирает менее популярных кандидатов в первом туре. В результате в 2002 году во втором туре выборов оказались представлены Жак Ширак, президент Франции, ищущий переизбрания, и Лионель Жоспен, лидер партии социалистов. Как известно в настоящее время, число голосов Жоспена сократилось до такой степени, что он оказался на третьем месте после крайне правого кандидата Национального фронта Жана-Мари Ле Пена. Таким образом, французским избирателям пришлось во втором туре выбирать между правым и крайне правым кандидатом.
Особенностью французской демократической системы является получение каждым избирателем за счет государства брошюры с предвыборным обращением каждого кандидата (profession de foi). В этой статье исследуется обращение крайне правого кандидата Ле Пена, представленное во втором туре президентских выборов. Мы рассмотрим интертекстуальные аспекты данного документа, после чего проанализируем использование Ле Пеном обращения, наклонения и темы; и наконец, использование грамматической метафоры, особенно номинализации и придаточных предложений. В обращениии Ле Пена находится относительно немного текстовой информации. Главный текст содержит 404 слова; в документе также имеется 4 «мини-текста», самый длинный из которых состоит из 41 слова, один из них, длиной в 34 слова, подписан женой Ле Пена, Жани Ле Пен. Для сравнения, предвыборное обращение Жака Ширака значительно длиннее и составляет 1100 слов. Наши наблюдения, кроме специально отмеченных, базируются на основном тексте документа Ле Пена в 404 слова (полный текст на французском языке находится в Приложении 1, перевод на русский язык в Приложении 2).
Аналитическая модель
Большинство наших наблюдений проводится в терминах системной функциональной лингвистики [см. Halliday 1994, Banks 2005а]. Мы полагаем, что выбор теоретических оснований – это во многом вопрос личных предпочтений; несомненно, что существует множество подходов к анализу текстов подобного типа. Наиболее очевидным альтернативным вариантом является критический дискурсивный анализ [см. Fairclough 1995, 2001]. Данный подход ни в коей мере не противоречит системной функциональной лингвистике, они вполне сопоставимы. Н. Фэрклау следующим образом выразил свое отношение к работе М. Халлидея: «Из всей существующей литературы, посвященной анализу текста, я ссылаюсь главным образом на системную функциональную лингвистику, лингвистическую теорию и связанные с ней аналитические методы Майкла Халлидея… " [Fairclough 2003: 5]. Тем не менее он отмечает некоторые различия: «…направления критического дискурсивного анализа и системной функциональной лингвистики совпадают не полностью, причиной этих различий являются различные цели… " [Fairclough 2003: 5].
Именно различные цели приводят к тому, что две теории противопоставлены друг другу как минимум по двум направлениям. Первое из них – это разделение стилистики и лингвистического анализа. Критический дискурсивный анализ находится ближе к стилистике, в то время как системная функциональная лингвистика – ближе к лингвистическому анализу. Второе направление связано с качественными и количественными параметрами. Критический дискурсивный анализ тяготеет к качественному анализу, а системная функциональная лингвистика ориентируется на количественные измерения. В настоящем исследовании мы отдаем предпочтение системной функциональной лингвистике. Тем не менее нельзя отрицать, что исследования на базе критического дискурсивного анализа могут привести к заключениям, сходным с приведенными в данной работе. Как было сказано выше, выбор во многом зависит от личности. Все, что здесь сказано, относится mutatis mutandis и к другим сравниваемым подходам, например, Т. Ван Дейка [1977, 2002] и Р. Фаулера [1996].
Согласно системной функциональной лингвистике, каждый текст содержит три типа значения, известные как семантические метафункции. Это идеациональная метафункция, интерперсональная метафункция и текстуальная метафункция. Идеациональная метафункция представляет окружающий мир; на уровне предложения это выражается в процессе, участниках, вовлеченных в процесс и связанных с ним обстоятельствах, если таковые имеются. Интерперсональная метафункция представляет комплекс отношений между говорящим и аудиторией, а также между говорящим и его сообщением. Следовательно, наклонение и модальность – это лингвистические феномены, которые следует рассматривать в связи с данной метафункцией.
Текстуальная метафункция представляет способы структурирования сообщения; на уровне предложения она включает тематическую структуру и структуру информации; за границами предложения она выражается при помощи когезии. В качестве примера я хочу проанализировать следующее предложение из текста: Vingt ans durant vous avez subi toutes les fautes et les malversations des politiciens. («Двадцать долгих лет вы терпели промахи и злоупотребления политиков»). Далее следует частичный анализ в терминах структурной лингвистики:
Vingt ans durant vous avez subi toutes les fautes et les malversations des politiciens
Процесс представлен глаголом avez subi («быть подверженным»). Этот глагол предполагает действие физического характера, следовательно, представляет собой пример материального процесса (Проц. мат.). Первый участник закодирован грамматически как Подлежащее (в СФЛ функциональные названия общепринято пишутся с большой буквы), vous («вы»), и является объектом, над которым совершается действие, следовательно, выполняет семантическую функцию подверженного воздействию (Возд.). Второй участник закодирован как Дополнение, toutes les fautes et les malversations des politicians («промахи и злоупотребления политиков»), выражающее способы выполнения действия и, следовательно, выполняет функцию инструмента (Инстр.).
Повествовательность предложения обеспечивается порядком следования Подлежащего vous, за которым следует Личный глагол avez; это составляет элемент Наклонения, затем следует оставшаяся часть предложения (Остаток). Обстоятельство времени Vingt ans durant («Двадцать долгих лет») выступает начальным пунктом говорящего, представляя, таким образом, главную Тему (Т: глав.), остаток предложения является Ремой. Очевидно, что это весьма незначительная часть анализа данного предложения, но я надеюсь, что это позволит представить общую идею о форме, которую может принимать системный анализ.
Интертекстуальность
Согласно М. Халлидею, текст – это не изолированная сущность, имеющая начало и конец, который отрезает ее от остального мира. Обычно текст существует в некотором пространстве, где он следует за предыдущими текстами и влияет на последующие. Так, каждый текст – это элемент в гораздо большей сети текстов, которые, соединяясь, образуют супертекст. Халлидей отделяет литературные тексты как единственный вид, способный достигнуть определенного уровня независимости: «Текст в нормальной последовательности событий это не что-то, что имеет начало и конец. Обмен мнениями – это длительный процесс, включенный во все виды человеческого взаимодействия; он структурирован, но в то же время неделим, и все, что можно в нем заметить, – это определенная периодичность, с которой чередуются пики и провалы текстуры – тесно связанные моменты с моментами относительно слабой продолжительности. Дискретность литературного текста нетипична для текстов в целом» [Халлидей 1978: 136–137].
Таким образом, текст Ле Пена это, прежде всего, часть большой совокупности, представляющей собой комплекс текстов французской выборной системы. В то же время этот текст носит отголоски других, не входящих в этот комплекс. Например, первые слова главного текста в данном документе, J'ai fait un reve («У меня есть мечта»), вызывают в памяти многих читателей начальные слова знаменитой речи Мартина Лютера Кинга (I have a dream).
Мини-текст, написанный женой Ле Пена, также интересен с этой точки зрения: Mon mari est l'homme le plus integre que je connaisse. Tolerant et genereux, je l'ai toujours vu s'occuper plus des autres que de lui. il [sic] est la force tranquille dont la France a besoin. («Мой муж – самый честный человек из всех, кого я знаю. Он терпимый и щедрый, и я всегда видела, что он заботится о других больше, чем о себе. Он – та спокойная сила, которая нужна Франции».)
Выражение la force tranquille («спокойная сила») была выборным девизом бывшего президента-социалиста Франсуа Миттерана. Эти слова настолько известны, по крайней мере во Франции, что их использование не может быть случайным. Для французского избирателя употребление этого выражения крайне правым кандидатом может показаться в лучшем случае странным и неуместным; но, скорее всего, будет воспринято как оскорбление и высмеивание политической системы. Для поддерживающих Ле Пена это может быть отражением того факта, что Ле Пен считает свою социальную политику левой. Как гласит один из его предвыборных лозунгов: Socialement de gauche, economiquement de droite, nationalement de France («Социально левый, экономически правый, национально французский»).
Еще один пример интертекстуальности, возможно, менее очевидный, находится в следующем отрывке: Vous, les ouvriers et les ouvrieres de toutes les industries ruinees par l'Europe de Maastricht. Vous, les artisans, les commercants et les entrepreneurs persecutes par le fisc. Vous, les fonctionnaires et les representants des forces de l'ordre, bafoues par un Etat que vous vous acharnez а defendre. Vous, les agriculteurs et les pecheurs aux retraites de misere, accules a la ruine et a la disparition. Vous, les parents qui tremblez pour vos enfants, meme а l'ecole. Vous qui avez desormais peur de sortir le soir dans la rue. Vous, les retraites qui peinez a joindre les deux bouts. («Вы, рабочие и работницы предприятий, разоренных Европой Маастрихта. Вы, торговцы, мелкие и крупные предприниматели, преследуемые налоговиками. Вы, государственные служащие и представители правопорядка, униженные тем государством, которое вы самоотверженно защищали. Вы, земледельцы и рыбаки с нищенскими пенсиями, обреченные на разорение и вымирание. Вы, родители, опасающиеся за своих детей даже в школе. Вы, боящиеся теперь выходить на улицу по вечерам. Вы, пенсионеры, с трудом сводящие концы с концами».)
Думаю, что в этом отрывке слышны отголоски знаменитого:
Heureux les affliges, car ils seront consoles, Heureux les affames et assoiffes de justice, car ils seront rassasies, …
Heureux les artisans de paix, car ils seront appeles fils de Dieu,
Heureux les persecutes pour la justice, car le Royaume des Cieux est a eux.
(«Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное».) (Перевод, использованный в данной работе, взят из «Jerusalem Bible», опубликованной Les Editions du Cerf для французской версии, и для русской версии использован ресурс -center.ru).
Это слова Христа, известные как Заповеди Блаженства из Евангелия от Матфея (Мф. 5, 5–6, 9—10). Так мы можем сказать, что этот крайне правый кандидат пытается связать свою предвыборную кампанию с Франсуа Миттераном, Мартином Лютером Кингом и Иисусом Христом!
Обращения
Интерперсональная метафункция связана с особенностями языка, представляющими связи говорящего как с дискурсом, так и с его аудиторией. Использование обращения представляет собой связь второго типа, т. е. оно помогает наладить отношения между говорящим и теми, кому он адресует свою речь. В анализируемом тексте Ле Пен активно использует обращения. Пример, уже обсуждавшийся ранее в связи с интертекстуальностью (см. Приложение 1, где он выделен черной рамкой), состоит из повторяющихся обращений.
В данном отрывке нет ни одного главного глагола. Глаголы выполняют только функцию определения при номинативной группе. Этот отрывок состоит из 101 слова, что составляет 25 % текста. Если добавить другие случаи использования обращения в тексте (подчеркнутые в Приложении 1), общее количество составит 139 слов, или 34 % текста. Данный отрывок не имеет явного содержания, а поскольку предложение – это средство передачи информации, данный текст ничего не сообщает, по крайней мере на уровне предложения. Любая информация, которая может содержаться в данном тексте, переводится на следующий, более высокий уровень. Например, большинство вербальных элементов представляют собой причастия прошедшего времени, выступающие в функции прилагательных определений с группами существительных; так они поднимаются с уровня предложения до уровня группы.
Таким образом, этот отрывок, при отсутствии какой-либо структуры предложения, состоящего из глагола, выражающего процесс и его участников, представляет собой вербальную жестикуляцию; кандидат вербально помахал читателям, на самом деле ничего не сказав, поскольку на уровне предложения значение отсутствует. Ле Пен кричит своим избирателям, но ничего при этом не сообщает. Присутствующее значение находится на уровне намеков и предположений.
Наклонение и тема
Наклонение также составляет интерперсональную метафункцию системной модели. Если исключить только что рассмотренную часть текста, состоящую из во-кативных форм, остается 18 предложений и одна изолированная номинативная группа. Эта группа, Le reve d'une France retrouvee dans laquelle il ferait, a nouveau, bon vivre («Мечта о вновь обретенной Франции, в которой будет опять хорошо жить») представляет собой повторение и расширение дополнения первого предложения в тексте, J'ai fait un reve pour chacun d'entre vous («У меня есть мечта для каждого из вас»). Из 18 оставшихся предложений текста 13 являются повествовательными и 5 – повелительными. Таким образом, довольно высокий процент (28 %) составляют предложения в повелительном наклонении. Это следующие пять предложений:
n'ayez pas peur
ne vous laissez pas pieger
ne vous abstenez pas
votez
ne vous laisser pas manipuler
(«не бойтесь»
«не позволяйте себя обмануть»
«не воздерживайтесь (от голосования)»
«голосуйте»
«не позволяйте собой манипулировать»)
Сам факт, что предвыборное призвание содержит большое количество повелительных предложений, не удивителен. Цель кандидата – убедить избирателя действовать, предпочтительно в пользу кандидата, путем голосования за него. Что удивительно в данном случае, это не количество повелительных высказываний, а тот факт, что 4 из 5 содержат отрицания. Таким образом, в тексте существует сильное невербальное указание, но указание отрицательное. Текст, вместо того чтобы рассматривать читателей как потенциальных действующих лиц и призывать их к активным действиям, предполагает, что читатели – это те, над кем осуществляется действие. Обычное указание (призыв избирателя совершить некоторое действие) в данном случае сведено к попытке призвать избирателя противостоять тем силам, которые воздействуют на него.
В тексте находится 17 Тем, на одну меньше, чем предложений, так как в одном случае две части сложносочиненного предложения содержат одинаковую Тему.
Chers compatriotes, si vous vous etes abstenus ou si vous avez vote pour un autre candidat, au deuxieme tour, ne vous abstenez pas et votez pour moi, le seul candidat qui peut faire changer les choses («Дорогие соотечественники, если вы воздержались или голосовали за другого кандидата, не воздерживайтесь во втором туре и голосуйте за меня, единственного кандидата, способного что-либо изменить»).
Здесь представляется более логичным принять множественную Тему Chers compatriotes, si vous vous etes abstenus ou si vous avez votez pour un autre candidat («Дорогие соотечественники, если вы воздержались или проголосовали за другого кандидата») в качестве Темы двух последующих повелительных предложений, чем предполагать, что во втором предложении Тема опущена. В любом случае два повелительных предложения имеют общее Обстоятельство au deuxiume tour («во втором туре»).
Детальный анализ Тем находится в Приложении 3. В тексте встречается 14 простых Тем, т. е. они являются главными Темами, и 3 множественные Темы. Две из них имеют, помимо главной, интерперсональную Тему, а третья – текстуальную Тему. Тематические части двух предложений с интерперсональной Темой следующие:
(«Вы, француженки и французы, каковы бы ни были ваша раса, религия или социальный статус, я…»)
(«Дорогие соотечественники, если вы воздержались или проголосовали за другого кандидата»)
Предложение с текстуальной Темой – предпоследнее в тексте, и тематический материал очень простой:
(«и я…»)
Необходимо отметить, что два случая интерперсональной Темы представлены (снова) обращением. Более того, три главные Темы выражены отрицательным императивом:
N'ayez pas
Ne vous (laissez)
Ne vous (laisser) pas («Не будьте Не позволяйте себя Не позволяйте себя»)
Так как порядок слов во французском языке требует постановки возвратного местоимения перед лексическим глаголом, разумно считать, что сам глагол формирует часть главной Темы в этих предложениях.
Существуют три маркированных главных Темы, т. е. главные Темы в этих случаях выполняют грамматическую функцию, отличную от подлежащего. Две из них – это Обстоятельства времени, а третье – это придаточное предложение условия, функционирующее как Обстоятельство.
При рассмотрении оставшихся 11 Тем, которые являются немаркированными главными Темами в тексте, выяснилось, что одна из них – это пример La France («Франция»), а 10 – примеры je («я»). Поскольку Тема – это пункт отправления говорящего при составлении высказывания, очевидно, что наиболее предпочитаемый пункт отправления Ле Пена – это он сам. В письменном дискурсе структура информации обычно немаркированна, поэтому Данное часто проецируется на Тему [Халлидей 1994]. Так, в тексте Ле Пен принимает себя как Данное, что представляет собой известное или распространенное знание для его адресатов, и в то же время как пункт отправления для сообщения, которое он хочет передать.
Номинализация и придаточные предложения
Мы убедились, что четверть текста состоит из сегментов, не имеющих главного глагола. Но, конечно, глаголы – это не единственный способ, которым автор может представить процесс в тексте. Процесс может скрываться под видом номинализации; в этой форме он представляет пример грамматической метафоры, т. е.
использования несоответствующей части речи [Халлидей 1994]. Существительные, как правило, используются для выражения сущностей (физических или абстрактных). Номинализация процесса интересна тем, что она придает процессу некоторые качества сущности; он становится более похожим на вещь. Возможно именно поэтому номинализация широко используется в научном дискурсе [Бэнкс 2001]. В тексте Ле Пена имеются примеры номинализированных процессов, но они немногочисленны и встречаются в основном в начале текста:
J'ai fait un reve… (Выделение жирным шрифтом мое) («У меня есть мечта»)
…les vieilles divisions de la gauche et de la droite… («…устаревшее деление на левых и правых»)
…toutes les fautes et les malversations des politiciens. («…все промахи и злоупотребления политиков»)
С другой стороны, существует разновидность грамматической метафоры, которая широко представлена в тексте. Действительно, множество причастий прошедшего времени выполняют функцию прилагательного; таким образом, процесс становится качеством сущности. В тексте такие выражения принимают форму сокращенного придаточного предложения и выступают как Определения главных членов:
…une France retrouvee («…вновь обретенная Франция»)
…les industries ruinees par l'Europe de Maastricht («…предприятий, разоренных Европой Маастрихта»)
…les entrepreneurs persecutes par le fisc («…предприниматели, преследуемые налоговиками»)
…les fonctionnaires et les representants des forces de l'ordre bafoues par un Etat que vous acharnez а defendre («…государственные служащие и представители правопорядка, униженные тем государством, которое вы самоотверженно защищали»)
…les agriculteurs et les pecheurs… accules а la ruine et а la disparition («…земледельцы и рыбаки… обреченные на разорение и вымирание»).
Последовательность этих процессов реализована в виде грамматических метафор, представляющих качества сущностей. Предложение как таковое может иметь меру истинности; оно может быть истинным или ложным, либо оно может быть модализованным. Однако это не относится ни к существительным, выражающим сущности, ни к прилагательным, выражающим качества; они не могут иметь меру истинности. Сокращенные придаточные предложения выполняют функцию прилагательных, значит, они находятся в том же положении: они не имеют меры истинности. Сам факт того, что они стоят в этой форме, делает их фактом; истинность этих высказываний предполагается в качестве аксиомы. Читатель может отрицать истинность предложений, но он не может «отрицать» истинность аксиомы.
По выражению Н. Фэрклау (2003), это будут предполагаемые допущения; т. е. то, что встречается в данном случае: предприниматели преследуются налоговиками, государственные служащие и полицейские унижаются государством, землевладельцы и рыбаки обречены на разорение и вымирание и т. д., принимается как существующий факт. Для Н. Фэрклау это будет считаться уменьшением диалогичности путем принятия общего основания.
Полные придаточные предложения вызывают такой же эффект, если они используются как определения и функционируют как прилагательные, являясь тем самым аксиомами. Такие случаи более многочисленны в тексте:
…vous, dont on refuse d'entendre la voix («вы, чьи голоса они не хотят слушать»)
Vous, les parents qui tremblez pour vos enfants, meme l'ecole («Вы, родители, опасающиеся за своих детей даже в школе»)
Vous qui avez desormais peur de sortir le soir dans la rue («Вы, боящиеся теперь выходить на улицу по вечерам»)
Vous, les retraites qui peinez а joindre les deux bouts («Вы, пенсионеры, с трудом сводящие концы с концами»)
…cette chance historique qu'elle a de se redresser… («этот исторический шанс, и она сможет, наконец, встать с колен»)
…ceux qui souffrent («те, кто страдает»)
…le seul candidat qui peut faire changer les choses («единственный кандидат, способный что-либо изменить»)
В каждом из этих случаев придаточное предложение выражает качество предшествующего понятия и содержит аксиому, придавая высказыванию стабильность и уверенность, в отличие от главного предложения, чья истинность всегда может быть поставлена под вопрос.
Заключение
В этой статье была предпринята попытка выделить некоторые аспекты текста путем применения лингвистического анализа. Это не означает, что эти пункты не могут быть выделены другим путем, но показывает, что то, что может быть замечено интуитивно, имеет основания в языке документа. Также было показано, что документ содержит интертекстуальные связи, которые удивительны при определении политической позиции кандидата. Мы указали на важность использования обращения, стратегии, при которой не сохраняется стандартная структура предложения и которая позволяет автору делать вербальные жесты, не имеющие содержания на уровне предложения и переносящие смысл на уровень предположения.
Использование отрицательного императива предполагает рассмотрение читателя как субъекта, над которым совершается действие. «Я» Ле Пена представляет собой важную Тему и один из его излюбленных начальных пунктов. Использование номинализированных процессов, а также сокращенных и полных придаточных предложений привносит в текст содержание, которое читатель вынужден воспринимать в качестве аксиомы.
В целом читатель, который, конечно, является избирателем, сталкивается с текстом, содержащим мало существенного, это призыв без содержания, кроме того, которое можно найти в виде предположений. Сторонники Ле Пена могут, конечно, возразить, что его программу легко найти где угодно, например, в его предвыборном обращении для первого тура голосования.
Тем не менее несомненным остается тот факт, что данный документ, представляющий собой последнюю попытку крайне правого кандидата получить поддержку электората в своей предвыборной кампании, является большим и пустым призывом, лишенным каких бы то ни было деталей его избирательной платформы. Если большинство французских избирателей посчитало его кандидатуру неприемлемой, то, возможно, дополнительной причиной, укрепившей мнение, которое и до того существовало, был тот факт, что для второго тура Ле Пен представил упаковку, ничего не содержавшую внутри; все, что Ле Пен предложил французскому электорату, была обертка без подарка.
Литература
Banks D. The Reification of Scientific Process: the development of grammatical metaphor in scientifc discourse // Language for Special Purposes, Perspectives for the New Millenium / Mayer, F. (ed.). Vol. 2. Tubingen: Gunter Narr, 2001.
Banks D. Introduction а la linguistique systemique fonctionnelle de l'anglais. Paris: L'Harmattan, 2005a.
Banks D. Le packaging de l'inacceptable: un tract de Le Pen pour l' election presidentielle 2002 // Aspects linguistiques du texte de propagande. / Banks D. (ed.). Paris: L'Harmattan, 2005b.
Fairclough N. Critical Discourse Analysis. The critical study of language. London: Longman, 1995.
Fairclough N. Critical Discourse Analysis as a Method in Social Scientific Research // Methods of Critical Discourse Analysis / Wodak R. & M. Meyer (eds.). London: Sage, 2001.
Fairclough N. Analysing Discourse, Textual analysis for social research. London: Routledge, 2003.
Fowler R. Linguistic Criticism / 2nd. ed. Oxford: Oxford University Press, 1996.
Halliday M.A.K. Language as Social Semiotic. The social interpretation of language and meaning. London: Arnold, 1978.
Haliday M.A.K. An Introduction to Functional Grammar / 2nd. ed. London: Arnold, 1994.
van Dijk T.A. Text and Context. Explorations in the semantics and pragmatics of discourse. London: Longman, 1977.
van Dijk T.A. (2002): Political Discourse and Political Cognition // Politics as Text and Talk. Analytical approaches to political discourse / Chilton P.A. & C. Schaffner (eds.). Amsterdam: John Benjamins.
Приложение 1 Французский текст profession de foi Ле Пена
J'ai fait un reve pour chacun d'entre vous. Le reve d'une France retrouvee dans laquelle il ferait, а nouveau, bon vivre.
N'ayez pas peur de never, vous, les petits, vous, les exclus, vous, les jeunes, vous, les victimes du Systeme, vous, dont on refuse d'entendre la voix.
Ne vous laissez surtout pas pieger par les vielles divisions de la gauche et de la droite. Vingt ans durant, vous avez subi toutes les fautes et les malversations des politiciens. Vingt ans durant, ils vous ont menti sur l'insecurite, le chomage, l'immigration, sur l'Europe et sur le reste.
Vous, les ouvriers et les ouvrieres de toutes les industries ruinees par l'Europe de Maastricht. Vous, les artisans, les commerfants et les entrepreneurs persecutes par le fisc. Vous les fonctionnaires et les repr?sentants des forces de l'ordre, bafou?s par un?tat que vous vous acharnez a defendre.
Vous, les agriculteurs et les p?cheurs aux retraites de mis?re, accul?s a la ruine et a la disparition.
Vous les parents qui tremblez pour vos enfants, m?me a l'?cole. Vous qui avez d?sormais peur de sortir le soir dans la rue. Vous, les retrait?s qui peinez a joindre les deux bouts.
Vous, Francaises et Francais, quelle que soit votre race, votre religion ou votre condition sociale, je vous demande de donner а la France cette chance historique qu'elle a de se redresser enfin.
Homme du peuple, je serai toujours du cote de ceux qui souffrent. Orphelin de guerre, j'ai connu le froid, la faim, la pauvrete, j'ai ete travailleur manuel puis chef d'entreprise. Jeune depute, j'ai combattu en Algerie, avec le contingent.
Je veux redonner fierte et cohesion а notre grand peuple francais. La France peut et doit devenir le centre d'un monde francophone, economique, social, culturel et politique de quatre cent millions d'hommes.
Chers compatriotes, si vous vous etes abstenus ou si vous avez vote pour un autre candidat, au deuxieme tour, ne vous abstenez pas et votez pour moi, le seul candidat qui peut faire changer les choses.
Ne vous laisser pas manipuler par les medias ou par les politiciens.
Je ne vous ai jamais cache la verite, meme quand elle n'etait pas agreable а entendre.
J'ai toujours respecte mes engagements et je continuerai а le faire demain.
J' n'ai qu'une ambition: la France et les Francais!
Приложение 2 Перевод текста Приложения 1
У меня есть мечта для каждого из вас. Мечта о вновь обретенной Франции, в которой будет опять хорошо жить.
Не бойтесь мечтать, вы, малые, вы, отверженные, вы, молодые, вы, жертвы системы, вы, чьи голоса они не хотят слушать.
Не позволяйте обманывать себя давно устаревшим делением на левых и правых. Двадцать долгих лет вы терпели промахи и злоупотребления политиков. Двадцать долгих лет
они лгали вам об угрозах, безработице, иммиграции, о Европе и обо всем остальном.
Вы, рабочие и работницы предприятий, разоренных Европой Маастрихта. Вы, торговцы, мелкие и крупные предприниматели, преследуемые налоговиками. Вы, государственные служащие и представители правопорядка, униженные тем государством, которое вы самоотверженно защищали.
Вы, земледельцы и рыбаки с нищенскими пенсиями, обреченные на разорение и вымирание. Вы, родители, опасающиеся за своих детей даже в школе. Вы, боящиеся теперь выходить на улицу по вечерам. Вы, пенсионеры, с трудом сводящие концы с концами.
Вы, француженки и французы, каковы бы ни были ваша раса, религия или социальный статус, я прошу вас дать Франции этот исторический шанс, и она сможет, наконец, встать с колен.
Человек из народа, я всегда буду на стороне тех, кто страдает. Осиротев во время войны, я познал холод, голод и нужду, я был простым рабочим, а затем главой предприятия. В молодые годы меня отправили в Алжир, где мне довелось воевать в составе французского контингента.
Я хочу вернуть гордость и сплоченность великому французскому народу. Франция может и должна стать экономическим, социальным, культурным и политическим центром франкоговорящего мира для четырехсот миллионов людей.
Дорогие соотечественники, если вы воздержались, или голосовали за другого кандидата, не воздерживайтесь во втором туре и голосуйте за меня, единственного кандидата, способного что-либо изменить.
Не позволяйте средствам массовой информации или политикам манипулировать вами. Я никогда не скрывал от вас правды, даже когда слушать ее не было приятно.
Я всегда сдерживал обещания, и намерен их сдерживать завтра.
У меня только одна цель: Франция и французы!
Приложение 3
Темы
3.3. Политическая лингвистика в Восточной Европе
В последние годы одним из признанных центров политической лингвистики становится Восточная Европа. Наряду с российскими специалистами языковеды из Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии стремятся исследовать политическую коммуникацию в своих государствах, сопоставить отечественный политический дискурс с зарубежным, выделить новые тенденции, характерные для постсоветской эпохи. Большинство этих специалистов тесно связаны с традициями российской лингвистики, и вместе с тем все они активно стремятся использовать идеи, пришедшие из других мегарегионов.
Для представителей восточноевропейской лингвистики характерны следующие объединяющие признаки.
1. Соответствующее глобальным тенденциям соотношение когнитивных, дискурсивных и риторических (семантико-стилистических, коммуникативных) исследований политической коммуникации. Когнитивное направление широко представлено в Литве (Э. Лассан, В. Макарова и др.); своего рода организующим центром подобных исследований стал журнал Respe^ tus Philologicus. Семантико-стилистическое направление активно развивается в Латвии, Белоруссии, Украине (О.И. Андрейченко, Л.Е. Бессонова, А.А. Бойко, Л.А. Кудрявцева, С.Н. Муране, Б.Ю. Норман, Е.С. Серажим и др.). Дискурсивные методики изучения политической коммуникации активно развиваются в Белоруссии и Украине (Ф.С. Бацевич, Н.Б. Мечковская, И.Ф. Ухванова-Шмыгова и др.).
2. Заметное предпочтение дескриптивных методик и минимальное использование критического анализа дискурса. Вместе с тем элементы критического анализа в той или иной степени заметны в публикациях Ф.С. Бацевича, Э.Р. Лассан, Б.Ю. Нормана, И.Ф. Ухвановой-Шмыговой и некоторых других специалистов. Проблемы регулирования языковой деятельности, соотношения языка и власти, дескриптивного и прескриптивного подхода к языку детально рассмотрела Г.М. Яворская.
3. Высокая доля исследований медийного политического дискурса (Л.П. Дядечко, Л.А. Кудрявцева, Е.В. Святчик, О.А. Семенюк, И.А. Филатенко, А.А.Черненко и др.) и относительно небольшое количество исследований институционального политического дискурса (А.И. Башук, Е.С. Серажим и др.). Изучаются преимущественно общие закономерности политической коммуникации, несколько реже специалисты обращаются к рассмотрению идиостилей конкретных политиков и журналистов (А.И. Башук, Л.Ф. Компанцева и др.).
4. Повышенное внимание к изучению зарубежного политического дискурса и сопоставительным исследованиям, в том числе к сопоставлению политического дискурса постсоветских государств с российским, западноевропейским и американским дискурсом (А.И. Башук, В.В. Демецкая, Э.Р. Лассан, Н.Н. Клочко, С.Н. Муране, Б.Ю. Норман, В. Токарева и др.).
5. Активное участие в текущей политической борьбе, в обсуждении проблем взаимодействия национальных и мировых языков и культур, о путях развития национальных языков (Ф.С. Бацевич, О.А. Семенюк, Л.А. Ставицкая, Г.М. Яворская и др.). Заметно повышенное внимание к текущим политическим процессам. Например, А.И. Башук проводит коммуникативно-стратегический анализ политических выступлений президентов В. Ющенко и В. Путина, а в работах Л.А. Ставицкой рассмотрен дискурс «оранжевой» революции и героев «майдана». В исследованиях Е.С. Серажим детально изучено становление нового стилистического канона в украинской политической коммуникации.
В настоящем разделе представлены статьи Элеоноры Лассан (Литва) и Надежды Клочко (Латвия), исследования которых тесно связаны с традициями российской лингвистики и вместе с тем в полной мере учитывают достижения западной науки.
Элеонора Лассан
Элеонора Лассан – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой языкознания Вильнюсского университета, главный редактор широко известного журнала Respertus Philologicus, автор множества публикаций, в том числе монографии «Дискурс власти и инакомыслия в СССР: когнитивно-риторический анализ» (1995) и учебника «Риторика, Логика, Грамматика (2000)». Основные сферы научных интересов – политическая лингвистика, когнитивная лингвистика, лингвокультурология, логика и риторика. Руководитель магистрантов и аспирантов.
В настоящем издании представлена статья, которая ранее была опубликована в сборнике «Известия Уральского государственного педагогического университета. Лингвистика. Выпуск 19» (Екатеринбург, 2006) и вместе с тем представляет собой важную часть готовящейся монографии «Лингвистика как ангажированное знание».
Лингвистика как ангажированное знание
Современная лингвистическая наука, как никогда ранее, может считаться прикладной – не только в смысле создания норм орфографии или совершенствования лексикографических описаний, но в смысле изучения того, что может способствовать главной цели наук, связанных с человеком, – познанию самого человека, ибо именно объектом лингвистики – языком – пронизаны, согласно Лакану, все уровни человеческой психики, включая и его бессознательное.
Политическая лингвистика, или анализ языка политики, имеет, на мой взгляд, приоритет перед «другими» лингвистиками в области значимости своего прикладного характера, ибо показывает «всякую власть и как то, что она есть, и как то, чем она кажется [Барт, 1983: 317]. Далее – дело тех, кто хочет знать о своей власти сокровенное или довольствуется ее видимой стороной.
Говоря об изображении власти «такой, какая она есть», не могу не сказать об «ангажированности» лингвистических знаний. Выражение, как известно, принадлежит Пьеру Бурдье, призвавшему интеллектуалов не оставаться в стороне от критики неолиберальной политики, ибо ситуация в мире может измениться таким образом, что обладатели «чистого» знания почувствуют вину за его неиспользованность [Бурдье, 2002: / nz/2002/5/burd.html]. Думается, сказанное относится в полной мере к лингвистам: обнаружение истоков идей, выраженных в дискурсе, «верований», в которых пребывает говорящий, порой не отдавая себе в этом отчета, позволяет прогнозировать деятельность политических субъектов, строящуюся в соответствии со стереотипами политического поведения, уже явленного их предшественниками, находившимися в русле тех же верований. «Ангажированность знаний» есть нечто близкое стратегиям критической лингвистики с той разницей, что «критические лингвисты» действуют после того, как текст свершился, показывая заложенное в нем злоупотребление властью, результатом которого становится «вживление» стереотипов неравенства определенных групп, а «ангажированные лингвисты» стремятся предупредить о последствиях доверия тому или иному политическому лозунгу, деятелю, вербализованной установке.
Почему я сегодня говорю о выявлении «верований» как предмете и цели анализа политического дискурса? Сошлюсь на работу Ортеги-и-Гассета «Идеи и верования», где, в частности, сказано следующее:
«Интеллектуализм тяготеет к тому, чтобы считать самым эффективным в жизни сознательное начало. Ныне мы убеждаемся в противоположном – в том, что больше всего влияют на наше поведение скрытые основания, на которых покоится интеллектуальная деятельность, все то, чем мы располагаем и о чем именно по этой причине не думаем.
Итак, вы уже догадались о серьезной ошибке тех, кто желая составить представление о жизни человека или эпохи, пытается судить о них по сумме идей данного времени, иными словами, по мыслям, не проникая глубже, в слой верований, того, чем человек располагает. Но составить перечень того, чем человек располагает – вот это действительно означало бы …осветить тайники жизни» [Ортега-и-Гассет, 1991: ].
Каковы же возможные пути проникновения в «тайники жизни» политических субъектов?
Разумеется, весьма плодотворным является вычленение метафор, в терминах которых субъект осмысляет мир. Видимо, концептуальные метафоры можно считать формулами, в которые укладываются «верования» субъекта текста. Вместе с тем можно говорить и о другом пути – вычленении слов-ключей, вскрывающих собственно когнитивные состояния субъектов дискурса, включающие как рациональные знания, так и подлинные предпочтения, намерения, «верования».
Приведу этюд, касающийся употребления своеобразного слова-ключа к «тайным» установкам говорящего. Это – вводное слово к сожалению, создающее образ говорящего как личности, испытывающей определенные эмоции по поводу того или иного положения дел. Так, высокий государственный деятель России (обозначим его Х) в 1998 г. произнес фразу, из которой должен был следовать вывод о его приверженности ценностям демократического устройства, которое тем не менее не может быть применено в России: «…Механический перенос модели демократического общества с Запада в Россию, к сожалению, не срабатывает». Прежде чем перейти к анализу использования вводного слова к сожалению в политическом тексте, предложу лингво-прагматическую характеристику его употребления в речи. Этот оборот создает особый тип речевого акта – экспрессив, цель которого – «выразить психологическое состояние, задаваемое условием искренности относительно положения вещей» [Серль, 1979: 183]. В принципе искренность/истинность речевого акта с подобным оборотом может зависеть от четырех обстоятельств: 1) истинность основной части (пропозиции): перенос западной модели демократии действительно не срабатывает; 2) неистинность пропозиции: перенос западной модели на самом деле срабатывает; 3) искренность вводного оборота: говорящий действительно сожалеет; 4) неискренность употребления вводного оборота: говорящий прибегает к этикетным формулам, чтобы создать видимость чувств, обеспечивающих представление о его предпочтениях. На самом деле говорящий не переживает эти чувства. Искренность/неискренность говорящего сказывается на дальнейших моделях речевого взаимодействия со слушателем: если говорящий искренен, возможен диалог по поводу обозначенной в пропозиции ситуации; если говорящий неискренен, он постарается отказаться от ведения диалога, в ходе которого ему приходится имитировать определенные чувства. Неискреннее употребление оборота открывает возможности для определенной манипуляции сознанием слушающего, т. е. для внедрения в его сознание недостаточно адекватного образа говорящего. Однако заключить о неискренности употребления вводного оборота к сожалению позволяет только тщательный анализ всего контекста употребления этого вводного слова. Так, приведенная выше фраза X – «…механический перенос модели демократического общества с Запада в Россию, к сожалению, не срабатывает» – продолжается конкретной иллюстрацией, имеющей целью подтвердить введенный тезис: «Вот вам нынешний яркий пример – ситуация в Карачаево-Черкессии. Выборы прошли по вполне демократическому «стандарту». Во Франции и Англии все бы и закончилось, а в Карачаево-Черкессии не работает. Сразу пошел межэтнический конфликт» (Труд № 181). Вводный оборот к сожалению относится к пропозиции, утверждающей неприемлемость западной модели демократии для России, и рисует говорящего «человеком, сожалеющим» по этому поводу, т. е. искренно желающим противоположного положения дел. Вместе с тем следующая фраза-иллюстрация показывает, что тезис, содержащийся в первом предложении, требовал сужения, так как в тексте речь идет о всей России, а иллюстрация касается отдельного места, не являющегося к тому же прототипическим для концепта Россия. Таким образом, использование оборота позволяет представить говорящего в глазах слушающего лицом, вынужденно отказывающимся от желаемого им положения дел в силу объективных причин, хотя сами эти причины не формулируются – адресату предоставляется инициатива их генерализации на основе предложенной иллюстрации.
Произведенное говорящим расширение тезиса побуждает думать, что его не устраивает точная формулировка тезиса: «…не срабатывает в определенных частях России», имплицирующая вывод «в других частях России срабатывает». Умолчание вывода может свидетельствовать о нежелании признать осуществимой ситуацию, сторонником которой говорящий, благодаря использованию оборота к сожалению, пытается себя представить. К чести говорящего следует отметить, что он говорит о «механическом переносе модели западной демократии». Однако непроговаривание специфики демократии «в отдельных частях России» склоняет адресата к мысли о неприемлемости демократической модели для России вообще. Для сравнения: «В нынешней России существует запрос на демократию, но преимущественно не в ее либеральной версии, а в другом, более соответствующем культурной специфике России варианте…» – из газеты «Яблоко» (/ News/Npaper/9704/gjy7.htm).
Нужно сказать, что анализ оборота к сожалению в речи государственных мужей был проделан автором в 2000 г. Искренность речевого акта в рассматриваемом случае позволяла думать о возможностях продолжения разговора с властью о демократических преобразованиях в стране, неискренность превращала высказывание в директивное – побуждение к свертыванию демократизации избирательной системы. Автор склонялся к мысли, что, пусть неосознанно, X стремился представить себя сторонником демократических преобразований, хотя его «верования» не совпадали с декларируемыми.
Читателю судить, соответствуют ли сделанные некогда выводы о политических предпочтениях крупнейших политических деятелей России событиям последних лет.
Позволю себе обратиться к более поздней эпохе политической жизни, когда на смену именам ценностей периода, именуемого демократическим, пришли иные имена. Причем произошло это в разных странах, но лексика политических лозунгов совпала.
Одна из политических партий Литвы сравнительно недавно решила изменить название и избрать своим политическим «брендом» выражение «за порядок и справедливость». Говорю «бренд» практически без иронии – так или иначе политическая борьба есть пропаганда, другими словами, продажа электорату своих политических установок. Предполагаемая смена наименования заставила вспомнить предвыборные лозунги «партии власти» в России – победившая «Единая Россия» регулярно обозначала в программных документах свои базовые установки именно выражением «порядок и справедливость». Естественно, к моменту прихода «Единой России» к власти слова «свобода» и «демократия», ключевые для дискурсов эпохи Б. Ельцина, были (как и стоящие за ними неясные сущности) порядком скомпрометированы в сознании общества, потрясенного обрушившимся на него огромным имущественным неравенством, бездомными детьми и ураганом преступности. Может быть, поэтому лидер «Единой России» Борис Грызлов открыто сформулировал смену общественных ориентиров в обращении, по духу напомнившем революционные воззвания: «Обращение IV съезда Политической партии «Единая Россия» к гражданам России». В документах партии власти, появившихся в период, означенный соответствующим обращением, провозглашаются новые идеологические установки, формулируемые следующим образом: «Порядок и справедливость – вот стержневые основы нашей политики». Сегодня этот лозунг использует партия опального литовского экс-президента. Что ж, ценности, сформулированные как основополагающие, не могут не быть приняты сознанием, действительно истосковавшимся по чувству уверенности в завтрашнем дне, но тем, кто знает, что может имплицироваться содержанием понятий «порядок» и «справедливость», кто осведомлен о контекстах употребления таких лозунгов в определенные политические эпохи, установки, выраженные таким образом, представляются не столь привлекательными. Обратимся к анализу понятий, имена которых используются сегодня в названии одной из популярных партий Литвы, опираясь на разработку соответствующих понятий в лингвистике и философии. Принято считать, что понятие «справедливость» играет огромную роль именно для русского сознания. Тем не менее нельзя не сказать, что начиная с семидесятых годов прошлого века в среде западных либералов достаточно широко дискутируется вопрос о концепциях справедливости как базовой основе общества. В этой связи нельзя не упомянуть известную книгу американского философа Дж. Роллза «Теория справедливости», где автор, в частности, говорит: «Справедливость – это первая добродетель общественных институтов, точно так же как истина – первая добродетель систем мысли. Законы и институты, как бы они ни были эффективны и успешно устроены, должны быть реформированы или ликвидированы, если они несправедливы. <…> Конечно, далеко не все существующие общества вполне упорядочены в этом смысле, потому что весьма спорно, что справедливо и что несправедливо (выделено мною. – Э. А.). Люди расходятся в том, какие именно принципы должны определять основные условия соглашения в обществе». Дж. Роллз видит цель предпринятого труда в том, чтобы разработать теорию справедливости [Роллз, 1995: 19]. А до тех пор, пока эта теория не выработана, как ее следует понимать?
Попытаюсь резюмировать сказанное о «справедливости» в лингвистической и культурологической литературе (естественно, основные акценты понимания «справедливости» касаются трактовки этого понятия русским сознанием). Само понятие «справедливости» связывается прежде всего с идеей распределения благ (равного распределения), и для него существенны такие смысловые блоки, как субъект распределения, объект распределения (тот, кто получает), ресурс распределения – то, по какому принципу происходит распределение ресурса. «Справедливость» предполагает, что некий «судья» принимает решение в ситуации, которая касается распределения благ или наказаний, и говорящий или другой субъект оценки характеризует это решение как адекватное ситуации, справедливое, выступая вторым судьей ситуации. Подобная характеристика «справедливости», если она провозглашается идеологической установкой власти, побуждает задаться вопросом: кто берет на себя роль «судьи второго порядка?» («А судьи кто?») Ведь справедливость основана не на холодном рассудке и беспристрастности, а на некотором нравственном чувстве, в силу чего одни и те же вещи, рассматриваемые с разных сторон, могут казаться одним людям справедливыми, а другим – нет. Торжество справедливости приравнивается обычно к
восстановлению равенства. Не могу отказать себе в удовольствии привести фрагмент из книги детского писателя Г. Остера «Ненаглядное пособие по математике», где в пародийной задаче иллюстрируется понимание справедливости как равенства: У старшего брата 2 конфеты, а у младшего 12 конфет. Сколько конфет должен отнять старший у младшего, чтобы справедливость восторжествовала и между братьями наступило равенство? Поскольку понятие «справедливости» неочевидно, а справедливость «плюралистична и рациональна» (исходя из определенной точки зрения, можно легко обосновать «справедливость» тех или иных вещей и, следовательно, существует множество «справедливостей»), это слово, считают лингвисты, является типичным элементом социальной демагогии.
Разделяя сказанное другими лингвистами, мне хотелось бы обратить внимание еще на одно обстоятельство. Если понятие «справедливости» связано с идеей существования двух судей – распределяющего блага и оценивающего «справедливость» распределения, – то согласуется ли внедрение «справедливости» как государственного принципа с установкой на сокращение бюрократического аппарата, провозглашаемое в свое время и «Единой Россией», и сегодня партией экс-президента Литвы? Говоря об использовании имени «справедливость» в политических декларациях, еще раз подчеркну:
1) смысловая неопределенность понятия «справедливость», возможность его различных истолкований делают слово инструментом социальной демагогии, с одной стороны, с другой – не позволяют ясно представить путь внедрения ценностной установки с таким именем в деятельность государственных и общественных структур – обозначим такой способ определения политической стратегии как «непрозрачный»;
2) названные выше смысловые блоки понятия «справедливость» побуждают предположить, что внедрение «справедливости» как принципа деятельности государственного механизма усиливает иерархическую организацию этого механизма: в нем предполагается место для субъекта распределения благ («судьи» первого порядка), от которого зависит адресат распределения, и место для «судьи» второго порядка, оценивающего, насколько «справедливо» осуществлено распределение. Такая иерархическая структура «справедливости» как принципа деятельности предполагает увеличение количества «судей» из числа государственных мужей. В таком случае текст, декларирующий осуществление принципа «справедливости» и одновременное сокращение государственного аппарата, оказывается внутренне противоречивым;
3) имя справедливость (социальная справедливость) активизирует в сознании тексты предшествующей идеологической эпохи, где соответствующая ценность выступала в ряду таких ценностей, как равенство, отсутствие эксплуатации человека человеком, народовластие, и где отсутствовали ценности с именами свобода личности, демократия, терпимость и т. п.
Перейдем к следующему понятию, используемому российскими и литовскими политическими силами в качестве ключевого для выражения своих установок. Противопоставление порядок/хаос относится к числу фундаментальных оппозиций в системе оценок человеческого восприятия вообще. Тем не менее существуют культуры, где это понятие обладает особой ценностной значимостью, и культуры, где порядок как ценность не акцентируется. В этом, например, принципиальное отличие русской культуры от культуры немецкой, где концепт Ordnung ('порядок') является основой всей системы этических представлений. Романтик Шиллер называл Ordnung даром небес, благодаря которому возникла цивилизация, – трудно, однако, представить русского поэта, боготворящего порядок. Существование понятия «Ordnung» в немецком сознании, согласно сложившемуся в гуманитарных науках представлению, коррелирует с характерными для немецкой жизни многочисленными предписаниями и запретами, отражающимися в широко распространенном бытовании в немецкой действительности запретительного знака «Verboten» (запрещено). Рассматривая систему ценностей, выражаемую концептом Ordnung в немецком сознании, А. Вежбицкая предлагает такой «культурный сценарий» представлений о ценностях (то есть как думают немцы, думая о порядке):
A. хорошо, если люди будут знать
какие вещи они должны делать каких вещей они не должны делать
B. хорошо, если кто-то скажет
какие вещи люди должны делать каких вещей они не должны делать
«Если английские культурные сценарии, – пишет А. Вежбицкая, – можно связать с ценностями «личной автономии», то рассмотренные… сценарии могут быть связаны с ценностью «общественной дисциплины»…» [Вежбицкая, 1999: 459].
Русская повседневная жизнь, как и литовская, в отличие от немецкой, не знает обилия запретительных и предписывающих знаков иного действия. Русская идея порядка связывается, как мне представляется, с представлениями о том, что каждый человек должен выполнять установленные функции и каждая вещь должна находиться на своем месте, т. е. в идее порядка реализуется представление о «нормальном» положении вещей. Для каждого социума складывается свое понятие нормы, отсюда существует «лагерный порядок», «государственный порядок», «воинский порядок», «уличный порядок» и т. п. Нормы социума могут изменяться, поэтому возможно существование «революционного порядка». В сущности, понятие «порядок», так же как и понятие «справедливость», обладает высокой степенью смысловой неопределенности. Смыслы, реализуемые в выражениях устанавливать порядок, наводить порядок, следить за порядком, говорят о том, что порядок называет установленное некогда и кем-то или сложившееся само по себе положение вещей, которое может нарушаться. Отсюда необходимость в фигуре наблюдающего за порядком, занимающего иерархически более высокое положение по отношению к соблюдающим порядок. (В силу необходимости еще одной структуры – наблюдающего за порядком – тезис о поддержании порядка на государственном уровне также представляется вступающим в противоречие с тезисом о сокращении государственного аппарата.)
Смысловая неопределенность понятия «порядок» связана с тем, что мнения о «норме», «правильности» у людей, представляющих разные референтные группы, могут расходиться: «Но этот беспорядок, свежему человеку казавшийся хаосом, и был тот привычный домашний порядок, нарушения которого больше всего страшился холостяк-бирюк» (И.С. Соколов-Микитов). В таком случае возникает вопрос: о каком смысловом содержании порядка идет речь в текстах русской и литовской политических партий? О немецком порядке, построенном на системе запретов, о русском порядке, основанном на мнении о норме, в отношении источника которого вопросом не задаются? (Одно время в Интернете мелькал Русский Порядок – выражение из текстов фашиствующего Русского Национального Единства: «Ведь в мире должен быть один Порядок, и он по праву Русским должен быть!» (из гимна РНЕ), при этом порядок этот признавался базирующимся… на справедливости.)
Литовский концепт порядок пока не описан литовскими лингвистами – при самом беглом взгляде создается впечатление, что tvarka ('порядок') фиксирует представление об очередности действий, аккуратности хранения личного имущества.
Говоря о слове справедливость, я определяла его идеологическое поле, то есть идеологические тексты, в которых оно употреблялось. Мне трудно сделать это в отношении слова порядок: практически отсутствует «интердискурс» – память не активизирует текстовых образований, в рамках которых порядок был бы ключевым словом, «узловой точкой» идеологического поля. Известен «честный и твердый революционный порядок» из текстов первых месяцев Октябрьской революции, однако представляется, что ключевым для революционной риторики 1917 года это слово все-таки не было именно в силу дуновения революционных ветров, которые должны были прежде всего смести «старый порядок».
Но вот для сочетания слов порядок и справедливость соответствующее идеологическое поле найти можно. Характеризуя немецкие слова Blut ('кровь') и Boden ('земля'), знаменитый немецкий лингвист X. Вайнрих говорит: «… В немецком языке совершенно невозможно соединить оба эти слова. <…> Дело в том, что оба слова – Blut и Boden – будучи поставлены рядом, создают друг другу контекст. <… > Контекст und Boden детерминирует значение слова Blut до нацистского представления, и точно так же значение слова Boden детерминируется контекстом Blut und в нацистском смысле». Сказанное можно отнести и к соединению слов Ordnung und Gerechtigkeit ('порядок и справедливость'). Местом порядка и справедливости задумывался Гиммлером концентрационный лагерь Дахау – обучение, образование и труд должны были сделать заключенных полезными членами общества: «Die NS-Propaganda prasentierte das
Lager als <…> Ort der Ordnung und Gerechtigkeit» ('Нацистская пропаганда представляла лагерь местом порядка и справедливости').
А вот еще более любопытный текст, касающийся непосредственно России (приводится в переводе автора):
'Русская история сообщает о том, что население России, уставшее от непрочности положения в стране, обратилось к иноземцам со следующими словами: «Наша страна велика и богата, но в ней нет ни порядка, ни справедливости. Придите и управляйте нами».
Порядок и справедливость – это вещи, на которые народы России сегодня все еще только смотрят. История повторяется. Строительство новой России должно осуществляться с помощью иностранных денег и сил. Но эта помощь должна происходить в форме, ни в коем случае не оскорбляющей национальные чувства. Лозунг должен остаться абсолютно неизменным: Порядок и справедливость!'
Слова принадлежат Видкуну Квислингу, лидеру норвежских фашистов, в качестве премьер-министра Норвегии активно поддерживавшему гитлеровский режим и расстрелянному по приговору норвежского суда в 1945 году.
Приведенные примеры позволяют говорить о том, что если слово порядок не активизирует определенного идеологического поля, то сочетание порядок и справедливость включается в интердискурс, соединяющий тексты различных периодов и различных идеологий. Включаясь в этот интердискурс, порядок и справедливость оказываются узловыми точками легко узнаваемого поля.
Я не склонна думать, что те, кто в Литве и России провозглашает порядок и справедливость ключевыми установками своей идеологии, знают предысторию этих выражений. Но здесь хочется привести слова одного из крупнейших философов XX века Мераба Мамардашвили: «Глубочайшая ценность европейской культуры заключается в ясном сознании: все, что происходит в мире, зависит от твоих личных усилий, а значит, – ты не можешь жить в мире, где неизвестными остаются источники, откуда к тебе «приходят» события» [Мамардашвили, 1992: 130].
В заключение мне хотелось бы обратить внимание на еще одно «веяние времени» – цинический дискурс власти. Славой Жижек в статье «Власть и цинизм» приводит в качестве циничного следующее высказывание Жириновского о самом себе: «Если бы в России была здоровая экономика и социальные гарантии для народа, я бы потерял все» [Жижек, 1998: 169]. Отсюда следует, что сохранение нездоровой экономики и социально нестабильного положения народа – в интересах лидера ЛДПР. Субъект открыто проговаривает свои интересы, неблаговидные с точки зрения того большинства, чьи интересы он якобы защищает.
Известный журналист Дм. Быков как-то заметил, что прагматизм в современной жизни есть просто иное название цинизма. Думаю, следует развести прагматизм как стимул к совершению поступков, дающих, по мнению субъекта, благоприятные для него результаты, и публичную вербализацию, а соответственно – легитимизацию мотивов, противоречащих сложившимся этическим нормам. Последнее и есть цинизм.
Когда поддержка США в войне против Ирака обосновывается малыми государствами необходимостью примкнуть к могущественному государству (таковы высказывания некоторых литовских политиков) или европейские лидеры в момент штурма Багдада совещаются о необходимости принять участие в послевоенном устройстве Ирака, а предприниматели высказываются о своих ожиданиях относительно послевоенных заказов по восстановлению разрушенного Ирака, то мы имеем то, что принято было называть «открытым цинизмом». «Открытым», поскольку всегда существовавшие прагматические мотивы действий принято было подавать в словесной упаковке, призванной навести морально-этический флер на несправедливое (с точки зрения того добра, которое человек «чует» благодаря заложенному в нем нравственному императиву) деяние: вспомним, что даже агрессия против Польши в 1939 г. была подана как «оборонительная война». Цинический дискурс осознается в качестве такого на фоне существующих (еще существующих) в сознании общества заповедей и норм. И здесь возникают два вопроса. Дискурс, который скрывал подлинные императивы действий, отличался лицемерием, но он сохранял возможность для существования определенного двоемирия: мира ценностей, идеала, задающего духовное движение, и мира практических действий, эти ценности нарушающих. Второй подлежал осуждению, поскольку противоречил первому. Первый – мир идеала, утверждаемых моральных ценностей – мог осознаваться и как мир будущего, и как мир настоящий, существующий где-то в другом месте (подобно миру, создаваемому в искусстве соцреализма). На фоне этого мира мир несправедливых деяний осознавался как преходящий. Утверждение же цинического дискурса означает вытеснение дискурса моральных ценностей (ср. осуждение в Литве недавно ушедшего из жизни литовского политика и ученого Р. Павилениса за его антиамериканские высказывания, способные, по мнению осуждающих, «нанести вред отношениям с государством-покровителем». Думаю, что сегодня Павилениса можно назвать литовским Сахаровым). Что же лучше: лицемерный дискурс (примером его можно считать высказывание В. Ландсбергиса о необходимости поддержать действия США в Ираке: «Мы никогда не поддерживали тиранию и у нас нет оснований поддерживать ее сейчас», – здесь утверждается благородный мотив поддержки США. При этом Европе и антивоенному мировому движению отводится роль сторонников тирании) или цинический? Второй вопрос: отомрет ли этический дискурс? Если человечество действительно «чует» добро, если поразивший Канта нравственный императив дан нам как «образу и подобию», то, видимо, этический дискурс не отомрет. Вопрос в том, какие имена ценностей он будет внедрять в сознание своих адресатов. Так, В. Клемперер в «LTI» отмечал, что в третьем рейхе весьма частым словом, называющим истинно немецкую ценность, было слово «фанатический» [Клемперер, 1998: 95]. И даже противники третьего рейха произносили это слово для обозначения позитивного качества, называя уже антифашистов немцами, фанатически преданными Германии. Вопрос о том, как будут именоваться позитивные ценности, возможно, не совсем лингвистический. В конечном счете, как говорит Шалтай-Болтай, «важно, кто здесь хозяин», чтобы заставить слово значить то, что ему предназначено этим хозяином. Но указать тенденцию смены наименований лингвисты могут.
Думается, что сказанное позволяет оценить лингвистику, способную делать заключения об искренности/ неискренности говорящего, об истоках предлагаемых идей, об этическом характере дискурса, как науку, ставящую диагноз состоянию общественного сознания и, в частности, состоянию политических умов, призванных устанавливать ориентиры движения государств. Все это не может не побуждать лингвиста, занятого анализом дискурса, к некоторой аксиологической деятельности: так, если текст обнаруживает близость с совокупностью текстов, выражающих осужденную человечеством идеологическую практику (фашизм, сталинизм и т. п.), то задача исследователя – сказать об этом и тем самым предупредить общество об обнаруженных им «опасных» установках субъекта анализируемого дискурса. В этом смысле лингвистическое знание является «ангажированным»: вынося оценку, оно играет роль в своеобразной «агитации» общества «за» или «против» того или иного политика. К лингвистам применимо то же, что сказал Пьер Бурдье о социологах: «Социологи находятся в уникальном положении. От других интеллектуалов их отличает то, что они обычно (хотя и не всегда) умеют слушать и знают, как расшифровать то, что они услышали, как это записать и передать дальше. <…> Если мы хотим получать результат, мы должны сделать так, чтобы наша критика была услышана широкой общественностью» (Беседа…, 2000: ).
Это особенно важно в период, когда подобные исследования могут противоречить «духу времени», которое исследователь анализирует и в котором живет.
Литература
Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика. М., 1983.
Бурдье П. За ангажированное знание. 2002 // . russ.ru/nz/2002/5/burd.htm.
Беседа Пьера Бурдье и Гюнтера Грасса. 2000 // / ist_sovr/other_lang/20000811.html.
Вайнрих X. Лингвистика лжи // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987.
Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М.,
1999.
Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999.
Жижек С. Власть и цинизм // Кабинет: картина мира. СПб., 1998.
Клемперер В. Язык третьего рейха. М., 1998.
Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1992.
Ортега-и-Гассет X. Идеи и верования. 1991 // . ru/library/ortega/idea/html.
Роллз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1995.
Серль Дж. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. М., 1979.
Надежда Клочко
Клочко Надежда Николаевна, доктор филологии, ассоциированный профессор кафедры славянских языков и литератур Латвийского университета.
Закончила отделение славянских языков филологического факультета МГУ, в Москве же защитила кандидатскую диссертацию по проблемам категоризации экспрессивов в современных славянских языках. В сферу научных интересов входит изучение славянских массмедиа в когнитивно-дискурсивной парадигме. Автор научных публикаций по проблемам метафорики славянских политических дискурсов, языку русских СМИ в Латвии, а также сопоставительных исследований по теории и практике перевода.
Автор пособий по политическому переводу и словарей политической лексики (на русском, латышском и чешском языковом материале), изданных в 2001–2004 гг. в Риге и Брно.
В 2002–2005 гг. координировала международный исследовательский проект по гуманизации славянских массмедиа. Преподавала в университетах Xорватии, Черногории и Швейцарии.
Член государственного Совета по проблемам образования национальных меньшинств в Латвии. Председатель национального комитета славистов. Член международной ассоциации переводчиков.
В настоящей книге представлена статья, которая ранее была опубликована в сборнике «Известия Уральского государственного педагогического университета. Лингвистика. Выпуск 17» (Екатеринбург, 2005).
Образы Европы в современных национальных политических дискурсах (на примере антропоморфной метафорики)
«Каждый век имеет свою специфическую политическую мелодию», – заметил О. Розенштокк-Хюсси [Розенштокк-Хюсси 1999]. В политических дискурсах мира конца XX – начала XXI в. «европейская мелодия» стала символом глобальных перемен в мире, а для стран, вышедших из-под влияния СССР, она зазвучала как национальный культурно-политический гимн. Идея «возвращения в Европу» пронизала все области национальной жизни на постсоветском пространстве: она стала категорией политического, социального, культурного и нравственного порядка. Иными словами, о географическом, историческом и культурном пространстве, называемом Европа, можно говорить сегодня как о концептуализированном в современном политическом дискурсе [Клочко 2005].
Специфика ментального объекта, стоящего за именем Европа, состоит в том, что он исходно многомерен и допускает множество интерпретаций [Апанович 2002]. В политическом дискурсе это имя выступает в значении, метонимически связанном с названием континента, и обозначает государственные и военно-политические образования, находящиеся на территории Европы. В зависимости от контекста под имя Европа попадают все европейские страны; государства Западной Европы; Европейский Союз; военный блок НАТО. Все эти номинации, связанные отношениями синекдохи, принадлежат к категории «общество», и к ним применима метафора «Общество есть личность» [Кобозева 2001]. Эта метафорическая модель позволяет переосмыслить политические события, происходящие в странах Европы, в терминах человеческих мотиваций, характеристик и деятельностей. Именно поэтому Дж. Лакофф и М. Джонсон назвали олицетворение «самой онтологической метафорой» [Lakoff, Johnson 1980: 33].
Согласно когнитивной теории метафоры [Lakoff 1993] метафоризация основана на взаимодействии двух структур знаний – когнитивной структуры «источника» (source domain) и когнитивной структуры «цели» (target domain). Область источника – это более конкретное знание («знание по знакомству», по определению Б. Рассела), представленное в виде образа. Сфера цели – менее ясное, менее определенное знание, в нашем случае оно представлено неоднородной денотативной зоной, включающей в себя «старую» и «новую» Европу, т. е. страны Западной Европы, составляющие ядро объединенной Европы (Kerneuropa), а также страны Центральной и Восточной Европы («евроновички»). Два последних региона в западноевропейском и российском политическом дискурсе часто совмещаются и даже отождествляются по фактору недавнего членства в европейских структурах, но с точки зрения политической и культурной истории между Центральной и Восточной Европой есть явные различия. Государства Центральной Европы многие столетия существовали как земли Австро-венгерской короны. «Аграм, Любляна, Будапешт, Краков и Прага, – писал в «Великих революциях» О. Розенштокк-Хюсси, – австрийские города» [Розенштокк-Хюсси 1999: 496–497]. Государства Восточной Европы в Австро-Венгерский Союз никогда не входили. После II мировой войны первые образовались как государства социалистического содружества, вторые вошли в состав СССР.
Каждая из зон различается по уровню сформированности демократических институтов, по экономическим, социальным и другим показателям. Значительные отличия наблюдаются и в сфере ментальности. «Европейскую цивилизационную матрицу составляют христианские ценности, но в ней можно выделить большие зоны специфичных культурных менталитетов, таких, например, как западно-, центрально-, и восточноевропейский, из которых особым образом выделяется балканский менталитет» [Лепавцов 1995: 195]. Разница менталитетов, политических традиций и экономических возможностей создают внутри нового геополитического пространства – ЕС – неоднородное смысловое поле, которое условно может быть представлено в виде триады: Западная Европа, Центральная и Восточная. Таким образом, государства Центральной и Восточной Европы, одновременно вошедшие в Европейский Союз, представляют собой разные политические, экономические и культурные сегменты последнего.
Осмысленная в терминах метафорической персонификации обозначенная триада может быть представлена следующим образом: «Западная Европа – это личность 1», «Центральная Европа – это личность 2», «Восточная Европа – это личность 3». Появление психологического конструкта «личность» в отличие от «человек» указывает направление дальнейшего исследования. Исходной посылкой для их дифференциации является мысль о существовании врожденных или благоприобретенных (сложившихся под воздействием социальных условий жизни) относительно устойчивых свойств (черт), которые выступают причиной поведения человека. Совокупность этих характеристик и есть личность, а их модификации и комбинации определяют типологию личности [Клонингер 2003]. Очевидно, что в исследовательском ключе для понятий однородной семантической области «личность», составляющих когнитивную структуру «источника» метафоризации, важными окажутся те характеристики, которые позволят говорить о дифференциации «личностей» 1, 2, и 3.
Иными словами, цель предлагаемой статьи состоит в том, чтобы по метафорическому следу воссоздать образы разных регионов объединенной Европы. Представляется, что обозначить, хотя бы контурно, в каких категориях оценивается новая Европа изнутри, то есть в европейских политических дискурсах (в том числе русском латвийском), и извне, то есть в дискурсе России, означает приблизиться как к пониманию новой формирующейся политической картины мира, так и к пониманию национальных логосфер – коллективных форм мысли и речи – в начале нового тысячелетия. Материалом для исследования послужили метафоры анторопоморфного кода, извлеченные из российских и русскоязычных латвийских СМИ за период с 2000 до конца 2005 г., а также корпус метафор из европейских политических дискурсов за тот же период.
Сравнение и противопоставление европейских регионов в русле персонифицированной метафорики предопределило обращение к такой категориальной структуре человеческого сознания, как оценка. Представление носителей языка о человеческой личности (в нашем случае Европа – это личность) укладываются (факторизуются) в различные виды оценочных суждений личности [Айзенк 1993]. Обобщенно личностная структура человека описывается, как известно, через факторы физической, этической, интеллектуальной и эстетической оценки [Петренко 1988]. Множество генерируемых на различных основаниях образов европейских регионов может быть в конечном счете сведено к этим четырем универсальным типам оценки. Таким образом, каждый член семантической триады должен быть рассмотрен в указанном аксиологическом диапазоне.
В связи с тем, что оценочные экстремумы двукомпонентны (Мягкова 2004) (полюса оценок задаются с помощью вербальных антонимов), денотативная трехкомпонентность объекта исследования приводит к проблеме интерпретации среднего члена триады. Он, как правило, тяготеет к одному из полюсов и получает соответствующие оценочные характеристики с индексами «почти» и «скорее».
Конкретное рассмотрение оценочных характеристик начну с определяющего в смысловом отношении фактора физической оценки, включающей указания на возраст. Политический возраст европейских государств нового тысячелетия определяется временем их вхождения в Евросоюз. Нейтральная семантическая оппозиция старые / новые члены ЕС при метафорической развертке оказывается гораздо более содержательной в эмоциональном плане. Метафорические определения стран Западной Европы как евростарожилов, евроаксакалов, евромудрецов несут в своих коннотациях знак уважения и признания заслуг «старой» Европы. Русское уважительно-шутливое старушка Европа коррелирует с немецким die Ami / Omi Europa, а также ласкательным именем Altchen и синонимичным Eherfrau.
Возраст «евроновичков» и «евроновоселов», к которым причислены страны Центральной и Восточной Европы, в 2004 г. вошедшие в Европейский Союз, оказывается весьма небольшим. Приобщившиеся к «большой» Европе (вступившие в НАТО) двумя годами раньше государств Балтии Польша, Чехия, Венгрия и Словения в русском, материковом и островном, политическом дискурсе названы стремительно взрослеющими: Успех европейской экономики создается сегодня быстро взрослеющими Чехией, Польшей, Венгрией, Словенией (Вести, 2004). В терминах метафоры зооморфного кода эти государства названы голубыми тиграми, быстро развивающимися под флагом Евросоюза (АиФ, 2005). Признание усилий, совершаемых этими странами в деле развития демократии и экономики, рождает уважение, и это моментально фиксируется российским и западноевропейским политическим дискурсом. Формирование положительного образа центральноевропейских государств стало первоочередной задачей и самих национальных mass media, логическим продолжением национальной идеи «возвращения в Европу». Накануне вступления Чехии в Европейский Союз в новогоднем обращении Президент Чешской Республики В. Клаус сказал: Год 2004 будет годом вступления Чешской Республики в Европейский Союз… С этой минуты закончится формальный государственный суверенитет Чешской Республики, поскольку мы станем частью постоянно расширяющегося и приобретающего все больше правомочий европейского наднационального целого… Попытаемся стать сильнее, преодолев… свои традиционные разногласия и взаимное недоверие… С таким пониманием ситуации и чувством собственного достоинства постараемся сотрудничать с партнерами по Евросоюзу как равные с равными. Попытаемся не жаться в уголке и не прятаться за других (Lid. Nov., 2004).
Создание положительного образа центральноевро-пейских государств в национальных СМИ может рассматриваться как целевой инструмент при формировании коллективной когнитивной установки (концептуальной схемы) «государства Центральной Европы – сегмент единого положительного образа Европы».
Совершенно иная в семантическом и эмоциональном плане картина вырисовывается в российском политическом дискурсе при обращении к третьему региону объединенной Европы – восточному, включающему Балтию. В силу определенных политических и геополитических причин, своего видения истории, дискриминационной политики по отношению к русским (русскоговорящим), проживающим в этих странах, несформированности демократических институтов, отсталой экономической системы и т. д. в этом дискурсивном пространстве действует негатив особой силы. Спектр характерологических предикатов подтверждает это: балтийские страны в русском политическом дискурсе названы «проблемными» новичками ЕС; политическими недорослями; резвящимися демократическими недоростками, испытывающими терпение «большой» Европы; евромитрофанушками. Образ капризного, заигравшегося в националистические игры ребенка частотен в российском политическом дискурсе при обращении к проблемам балтийского региона: Балтийские страны капризно канючат: «Да-а-айте игрушку, ну да-а-айте игрушку». Игрушка для них – признание Европой факта оккупации стран Балтии Россией (Труд, 2005). Семантика политической незрелости стран Балтии представлена и в других метафорических руслах, например: Глобальные тренды и готовность европейских военных структур к военно-террористическим актам обсуждали заслуженные страны-генералы, полковники, капралы, а также балтийский евроюгенд (МК, 2005).
Физические характеристики человека включают в себя данные о состоянии его здоровья. Метафорика с референцией физического и психического нездоровья балтийских политиков, зафиксированная в российском и особенно в русском политическом дискурсе Латвии, отражает ситуацию политической и межэтнической напряженности на этом участке Европы. Явную оценочную компоненту несут в себе номинации такого рода: страны и правительства, подверженные вирусу русофобии; политические уродцы, страдающие мегаломанией; балтийские карлицы, травмированные национализмом и под.
Приведенный ряд предикаций, репрезентирующих образ Латвии в русском политическом дискурсе, не противоречит семантике представлений балтийских «евроновичков» в западноевропейских дискурсах. Однако уровень эмоциональной напряженности, создаваемый метафорическими референциями в последних, отмечен гораздо меньшей степенью агональности. Семантика отставания, эксплицированная в русском дискурсе как отставание в психическом развитии (твердолобое правительственное быдло; фашиствующие недоумки; больные на голову нацики), в дискурсах Западной Европы актуализирована в русле спортивной и образовательной метафорики. Ср.: В европейском пелатоне по-прежнему ведут Франция и Германия (Deutsche Bauer, 2004); страны Центральной Европы названы догоняющими, балтийские страны – плетущимися в хвосте гонки. Действие закона политической корректности в значительной степени смягчает возможный резкий тон политических дискурсов относительно принятых в ЕС «проблемных» новичков. В качестве примера можно привести соотнесенное со странами Балтии ласкательное имя der, das Doofi, которое получило распространение в немецкой школьной среде и имеет сочувственное и утешительное значение, поскольку им обозначают самого слабого ученика в классе. Ср. русск.: Брюссель выносит на повестку дня вопрос о восточноевропейских двоечниках, так и не пробившихся в список новых претендентов на принятие в ЕС (МК, 2005). Ср. также семантику отставания, переданную в прецедентном высказывании: Латвия – са-а-амое слабое европейское звено (Час, 2004).
Фактор интеллектуальной оценки, востребованный, как показывает исследование, во всех рассматриваемых дискурсах, имеет свои специфические национальные характеристики. Так, например, в категориальной структуре восприятия балтийского «чужого» русское коллективное сознание акцентирует внимание на провинциальности, ограниченности кругозора политиков-прибалтов, ср.: балтийские политические дички, балтийская деревенщина, хуторская серость.
На противоположном полюсе интеллектуальной оценки в российском политическом дискурсе актуализированы блеск немецкой философской мысли, французская дипломатическая изысканность, брюссельский столичный лоск, имперское мышление островитян (англичан) и т. п. Ведущие европейские государства названы политической элитой Евросоюза, его сливками, завсегдатаями европейского интеллектуального клуба.
Специфической особенностью политических дискурсов Центральной Европы является целевое, последовательное формирование ими положительного образа своего региона, при этом подчеркиваются те качества нации, которые «позволяют» ей называться европейской. Ср.: Мы – народ культивированных гуманистов, в основании европейской цивилизации лежит и наш камень, имя которому чешская Реформация (Lid. Nov, 2001); Как бы мы ни относились к войне (в Ираке), мы должны выполнить свой долг перед Европой (Dnes, 2002).
Формирование образа Латвии как части европейского пространства в национальных mass media происходит на совершенно других основаниях. Латышские СМИ акцентируют в своем дискурсивном пространстве мифологемы «народа – сироты» и «поющей нации». Гиперболизация в русском дискурсе Латвии этнической самооценки титульной нации и имплицитное указание на бытующие стереотипы, сложившиеся у русских в отношении латышей, задают дискурсивному пространству иронический модус, ср.: Самая поющая нация тянет одну только песню: «Мы не такие, как все, мы – особые, мы – народ-сирота, обиженный, угнетенный, несчастный. И потому пожалейте нас, помогите, кто чем может. Лучше в евро» (Час, 2003).
Карикатурный образ латвийского (по сути – латышского) политика-европейца формируется в русском политическом дискурсе через апелляцию к комплексам малого народа (подобострастие, лесть, двуличность). Те же качества приписываются Латвии как политическому субъекту на европейской арене. Непостоянство, рождаемое в результате вечного поиска «сильного крыла», стремление угодить более сильному и богатому хозяину, холопство, униженный, просительный тон политического общения представлены в русском политическом дискурсе саркастически: С одной стороны, Латвия – член ЕС, и Брюссель – наша столица. С другой, США – главный союзник Латвии. Но вот беда: между Брюсселем и Вашингтоном существуют бо-о-льшие разногласия. Латвии придется кланяться на два направления: и Брюсселю, и Вашингтону. Но кланяться так, чтобы никому, простите, зад не показать, очень трудно. Нашему министру иностранных дел придется продемонстрировать высший пилотаж (Час, 2005).
Паремиологические метафоры презентируют в российском дискурсе Латвию после вступления в ЕС в кардинально измененном облике: ЕС уже догадывается, что пригрел на своей груди маленькую, но очень ядовитую змейку (Огонек, 2004). Проблемная, но маленькая и тихая страна оказалась не только агрессивна по отношению к России, но и не особенно чистоплотна, этакий хамелеончик (Известия, 2005). Латвия, Литва и Эстония, которые в российском дискурсе часто воспринимаются нерасчлененно, представлены в образах политического хамелеона, двурушника, человека с двойным дном, чей Бог – Двуликий Янус.
История показала, что система политических договоров и альянсов способна разрушать представления об этических нормах существования государств. Но нравственная асимметрия, этическая диффузность личности и государства в рамках уже выбранной системы жизни обществом никак не приветствуется. Верность избранному пути, политическую бескомпромиссность демонстрируют центральноевропейские государства. Реализация европейской стратегии дальнейшего развития этих государств осуществляется на основе сознательной рефлексии – постоянного целевого обращения к идее европейского единства. Даже болезненный для малых стран Европы вопрос о Европейской конституции, задевающей их самостоятельность, решается в политической логосфере Центральной Европы с позиций верности «европейской клятве»: Не соглашаться надо сейчас. После принятия Конституции нам ничего другого не останется, как закрыть рот и шагать в ногу (Lid. Nov., 2005).
Очевидно, что балтийский (восточноевопейский) этический абрис не совпадает с центральноевропейс-ким. Он резко контрастирует и с западноевропейским, особенно заметные расхождения наблюдаются в области семантической линии «дающий – берущий» («подающий – просящий»). Не вдаваясь в суть вопроса об «альтруизме» Запада по отношению к остальному европейскому пространству, отмечу, что образ «дающей» Западной Европы в центрально-и восточноевропейских дискурсах представлен как безусловно положительный, ср.: Западная Европа – наша кормилица (Jut. List, 2003). В русском дискурсе этот образ формируется такими метафорами, как страны-финансисты, страны-доноры. Противоположный аксиологический полюс представлен метафорами страны-попрошайки, страны-нищенки.
В связи с необходимостью для государств Западной Европы идти на определенные экономические жертвы – Чтобы Восток догнал, Западу надо притормозить» (Le Monde, 2003) – в российском политическом дискурсе звучат нотки скепсиса и тон сочувствия «старой» Европе: Два миллиона польских крестьян, двадцатипроцентный уровень безработицы в стране, разбитые дороги, музейная стальная и горнодобывающая промышленность – все это делает Польшу крупнейшим «едоком» за европейским столом (Коммерсант, 2004). Потребительское отношение к «дающей» Европе акцентировано и в самих центральноевропейских дискурсах. Так, например, в чешском дискурсе конца 90-х политический выбор в пользу вступления в НАТО был прокомментирован следующим образом: Мы вступаем в союз с Германией, но надо признать, что это брак по расчету (Dnes 2002).
«Экономические» репертуарные позиции европейских регионов маркированы в политических дискурсах соответствующим образом, что же касается политических и нравственных, то они определены не столь четко, ср.: Большая Европа делает вид, что ничего не знает о государствах-мичуринцах, делающих из белых людей негров (неграждан) (Лит. Газ., 2004). Таким образом, этические характеристики государств, метафорически зафиксированные в политических дискурсах, позволяют говорить о неоднозначной атрибутивной типажности Европы. Подобно тому как человеческое сознание полифонично в смысле множественности Я, полифоничен и образ Европы, представленный в диапазоне от «идеального» до «безобразного».
Несостоятельность Латвии (шире – Балтии) в этическом пространстве Европы предопределила одну особенность: в политических дискурсах России и Западной Европы почти отсутствуют прямые эстетические характеристики региона. Два других члена триады (Западная и Центральная Европа) в этом отношении не обделены. В центральноевропейских дискурсах образы бывших социалистических стран представлены в каузально-генетическом русле метафорики. В центральноевропейских дискурсах чрезвычайно продуктивной оказалось метафорическое русло с референцией бала, танца, концерта – того кортежа денотативных дескрипторов, которые ассоциативно связаны в сознании народов Центральной Европы с австро-венгерским периодом их истории. Ср.: На европейский танец приглашены Польша, Чехия, Словения и Венгрия (Lid. Nov., 2002); На европейский паркет выходит красавица Венгрия (Polityka, 2002); Нас объединяют венские вальсы (Dnes, 2002). Политическая ситуация обсуждения западноевропейскими государствами возможности принятия в Евросоюз государств Центральной и Восточной Европы обозначена в словенском дискурсе как «касание Европы блестящим шлейфом еще не вошедших, но претендующих на вхождение в ЕС стран» (Ljubljna, 2001).
Специфические метафорические русла, сложившиеся в центральноевропейских дискурсах, отражают «кровное» и культурно-историческое родство государств. Австро-Венгерский союз, прочно связавший на три века теперешних членов ЕС – Чехию, Венгрию, Словению и Польшу, – создал у этих наций особое ощущение семейного сходства, отсюда частотные номинации центральноевропейских стран в русле «родственной» метафорической парадигмы: красавицы-сестры. Вспомним, что О. Розенштокк-Хюсси секрет Австрии, «интернациональной нации», обозначил как «брак между своими».
Спектр эстетической оценки Западной Европы в русском политическом дискурсе чрезвычайно широк: от безусловного плюса до абсолютного минуса: красавица Европа и зажравшаяся, ленивая, бюргерствующая, равнодушная Европа. Эстетические характеристики Западной Европы в русском политическом дискурсе часто даются через актуализацию негативного образа «проблемных» евроновичков, ср.: Гордая, надменная Европа снизошла до общения с политической деревенщиной (Труд, 2002); Тело бывшей континентальной красавицы располнело и подурнело (Лит. Газ., 2004). Та же семантика эмоционального отторжения теперешнего европейского (конкретней – «евросоюзного») статуса бывших союзных республик прослеживается не только в антропоморфном, но и в других метафорических руслах, ср.: Не всем в Европе пришелся по душе латвийский политический серый горох (Час, 2005); Европейская клумба заросла балтийскими сорняками (Бизнес и Балтия, 2005); Давно ко всему привыкшая Европа в шоке от латвийских националистических игрищ (МК, 2005).
Весьма непривлекательный политический образ балтийского региона в русском коллективном сознании вызывает недоумение по поводу его «нужности» Европе. Ставящаяся под сомнение разумность такого шага, как принятие в состав Европейского Союза «проблемных» новичков, вызвала к жизни метафорику с референцией сомнения, ошибки, ср.: Одним махом присоединить явно убыточные и политически нездоровые страны нельзя назвать никак иначе, как дурь начинающего коллекционера: всего и много, потом разберемся (АиФ, 2005). Европа напоминает сегодня пьяного от счастья человека, но что будет, когда придет отрезвление? (там же).
В конфликте «европейского» и «действительного латвийского» эксплицируется близость политических картин мира в русском и западноевропейском политических дискурсах. Явные расхождения в ценностных ориентациях «новой» и «традиционной» Европы вызывают негативную реакцию последней, которая фиксируется в метафорическом поясе политического дискурса: Сам Дьявол толкает наших политиков к пространственному расширению ЕС (Deutsche Bauer, 2004); Последствия «большого взрыва» для старой доброй Европы могут стать смертельными (Le Temps, 2004); Дальнейшее расширение на восток и юго-восток означает дуэль с самими собою (Blick, 2004).
Примечательно, что западноевропейский дискурс прибегает к яркой метафорической образности при помощи актуализации прецедентных фраз, например, из поэзии Бодлера: Ждем беды от увлеченья идеей ЕС (Le Temps, 2004); После принятия такой конституции нам неизбежно предстоит собрать цветы зла (Le Monde, 2004). Филологическое гурманство в семантическом поле «страны ЕС» проявляется и в англоязычных СМИ, характеризующихся довольно сдержанной метафорикой. Особенности англосаксонского воображения – черные тона, «пышная, причудливая, «пьяная» образность, поддерживаемая парами опиума и алкоголя» (Н. Гумилев) – оказываются запечатленными в политическом дискурсе, ср.: Над вопросом о принятии в Евросоюз Турции заходили черные тучи Нибелунгов (The Observer, 2003); Европейская Конституция станет тем лиловым морем, в котором мы утонем, благословляя идею Евросоюза (The Independent, 2004). Безудержно расширяющаяся Европа в русле антропоморфной метафорики названа non satiate (лат.) – ненасытившейся (The Telegraph); пьяной от геополитических успехов (The Observer, 2004). Приведенные примеры иллюстрируют справедливость слов А.А. Потебни о том, что «поверхность языка всегда более-менее пестреет оставшимися снаружи образцами разнохарактерных пластов» [Потебня 1958: 31]. Очевидно, что и в национальных политических дискурсах в зонах семантического и эмоционального напряжения воспроизводятся собственные содержательные формы.
Примечательно, что в создании западноевропейской негации почти не используется ирония. Иными словами, недовольство проблемами, связанными с расширением Евросоюза, Западная Европа выражает конкретно, но и весьма корректно, не нарушая принципов толерантности, гуманизации и интеллектуализации политической логосферы.
Исследованный материал позволяет сделать некоторые выводы относительно образов европейских регионов, составляющих единую Европу. Являясь политической и культурной константой политической логосферы, Европа в дискурсах нового тысячелетия меняет свои идеологические очертания. Региональная и культурно-историческая дифференциация, наложившаяся на современную политическую ситуацию на континенте, предопределили трехкомпонентность образа Европы (Европейского Союза). Каждая из составляющих единого образа может рассматриваться как особый мир, обладающий собственной системой интерпретаций, и прочитываться как текст в тексте.
Распределение оценок по полюсам соответствует коллективным представлениям о близости / отдаленности объекта от социальных эталонов. Полюс положительного образован предикатами, описывающими в образной форме концепт «Западная Европа». Через призму категории «личность» ей приписываются физическое и психическое здоровье, социальная активность, альтруизм, здоровый рационализм, интеллигентность, понимаемая как форма внутренней духовности и выражающаяся в ответственности и чувстве сопричастности ко всему происходящему в мире, чувство личной вины за прошлое континента. Метафорические модели, «обслуживающие» левый член триады, обладают одновременно стабилизирующим свойством и мощным креативным потенциалом. Соответствующая создаваемая метафорикой реальность прочитывается как «место, где людям хорошо».
Полюс негации соотнесен с «проблемным» для «большой» Европы балтийским регионом. Последний представлен лингвистически мощно в силу несоответствия современным коллективным представлениям о демократичности и гуманизме – основных составляющих современного цивилизованного общества. Балтия, прежде всего Латвия, в русле антропоморфной метафорики рисуется как личность с весьма ограниченным кругозором, политизированная и агрессивная, изворотливая, непостоянная, страдающая комплексами неполноценности. «Этноцентрическая» метафорика создает широкий простор не только для конкретизации образа этого региона Европы, но и задает высокую степень диверсификации дискурса. Индуцируемая образом реальность – место, где не соблюдаются права человека, – становится сигналом сильного межэтнического эмоционального напряжения.
Эмоционально-оценочная компонента концепта «Восточная Европа» имеет в российском и западноевропейском политических дискурсах одну и ту же векторную направленность. Это свидетельство того, что у России и стран Западной Европы, по данным политических дискурсов, сегодня намного больше точек соприкосновения, чем в конце минувшего столетия (Kloeko 2004). Россия и Евросоюз не являются сегодня политическими противниками (Европа улыбается России улыбкой Шредера и Ширака. (The Guardian, 2004)). Тем не менее стереотипическое этноцентрическое представление Балтии в российском и особенно в русском латвийском политическом дискурсе позволяет констатировать тот факт, что русский человек по-прежнему остается Homo Militans – человеком вечной войны.
Аксиологически полюсное представление образов крайних членов триады отражает специфическую ментальную характеристику и эмоциональную константу русских: окружающий мир оценивается в терминах «Бог или Червь», tertium non datur – третьего не дано.
Средний член триады, идентифицируемый как «Центральная Европа», – наиболее динамичен в семантическом и эмоциональном отношении как в русских, материковом и островном, так и в западноевропейском дискурсах. Метафорический корпус, формирующий представления об этом регионе Европы, можно определить как упорядоченную сеть дуалистических представлений, которые тем не менее в основном тяготеют к положительному полюсу аксиологического пространства. Персонифицированный образ Центральной Европы рисуется в двух ракурсах: как единый, обобщенный, и как интегративный, состоящий из нескольких в одинаковой степени привлекательных образов соседних стран, объединенных одним культурным и политическим прошлым, переживающих сходные проблемы преодоления политического наследия и динамично развивающихся. В обобщенном образе Центральной Европы акцентированы качества быстро взрослеющего, умного, достойного, но бедного человека, которому предстоит преодолеть болезни роста. Он ясно осознает стоящие перед ним цели, готов упорно трудиться, чтобы «выбиться в люди», кроме того, он хорошо помнит о своем происхождении и гордится им. Его внутренний мир сложен и противоречив: он осознает себя как европеец, оставаясь при этом поляком, чехом, словенцем и т. д.; он постоянно рефлексирует по поводу своей зависимости; изживает в себе комплексы «маленького» человека и культивирует в себе такое качество, как человеческое достоинство. В его мире важны не только политика и дело, но и некий романтический ореол. Пространство, задаваемое образом жителя Центральной Европы, оценивается в аксиологическом ключе Западной Европы как место, в котором есть проблемы, но оно может быть обозначено как достойное для человеческого существования. Как никакой другой центральноевропейский дискурс отмечен перспективным мышлением. Корпус метафорики здесь подчинен требованиям гуманизации постсоветских mass media. Центральноевропейская образность в полной мере подтверждает мысль о том, что изменяющийся мир требует приложения нравственных усилий.
Литература
Айзенк Г.Ю. Количество измерений личности: 16, 5 или 3? – критерии таксономической парадигмы // Иностранная психология. 1993. Т. 1. № 2. С. 31–44.
Апанович Ф. Образы России и Европы в прозе и дневник Михаила Пришвина. Катовице, 2002.
Клонингер С. Теории личности. Познание человека. СПб., 2003.
Клочко Н. Внешний мир и внутренний порядок современных славянских политических логосфер. Прага, 2005.
Кобозева И.М. Семантические проблемы анализа политической метафоры // Вестник МУ. 2001. Сер. 9. Филология. № 6. С. 132–149.
Лепавцов A. Ко може гарантира сигурноста на Балканот. Скоще, 1995.
Мягкова Е.Ю. Эмоции в сознании носителя языка // Языковое сознание: теоретические и прикладные аспекты. М.; Барнаул, 2004. С. 86—101.
Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. М., 1989.
Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. М., 1958. Т. 1.
Розенштокк-Хюсси O. Великие революции. Автобиография западного человека. Нью-Йорк, 1999.
Klocko N. Kulturni zvlastnosti modernich slovanskych politickych logosfer. Praha, 2004.
Lakoff G. The contemporary theory of metaphor. Metaphor and thought / Ed. By A. Ortony. Cambridge, 1993.
Lakoff G., & Johnson M. Metaphors we live by. Chicago and London, 1980.
3.4. Политическая лингвистика в Азии, Африке, Океании и Латинской Америке
В истории становления и развития политической лингвистики вне Европы и Северной Америки прослеживаются две тенденции.
Первая характеризуется значительным влиянием западных теорий и активным их внедрением в исследовательскую практику лингвистов, работающих в соответствующих регионах. В основном это относится к странам, ориентировавшимся на рыночную экономику и политическое развитие по западному образцу. Теории анализа языка политики в рамках дискурс-анализа, когнитивной лингвистики, контент-анализа получили широкое распространение в Южной Корее (Й. Ву, Т. Ким, Й. Ли, К. Ли, Й. Так), Сингапуре (А. Ви, Е. Куо, А. Чой), Тайване (Дж. Вэй, Й. Гонг, П. Куо, LLL Хуанг, Р. Ченг), Австралии и Новой Зеландии (Дж. Бейн, К. Статс, Н. Чабан).
Вместе с тем ряд национальных научных школ выпали из этого ряда. Например, совершенно особое развитие политическая лингвистика получила в Японии (М. Ида, Й. Ито, Т. Макита, Уемура). Западные специалисты склонны считать японские исследования по политической коммуникации теоретически ограниченными. Их удивляет возможность построения научных теорий на основе концептов «стыд» или «сохранение лица». Однако сами японские специалисты объясняют невысокую популярность западных теорий их малой эвристичностью в контексте японской культуры. К примеру, использование понятия «лидеры общественного мнения» при изучении политической коммуникации в Японии априори нецелесообразно: японцы избегают личных разговоров на политические темы, чтобы предупредить возможное расхождение мнений и межличностную конфронтацию. По мнению японских лингвистов, для изучения политической коммуникации в Японии не подходят европейские и американские теории по воздействию СМИ на общество или правительство. Так, Й. Ито [Ito 2000] предлагает взамен существующих западных теорий использовать при анализе японских СМИ «триполярную модель кууки» (tripolar kuuki model): «правительство – СМИ – общество». Согласно этой модели информационное давление на один из компонентов триады возможно только при наличии особой атмосферы согласия (kuuki) между двумя остальными компонентами.
Аналогичные мысли о невозможности механистического применения западных теорий к азиатскому политическому дискурсу высказывались и другими исследователями. По мнению китайского специалиста Г. Чу [Chu 1988], в западных исследованиях политической коммуникации редко учитывается культурная переменная. Культура часто рассматривается как некая константа (по западному образцу), которую можно не принимать во внимание. Также исследователь указывает на то, что доминирование в западной лингвистике квантитативных методов ограничивает круг исследуемых вопросов. На Западе преимущественно исследуются вопросы, которые можно решить с помощью статистических методов, в то время как изучение политического дискурса включает в себя более широкую проблематику.
Своеобразно сложилась история исследования политического языка в Китае, в чем-то напоминающая аналогичный процесс в нашей стране. В период холодной войны китайские исследователи анализировали структуру, функции и эффективность китайской коммунистической пропаганды, часто в сравнении с риторическими «образцами» советских журналистов и политиков. С 80-х годов XX века в китайскую науку о языке начинают просачиваться демократические веяния и западные теории. Если в предыдущий период лингвисты использовали в качестве материала для анализа официальные тексты, то в последнее время становится возможным изучение языковых механизмов идеологического контроля в Китае, сравнительный анализ политической коммуникации в Китае и капиталистических государствах, исследование коммуникативной «борьбы между рынком и коммунизмом» за влияние на СМИ, изменения в политической коммуникации после событий на площади Тяньаньмэнь и др. (Й. Жао, Й. Жу, Ж. Гуо, К. Ли, К. Линг, Ж. Xе, Й. Чан, Т. Чанг).
Следует принимать во внимание, что некоторые направления политической лингвистики, получившие развитие в Европе и США, невозможны в отдельных азиатских странах ввиду особенностей законодательства и политических систем. К примеру, в Китае и Сингапуре нельзя проводить исследования общественного мнения, направленные на выявление восприятия рядовыми гражданами политических лидеров или кандидатов на государственные должности. Свои ограничения накладывают традиции освещения политических событий в СМИ.
Наконец, в некоторых странах только начинается процесс становления политической лингвистики как области лингвистических исследований. Примером может служить Индонезия, в которой долгое время исследования политического языка были затруднительны из-за жесткого цензурного контроля, существовавшего при президенте Сухарто. После падения тоталитарного режима в 1998 г. стали появляться исследования, ориентированные на объективное изучение роли СМИ в демократизации общества (К. Верельст, Е. Газали, Л. д'Аененс, К. Сен).
Показательно, что часть ведущих исследователей, работающих в названных мегарегионах, являются выходцами из Европы и Северной Америки или получили образование вдали от родины. Наиболее яркий пример – это Анна Вежбицка, которая уже много десятилетий работает в Австралии. Можно вспомнить также, что научная биография профессора из Новой Зеландии Натальи Чабан начиналась на Украине, а целый ряд исследований по пакистанскому, иранскому и арабскому, латиноамериканскому политическому дискурсу были созданы под влиянием идей, усвоенных их авторами в годы обучения в зарубежных университетах.
В настоящем разделе представлено две работы. Одна из них, написанная Л. Ви (Сингапур), служит примером «критического» исследования политических метафор на основе концепции П. Бурдье. Другая статья – результат работы группы исследователей из Австралии и Новой Зеландии (Н. Чабан, Дж. Бейн, К. Статс) – представляет собой пример исследования политической картины мира с методологических позиций теории концептуальной метафоры.
Лайонел Ви (Lionel Wee)
Лайонел Ви – профессор национального университета Сингапура, специалист в области политической коммуникации, активно занимается исследованием метафорики и интертекстуальности в политической коммуникации.
Предлагаемая статья посвящена исследованию интертекстуальных метафор, используемых при обсуждении феноменов сингапурской культуры, но восходящих к американской культуре как сфере-источнику. Показательно, что в данном исследовании методология, созданная европейскими и американскими специалистами (П. Бурдье, Дж. Лакофф, Н. Квин и др.), используется для изучения политического дискурса Сингапура. В своей статье автор убедительно показывает, что культура США является ведущей сферой-источником для интертекстуальных метафор в сингапурском политическом и медийном дискурсе. Лайонел Ви отмечает прежде всего американское влияние на родной для него дискурс, однако ознакомление с текстом статьи позволяет обнаружить и такие черты, которые характерны только для восточной культуры.
Нарушение языковой схемы? Экзонормативные метафоры в политическом дискурсе Сингапура (перевод С. Л. Кушнерук)
1. Мысль П. Бурдье (Pierre Bourdieu) об отказе от независимой лингвистики [Thompson 1991: 4] в пользу модели, которая в обязательном порядке обращается к вопросам власти, конфликта и социального неравенства [Lareau 2003: 275], получает заметное развитие в данной работе при анализе политического дискурса. В центре внимания работ П. Бурдье (1973, 1977 а, b, 1990, 1991) находится понятие о том, что личность приобретает схему поведения в сфере, где признаются специфичные формы капитала.
Схема поведения – совокупность отношений к обществу, которые человек подсознательно приобретает. Как таковые ценности, точки зрения, являющиеся составной частью схемы поведения, обычно не подвергаются сознательному осмыслению. Разумеется, любая схема поведения неизбежно усваивается в контексте определенного социального окружения или сферы деятельности. В этом плане схема поведения человека отражает социальные условия, при которых она создается. Еще более дискуссионной является идея П. Бурдье о том, что человек всю жизнь будет стремиться продолжить следы ранее возникших схем поведения, оказывая воздействие на основные формы возможных последующих социальных траекторий.
Это безупречно подводит нас к мысли о капитале. П. Бурдье указывает на то, что существуют различные формы капитала: экономический (т. е. материальные богатства), символический (престиж или честь) и культурный (особое мастерство, знания). Своего рода двигателем большинства видов социальной активности является желание деятелей аккумулировать различные формы капитала в зависимости от сфер, в которых они вступают в конкуренцию. Например, в сферах литературы или живописи художники (деятели) могут ставить цель преобразовать умение рисовать (культурный капитал) в известность (символический капитал) и в конечном счете – в деньги (экономический капитал). Социальная жизнь понимается как совокупность многочисленных пересекающихся и иерархически упорядоченных сфер, поскольку отдельная сфера деятельности редко существует изолированно или является абсолютно независимой. В этом смысле живопись подвержена влиянию других сфер, таких как образование, бизнес или политика [Thompson 1991: 16]. Однако чем более независимой является сфера, тем большей способностью к установлению собственной логики регулирования она обладает, определяя, кроме всего прочего, релевантные виды капитала, обратимость различных его форм, а также цели, на которые должны быть ориентированы деятели. И наоборот, чем выше степень ее зависимости, тем с большим сопротивлением может протекать реорганизация, либо она объединит позиции с доминантной или более влиятельной сферой. Это приводит П. Бурдье к предположению о том, что политика представляет самую влиятельную сферу («сфера власти») в любом обществе, так как она является «источником иерархически выстроенных отношений власти, которые структурируют все другие сферы» [Jenkins 1992: 86].
В рамках дискурса выбор говорящими языковых средств можно рассматривать как показатель лингвистической схемы поведения, то есть предрасположенность к использованию специфических высказываний, особенно если их употребление связано с воплощением общепринятых культурных сценариев [Goddard 1997; Wierzbicka 1994, 1998] или моделей [Quinn 1991]. Поскольку окружение, в которое попадает языковая единица в той или иной сфере, находится в большой зависимости от имеющегося у продуцента типа капитала [Bourdieu 1977 a, 1991], говорящий часто регулирует свою языковую деятельность соответствующим образом. Последнее замечание представляет особый интерес в контексте жизни Сингапура, где правительство традиционно оказывает сильнейшее влияние на многие аспекты его существования. В последнее время Сингапур на самом деле характеризуют как «государство-няньку» («nanny state») [Mauzy, Milne 2002: 35]. Ли Куан Йю (Lee Kuan Yew), первый премьер-министр
Сингапура, сказал следующее: Мы бы не были там, где находимся сейчас, не осуществили бы экономический прогресс, если бы не вмешивались в личные дела каждого – кто твой сосед, как ты живешь, какие звуки издаешь, как плюешь и где плюешь, на каком языке говоришь… Коренные социальные и культурные изменения привели нас к этому.
Эти слова наводят на мысль о том, что один и тот же речевой оборот, вложенный в уста политика и не политика[8], будет проявлять любопытные отличия, поскольку политические лидеры находятся в более приоритетной позиции, имея возможность «вмешиваться», чтобы достигнуть желаемых «социальных и культурных изменений».
Таким образом, в настоящей статье внимание сфокусировано на ряде метафорических высказываний, которые заставляют размышлять о схеме поведения сингапурцев, а также выявить интересные отличия в зависимости от «политического» или «неполитического» характера использования речевых оборотов, с учетом того, что политический деятель обладает сравнительно большим символическим капиталом. В них обозрима проявленная тенденция рассматривать американские общественные институты и людей как источники метафорического переноса (то есть референтные модели) таким образом, что, вслед за ними, метафорические мишени[9] (то есть местные аналоги) приобретают как культурный, так и символический капитал. Следовательно, выход за пределы Сингапура и обращение к видным общественным институтам и деятелям Запада для собственного обоснования формирует серьезную экзонормативную схему поведения.
2. Экзонормативные метафоры в дискурсе Сингапура.
Примеры метафорических высказываний в (1), приведенные ниже[10], встречаются в дискурсе Сингапура для описания национально-культурной объективной реальности в терминах инокультурного (американского) бытийного дискурса. Примеры (1 а – д) взяты из различных газет и радио передач, высказывания (1 е – и) приводятся из иных описаний без указания времени создания и конкретных текстовых источников.
(1) а. [ «The New Paper», 8 мая 2004 г. Статья посвящена возможному избранию нового ведущего для Singapore Idol. В настоящее время ведущим American Idol является Райан Сикрест (Ryan Seacrest)]: …средства массовой информации ранее указывали на диджея «Perfect 10» Дэниэля Онга (Daniel Ong) как возможную местную версию Райана Сикреста. б. [ «City Weekly», 31 июля 1998]: Сингапурский Элвис (Elvis), Уилсон Дэвид (Wilson David), играет, поет и танцует в новой постановке музыкальной драмы театра «Action Theatre». в. [Реплика Брайана Ричмонда (Brian Richmond), диджея радио, в передаче «Завтрак с Брайаном» (Breakfast With Brian), 6 августа 1998 г.]: Сингапурский Ричард Маркс (Richard Marx) – Шон Де Мелеу (Shawn De Mello). г. [Рекламный ролик (12 августа 1998 г.) очередной серии документального фильма In Formal анонсирует сенсационный материал о молодом местном игроке в гольф, который описывается как: Сингапурский Тайгер Вудс (Tiger Woods). д. [ «Today», 13 октября 2004]: Статья о Расселе Вонге (Russel Wong), местном фотографе, называет его «азиатским Ричардом Аведоном» (Richard Avedon). е. Популярного (ныне покойного) певца Рахима Хамида (Rahim Hamid) в неформальных кругах зовут сингапурским Натом Кингом Коулом (Nat King Cole). ж. Хо Па Вилла (Haw Pa Villa) – сингапурский Диснейленд (Disneyland): Хо Па Вилла – тематический парк с персонажами из китайской мифологии – описывается как сингапурская версия Диснейленда с очевидной целью привлечь больше посетителей. з. Сиглап (Siglap) – сингапурский Сан-Франциско: В последних новостных сообщениях об общественных фондах, чья работа направлена на дальнейшее развитие частных жилых кварталов, район «Сиглап» характеризуется как сингапурский Сан-Франциско, что указывает на холмистый ландшафт и высокую плотность населения. и. Популярная певица Мелисса Сайдек (Melissa Sidek) описывается как сингапурская Тина Тернер (Tina Turner).
Подобные примеры имеют широкое распространение в дискурсе Сингапура – их можно встретить в радиопередачах, телевизионных программах, газетах. Обращение к ним свидетельствует о том, что сингапурцы, работающие в СМИ, стремятся представлять своих соотечественников и общественные институты в номинациях, связанных с соответствующими американскими реалиями, особенно в публичных заявлениях. Элвис Пресли, конечно, является легендой американского рок-н-ролла. Менее легендарный Ричард Маркс – другой американский певец. Тайгер Вудс – самый известный и успешный игрок в гольф и т. д.
Тенденция к использованию американского бытийного дискурса как источника метафоризации предполагает высокую степень культурной экзонормативности, когда существование национально-культурной реальности оправдано в той мере, в какой оно является интерпретацией американского бытия. Становится очевидным, что в Сингапуре по крайней мере существуют повторяющиеся метафоры, которые последовательно используют американские источники для характеризации сингапурских мишеней. Такие высказывания предполагают наличие особой манеры речи, характерной для национального дискурса в языковом сообществе Сингапура. Это условие приобретает значимость, поскольку нет оснований полагать, что подобные высказывания регулярны в неформальном дискурсе отдельной личности. Другими словами, они не употребляются простыми сингапурцами в повседневном межличностном общении, а используются общественными фигурами (например, диджеями или журналистами) при обращении к широкой аудитории.
Существование особой манеры речи, или языковой схемы, очевидно, если сравнить примеры (1) с другими возможными высказываниями. Самыми распространенными речевыми оборотами в примерах (1) являются «Сингапурский X», «X Востока / Азии», где X – переменная, означаемым которой может стать символ инокультурного происхождения. Другие возможные схемы, например в (2), оказываются менее востребованными.
(2) а. X местного пошиба (The poor man's X). б. Наш ответ X (Singapore's answer to X). Схема (2а) может использоваться для диффамации метафорической мишени, которая качественно уступает источнику, обозначенному X. В примере John is the poor man's Elvis Presley (Джон – Элвис Пресли местного пошиба) предполагается, что Джон – невыразительный вариант американского прототипа. Схема (2б) призвана демонстративно отстаивать, что мишень обладает такими же достоинствами, как источник. Пример John is Singapore's answer to Elvis Presley (Джон – это наш ответ Элвису Пресли) означает, что Джон ни в малейшей степени не хуже, а возможно даже лучше оригинала.
В сравнении с этим реализация прагматического потенциала метафор в примерах (1) главным образом связана с необходимостью прорекламировать и превознести национально-культурную реальность, выгодно сопоставив ее с американской, которая все же считается образцовой. Языковые схемы в примерах (2) менее востребованы, чем в (1), что свидетельствует в целом о благосклонном отношении сингапурцев к американской культуре.
3. Метафоры в политической и неполитических сферах. Примеры (1) не относятся к политике, так как распространяются СМИ с целью прорекламировать местных знаменитостей или достопримечательности. Рассмотрим теперь схожие метафорические высказывания, встречающиеся в речевой практике сингапурских политиков.
(3) а. [Заявление, сделанное местным политическим деятелем Индержитом Сингхом (Inderjit Singh), в известиях программы In Parliament, 3 августа 1998]: Мы должны стремиться стать Силиконовой долиной Востока. б. [The Strait Times, 1 февраля 1997]; На прошлой неделе заместитель премьер-министра Тони Тэн (Tony Tan) повторил мысль премьера Гоха Чока Тонга (Goh Chok Tong) о намерении сделать Сингапур Бостоном Востока. Неся ответственность за два университета [Национальный университет Сингапура (the National University of Singapore) и Технологический университет Наниянга (the Nanyang Technological University)], он подчеркнул важность превращения Сингапура в центр совершенства высшего образования.
Силиконовой долиной, конечно, называют часть Калифорнии, известную технологически инновационной компьютерной индустрией. Бостон ассоциируется с учебными заведениями, признанными за высокое качество обучения и исследований, – Гарвардским университетом (Harvard University) и Технологическим институтом Массачусетса (Massachusetts Institute of Technology).
Возникает ряд любопытных отличий, если сравнить примеры (3) с примерами (1). Во-первых, прослеживается разница в типах учреждений / людей, которые метафорически представлены. Высказывания (1) связаны со спортом и развлечениями, в то время как (3) затрагиваются экономические и образовательные вопросы, хотя это, очевидно, нельзя рассматривать как строгое классификационное отнесение.
Во-вторых, обнаруживается разная модальность. Высказывания (1) описывают местные общественные институты / людей в терминах западной культуры, указывая на «эпистемическую модальность» (epistemic modality). В данном случае они просто демонстрируют убеждение говорящего в том, что описания соответствующим образом отражают конкретные свойства, присущие местным мишеням. В примере (1б) Сингапурский Элвис (Elvis), Уилсон Дэвид (Wilson David), играет, поет и танцует… предполагается, что Уилсон Дэвид уже имеет сходство с источником метафоры. Напротив, примеры (3) указывают на «деонтическую модальность» (deontic modality), которая выражает желательность или необходимость, накладывая на объекты характеризации требование следовать примеру западных моделей. Так, в примере (3а) предполагается, что Сингапур еще не стал «Силиконовой долиной Востока» и, следовательно, «должен стремиться стать». Похожим образом, в примере (3б) премьер-министр хочет «сделать» Сингапур «Бостоном Востока».
В-третьих, отличия модальностей предопределяют разность реакций восприятия сингапурских мишеней метафоризации. Как утверждалось, высказывания неполитического характера просто описывают общественные институты / людей в терминах американских источников. В данном случае мишень метафоризации может делать выбор принять или отклонить прикрепленную характеристику. Например, в 2004 году в Сингапуре проводился Singapore Idol – местный вариант американского конкурса мастерства American Idol. Это незамедлительно вызвало умозрительные заключения о том, какой из наших судей соответствует какому из числа более известных американских. Примеры (4) иллюстрируют то, как местный судья Дик Ли (Dick Lee) без стеснения отверг сравнения с Полой Абдул (Paula Abdul), предложив вместо этого провести аналогию с Рэнди Джексоном (Randy Jackson) (в конкурсе American Idol работают три судьи – Саймон Коуэлл (Simon Cowell), Пола Абдул (Paula Abdul) и Рэнди Джексон (Randy Jackson)). Обратим внимание на то, что Дик Ли просто отказывается от выбора конкретного судьи из American Idol, он не поднимает более существенный вопрос, почему в принципе должно проводиться сравнение с американским прототипом. Сама по себе схема экзонормативности возражений не вызывает.
(4) Один коллега сказал, что Дик Ли это Саймон, другой, назвав Дика «впечатлительным парнем», настаивал, что он Пола. И что в итоге? Певец, композитор и продюсер в электронном интервью заявляет «Today», что он в большей степени Рэнди.
В противоположность этому сингапурские мишени не могут просто отклонить или опротестовать сравнения с американскими источниками, когда подобные высказывания исходят от политических деятелей. Как уже отмечалось, высокий влиятельный статус правительства означает, что типичной реакцией местных общественных институтов, которым предписано следовать примеру американских источников, – при отсутствии основательных контраргументов – станет принятие соответствующих мер, направленных на достижение желаемой цели. В качестве подтверждения детально рассмотрим попытку правительства реформировать местные университеты.
4. Реформирование университетов. Примеры (3б) иллюстрируют, что тогдашний премьер-министр Гох Чок Тонг стремился сделать Сингапур «Бостоном Востока», предлагая организовать деятельность двух местных университетов [Национальный университет Сингапура (the National University of Singapore) и Технологический университет Наниянга (the Nanyang Technological University)] по модели Гарвардского университета (Harvard University) и Технологического института Массачусетса (Massachusetts Institute of Technology)[11]. Чтобы убедиться в том, что университеты не могут просто отказаться от позиции премьер-министра, а призваны сделать все возможное для ее претворения в жизнь, обратимся к освещению данного вопроса в местной прессе.
(5) [The Straits Times, 29 января 1997 (курсив мой. – АУ.)]: Гарвард и Технологический институт Массачусетса (ТИМ) не просто символические арки, за которыми лежит та самая цель… В действительности, известные во всем мире университеты Бостона славятся по ряду направлений не только серьезными достижениями научно-исследовательской работы, но олицетворяют высокое качество образования. Национальному университету Сингапура (НУС) и Технологическому университету Наниянга (ТУН) необходимо стать азиатскими Гарвардом и ТИМ, если Сингапур претендует на звание Бостона Востока в эпоху, когда международный центр экономики смещается в восточном направлении к азиатско-тихоокеанскому региону… НУС и ТУН должны действовать в четко обозначенном направлении. Приспособление к новым формам обучения в ответ на происходящие изменения может быть недоступной роскошью для некоторых других стран, для Сингапура, щедро располагающего человеческими ресурсами, это обязательное условие. Концентрация лучших сил в университетах позволяет им увидеть перспективы будущего, задачи и способы их решения. НУС и ТУН не меньше, чем цитадели, которые должны выдержать испытание в поддержку качества экономической жизни Сингапура.
Отметим, что высказывания (5) не ставят под сомнение справедливость видения премьер-министра. Примеры скорее демонстрируют охотное согласие с высказанной позицией и принятие того, что НУС и ТУН на самом деле обязаны заимствовать эти модели («необходимо стать азиатскими Гарвардом и ТИМ», «НУС и ТУН должны действовать», «обязательное условие»). Невыполнение соответствующих действий представлено не только как нанесение ущерба НУС и ТУН, но общему экономическому благополучию Сингапура («должны выдержать испытание в поддержку качества экономической жизни Сингапура»). Здесь мы находим подтверждение о высоком символическом капитале, которым обладает политический деятель, такой как премьер-министр Сингапура. Дж. Томпсон отмечает следующее [Thompson 1991: 1]: …взаимозаменяемые лингвистические средства могут выражать отношения власти… Мы осознаем, что люди говорят с разной степенью влияния… что некоторые слова, произносимые в определенных обстоятельствах, имеют силу воздействия и убеждения, которая не возникла бы в иных условиях…
Позиция, обозначенная премьер-министром, создает обязательное условие следовать примеру Гарварда и ТИМ и предполагает соответствующую реакцию со стороны глав НУС и ТУН. И поскольку у них нет права отказа от заявленной политической позиции, единственным возможным выходом является обсуждение деталей реализации метафоры. Вопрос нельзя недооценивать, так как условия оказывают влияние на выработку критериев, которые лежат в основе оценки того, удалось ли местным учреждениям соответствовать американским моделям. Они также предопределяют меры, обоснованно принимаемые институтами для выполнения установки.
В примерах (7–9) из интервью с Лимом Пином (Lim Pin) и Чам Тао Суном (Cham Tao Soon), тогдашними вице-канцлером НУС и президентом ТУН, вскрываются трудности соответствия ожиданиям, вызванным метафорическими сравнениями (The Straits Times, 1.02.1997.) Приняты следующие сокращения: Ж – журналист, Л. П. – Лим Пин, Ч. Т. С. – Чам Тао Сун.
Ср. (7), где журналист задает вопрос, как можно устранить существующие различия между местными и американскими университетами (по числу аспирантов). В ответ Чам Тао Сун предполагает, что данное несоответствие можно преодолеть, поощряя проведение исследований (в прикладных науках). Ответ Лима Пина носит более сдержанный характер. Говоря о государственных обязательствах университетов, он советует осторожно делать упор на научные исследования, чтобы не пренебречь необходимостью выпуска специалистов в достаточном для обслуживания экономики количестве. В ответе Пина имплицитно содержится представление о глобальной несовместимости государственных обязательств местных университетов и независимости, которой пользуются Гарвард и ТИМ. В дискурсивном плане интересно то, что идея несовместимости представлена скорее имплицитно, чем эксплицитно.
(7) Ж: В наших университетах большинство сингапурцев не учатся в аспирантуре. В Гарварде и ТИМ более двух третей студентов – аспиранты. Правомерно ли говорить о том, что наши университеты становятся видными центрами проведения научных исследований, если многие аспиранты набираются из числа иностранцев?
Ч. Т. С.: Нам приходится признать, что с населением в три миллиона человек мы не имеет критической массы, чтобы производить много аспирантов. У нас также нет местных вдохновителей науки и развития….Нам следует убеждать сингапурцев в том, что прикладные науки – это путь к высшей ступени.
Л. П.: Нам также нужно помнить о том, что мы – университеты, играющие общенациональную роль. Мы должны выпускать студентов, чтобы отвечать требованиям национальной экономики.
В примерах (8) фокус внимания перемещается на подготовку студентов. Лим Пин признает, что существуют принципиальные отличия в структурах учебных планов, но высказывает предположение о возможности их устранения за счет продления программы до четырех лет.
(8) Ж.: Как учебный план студентов в наших университетах соотносится с Гарвардским?
Л. П.: В Гарварде на первом курсе закладываются общие основы… Только со второго курса студенты начинают специализацию. Установление такой системы связано с большими расходами, но я бы согласился внедрить ее в НУС при условии четырехлетнего курса обучения для получения основной степени.
По ходу дискуссия сосредоточилась на специфических различиях (аспирантура, учебный план студентов). В примерах (9) рассуждения снова смещаются на общий уровень, когда журналист просит сделать заключительное заявление, чтобы завершить интервью. Лим Пин и Чам Тао Сун попадают в несколько неудобное положение, пытаясь высказать имеющиеся точки зрения по поводу сравнений с Гарвардом и ТИМ без видимого несогласия.
(9) Ж.: Итак, сколько времени потребуется НУС и ТУН, чтобы быть как Гарвард и ТИМ?
Л. П.: Мы не можем быть Гарвардом. Мы не можем стать его точной копией и не нужно пытаться это делать. Гарвард – закрытое учебное заведение, тогда как наш университет имеет общенациональное значение… Но мы можем стремиться стать азиатским Гарвардом в том смысле, чтобы считаться основным образовательным центром в регионе.
Ч. Т. С: Университеты с мировым именем существуют на протяжении веков. Нужно около сотни лет, чтобы достичь подобного уровня. В университетах Сингапура конъюнктура более «универсальна». Ежегодно мы принимаем 20 % от общего набора студентов. Если посмотреть на зачисления в Гарварде и ТИМ, эта цифра составляет 1 %.
Последовательно проанализируем их ответы. Как показывают примеры (9), Лим Пин пытается обсудить условия того, в каком смысле НУС можно рассматривать как вариант Гарварда. Он делает это, вновь возвращаясь к теме, заявленной в (7). НУС – государственный университет с общенациональными обязательствами, такими как подготовка выпускников в количестве, достаточном для обслуживания экономики. С другой стороны, Гарвард – закрытый университет, который имеет возможность принимать только самых способных абитуриентов. Однако, понимая, что идея может быть легко интерпретирована как отказ от метафоры, Лим Пин хочет уверить журналиста в том, что он ни в малейшей степени не против использовать модель Гарварда. Это ведет Л. Пина к весьма запутанному ответу, который заключает в себе противоречие. Сначала он пытается не согласиться с тем, что гарвардская модель подходит («Мы не можем быть Гарвардом»; «Мы не можем стать его точной копией и не нужно пытаться это делать»), в продолжение он принимает идею о том, что «мы можем стремиться стать азиатским Гарвардом». Возникает противоречие, так как заявить, что предмет является элементом категории, значит признать его членство в данной категории. Так, нельзя доказать, что предмет это яблоко, и одновременно не признать, что это фрукт. Также нельзя заявлять о том, что НУС может стать «азиатским Гарвардом», вместе с тем отрицая его возможность быть «Гарвардом».
По-видимому, из-за причастности к запутанному ответу Л. Пина Чам Тао Сун даже не старается открыто углубляться в метафорические сравнения в своем собственном. Он попросту утверждает, что нужно время, чтобы стать университетом с мировым именем («около сотни лет»). Он также отмечает, что процент набора студентов от общего числа значительно выше в местных университетах. Поскольку Ч.Т. Сун делает упор на то, что сравнения с известными в мире вузами ни в ближайшем, ни в далеком будущем нереальны, имплицитно предполагается, что разница между местными университетами и их американскими аналогами непреодолима. Подобным образом его комментарий по поводу процента зачисляемых студентов является повторением точки зрения, высказанной Л. Пином в отношении общенациональных обязательств.
Примеры в (7–9) наглядно демонстрируют, что, хотя и Лим Пин, и Чам Тао Сунн неизменно стремятся привлечь внимание к отличиям между местными вузами и американскими моделями, никто из них не желает открыто отстраняться от проведенных аналогий.
Двумя годами позже, говоря о заслугах правительства в речи на собрании в день национального праздника (National Day Rally), премьер-министр признал различия между НУС и ТУН, с одной стороны, и Гарвардом и ТИМ, с другой. Тем не менее, как видно из примеров (10), за Гарвардом и ТИМ настойчиво закрепляется роль источников метафорического переноса. Все больше укореняется тенденция обращаться к Америке за референтными моделями.
(10) [1999, речь в день национального праздника (курсив мой. – ЛУ.)]; НУС и ТУН – государственные университеты. На них лежит ответственность принимать всех сингапурцев, прошедших по конкурсу… Вместе они набирают 8000 студентов. Для поднятия собственного уровня НУС и ТУН должны систематически зачислять одаренных студентов из региона. Несмотря на то что по уровню академического мастерства они не могут сравниться с Гарвардом и ТИМ, они могут следовать их примеру и пытаться привлечь самых способных студентов из Азии.
5. Заключение. Сфера образования не является независимой, что наглядно видно, когда речь идет о государственных университетах, таких как НУС и ТУН. Это означает, что они в большей степени, чем закрытые вузы, подвержены политическому влиянию, в особенности исходящему от высших чиновников. Однако сама сфера политики Сингапура лучше всего постигается через анализ ее широких связей с миром [Wallerstein 1983, 2001; Blommaert 2003: 612].
В этом отношении видение премьер-министра того, что НУС и ТУН должны следовать примеру Гарварда и ТИМ, понятно как часть национальной программы, один из пунктов которой предусматривает управление так называемыми силами глобализации. Существует общая тенденция в политическом дискурсе рассматривать глобализацию как неизбежный феномен, который не оставляет любому правительству иного выбора, как вырабатывать стратегию для управления ее последствиями [ср. Flowerdew 2002]. В случае с Сингапуром характерное присвоение правительством экзонормативно-ориентированной метафоры, предполагающей внесение изменений в деятельность местных университетов, – часть проекта Singapore 21 Vision, который имеет целью сформулировать национальную программу, способную подготовить страну выдержать вызов XXI века. Тогдашний министр образования Тео Чи Хин (Teo Chee Hean) высказался так: (11) [конференция Singapore 21, 21 ноября 1998]: Первым элементом нашего видения является Сингапур как Центр реализации возможностей, один из крупнейших в мире городов следующего столетия. Мы видим Сингапур как город мирового значения, имеющий связи с другими всемирными центрами академического совершенства. Мы видим появление здесь таких учреждений, как INSEAD и John Hopkins Medical School, которые выдвинут Сингапур на первый план по научным исследованиям и образованию в ключевых областях. Мы видим наши университеты как вузы мирового класса, предоставляющие всем сингапурцам возможности взять курс на непрерывный процесс познания и самосовершенствование.
Мы, конечно, не заявляем, что только американские национально-культурные реалии используются как модели культурной референции. Правильнее говорить о Западе в целом как образце. Вместе с тем представляется, что феномен, который мы называем «глобализация», ассоциируется с «американизацией» [Cameron 2000: 77; Ritzer 1996]. По причине этого не удивительно, что одной из основных стратегий Сингапура в ответ на глобализацию становится выявление успешных американских учреждений и создание собственных по их моделям. В мировом контексте американские институты обладают высокой степенью культурного и символического капитала [ср. Said 1994].
Главенство американской культуры на мировой арене позволяет предположить, что экзонормативность, о которой шла речь в данной статье, характерна не только для Сингапура. С возможными отличиями в способах манифестации она предположительно проявляет себя в других обществах. Так, экзонормативность может не иметь статуса языковой схемы, либо получать выражение в более демонстративных формах, как, например, в (2б) или, подчиненная иным внутриполитическим условиям, не находить широкого распространения в политическом дискурсе. Дальнейшие исследования найдут ответы на эти вопросы.
Литература
Blommaert J. Commentary: A sociolinguistics of globalization // Journal of Sociolinguistics. 2003. Vol. 7(4).
Bourdieu P. Cultural reproduction and social reproduction // Knowledge, education and cultural change / R. Brown (ed). London: Tavistock, 1973.
Bourdieu P. The economics of linguistic exchanges // Social Science Information. 1977a. Vol. 16.
Bourdieu P. Outline of a theory of practice. Cambridge: Polity, 1977b.
Bourdieu P. The logic of practice. Cambridge: Polity, 1990.
Bourdieu P. Language and symbolic power. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991.
Cameron D. Good to talk? London: Sage, 2000.
Flowerdew J. 2002. Globalization discourse: A view from the East // Discourse & Society. Vol. 13(2).
Gentner D., Bowdle B.F., Wolff P., Boronat C. Metaphor is like analogy // The analogical mind: Perspectives from cognitive science / Gentner D., Holyoak K. J., Kokinov B. N. (eds.). Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001.
Glucksberg S., McGlone M.S. When love is not a journey: What metaphors mean // Journal of Pragmatics. 1999. Vol. 31.
Goddard C. Cultural values and 'Cultural scripts' of Malay (Bahasa Melayu) // Journal of Pragmatics. 1997. Vol. 27(2).
Holyoak K., Thagard P. Mental leaps: Analogy in creative thought. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995.
Jenkins R. Pierre Bourdieu. London: Routledge, 1992.
Lareau A. Unequal childhoods: Class, race, and family life. Berkeley: University of California Press, 2003.
Lakoff G. The contemporary theory of metaphor // Metaphor and thought / A. Ortony (ed.). 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Mauzy D.K., Milne R.S. Singapore politics under the People's Action Party. London: Routledge, 2002.
Quinn N. The cultural basis of metaphor // Beyond metaphor: The theory of tropes in anthropology / J.W. Fernandez (ed). Stanford: Stanford University Press, 1991.
Ritzer G. The McDonaldization of society: An investigation into the changing character of contemporary social life. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, 1996.
Said E. Culture and imperialism. New York: Vintage Books, 1994.
Thompson J.B. Editor's introduction to Pierre Bourdieu, Language and symbolic power. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1991.
Wallerstein I. Historical Capitalism. London: Verso, 1983.
Wallerstein I. Unthinking Social Science / 2nd ed. Philadelphia, Pennsylvania: Temple University Press, 2001.
Wee L. Proper names and the theory of metaphor // Journal of Linguistics. 2006a. Vol 42.
Wee L. The cultural basis of metaphor revisited // Pragmatics and Cognition. 2006b. Vol. 14(1).
Wierzbicka A. 'Cultural scripts': A new approach to the study of cross-cultural communication // Language contact and language conflict / M. Piitz (ed). Amsterdam: John Benjamins, 1994.
Wierzbicka A. German 'cultural scripts': Public signs as a key to social attitudes and cultural values // Discourse & Society. 1998. Vol. 9(2).
Наталия Чабан
Наталия Чабан родилась, выросла и получила образование в Украине. Сейчас она работает в Новой Зелендии (университет Кентербери), сфера ее научных интересов – когнитивное и семиотическое изучение политического и медийного дискурса, исследования образности и национальной идентичности в контексте международных связей. Одновременно Наталия Чабан руководит международной исследовательской группой транснационального проекта «Восприятие Евросоюза общественностью, элитой и СМИ в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее и Таиланде – сопоставительный аспект». Цель проекта – оценить и повысить общественную осведомленность, расширить знания о Евросоюзе в четырех странах Азиатско-Тихоокеанского региона – Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее и Таиланде. Результаты проекта были подтверждены благодаря международному научному сотрудничеству и мобилизации объединенной экспертизы национальной Ассоциации исследований Европейского Сообщества (European Community Studies Association – ECSA) в четырех странах.
Джессика Бейн, новозеландская участница проекта, работает в Национальном Центре Исследований Европы, Университет Кэнтербери, Новая Зеландия. В настоящее время она занимается анализом метафорического восприятия Евросоюза в Новой Зеландии.
Катрина Статс, австралийская участница проекта, работает в Центре исследований современной Европы в Мельбурнском Университете. В настоящее время изучает тему восприятия Евросоюза австралийским обществом, элитой и СМИ.
Н. Чабан, Дж. Бейн, К. Статс «Политический Франкенштейн» или «финансовый Гаргантюа»?: метафоры персонификации при освещении расширения Евросоюза в новостях Австралазии (перевод А.Б. Зайцевой)
Введение
Полагают, что полное понимание сути Евросоюза (ЕС) является ключевой проблемой, которая встает перед ЕС и его гражданами. Например, Жан-Кристоф Филори, представитель Уполномоченного по Расширению, утверждает, что «проблема в том, что Евросоюз не понимают, и необходимо ликвидировать разрыв между ЕС и его гражданами». М. Уолстрем, вице-президент Комиссии ЕС, повторила эту идею, рассматривая отсутствие «общего нарратива» о самой сущности Европы: «Настоящая проблема в Европе в том, что нет согласия и понимания того, для чего Европа и куда она идет». Чтобы решать вопросы «демократического» и «коммуникативного дефицита» в ЕС, европейские политики изобрели новую коммуникативную стратегию, также известную как «План-Д» (где «Д» означает диалог, дебаты и демократия). Однако в «Плане-Д» игнорируется один ключевой фактор понимания ЕС, а именно во внимание не берутся внешние образы и восприятия Союза. Возможно, что видение себя глазами Других может способствовать идентификации Себя. Следовательно, цель данной работы – информационный прорыв для исследователей ЕС, для лиц, принимающих решение, и для всех, интересующихся представлениями о ЕС за границами Союза, и о значении этих представлений для развития Союза и его взаимодействия со всем миром.
Считается, что среднестатистические граждане Европы мало знают о Евросоюзе, членами которого являются их страны, помимо того, что они читают в прессе и смотрят в телевизионных новостях. Мы считаем, что такое незнание еще более велико в странах, не принадлежащих к ЕС. В Австралазии, которая является «Чужим» по отношению к ЕС (что и стоит в центре данного исследования), большая часть информации о Евросоюзе поступает исключительно из новостей в средствах массовой информации [Chaban, Holland 2005]. Используя когнитивный метод концептуальной метафоры (понимаемой в традиции Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона) [Lakoff, Johnson 2003], данная работа представляет собой исследование образа Евросоюза в дискурсах СМИ двух стран Австралазии – Австралии и Новой Зеландии. Высокочастотные метафоры в дискурсах СМИ двух стран предположительно используются местными СМИ для создания образа ЕС как важного иностранного аналога Австралазии. Мы полагаем, что живые, действенные и эффективные метафорические категоризации этого далекого Чужого выделяют некоторые из его концептуальных измерений и игнорируют другие, чтобы создать для местной аудитории новостей определенный образ Евросоюза.
В данной работе исследуется конкретный случай репрезентаций значительного Чужого в новостях – концептуальная метафора персонификации. Наблюдения показали, что эта концептуальная метафора лежит в основании значительного количества лингвистических метафор, обнаруженных в текстах новостей Австралии и Новой Зеландии, освещающих ЕС в целом и его расширение в частности. В данной работе мы утверждаем, что концептуализация расширения ЕС в публичных дискурсах Австралазии находится под влиянием метафорической категоризации персонификации, которая объединяет специфическую образность и ее последующую долгосрочную оценку. Мы полагаем, что широко и часто распространенные средствами массовой информации в различных формах образы, которые являются результатом доминантной метафорической категоризации, имеют серьезные и подлинные импликации для мира иностранной политики, как на уровне общественности, так и на уровне принятия политических решений в регионе. Как отмечает Дж. Леерссен, «хотя вера иррациональна, влияние этой веры не является нереальным» [Leerssen 2005].
Метафора персонификации
По словам Софии Брострем, «образы – чрезвычайно богатые и объединяемые единицы информации, которые передают всю свою информацию сразу и которые не легко разделяются» [Brostrom 1994: 38]. Качественный анализ образности проводится через изучение буквальных и метафорических репрезентаций. Метафорические категоризации представляют особенный интерес в случаях, когда у реципиентов информации еще не сформировалось определенное мнение. При том, что новости из-за рубежа кажутся далекими, невидимыми, недостижимыми и следовательно не имеющими отношения к жизни страны, считается, что при осмыслении международной политики публика в основном использует метафорическое мышление [Lakoff 1991]. Таким образом, чтобы показать, как выражен в публичных дискурсах Австралазии сложный концепт внешней политики «Расширение ЕС», в данной работе систематически рассмотрено употребление лингвистического образного средства – метафоры – составителями международных новостей в регионе.
Метафора, которую Жак Деррида провозгласил центром философии и мысли, стала «звездой дискурса 20-го века» [Gozzi 1999: 30, 39]. С тех пор появилось множество теорий, изучающих явление метафоры. Данная работа придерживается «когнитивного подхода», а именно теории концептуальной метафоры Джорджа Лакоффа и Майкла Джонсона при понимании и определении метафоры. При данном подходе метафора понимается как сложный процесс, при котором «сплетение» ассоциированных значений из сферы-источника проецируются на другие «сплетения», чтобы описать черты другого «сплетения», сферы-мишени [Glynn 2002: 542]. Такое проецирование знакомым и понятным образом вызывает и заново закрепляет когнитивные структуры сферы-источника, при этом автоматически происходит перенос логических и культурных заключений концептуальных аналогий [Santa Ana 1999: 217]. Например, абстрактное понятие ЛЮБОВЬ (сфера-мишень) часто понимается в терминах весьма конкретного понятия ВОЙНА (сфера-источник): «He is known for his many rapid conquests» / «Он известен множеством быстрых завоеваний», «She fought for him, but his mistress won out» / «Она боролась за него, но победила его любовница», «He fled from her advances» / «Он спасался бегством от ее наступления», «She is besieged by suitors» / «Ее осаждают поклонники», и т. д. [Lakoff 2003: 49]. Результат такого концептуального проецирования, которое применяется к данным парам источник-мишень, – концептуальная метафора. В вышеописанном примере это концептуальная метафора ЛЮБОВЬ – ЭТО ВОЙНА. Другими словами, концептуальные метафоры – это «семантические переносы, которые принимают форму СФЕРА-МИШЕНЬ – ЭТО СФЕРА-ИСТОЧНИК [Bailey 2003]. Полагают, что эти переносы могут мотивировать и моделировать повседневные письменные или устные метафорические языковые выражения.
Многие исследователи, включая Дж. Лакоффа и М. Джонсона, придавали большое значение этому структурирующему аспекту концептуальных метафор [Lakoff, Johnson 2003: 7—14]. В этом отношении понятие концептуальной метафоры сходно с понятиями, разработанными в более ранних исследованиях, такими как «продуктивные метафоры», «конститутивные аналогии» и «корневые метафоры» [см. Leary 1995]. Структурирующий аспект концептуальной (или «корневой») метафоры был описан Пеппером:
«Человек, пытающийся понять мир, ищет ключ к его пониманию. Он сталкивается с какой-либо областью действительности и пытается в ее терминах осмыслить другие области. Эта оригинальная идея становится затем его основной аналогией, или корневой метафорой. Он как может описывает характеристики этой понятийной области или распознает ее структуру. Список ее структурных характеристик становится его основными концептами для объяснения и описания. Мы называем их набором категорий. В терминах этих категорий он может изучать другие области действительности. Он пытается интерпретировать все факты в терминах данных категорий» [Цит. по: Leary 1995].
Систематические исследования кластеров лингвистических метафор открывают метафоры на концептуальном уровне. Последние являются основой первых, производя ментальные структуры для интерпретации явлений, подвергающихся категоризации. В данной работе анализ ограничивается концептуальными метафорами персонификации и их структурами, проявляющимися в текстах новостей, освещающих расширение ЕС в Австралазии. В данной работе используется определение метафор персонификации, сформулированное Дж. Лакоффом и М. Джонсоном: метафоры персонификации – это метафоры, в которых материальный объект интерпретируется как человек [Lakoff, Johnson 2003: 33].
Метафоры персонификации всегда привлекали внимание исследователей. Их исследовал римский ритор Квинтилиан в I веке н. э.: он отмечал, что метафора может переносить из неодушевленной сферы в одушевленную. Гораздо позднее Лакофф и Джонсон приняли и развили понятие персонификации в своей теории концептуальной метафоры, отметив, что метафоры персонификации позволяют «осмыслять наш опыт взаимодействия с неживыми сущностями в терминах человеческих мотиваций, характеристик и деятельности людей» [Lakoff, Johnson 2003: 33]. Аспекты человеческого существования бесчисленны, так что когнитивный процесс метафорической категоризации в терминах персонификации чрезвычайно разнообразен. Кластеры лингвистических метафор, произведенные данной концептуальной метафорой, могли бы, к примеру, описать какие-либо культурные феномены, типичные для социального сосуществования индивидуумов (например, война, семейная жизнь, романтические отношения и др.). Или же они могут быть тесно связаны с метафорами, воплощающими общие аспекты человеческого / телесного опыта (например, физическое и эмоциональное здоровье человека и его поддержание).
И Р. Гоцци [Gozzi 1999], и Дж. Лакофф [Lakoff 1991] утверждают, что метафора ГОСУДАРСТВО – ЭТО ЧЕЛОВЕК является одной из основных метафор, лежащих в основе концептуализации внешней политики. Когда государства описывают данной метафорой, в них видят присущие им характеры, что ведет к описанию государств как «миролюбивых и агрессивных, ответственных и безответственных, трудолюбивых и ленивых» [Lakoff 1991]. Мы пришли к выводу, что не только отдельные государства, но и международные образования (такие как ЕС, ООН, Всемирная Торговая Организация и другие) могут быть концептуализированы как «человек», вовлеченный в социальные отношения в рамках мирового сообщества. В данном исследовании четко осознается, что Евросоюз не является государством, однако отмечено, что в политическом дискурсе и дискурсе СМИ (как в Союзе, так и за его пределами) ЕС часто сравнивают с государством буквально и метафорически. Так, Мэннерс и Уитман отмечали, что зачастую иностранные партнеры понимают ЕС и отзываются о нем как о государстве [Manners, Whitman 1998: 237]. Такое понимание приписывается сложности и беспрецедентности Евросоюза. Как журналистам, составляющим репортажи о ЕС для внутренней и внешней аудитории, так и людям, воспринимающим местные и международные новости, сложно осмыслить феномен Евросоюза, который находится между наднациональными амбициями и межправительственными переговорами, управляется группой разнообразных политических институтов.
Соответственно метафорические категоризации, рассмотренные в данной работе, часто описывают ЕС как «человека», который живет «по соседству» и имеет «соседей», «друзей» и «врагов», он участвует в разных видах социального взаимодействия, например, «клуб», «семья», «романтические отношения», в разных видах социальной деятельности, например, «война», «соревнование», «учеба в школе», «азартные игры» и др. Такие концептуализации знакомы и легко узнаваемы, так что использование их в дискурсе СМИ облегчает понимание сложного явления, делает его «готовым к употреблению» как журналистами, так и публикой.
Концептуальные метафоры имеют свои структуры, которые используются в дискурсах убеждения – а именно в политическом и в дискурсе СМИ, – для того чтобы наводить на конкретные выводы и оказывать влияние на эмоции. Мы считаем, что метафоры персонификации исключительно сильны в данном контексте. Эти метафоры помогают аудитории новостей осмысливать и интерпретировать сложные и неясные явления международной политики (в нашем случае – ЕС) в знакомых, повседневных терминах, то есть в терминах человеческого взаимодействия и существования [Lakoff, Johnson 2003: 34]. В конечном счете метафоры персонификации могут формировать не только мнение о сложных явлениях и деятелях внешней политики, но и формулировать образ действий по отношению к ним. Описание в СМИ международных действий в терминах действий, предпринимаемых государствами как «настоящими» людьми, побуждает аудиторию новостей как к созданию образа Других (по отношению к их стране), так и к формированию эмоционального отношения к этому образу наиболее выгодным образом. В критических ситуациях такие эмотивные предрасположения могут привести к тому, что политики, участвующие во внешнеполитических делах, получат обратную связь со стороны аудитории (например, антивоенные протесты во время войны во Вьетнаме и, позже, войны в Ираке после того, как в средствах массовой информации появлялись разоблачающие образы; протесты мусульманской общественности по всему миру после появления карикатуры с религиозной тематикой; публичные выступления в России, которые последовали за 24-часовой телевизионной трансляцией новостей о Бесланской трагедии; благотворительные пожертвования стали собираться по всему миру после того, как в новостях были освещены разрушительные последствия цунами в Азии и др.).
Цель данного исследования – дать ответ на два вопроса:
1. Какие образы расширяющегося ЕС были переданы широкой публике посредством концептуальной метафоры персонификации в дискурсах СМИ Австралии и Новой Зеландии?
2. Каким образом глубокие концептуальные структуры метафор персонификации способствуют категоризации ЕС в двух публичных дискурсах стран Австралазии и каковы их последствия для диалога ЕС с Австралией и Новой Зеландией?
Данная работа представляет собой дискурсивный интертекстуальный анализ доминантных и вторичных метафорических категоризаций, составляющих концептуальную метафору персонификации, использованных при освещении расширения ЕС в текстах новостей в Австралии и Новой Зеландии. Под доминантными (высокочастотными) метафорами понимаются те, которые использовались с относительно большей частотностью и встречались в большем разнообразии форм. В отличие от них метафоры, которые встречались менее часто и в меньшем разнообразии форм, названы вторичными [Santa Ana 1999: 198].
Австралия и Новая Зеландия – страны Тихоокеанского региона, участники ОЭСР (Организация по экономическому сотрудничеству и развитию). Обе страны имели многочисленные исторические и культурные связи с Европой в прошлом и настоящем. Например, активное сотрудничество с Великобританией, драматическое участие в двух мировых войнах в Европе, а также эти связи видны в Европейском туризме и иммиграции. Кроме того, обе страны имеют существенные экономические связи с ЕС: Евросоюз, состоящий из 25 стран-участниц, – один из трех ведущих торговых партнеров обеих стран и один из основных инвесторов в экономику Австралазии. Однако, несмотря на такое одинаковое сотрудничество с ЕС, политическое отношение Австралии и Новой Зеландии к Евросоюзу отличается. Австралийское правительство иногда предпочитает поддерживать во внешней политике США, а Новая Зеландия, наоборот, часто поддерживает внешнеполитический статус ЕС. Наиболее яркие примеры разницы во взглядах на международную политику этих двух стран Австралазии – их действия по отношению к ратификации Киотского Протокола и к войне в Ираке (в этих вопросах ЕС и США также занимают разные позиции). Кроме того, некоторые внутриполитические линии данных стран повторяют особенности внутренней политики США (в случае с Австралией) и ЕС (в случае с Новой Зеландией). Прежде всего это касается благосостояния государства (Новая Зеландия разделяет взгляды на благосостояние, типичные для некоторых государств ЕС) и прав человека (Австралия, например, не поддержала объединение прав человека и торговли в Основном Соглашении с ЕС, которое окончательно потерпело неудачу в 1997 г.) Принимая во внимание такую разницу двух политических парадигм в Австралазии, в данной работе мы делаем попытку выявить и сравнить метафорические категоризации персонификации, использованные для освещения расширения ЕС в новостях авторитетных СМИ двух стран.
Самое крупное и самое спорное в истории ЕС вступление в него восьми бывших коммунистических стран и двух небольших средиземноморских государств 1 мая 2004 г. неизбежно стало самым ярким событием, освещенным в СМИ Австралии и Новой Зеландии в 2004 году. Пользуясь результатами проекта «Восприятие Европейского Союза обществом, элитой и СМИ в странах азиатской части Тихоокеанского региона: Сопоставительное исследование»[12], в данной работе мы обработали с помощью контент-анализа десять газет в двух странах и четыре программы новостей (вещающих в прайм-тайм) наиболее популярных телеканалов Австралии и Новой Зеландии за «точный» период расширения ЕС – с апреля по июнь 2004 года. Расширение было знаменательным событием всего года. «Точный» период охватывает само событие, а также предварительную агитацию и анализ после празднования события.
Было выявлено, что в пяти газетах Новой Зеландии опубликовали 53 статьи о расширении ЕС в период с апреля по июнь 2004 года. Австралийские газеты опубликовали 102 статьи на эту тему за обозначенный период. В обеих странах эти цифры составили почти 9 % от всего объема освещения темы в 2004 году. Телевизионный материал составил 9 программ новостей в Новой Зеландии (или 41 % всех телевизионных новостей о Евросоюзе в 2004 году) и 5 в Австралии (или 33 % всех теленовостей).
В печатных СМИ было собрано четыре обширных набора метафорических выражений – 219 метафорических примеров из газет Новой Зеландии, 36 из телевизионных новостей Новой Зеландии, 616 из статей австралийских газет и 31 из Австралийских телевизионных новостей, освещающих различные аспекты расширения ЕС. Лингвистические метафоры, относящиеся к концептуальной метафоре персонификации, составили приблизительно 38 % от метафор в Австралии и 32 % в Новой Зеландии. Примеры метафор персонификации в телевизионных новостях составили 58 % всех метафорических примеров в Австралии и 47 % в Новой Зеландии.
Результаты исследования
1. Доминантные метафоры персонификации
Мы полагаем, что метафоры персонификации при описании расширения ЕС в новостях Австралазии представлены двумя фреймами, а также они способствовали их формированию. Оба фрейма – КЛУБ и СЕМЬЯ – концептуально обоснованы социокультурным опытом людей. Фрейм КЛУБ представлен описанием ЕС (15 участников) как «культурного клуба христианских и постхристианских наций» или «Клуба Евро», новые члены – «новички» вступают в клуб, их принимают или нет. Фрейм СЕМЬЯ был часто представлен метафорой «большая европейская семья», в которую входят новые члены.
Клуб / Club
В сценарии «КЛУБ» 15 старых членов ЕС были представлены как разборчивые богатые члены эксклюзивного клуба для избранных, а новые члены были описаны как бедные новички, умоляющие принять их. Старые участники ЕС часто изображались как «клуб богачей» / «rich man's club» «привилегированных богатых стран» / «privileged, highly affluent countries». Этот «клуб» – предмет мечтаний новых членов, и они «умоляют» / " crave» принять их, они терпеливо «постоят в очереди» / «queue» или «запишутся» / «list», «встав в строй» / «lining up», чтобы получить доступ в так называемый «сад Европы» / «garden of Europe». До того как государства, не являющиеся членами ЕС, «подготовятся» / «qualify» и их признают «годными» / «fit» к тому, чтобы быть членами союза, они «колотят в дверь» / «bang on the door». Этим самым они «разрушают спокойствие сплоченного и одинаково мыслящего Европейского клуба» / disrupting «the cosy days of a close and like-minded European club», а «старшие» члены / «senior» members и «старожилы» / «old-timers» (такие как Германия, Франция и Великобритания), находящиеся внутри клуба, «нервничают» / «fret».
Пока новые государства были вовлечены в «борьбу за то, чтобы их впустили» / «a struggle to be admitted», старый Евросоюз, включающий 15 государств, изображали как привратника. Когда речь идет о месте, куда ограничен доступ, метафоры дверей имеют как позитивный (открытые двери), так и негативный (закрытые двери) потенциал. В СМИ Австралазии последний представлен гораздо ярче. Было показано, что ЕС открывает двери новым членам, «но не очень широко» / «but not too far». Вместо того чтобы «приветствовать (новых членов) с распростертыми объятиями» / «welcome (entrants) with open arms», ЕС «приветствует их с наполовину открытой дверью» / «is welcoming them with the door half open». Изредка, будучи местом, куда открыт доступ, «приветствующим» / «welcoming» и «распахивающим свои двери перед новичками из Восточной Европы» / «throwing open its doors to newcomers from Eastern Europe», Евросоюз чаще описывается как место с ограниченным доступом, например, как тщательно охраняемая «крепость» / «fortress», в которой только и ищут возможность «ограничить» / «restrict» или «запретить» / «deny» доступ новым членам. Такие действия побудили одного комментатора спросить, «захочет ли когда-либо Евросоюз открыть свои двери» / «if the EU would ever be willing to open its doors» 60 миллионам турецких мусульман.
Семья / Family
При том что концептуальная метафора ЕС – ЭТО КЛУБ содержит двойственность – некоторые члены находятся внутри, а других держат снаружи, сценарий «СЕМЬЯ» содержит аналогичную «внутреннюю оппозицию». А именно: 15 членов ЕС часто концептуализируются как старшие, более мудрые и более богатые родственники в этой «семье», им противопоставлены более молодые и бедные дальние родственники (новые государства-участники Евросоюза), которым иногда не хватает жизненного опыта. Первые представлены в роли хозяев, принимающих новых родственников в «Европейском общем доме» / «European common house». Австралийские новости представляли вступление государств Восточной Европы как «возвращение в Европейскую семью» / «return to (the) European family». Новые государства-участники «возвращались домой» / «returning home» после «странствий по востоку» / «wandering in the east». Образы семьи были усилены образами теплой и приветливой атмосферы, в которой присутствует «радость, когда восток (пришел) из холода» / «joy as east (came) from cold». Новым членам семьи был оказан радушный прием, старшие родственники «обняли» / «embraced» их.
Для «юных политических систем» / «youthful political systems» блудных сыновей-государств нужен был родительский образ. На эту роль претендовали некоторые европейские политики – бывшего канцлера Германии Гельмута Коля называли «одним из отцов европейского воссоединения» / «one of the fathers of European reunification», а президент Франции Жак Ширак по-отцовски «бранил» / «berated» новичков за то, что они поддерживали США и Британию в иракском конфликте.
Восстановленные родственные связи не стали, однако, сплоченной семьей. На самом деле оказалось, что, «когда лидеры 25 государств нового Евросоюза позировали для очередного «семейного фото» / «family photo», даже опытные дипломаты с трудом могли вспомнить имена некоторых политиков». Их назвали «пестрой толпой хороших, плохих и в некоторых случаях отвратительных» / «a motley collection of the good, the bad and in some cases the ugly». Должно быть, эта «семья» / «family» была разочарована, узнав, что ее семейное «наследие» представляет собой немногим большее, чем «серия территориальных и этнических диспутов».
Так же как и в австралийских новостях, в новостях Новой Зеландии расширение ЕС активно было представлено в терминах семейных отношений. В то время как новозеландские телевизионные новости показывали, какой теплый прием был оказан новым государствам-участникам (вплоть до праздников, устроенных в их честь), газетные комментаторы были более осторожны. Они предсказывали будущие проблемы, ожидающие «расширенную семью Европейского союза» / «enlarged European Union family». Обращение к Евросоюзу как к семье спровоцировало описание новых членов союза как «бедных родственников» / «poorer cousins», которые соперничают за место за уже переполненным «столом» / «table». «Что угодно, только не счастливая семья» / «anything but a happy family». 15 участников Евросоюза «прохладно» / in a «chilly manner» приветствовали новых членов. Обеспокоенные возможностью потока мигрантов из восточноевропейских стран, правительства 15 стран ЕС «спешно подняли ограничения для членов, входящих в их европейскую семью / the incoming members of their European family». Комментаторы также предсказывали, что в будущем «семью расширенного Евросоюза» / the «enlarged European Union family» ожидают проблемы.
В СМИ обеих тихоокеанских стран мы видим, что у членов только что расширившейся «семьи» ЕС есть разнообразные физические проблемы. Старые страны-участницы безоговорочно сравнивались с престарелыми, которым необходим заряд бодрости, которую, как уверены многие, могут обеспечить «молодые» государства-члены ЕС. Сами «старожилы» / «old timers» страдают от экономического «склероза» / economic «sclerosis» и «политического паралича» / «political paralysis» и нуждаются в «восстановлении сил» / «revival», «оживлении» / «resuscitation» и «помощи» / «boost». Новые члены-государства рассматриваются как «вливание новой крови» / «infusion of new blood» и «энергия» / «energy», «подбадривающая» и «усиливающая» ЕС / «invigorating» and «strengthening» the EU. Влияние крупнейшего расширения ЕС было расценено как «инъекция такой необходимой энергии» в зону экономик ЕС / «inject some much-needed energy into the EU zone economies», как «спасательная веревка», «укрепляющая» Союз как целое и его новых членов в отдельности / a «lifeline» «strengthening» the Union as a whole and its new members individually.
Однако прогноз австралийских СМИ не был полностью положительным. По мнению австралийских СМИ, у стран-членов ЕС «впереди больше боли» / «more pain lies ahead». ЕС показан «слабым экономически и слабым на мировой арене» / «weak economically, and weak on the world stage», а также он «страдает от усиливающихся болей» / «suffering from growing pains», что является результатом расширения. Эти страдания обострились оттого, что расширение совпало с «последними муками болезненных дебатов о новой конституции Союза» / «the final throes of a painful debate about the Union's new constitution)). Процесс расширения иногда изображался как преждевременно родившийся ребенок – «рождение величайшего мирового торгового блока» произошло «слишком рано» / «the birth of the world's biggest trading bloc» had come «too soon». Это существо иногда описывали как отвратительное и даже искусственно зачатое, также ЕС сравнивали с «политическим Франкенштейном» / «political Frankenstein».
Кроме того, новички из Восточной Европы были показаны страдающими от «всех видов осложнений коммунистической эры» / «all sorts of hangover problems of the communist era», возникших сразу после обретения независимости. После «шоковой терапии» / «shock therapy» с помощью рыночных реформ восемь бывших коммунистических государств «постепенно вернули к жизни свои экономики» / «gradually revived their economies». Например, Болгарию однажды назвали «больным Европы» / the «sick man of Europe», но по мере того как она продвигалась к вступлению в ЕС, она медленно оживала. Экономические реформы в Словакии до вступления в ЕС были показаны как ведущие к «вырождению» государства / causing the state to «degenerate», но своевременные ускоренные реформы остановили разрушительный процесс. Также они узнавали, что «все же со вступлением в ЕС связано много боли»» / «there's still a lot of pain associated with joining the EU». Кроме того, казалось, что у старых членов ЕС заразная болезнь, и они могут «заразить новичков своей политической слабостью и разлаженностью» / «infect the new with their political squeamishness and discord».
Новости Новой Зеландии в основном делали акцент на последствиях расширения для ЕС, и их диагноз был довольно печальным. Предполагалось, что старые государства-участники скорее всего «пострадают от Расширения» / «suffer from the Enlargement)) в отношении растущей безработицы и перегруженной системы социального обеспечения. В перспективе им «угрожает кровоизлияние от массового ухода рабочих мест на Восток» / «at threat, haemorrhaged by an exodus of jobs to the East». Поддержка расширения до самого расширения со стороны старых государств-участников ЕС «быстро увядала» / was «fading fast». У состоящего из 15 членов ЕС появлялся на свет ребенок, который «был рожден преждевременно и был слишком большим» / was " premature and far too big a bite». Из-за того что экономики старых членов ЕС воспринимались как слабые и из-за страха перед чрезмерной иммиграцией, Европа могла «упустить величайший шанс получить дозу энергии за все годы» / «miss out on its biggest chance for a shot of energy in years». Кроме того, был страх перед тем, что после присоединения к телу ЕС десяти «неопытных юнцов» / 10 «fledgling» new members расширенный Союз кончит «параличом» / wind up in «paralysis».
Метафоры здоровья включают образы пищи и ее потребления, которые, будучи обнаружены, были отнесены к человеческому здоровью. ЕС сравнили с «финансовым Гаргантюа» / «fiscal Gargantuan, который при своем огромном размере, «переваривая свежую пачку участников» / «digesting the latest batch of members», скорее всего, когда-нибудь съест и сам ЕС. Если бы Союз оправился от последнего приема пищи, следующей, возможно, в ход пошла бы Турция и стала бы «самой жесткой для переваривания» / «the toughest of all to digest». Хотя некоторые полагают, что «самым большим и неперевариваемым куском, который ЕС когда-либо пытался проглотить» / «the biggest and the most indigestible lump that the EU might ever try to swallow», станет Россия. Таким образом, предсказывают, что такая сложная задача, как присоединение десяти новых членов, «уменьшит аппетит» / «dampen any appetite» к последующему росту.
Пока, согласно некоторым австралийским обозревателям, будущее Европы «некрасиво выглядит» / «not a pretty sight», другие полагали, что расширение придало ЕС «новое лицо» / «new face» и это стоило отпраздновать. Расширение «драматически изменяло профиль союза» / was «dramatically altering the profile of the union». Полагали, что это «меняющееся лицо Европы» / «changing face of Europe» наверняка «значительно усилит» / «considerably enhanced» бизнес и возможности рынка. Предполагали, что после «подтяжки лица» / «facelift» ЕС сможет найти работу на глобальном подиуме, работая моделью для других «региональных блоков власти в Азии, Тихом океане, в Южной Америке и Африке».
Раньше об Австралии говорили, что она «ведет хозяйство втроем» (живет «шведской семьей») / «in a menages a trois» с Америкой и Азией, а Европа не может даже «войти в спальню» / «get in the bedroom». Европе сложно было «иметь шансы на успех» / «get a look-in», находясь в тени Азии, но сейчас Европа стала «слишком большой», чтобы Австралия ее «не замечала» / «to ignore». От «дебютантов ЕС» с их деловым потенциалом «австралийский бизнес уже облизывается» / «the newest EU debutants» with their business potential were «wetting the corporate lips of Australian business». Новые государства-участники становились «даже более близкими и более привлекательными партнерами для Австралии в области политики, экономики и культуры» / an «even closer and a more attractive partner for Australia in political, economic and cultural domains». Мало кто удивляется тому, что австралийские политики, такие как министр иностранных дел Александр Даунер и министр иностранных дел теневого кабинета Кевин Радд, после расширения предприняли командировку с целью «поухаживать за Европой» / «court Europe».
Сценарий романтических отношений также был использован для описания отношений старых и новых членов Евросоюза. До расширения государства Центральной и Восточной Европы преследовали романтические отношения с ЕС, который иногда сопротивлялся. Австралийская пресса при освещении расширения в изобилии использовала метафору романтических отношений. Официальные заявления, такие как «Европа воссоединяется» / «Europe's getting reunited» и «сегодня Европа объединяется» / «today, Europe unites», подразумевали празднование бракосочетания или повторного бракосочетания. Желая сделать союз совершенным и положить начало семье, новые члены ЕС стали подумывать о «принятии евро» (досл. усыновлении) / «adopting the euro». Кроме того, ЕС платил по обязательствам России, когда она вступила в новые отношения с Центральной и Восточной Европой. Россию тем не менее оставили в противоречивых чувствах, с огромным желанием тоже попасть в широкие объятия Европы и в страхе, что ее забудут и оставят.
Говорили, что новые члены «приняли (досл. обняли) свободный рынок с большим энтузиазмом, чем их западные коллеги» / «have embraced the free market more enthusiastically than their western colleagues», в особенности Венгрия, наиболее ярый поклонник ЕС. О ней говорили, что она «следует за своим сердцем обратно в Европу» / «following its heart back into Europe» и выдвигает себя как «стабильный партнер» / «a stable partner», чей «энтузиазм» / «enthusiasm» Евросоюзу сложно будет упустить. В случае с Польшей к ней романтично подкрадывался частный сектор Евросоюза, «присматриваясь к прибыльным возможностям, представленным многочисленной образованной рабочей силой и растущей экономикой Польши» / «eying up the lucrative opportunities presented by Poland's large, educated workforce and a growing economy». Однако этот европейский роман был представлен в австралийской прессе не как самый гладкий. Способность Европы «находить энтузиазм к новым перспективам и любопытство друг к другу» / ability to «find enthusiasm for new prospects, and curiosity about each other» были поставлены под сомнение некоторыми обозревателями. В то время как новые государства-участники были «намерены поддерживать партнерство с ЕС» / were «determined to maintain their partnership with the EU», старые члены ЕС были менее преданы этим отношениям. Как было показано в репортажах, 15 государств ЕС «тепло обняли» / «warmly embracing» лидеров девяти новых стран-участниц, «оказали холодный прием десятому – Кипру» / «giving a cold shoulder to the 10th, Cyprus». Было отмечено, что Чешская республика «имела натянутые отношения с Европой» / «endured strained relationship with Europe» в прошлом. Продолжающаяся политическая нестабильность среди новых членов сделала их «партнерами, сложными в переговорах» / «difficult negotiating partners». Также отмечалось, что новички – партнеры с «разным положением» / partners of «unequal standing» – в одной австралийской газете была приведена цитата из «Экономиста» (The Economist): «Пройдут десятилетия, прежде чем вновь вошедшие в ЕС страны станут так же богаты, как и их партнеры на западе» / «It will be decades before the new entrants become as rich as their partners to the west». Государства-подражатели богатым соседям иногда были замечены в романтических перебранках друг с другом по пути к вступлению в ЕС. Например, кандидаты на вступление в 2007 году, Болгария и Румыния, «лоббировали развод» / «lobbying for divorce» – Болгария хотела, чтобы ее переговоры прошли «отдельно от Румынии» / «decoupled from Romania».
В прессе Новой Зеландии метафора романтических отношений не была приоритетной, но когда ее использовали, она в основном передавала негативные отношения. До расширения бедные и политически нестабильные восточноевропейские государства «держали на почтительном расстоянии» / «were kept at arm's length» от ЕС. После расширения наблюдалась «новая напряженность» / «new strains» между богатыми западными европейцами и бедными восточными европейцами. «Казанова» – Евросоюз вместо поцелуев раздавал «пустые обещания» / «empty promises».
Такие проблематичные отношения характеризовались «скандалами» / «rows» и «ссорами» / «spats», «перебранками из-за бюджета и субсидий» / «squabbling over budgets and subsidies» и «ведением преувеличенных диспутов из-за власти и денег» / «tackling looming disputes over power and money», что делало их похожими на «бесконечный бой быков» / «endless bullfight», несмотря на недавнее воссоединение. Часто говорят, что ЕС использует «пряники» в качестве мотива для побуждения к проведению реформы для установления полного членства, а также говорят, что ЕС «издевается» / «taunting» над новыми членами своими обещаниями полной унификации. Между новыми членами ЕС в результате расширения завязалась драка, и даже Россия участвовала в ней, «упершись в вопросе об условиях жизни довольно многочисленной русской общественности в Латвии и Эстонии» / «digging in its heels over the conditions of the sizable Russian communities in Latvia and Estonia».
В результате писали, что и новые государства ЕС, и старые «находятся в смешанных чувствах по поводу того, какое значение это изменение будет иметь для них и для Европы» / having «mixed feelings about what this change will mean for them and for Europe». Хотя некоторые комментаторы отмечали, что «радость привела к опасениям и даже враждебности» / «joy has given way to apprehension and even hostility» со стороны и старых, и новых государств-участников, австралийские репортажи предсказывали, что «энтузиазм должен в значительной степени перевесить» тревоги / " enthusiasm should vastly outweigh» the anxiety. «Тревожность» / «anxiety», сопровождавшую расширение, считали неизбежной. Для небольших новых государств (например, для Мальты) расширение ЕС обернулось страхами, что крупные европейские государства «разорят их» / fears about being «overwhelmed» или «уничтожат» / «wiped out». Для более крупных новичков (например, Польши) результатом расширения стало чувство того, что их " предали решением ЕС отложить полное субсидирование новых членов ЕС на 10 лет» / a feeling of being " betrayed by the EU's decision to postpone the full extent of subsidies for new members for 10 years».
Во многих старых государствах-участниках ЕС воссоединение континента привело к «страху» / «fear» перед мигрантами из бывших коммунистических государств. Этот страх привел к публичной «истерии» / «hysteria» по поводу того, что старые правительства ЕС не смогут ограничить доступ новичкам к общественному жилью и пособиям. Естественно, несколько государств ЕС были замечены в «недовольном настроении» / in a " grudging mood» – многие из этих государств стали «гораздо менее уверены» / became «much less confident» в расширении.
Образы отношений, окрашенные впечатлениями и эмоциями, были среди самых очевидных в новозеландских репортажах о расширении ЕС. Доминируют образы общих страхов, которые влияют на отношения между старыми и новыми членами ЕС. Граждане 15 старых государств-участников относились к расширению или " безразлично, или со страхом» / " indifferent or afraid» – расширение вызывало «больше беспокойства, чем эйфории» / " more angst than euphoria». Возможная иммиграция из новых государств ЕС повергла некоторые государства-участники старого ЕС (например, Великобританию и Ирландию) в состояние «истерии» / «hysteria» на долгие месяцы. Сообщалось, что, чтобы «успокоить измотанные нервы» / «calm frayed nerves», Международная Организация по Миграции (IOM) в Женеве выпускает серию исследований о влиянии расширения на старых и вновь вошедших членов Евросоюза. Граждан 15 государств ЕС «преследовал призрак миграционной волны» / «spooked by hysteria over a migration wave». Новые государства тоже были показаны обеспокоенными последствиями расширения, хотя и по разным причинам. Политики-популисты в Восточной Европе «раздували волнения» / «stirring up worries», и в результате мифы о крайностях в ЕС превратились в «страшные истории» / «scare stories».
Доминантные метафоры персонификации, содержащие образы Евросоюза как клуба и семьи, пронизаны оппозициями и противоречиями. В «клубе» Евро, клубе, известном эксклюзивностью и избирательностью, богатство и зрелость старых членов ЕС была противопоставлена молодости и бедности новичков. Этот контраст подчеркивался изображением наполовину открытых или закрытых дверей, что символизирует ограниченный доступ в элитный клуб, а также роль сторожа «закаленных» членов ЕС в процессе допуска. В европейской «семье» эти параллели и контрасты продолжились в дихотомии молодой бодрости новых членов ЕС (иногда неискушенности и неуклюжести) и старых (а следовательно, более мудрых, но с недостатком энергии и энтузиазма) родительских образов пятнадцати изначальных государств ЕС. Отношения между двумя частями семьи часто натянуты и даже доходят до драки и потасовки.
2. Вторичные метафоры персонификации
Доминантные метафоры персонификации «клуб» и «семья» поддерживались отдельными метафорами, которые добавляли «остроты» к образу «социальной» деятельности расширяющегося ЕС в европейской «общественности». В Новой Зеландии встречались следующие отдельные метафоры персонификации: расширение – это поход по магазинам, расширение – это игра, расширение – это интеллектуальная / научная деятельность. Например, новые члены ЕС были заняты «покупкой благополучия» / «welfare shopping». Также расширение было представлено как игра, в которой новые члены «что-то выигрывали, но в то же время что-то теряли» / «both gaining something, but also at the same time losing something». В этой игре Евросоюз «столкнулся с обескураживающими трудностями» / «faced daunting challenges», чтобы поднять экономические стандарты новых государств до стандартов Западной Европы. Кроме того, расширяющийся Евросоюз приступал к своему «самому амбициозному политическому эксперименту» / «most ambitious political experiment). Приводилась цитата Тони Блэра, где он сравнивал вход десяти новых членов с " катализатором для изменений» / «catalyst for change» в ЕС. Иммиграция, следующая за расширением, описывалась как сложная задача, к «решению» которой Брюссель должен «быстрее приступить» / «come up with a solution quickly». Если решение не будет найдено, Евросоюз может потерять то, что является экономической возможностью десятилетия.
Как и в прессе Новой Зеландии, в австралийских газетах вступление в союз десяти новых членов рассматривалось как научная / исследовательская / учебная деятельность, где расширение являлось «катализатором для внезапного прогресса в экономических и стратегических мероприятиях» / «catalyst for sudden progress on economic and strategic challenges» и новой «главой» / a new «chapter» в европейской истории. Новые государства-участники сравнивались с элементами «сложной головоломки» / the «complex jigsaw» Евросоюза. Присутствовал и образ похода за покупками – расширенный Евросоюз был представлен в качестве «универсального магазина, где могут делать бизнес 25 разных экономик» / a «one-stop-shop for doing business in 25 diverse economies».
В отличие от дискурса Новой Зеландии, австралийские СМИ ярко выражено показывали расширение ЕС как выступление на сцене – изменение границ ЕС на восток и на юг было «драматичным» / «dramatic», риск инвестиций в центральных европейских странах был «драматически снижен» / «dramatically reduced», а мировая политическая география должна пройти «самое драматичное изменение контуров» / the «most dramatic redrawing» со времени падения Берлинской стены. Успех новых государств-участников зависел от того, как они «выступают в качестве ЕС по сравнению с тем, как они выступали вне союза» / how they «perform as EU members compared with the way they performed outside it». Некоторые новички, например, Эстония, были названы «выдающимися исполнителями» / an «outstanding performer» среди переходных экономик ЕС. Также становилась более важной «роль на международной сцене» / " role on the international scene» у Словакии. Новый, увеличенный Евросоюз иногда представлялся как импресарио шоу-бизнеса, который «продвигает идею более спокойного и более демократичного мира» / «promoting a more peaceful world… (as well as) a more democratic one».
В австралийских газетах также была представлена метафора, дополняющая метафору здоровья – метафора пробуждения ото сна. Расширение «разбудило» / «awoke» Евросоюз и подтолкнуло его к ряду политических, экономических и социальных изменений. Новые государства-участники «просыпались от глубокого советского сна» / were «waking up from the big Soviet sleep». А устранение многих тарифов и барьеров для иностранных инвестиций в новых восточноевропейских странах " пробуждало интересы иностранных фирм» / was «awakening the interest of overseas firms».
В то время как доминантные метафоры персонификации были довольно конфликтными по своей сути, вторичные метафоры были более беспечными и дружелюбными. Метафоры, описывающие расширение как поход за покупками, игры, выступление на сцене и интеллектуальную и научную деятельность, значительно отличались от скандальных образов, сопровождаемых негативными коннотациями, которые были обнаружены в доминантных метафорах, описывающих расширение ЕС как клуб и семью. Однако вторичные метафоры, из-за их относительно низкой частотности в текстах новостей, не составляют значимого противовеса доминантным метафорам, следовательно, эти категоризации не противоречат образам серьезного противостояния, которые содержатся в доминантных метафорах. Тем не менее и те и другие метафоры составляют ключевую образность, изображающую Евросоюз как человека, совершающего повседневные поступки, что делает сложное политическое явление расширения ЕС легко узнаваемым и понятным.
Выводы
В данной работе рассмотрен конкретный случай метафорической категоризации – концептуальная метафора персонификации в убеждающем дискурсе новостей. Анализ основывается на предположениях, что в дискурсе новостей «из-за рубежа» содержится большое количество лингвистических метафор и что концептуальные метафоры персонификации составляют значительную часть всего корпуса метафор, обнаруженных в текстах новостей. Соответственно, в данном исследовании было выделено несколько продуктивных кластеров поверхностных метафор, объединенных концептуальной метафорой персонификации, в австралийских и новозеландских новостях, освещающих расширение Евросоюза.
Дж. Лакофф и М. Джонсон отмечали, что «персонификация представляет собой общую категорию, охватывающую широкий круг метафор, каждая из которых основывается на специфическом свойстве человека или на способе его восприятия» [Lakoff, Johnson 2003: 34]. Что объединяет эти категоризации, так это то, что с их помощью мы можем понимать сложные феномены (включая явления внешней политики) «исходя из собственных мотиваций, целей, действий и свойств» [Lakoff, Johnson 2003: 34]. Концептуальная метафора персонификации описывала расширение Евросоюза, сложное и противоречивое событие для Европы в знакомых, «удобных» («user-friendly») терминах для международной аудитории вне союза. Метафора персонификации, будучи простой и узнаваемой, несет сильные контексту-ализированные эмоциональные коннотации и эффективно передает прагматический подтекст. Использованные в СМИ образы наций и международных организаций (в нашей работе Евросоюза) как «реальных людей», вовлеченных в различные, преимущественно конфликтные, отношения, выявляют схему связей между мировыми «соседями». В данном исследовании было отмечено, что расширяющийся Евросоюз четко описан в терминах человеческих сообществ – клуба и семьи. Их члены участвуют в сложных отношениях, активно взаимодействуют друг с другом, испытывают смешанные эмоции и имеют проблемы со здоровьем.
Использованные метафорические категоризации выявили конфликтные, драматические и негативные аспекты расширения, показав их через знакомые повседневные сценарии «клуба» и «семьи». Это было отмечено как на макро-, так и на микроуровне. Макроуровень – это уровень определения концепта: концепт клуба представляет объединение людей, основанное на выборочном членстве и общих интересах, открывающее свои двери лишь немногим избранным. В отличие от этого понятия семьи подразумевают безусловное и любезное принятие всех членов. Микроуровень конфликтной образности можно наблюдать в сценариях фреймов. И метафора РАСШИРЕНИЕ ЕС – ЭТО КЛУБ, и метафора РАСШИРЕНИЕ ЕС – ЭТО СЕМЬЯ безоговорочно разделяют старые и новые государства ЕС и дают им совершенно разные, противоположные роли. Например, старые государства-участники были описаны как родственники, которые старше, мудрее и богаче, а также как члены клуба, которые, пользуясь властью, могут допустить или не допустить в общий европейский дом более бедных и более молодых новых участников ЕС. 15 членов ЕС имели выбор приветствовать новичков любезно или прохладно, а новые страны всеми силами старались вступить в союз. 15 государств ЕС были показаны старыми и слабыми, а десять новых стран изображались молодыми и энергичными. Кроме того, фрейм «семья» вывел на первый план драматичные натянутые отношения, слабое здоровье и эмоциональный дискомфорт как старых, так и новых членов ЕС.
Р. Гоцци утверждал, что роль метафоры – выдвигать некоторые аспекты описываемого явления и в то же время скрывать другие, которые нужно проигнорировать и забыть [Gozzi 1999: 72]. Однако требования рекламы, диктующие СМИ предпочтение негатива и конфликта, превращают образ внешнего мира (в нашем случае ЕС) в матрицу противостоящих конфликтующих элементов, которые несут негативную нагрузку. Другая, несущая позитивную нагрузку образность (также возможная во фреймах «семья» и «клуб») не была доминантной в рассматриваемых текстах новостей в обеих странах Австралазии. Рассматривая наиболее явные категоризации, мотивированные концептуальной метафорой персонификации, данная работа также ставила целью осветить аспекты, на которые не обращают внимания составители новостей. Метафоры, как отмечает Ричард Бэйли, не являются неизменными [Bailey 2003], и в идеале составителям новостей и их потребителям приходится иметь дело с устоявшимися, переработанными и «готовыми к употреблению» образами.
Верно то, что метафоры «haute-couture», скорее всего, не будут регулярно встречаться в текстах ежедневных новостей. Ограничения при составлении новостей обусловлены и мастерством журналистов, и тем, что читатели новостей предпочитают знакомые и узнаваемые образы, а также их нежеланием заново категоризировать уже установленные ментальные структуры [см., напр., Boulding 1956: 6–7]. Эти ограничения усложняют включение в дискурс новостей менее известных образов. Однако такое постоянство использования образов конфликта и негатива при изображении расширения ЕС может надолго оставить отпечаток в общественном мнении и таким образом способствовать созданию стереотипа. Под стереотипом мы понимаем концепт, который одна социальная группа часто использует, говоря о другой группе, чтобы оправдать определенное дискриминирующее поведение. Р. Гоцци отмечает, что концептуальные метафоры персонификации могут «создавать ошибочное чувство о преднамеренности и сплоченности сложных мероприятий внешней политики и дипломатии, которые, в конце концов, являются результатом множества конфликтов групп и интересов» [Gozzi 1999: 63].
Исторически, экономически и культурно десять новых государств ЕС имеют мало общего с Австралией и Новой Зеландией. Хотя в обеих странах имела место иммиграция из этих новых государств-участников ЕС, количество иммигрантов (по сравнению с другими европейскими странами) невелико. Идеологические отличия между двумя тихоокеанскими государствами-членами Организации по экономическому сотрудничеству и развитию и восемью в прошлом коммунистическими странами Центральной и Восточной Европы мешали более тесному политическому, экономическому и культурному взаимодействию в годы холодной войны. В отношении торговли ни Австралия, ни Новая Зеландия не старались развивать связи с бывшими социалистическими странами. Исключения здесь – Мальта и Кипр: являясь членами Содружества, они традиционно имели больше связей с Австралией и Новой Зеландией.
При том что личное общение австралийцев и новозеландцев с жителями новых государств ЕС происходит в малой степени, новости в СМИ остаются основным источником информации о Евросоюзе [Chaban, Holland 2005]. Мы полагаем, что образность, рассмотренная в данной работе, влияет на отношение общественности и Австралии, и Новой Зеландии к взаимодействию их стран с расширяющимся Евросоюзом. Например, изображение ЕС в образе членов (которым присущи снобизм и избирательность, которые осторожны в связях) клуба, куда ограничен доступ, передает идею, что у чужаков могут возникнуть трудности, если им понадобится войти в «крепость Европу». Подобно этому образы ссорящейся семьи передают идею, что у чужаков есть шанс оказаться вовлеченными во внутренние драки в ЕС.
Однако противоречие, обнаруженное на макро-и микроуровне метафорического моделирования, показывает, что существует и другая основа общественного восприятия. «Семья» ЕС все-таки поделилась своим «общим домом», иногда открывая двери, обнимая новичков и устраивая празднования в их честь. Десять новичков были показаны полными энтузиазма, энергии и бодрости, и они могли оживить старый ЕС. Более того, противоречивость метафорических образов позволила дискурсам СМИ Австралазии передать идею того, что Евросоюз все-таки имеет значение для Тихоокеанского региона. Хотя 25 государств-участников Евросоюза изображались физически нездоровыми, они не были показаны переносчиками инфекционных заболеваний, опасных для других стран. Иногда увеличенный Евросоюз изображался слабым, больным, лишенным энергии, но ни в коем случае эти болезни не переносятся им за пределы союза. Может, Евросоюз и был показан погруженным в негативные эмоции паники и страха, но эти эмоции не отражались на других странах. Более того, было отмечено, что стремления ЕС к изменениям поощряются другими государствами (в нашем случае Австралией и Новой Зеландией). Не удивительно, что образы романтических отношений вошли в новости, освещающие расширение, именно в контексте семейных отношений.
Заключение
Евросоюз, занимаясь созданием внутреннего «бренда» (что важно для его граждан), не придает должного значения общественному мнению зарубежных стран. В данной работе показана специфика образа ЕС в зарубежном восприятии. В мире все более складываются стереотипы расширенного Евросоюза, об этом свидетельствуют рассмотренные выше два случая репрезентации расширения Евросоюза средствами концептуальной метафоры персонификации. Драматичная и сильная образность – результат этой концептуализации, так же как и прагматические импликации, возникающие при использовании этих образов в региональных публичных дискурсах, показывает необходимость систематического и регулярного анализа репрезентаций ЕС во всем мире. Без этого публичная дипломатия Евросоюза, «Золушка в мировой деятельности ЕС» («the current Cinderella of the EU's global engagement»), рискует никогда не попасть на «бал» международных отношений.
ЛИТЕРАТУРА
Bailey R. Conceptual Metaphor, Language, Literature and Pedagogy // Journal of Language and Learning. 2003. Vol. 1, № 2.
Boulding K.E. The Image: Knowledge in Life and Society. Ann Arbour: The University of Michigan Press, 1956.
Brostrdm S. The Role of Metaphor in Cognitive Semantics. Lund: Lund University, 1994.
Chaban N., Holland M. (eds). The EU Through the Eyes of the Asia-Pacific: public perceptions and media representations. NCRE Research Series No.4. University of Canterbury: NCRE, 2005.
Glynn D. Love and Anger: the Grammatical Structure of Conceptual
Metaphors // Style. 2002. Vol. 36 (3).
Gozzi R. The Power of Metaphor in the Age of Electronic Media. Cress-kill, NJ: Hampton Press Inc, 1999.
Lakoff G. Metaphor in Politics. An Open Letter to the Internet. <http:// philosophy.uoregon.edu/metaphor/lakoff-l.htm> – 1991.
Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago, 2003.
Leary D.E. Naming And Knowing: Giving Forms to Things Unknown //
Social Research. 1995. Vol. 62(2).
Leerssen J. National identity and National Stereotype. </ images> – 1998.
Manners I., Whitman R. Towards Identifying the International Identity of the European Union: A Framework for Analysis of the EU's Network of Relationships // European Integration. 1998. Vol. 21.
Santa Ana O. 'Like an Animal I was Treated': Anti-Immigrant Metaphor in US Public Discourse // Discourse and Society. 1999. Vol. 10(2).
Рекомендуемая литература
Блакар Р. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987.
Будаев Э.В., Чудинов А.П. Метафора в политической коммуникации. М.: Флинта: Наука, 2008.
Будаев Э.В., Чудинов А.П. Риторическое направление в исследовании политической метафоры // Respectus Philolo-gicus. 2006б. № 9(14).
Вежбицкая А. Антитоталитарный язык в Польше // Вопросы языкознания. 1994. № 4.
Водак Р. Язык. Дискурс. Политика. Волгоград: Изд-во Волгоград. гос. пед. ун-та, 1997.
Вольфсон И.В. Язык политики. Политика языка. Саратов: Изд-во Саратовского гос. ун-та, 2003.
Гаврилова М.В. Критический дискурс-анализ в современной зарубежной лингвистике. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003.
Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса: Пер. с фр. и португ. / Общ. ред. и вступ. ст. П. Серио; предисл. Ю.С. Степанова. М., 2002.
Клемперер В. LTI. Язык Третьего рейха: Записная книжка филолога. М., 1998.
Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем.
М., 2004.
Лассан Э.Р. Дискурс власти и инакомыслия в СССР: когнитивно-риторический анализ. Вильнюс, 1995.
Мухарямов Н.М., Мухарямова Л.М. Политическая лингвистика как научная дисциплина // Политическая наука. М. 2002. № 3.
Почепцов Г.Г. Информационные войны. М., 2000.
Романов А.А. Политическая лингвистика. Функциональный подход. М.; Тверь, 2002.
Серио П. Русский язык и советский политический дискурс: анализ номинаций // Квадратура смысла. М., 2002.
Чудинов А.П. Политическая лингвистика. М., 2006.
Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М., 2004.
Anderson R.D. Metaphors of Dictatorship and Democracy: Change in the Russian Political Lexicon and the Transformation of Russian Politics // / faculty/anderson/Metaphor13.htm.
Atkinson J.M. Our masters voices: the language and body language of politics. London, 1984.
Bachem R. Einfuhrung in die Analyse politischer Texte. Miinchen, 1979.
Benoit W.L. Seeing spots: A functional analysis of presidential television advertisements from 1952–1996. New York, 1999.
Chilton P. Analysing Political Discourse. London; New York, 2003.
Chomsky N. Language and Politics. New York, 1988.
Cold War Rhetoric: Strategy, Metaphor, and Ideology. New York, 1990.
Dieckmann W. Sprache in der Politik. Eine Einfuhrung in die Pragmatik und Semantik der politischen Sprache. Heidelberg, 1975.
Edelman M. Political Language. New York, 1977. Geis M. L. The language of politics. New York, 1987.
Fairclough N. Analysing Discourse. London; New York, 2003.
Hahn D.F. Political Communication: Rhetoric, Government, and Citizens. State College, 1988.
Handbook of political communication / ed. D. Nimmo, K.R. Sanders. Beverly Hills, 1981.
Lakoff G. The Contemporary Theory of Metaphor // Metaphor and Thought / ed. A. Ortony. Cambridge, 1993.
Lakoff G. Don't Think Of An Elephant! Know Your Values and Frame the Debate: The Essential Guide for Progressives. White River Junction, 2004.
Lakoff G. Metaphor and War. The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf. -l.htm – 1991.
Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live by. Chicago, 1980.
Landtsheer Ch. de. Function and the Language of Politics. A Linguistics Uses and Gratification Approach // Communicatuon and Cognition. 1991. Vol. 24. № 3/4. Language in politics: Studies in quantitative semantics. New York, 1949.
Musolff A. Metaphor and Political Discourse. Analogical Reasoning in Debates about Europe. Basingstoke, 2004.
Reisigl M., Wodak R. Discourse and Discrimination. London; New York, 2001.
Shapiro M. Language and political understanding. West Hanover, 1981.
The Theory and Practice of Political Communication Research. Albany, 1996.
Yule G. Pragmatics. Oxford, 2000.
Zinken J. Ideological Imagination: Intertextual and Correlational Metaphors in Political Discourse // Discourse and Society. 2003. Vol. 14. № 4.
Примечания
1
Опрос фокус-группы (focus group interview) – метод исследования, когда одновременно по специально созданному сценарию опрашиваются несколько человек, подобранных на основе сходных характеристик.
(обратно)2
«Огороды победы» (Victory gardens) – домашние огороды американцев во время обеих мировых войн, к обзаведению которыми активно призывало федеральное правительство.
(обратно)3
Благодарю свою коллегу, Веронику Коллер, за комментарии к черновику и глубокое проникновение в суть проблемы. Ответственность за данную статью я несу сама. (Нумерация сносок в цитируемых работах дана в соответствии с общей системой их нумерации в настоящем издании. – Прим. ред.)
(обратно)4
Конрад Элих и Эрон Сайкурэль убедили меня в том, что квазитеоретические понятия, применяемые для «объяснения» социальных явлений, используются в метафорическом значении; в частности это относится к «habitus» (П. Бурдье) и «стратегии» (используемой лингвистами в разных значениях; см. также [Wodak, 2004c] – личная беседа с К. Элихом и Э. Сайкурэлем). Мы все чаще объясняем сложную проблему, называя ее habitus, или стратегия, поскольку данные термины суггестивны: ничего не объясняя, они классифицируют явление на основе имплицитных и эксплицитных предположений. Однако следует понимать, что метафорическое выражение на внешнем уровне не обязательно соответствует концептуальной метафоре на когнитивном уровне.
(обратно)5
Следует отметить, что такие термины, как «стратегия, ментальная/ситуативная модель, контекст, эпизодическая/долговременная память, фрейм, схема, сценарий» и другие, используются в социальной науке в различных значениях. Из-за ограничений в объеме статьи я не могу представить обзор многочисленных работ по данной тематике и детально остановиться на этих понятиях. Я рекомендую читателям литературу, в которой вышеупомянутые термины рассматриваются в значениях, используемых в данной статье [Schank, Abelson 1977; van Dijk, Kintsch 1983; Van Dijk 1984, 2003, 2005; Wodak 1996; Moscovici 2000; Reisigl and Wodak 2001; Lakoff 2004]. Кроме того, я не принимаю во внимание тот факт, что недавно вновь был затронут дискуссионный вопрос о биологической/социобиологической природе когнитивных/лингвистических концептов и теорий [Chilton 2005], поскольку, на мой взгляд, еще не приведены убедительные аргументы и эмпирические результаты, их подтверждающие.
(обратно)6
Подтверждение приведенных в статье результатов – проект ЕС КСЕНОФОБ, в котором исследуются проблемы дискриминации иностранцев в области образования, предоставления работы и жилья, репрезентации в периодической печати на территории восьми стран ЕС [см. Delanty et al., в печати].
(обратно)7
Из-за ограниченного объема статьи невозможно привести подробные примеры дебатов в СМИ, письменных жанров (листовки, постеры, лозунги) избирательной кампании в Великобритании 2005 года. Недавно проблема иммиграции была вновь затронута партией консерваторов. Однако нынешние дебаты интертекстуально связаны со многими тенденциями прошлых дебатов, например, в текстах правых и крайне правых сил (листовка, упомянутая выше). Я благодарна Елене Семино за лекцию «Метафоры в политическом дискурсе» (Ланкастер, 15 февраля 2005 года), в которой приведены некоторые важные примеры.
(обратно)8
Термин «политический дискурс» может употребляться в широком смысле, в отношении к любому дискурсу, в котором имплицитно присутствует борьба за социальные ресурсы. Однако в данной статье я использую термин в узком смысле, в отношении к дискурсам, продуцируемым конвенциональными политиками, такими как правительственные чиновники, либо не политиками, которые мотивированы необходимостью отвечать на заявления, сделанные политическими деятелями.
(обратно)9
Лакофф (1993), а также Холиоук (Holyoak) и Тагард (Thagard) (1995) используют термины «источник» и «мишень». Джентнер (Gentner) и ее коллеги (2001) предпочитают «основание» и «мишень», а Глаксберг (Glucksberg) и его группа употребляют термины «средство» и «тема» (1999). В настоящей работе мы используем термины «источник» и «мишень».
(обратно)10
См. [Wee 2006a, b], где детально рассматриваются теоретические основания приведенных примеров с точки зрения взаимодействия метафоры, культуры и процессов познания.
(обратно)11
Xотя открытых заявлений премьер-министр не делал, ему присваивается точка зрения, согласно которой НУС развивается по модели Гарварда, ТУН – соответствует ТИМ. Например, в (5) ср.: «Национальному университету Сингапура (НУС) и Технологическому университету Наниянга (ТУН) необходимо стать азиатскими Гарвардом и ТИМ». Здесь не хватает слова «соответственно». Частично причиной может быть то, что в названиях ТУН и ТИМ присутствует слово «технологический».
(обратно)12
Проект был основан с целью изучения связи между восприятием Евросоюза обществом, элитой и СМИ в четырех азиатских странах Тихого океана – Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Тайланда. Проект состоял из трех частей. Для получения данных по трем группам применялись различные методы – контент-анализ местных СМИ, социологические исследования и подробные интервью с представителями политической, деловой и медиа элиты.
(обратно)



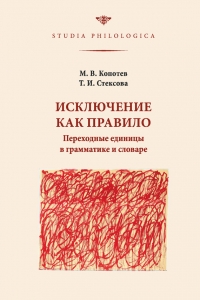

Комментарии к книге «Зарубежная политическая лингвистика», Анатолий Прокопьевич Чудинов
Всего 0 комментариев