1. О морфологии в широком смысле и о морфологии загадки в частности, а также О характере предстоящего исследования
Загадка загадочна не только для того, к кому она обращена для разгадывания, но в еще большей мере для того, кто хочет понять, что она такое. Этот трактат посвящен загадке загадки.
Название этой книги напомнит искушенному читателю о «Морфологии сказки» В. Я. Проппа (1928). Это обязующее соседство, и оно сразу же требует пояснения. Волшебная сказка – именно волшебной, а не всякой, сказкой занимался Пропп – отличается не только содержанием, но и внутренней организацией, повторяющейся с некоторыми просчитываемыми вариациями из повествования в повествование. Пропп установил, что жанр волшебной сказки определяется устойчивой последовательностью из тридцати одной повествовательной функции, то есть положений и действий группы сказочных героев, которых в нормативной сказке всего семь. Морфология сказки – это структура последовательности сказочного повествования. Понятие морфологии, таким образом, относится у Проппа к синтаксису повествования, и книга его могла бы называться «Синтаксис сказки»; но Пропп понимал морфологию в известном более широком смысле, чем это принято в грамматике; это значение вполне может быть распространено и на синтаксис, который можно определить как морфологию предложения. Читатель же «Морфологии загадки» должен с самого начала быть предупрежден, что речь пойдет не о приложении или продолжении идей Проппа, а о морфологии в том смысле, какого требует наш особенный предмет; с последовательностью повествовательных функций этот смысл ничего общего не имеет, потому что морфология загадки разворачивается в иных измерениях.
Теперь о понятии морфологии в широком смысле. Своей наиболее влиятельной формой оно обязано области изучения и приведения в систематический порядок многообразия форм живого мира. Проницательный наблюдатель природы, Карл Линней, в XVIII веке предложил грандиозную систематику форм растительной жизни (Carolus Linnaeus, «Philosophia botanica», 1751), описав части растения в сопоставительных терминах. Жан-Батист Ламарк, исходя из представления о тенденции природы к прогрессивному усложнению, построил систематику мира животных, расположив их формы в порядке усложнения и отождествив этот морфологический порядок с историей возникновения видов (Jean-Baptiste Lamarck, «Philosophie zoologique», 1809). Этьен-Жоффруа Сент-Илер сформулировал принципы систематики живого мира на основе созданного им представления о его единстве; в его основе лежит понятие организма как интегрального целого, обладающего единством плана соединения органов, который превалирует над их формами и функциями; многообразие же организмов предстает как вариации в рамках этого единого архетипического плана (ÉtienneGeoffroy SaintHilaire, «Philosophie anatomique», 1818). Такова естественнонаучная классика, в рамках которой процвела идея морфологии. Ее база – осмысление организма и мира организмов как систематического единства. Ее более специальный результат – связь идеи морфологии с идеей единства организмического типа, мыслимого в отличие от единства механического.
Далее случилось так, что понятие морфологии стало распространяться и закрепилось наиболее влиятельным образом за двумя областями знания, в результате чего возникли два не совпадающие представления о ней: одно связано с эволюционной теорией, другое – с лингвистикой.
По отношению к живому миру возобладала точка зрения, согласно которой считается очевидным, что, выстроив формы жизни в ряд от простейших к сложнейшим, мы получаем историческую перспективу. Так морфология оказалась накрепко связана с естественной историей и генетическим аспектом живых форм. Последовавшая отсюда эволюционная теория представляет собой результат введения исторического, а точнее, диахронического измерения в поле морфологического разнообразия. Так, умозрительная морфологическая теория Й.В. Гете, оказавшая большое влияние на научную мысль Запада в различных ее областях, относится к эволюционному типу. Она идет дальше очевидного и прозревает в сложной форме простую архетипическую идею, реконструирует ее как исходную форму, или праформу (die Urpflanze «пра-растение», das Urtier «пра-животное»), уже определяющую тип феномена в его развитии – из нее могут быть выведены все последующие сложные формы (J.W. Goethe, «Hefte zur Morphologie», 1817-22, 1823-4). По аналогичному пути пошел Чарльз Дарвин (Charles Darwin, «On the Origin of Species», 1859). В точности следовал Гете и Александр Николаевич Веселовский, создатель исторической поэтики: он выводил весь сложный мир литературных форм из простейших, которые он, за неимением возможности их наблюдать, постулировал («Из введения в историческую поэтику», 1894).
Лингвистическое понятие морфологии скорее напоминает линнеевский, чем ламаркианско-гетевско-дарвиновский, подход. Морфология выясняется в рассмотрении синхронического состояния языка как системы, в отвлечении от эволюции языка, которая составляет отдельный план рассмотрения. Наблюдения над историей языка не ведут к представлению о прогрессивном морфологическом усложнении – в истории естественных языков заметнее упрощения морфологии. Морфология языка представляет собой классификацию «частей речи», выделение типов слов по складу, формоизменению и функциям в предложении. Под лингвистической морфологией подразумевается дисциплина, которая изучает внутреннее строение лишь одного уровня языка, лексического, и выделяет типы компонентов слова: ядро, носитель устойчивого смысла, и переменные частицы при нем, вносящие разнообразные коннотации и функциональные значения, а также устанавливает формы их сочетания и возникающие в этой связи предсказуемые ряды словоизменения и менее предсказуемые ряды словообразования. Морфология предложения, то есть более высокого уровня организации языка, обычно называется синтаксисом; но это чистая условность. Мысль Проппа своеобразно черпала как из лингвистического источника, так и из естественнонаучного, особенно из философии Гете.
Важный для нас вывод из этих кратких наблюдений над употреблениями понятия морфологии, заключается в том, что оно неоднозначно; оно имеет различный смысл в применении к различным предметам и соответствует своеобразию предмета.
Наблюдения над народной загадкой – речь пойдет именно о народной загадке, а не о загадке вообще, – привели автора этого трактата к необходимости сформулировать морфологическую перспективу, которая ничего общего не имеет с пропповой. Предлагаемая концепция вообще не укладывается в логическую формулу, как это имеет место у Проппа. Она, с одной стороны, сопоставима с тем общим, что есть и в биологической и в лингвистической морфологии: систематизацией форм. С другой же стороны, она отличается как от лингвистической, так и от биологической концепций. В ней по-иному рассматривается исторический аспект морфологии. Если в лингвистике синхронический план морфологии и ее история предстают в различных разрезах наблюдения, то для загадки оказалась важной неразрывность этих планов. При этом изучающему загадку приходится отказаться и от принятого в науках о формах жизни постулата о прогрессивном развитии от простого к сложному. Это не абстрактно-теоретическая позиция – таково, как мы увидим, требование самого предмета. Пытаясь разглядеть сквозь морфологию черты истории, эта работа не следует никаким готовым эволюционным моделям; то, как история загадки проглядывает в попытках ее реконструкции, скорее, бросает вызов привычным представлениям. А кроме того, в отличие от биологического принципа преобладания формы над функцией, для загадки понятие морфологии, как и у Проппа, имеет смысл как структура функциональных компонентов (хотя и совсем другого рода).
Эта работа посвящена исследованию морфологии загадки в неразрывной связи с функциональным и историческим планами, с ее местом в жизни общества и практикой загадывания и разгадывания. В этом контексте получает разъяснение метафора генетического кода, используемая в этой книге. Фольклористика нашла и зафиксировала загадку на излете древней традиции. Загадка была запечатлена с чертами упадка, которые не сразу были признаны. Понятие генетического кода означает те особенности загадки, которые на материале записанных в новое время ее форм реконструируются в качестве фундаментальных черт ее полнозначного состояния в прошлом, а также те особенности загадки нового времени, которые разъясняются их происхождением от древних. На этих страницах загадка предстанет как особая, единственная в своем роде фигура, или троп, чья сложная форма поддается обозрению в сводке результатов реконструкции генетического кода, помещенной в конце книги. Это и будет морфологическим определением загадки. Компактному определению в виде формулы загадка не поддается.
Чтобы получить предварительное представление о сложности, многогранности народной загадки, стоит только задуматься, в вéдении каких наук она находится. Прежде всего она является предметом целого ряда дисциплин филологических. Фольклористы выделяют загадку как жанр устного народного творчества, записывают ее из устной передачи, устанавливают географию ее распространения и классифицируют ее. Лингвистические знания требуется привлечь для прояснения особенности речевых форм, которыми пользуется загадка, а также для ее комментирования, так как она изобилует редкими диалектальными особенностями и отклоняющейся от стандартной логики грамматической структурой. Для рассмотрения ее как особенного текста требуются литературоведческие понятия, плавно переходящие в стилистику, лингвистическую поэтику и семиотику, потому что загадку приходится рассматривать как стилистическую странность, уникальную фигуру речи со специфически организованным планом выражения и как особый тип сигнификации. Функционирование загадки в ритуале устной традиции делает ее предметом антропологии; а связь устной традиции с определенным состоянием общества – предметом социологии. Наблюдение изменений традиции, передающей загадку, в связи с историей общества помещает загадку в область исторической науки. Загадка как форма некоторой речевой традиции представляет собой предмет теории культуры, в рамках которой ее уместно рассматривать как жанр культуры. Так как функционирование загадки интимно связано со своеобразной конфигурацией выражения, восприятия и переживания, то существен и ее психологический аспект, уходящий в глубинную психологию, то есть соприкасающийся с психоанализом. А в качестве особого феномена, которому соответствуют особая установка сознания и особая модальность предмета, возникающего в этой установке, иначе говоря, интенционального предмета, загадка становится предметом феноменологии. Поскольку морфологическая классификация, проведенная не формально, а по существу, переходит в таксономию, которая всегда является уникальной проблемой на любом данном стыке природы или истории с разумом, то логика загадки выходит за рамки формальной логики и побуждает нас воздерживаться от абстрактных рационализаций и настороженно относиться к требованиям логики, основанной на самом общем уровне опыта. Загадка, таким образом, предмет многоаспектный и полимодальный. Последнее понятие означает, что различные ее аспекты подлежат закономерностям различной природы и должны рассматриваться в различных концептуальных системах координат. И в этом качестве, наконец, она для своего понимания требует разработки особого пути постижения, или герменевтической стратегии, которая бы обеспечила переходы от одного аспекта к другому не в виде эклектической склейки, а так, чтобы процесс постижения отражал бы порядок исследовательской необходимости, разворачивал бы внутренний, имманентный строй нашего предмета. Выявить этот уникальный строй, не укладывающийся в рамки какой-либо одной последовательной дисциплины, – главная задача исследования.
Спешу тут же добавить, что читатель не будет отдан на милость специальных теорий всех указанных наук. Загадка тем и привлекательна для данного автора, что ее своеобразие требует свежего подхода. Я не буду извлекать, как кроликов из шляпы, готовые теории выше перечисленных наук и прилагать их к загадке, или подводить ее под них, а, наоборот, попытаюсь показать, какой свет уникальное бытие загадки проливает на теории причастных наук, что может обернуться для них удачей. Так что понятийный аппарат будет разворачиваться на глазах читателя, исходя из особенностей нашего предмета и не требуя никаких ссылок на готовые теории. Но именно поэтому требуя недремлющего внимания.
Из сказанного может сложиться впечатление, что у автора этой работы есть некоторая готовая теория, исходя из которой он рассматривает загадку. Такой теории нет, и более того – автор категорически не признает приложения готовых теорий к еще неизведанному предмету. Предстоящее исследование строится, как говорят инженеры, по месту, в соответствии с требованиями самого предмета. И опять-таки речь идет не об эклектическом подходе, не об использовании разнородных понятий, удобных в данный момент, а о последовательной критической разработке концепции – она должна родиться на глазах у читателя из требований предмета изучения. Она должна возникнуть из пересмотра очевидностей, из открытия заслоненных ими проблем. В этой стратегии важен элемент непредрешенности. Но, хотя каждый последующий шаг не предопределен заранее, задача заключается в том, чтобы он вытекал из предыдущего и прокладываемый путь разворачивался бы в стройную, хотя и не формальную, логику исследования. Обоснование каждого шага заключается в распознавании ограниченности перспективы данного момента и открытии необходимости перехода от одной точки зрения к другой. Такая стратегия исследования имеет целью быть имманентной своему предмету и может быть просуммирована только в конце пройденного пути, a posteriori. Но она должна быть оправдана и понятна в каждый отдельный момент.
Тактику этого трактата можно определить как топтание на месте, или хождение по кругу, потому что нашим основным занятием будут размышления о том, как мыслили наши предшественники. Именно работа наших предшественников составит вторую точку опоры, наряду с самим предметом. Мы будем вновь и вновь проходить территорию, пройденную предыдущими исследователями, чтобы слой за слоем отрефлектировать их работу, увидеть перед лицом самой загадки то, что на самом деле предстало перед ними, в отличие от того, что они сказали (ибо исследователь всегда зависит от установок и языка своей эпохи), и разглядеть то, чего они не разглядели, – этот процесс будет подсказывать нам каждый следующий шаг.
Такой рефлексивный подход к делу отличает предстоящее исследование от господствующего ныне стиля, согласно которому можно забыть об усилиях предшественников, живших в эпохи кустарных усилий ума, и прямо подвести интересующий предмет под ясный свет какой-либо общей теории, принятой за окончательное слово науки. Сознательно или нет при этом опираются на предпосылку, что предмет уже находится в наших руках, важен лишь язык его описания. Но предмет познания зависит от способа наблюдения – этим пониманием, увы, пользуются больше физики. Предмет исследования становится научным предметом не тогда, когда он формулируется на языке некоторой теории, а тогда, когда он осмысливается как проблема, когда мы задаем себе вопрос о том, как мы его мыслим и какой ценой мы защищаем нашу мысль от сознания ее несовершенства. Вряд ли мы можем полностью отдать себе в этом отчет, но без рефлексии, без попытки ввести в светлое поле сознания источники нашей мысли и линии своих защит – и предмет наш не может быть осмыслен как проблема. А без проблематического подхода к предмету, мы имеем дело с фабрикацией фикций, не с познанием. Между тем проблематика уже ждет нас в истории уже осуществленных усилий познания, стоит только внимательно их рассмотреть.
Книга эта представляет собой не столько авторский перевод, сколько переработку, английского издания: Savely Senderovich, «The Riddle of the Riddle: The Study of the Folk Riddle’s Figurative Nature», London: Kegan Paul, 2005. Книга попала в short list на премию Катарин Бриггс британского Folklore Society, но это не освобождает автора от признания, что исследование, длившееся четверть века, в этом английском издании изложено неудачно: конспективно до невнятицы и местами неточно. Я надеюсь, в нынешнем виде изложение стало отчетливей.
2. Народная загадка при первом знакомстве, или О том, как несправедливо называть незнакомца добрым знакомым
Чтобы исследовать народную, или фольклорную, загадку, хорошо бы в точности знать, что мы имеем в виду. И тут мы сразу же наталкиваемся на трудности – во всяком случае должны натолкнуться. Большинство пишущих о загадке приступает к делу так, будто предмет этот очевиден: загадка загадывается в расчете на разгадку, следовательно, ее можно определить не мудрствуя как текст в форме вопроса и ответа. Начавший так, сразу же попадает в ложное положение: существует множество видов текстов в виде вопроса и ответа; фольклорная, точнее, народная загадка похожа на любой из них не более, чем кит на медузу, при том что и тот другая относятся к категории живых организмов, обитающих в воде. Начав с того, что народная загадка со всей очевидностью имеет форму вопроса и ответа, мы едва ли когда-нибудь добредем до понимания специфики нашего жанра. По крайней мере, такого до сих пор не случилось. Со времен Галилея аналитическому мышлению пристало относиться к очевидностям с осторожностью.
Энигматика, или, иначе, область загадочных вопросов, включает множество жанров – от священных до профанных. Сюда входят такие древнейшие почтенные жанры, как вопросы в ведийских гимнах, касающиеся космологических, мистических и священных предметов; вопросы на проверку мудрости, вероятно, подобные тем, с которыми царица Савская приехала к царю Соломону, чтобы проверить его легендарную мудрость (они названы загадками, арам. сhidot [ед. число chidah]; 3 Царств 10:1); таинственные вопросы, задаваемые на состязаниях мудрецов в буддийской традиции; философские вопросы, задаваемые друг другу древнегреческими мыслителями; и скандинавские кеннинги, требующие знаний в области национальной культуры и в дополнение – остроумия. Во многих традициях существует так называемая шееспасительная загадка (das Halslösungsrätsel), ответ на которую определяет выбор между жизнью и смертью вопрошаемого. Существуют развлекательные вопросы на сообразительность, касающиеся чисел, слов и букв.[1] Ребус требует, чтобы совокупность представленных вещей или образов была прочтена как слово или фраза. Существуют замысловатые вопросы типа «Как сделать, чтобы…?». Есть вопросы, которые дают достаточно информации для того, чтобы сообразительный ум нашел ответ, но есть и вопросы, задаваемые в сказках, на которые можно ответить только зная ответ, а для этого требуется волшебный помощник или исключительная удача, то есть помощь со стороны судьбы. Нередко называются загадками вопросы, проверяющие знатока на знание деталей в какой-либо области; таковы, например, вопросы на библейские темы. Существует жанр литературных загадок, созданных поэтами. Некоторые из них вошли в устную традицию и в этом смысле могут рассматриваться как фольклорные, тем не менее к жанру народной загадки большинство из них не относятся – дело не в происхождении, а в характере. Поэтому следует отличать широкую категорию загадки из устной традиции от более узкой – народной, то есть не только функционирующей в устной передаче, но созданной народом в рамках специализированной традиции. Народная загадка, возникшая в особых условиях жизни общества, отличается от всех названных выше. Это жанр отличен не только от любого из названных, но и от всех иных жанров энигматики в совокупности – как большой палец противопоставлен всем остальным, взятым вместе.
Любой жанр энигматики, кроме народной загадки, можно отчетливо определить правилами. Народную загадку на глаз, пожалуй, и узнаешь, но не ухватишь ее правил по существу. Это не разновидность загадки в широком смысле, а совершенно особый жанр, лишь при поверхностном взгляде попадающий в ряд других. Народная загадка стоит сама по себе. Имея с ней дело, мы, вероятно, прикасаемся к началам человеческой культуры. Профанная забава, которую мы находим валяющейся под ногами, что-то вроде сорной травы культуры, которую к высоким ее областям относить не принято, должно быть, является реликтом ее оснований. Забегая вперед, можно сказать, народная загадка с антропологической точки зрения является не только особой речевой культурой, но и особой архетипической деятельностью, общественным институтом. Именно в качестве жанра культуры, а не просто словесного жанра, народная загадка имеет неясную и замысловатую внутреннюю форму и не поддается поверхностному определению. Чтобы понять, что такое народная загадка, нужно учиться задавать ей необщие вопросы.
Загадка говорит на древнем языке – мы его утратили и слышим на своем. Положение трудное, но не безнадежное, потому что мы все же обладаем фактическими сокровищами загадки. То, чем мы располагаем, – это не подлинные древности, а развалины древней культуры, и только осторожная археологическая работа может привести к реконструкции форм ее некогда полноценного существования.
Хотя очевидного и простого определения народной загадки мы не знаем, можно указать на признаки, которые делают ее узнаваемой и довольно-таки отличимой от любого другого загадочного жанра. У народной загадки есть индивидуальное лицо – речь идет о несхематических признаках, то есть о таких, какие трудно подвести под понятие, но они выделяют индивидуальность. Некоторые из них сами по себе присущи не только нашему жанру, но их совокупность в определенной конфигурации показательна в высокой степени. Обращаю внимание на осторожность этого выражения: «показательна», не более того.
Во-первых, народная загадка отличается формальными стилистическими признаками: она компактна, она чаще всего состоит из двух коротеньких фраз – Бежит боровок, / Разбитый лобок – и этим сильно отличается от литературной, которая даже подражая народной может быть довольно многословной. Значение этой особенности проясняется в сочетании со следующими чертами. Во-вторых, народная загадка не столько задает трудный вопрос, сколько говорит на темном языке и предлагает неясные образы; этим она решительно отличается от вопроса, рассчитанного на рациональное усилие, то есть от большинства энигматических жанров. В-третьих, народная загадка как независимый жанр отличается от загадок, связанных внешним контекстом: ее решение не зависит от каких-либо специальных знаний, таких, как знание священных текстов или математики; не зависит оно и от какого-либо своеобразного повествовательного контекста, как это обстоит с загадками в волшебных сказках. В-четвертых, народные загадки, будучи независимыми, самостоятельными текстами, тем не менее обретаются в обширных корпусах родственных текстов; то, что их публикуют сборниками – не внешнее обстоятельство. Множественность относится к основе бытия загадки, является ее онтологическим свойством. Народная загадка не может существовать иначе, чем в массовом порядке, тогда как загадка любого другого рода лишь допускает, но не предполагает существования ей подобных.
Идет свинья кувика, / С обоих концов увита (Садовников 1876 [в дальнейшем С] 381). Кто догадается, что речь здесь идет о бочонке? Загадка эта кратка, темна по языку и образу, не обращается ни к каким общим понятиям, образность ее явно избыточна и цветиста при крайне скупых средствах, и сформулирована она даже не в форме вопроса, хотя и подразумевает вопрос «Что это такое?», – вопрос предполагается самой жанровой принадлежностью текста, ритуалом загадывания-разгадывания. И она находится в корпусе родственных текстов – перекликается с другими в том же собрании по метафорическому предмету: С388. Несут свинью к овину, / На обоих концах по рылу. – Корыто. Рядом с этой загадкой предыдущая становится яснее, если не по значению, то по языку. В несколько более отдаленном родстве находятся следующие загадки: С161. Бежит свинья из Гатчина, / Вся испачкана. – Трубочист; С615. Шла свинья из Питера, / Вся истыкана. – Наперсток; С365. Шла свинья из Саратова, / Вся исцарапана. – Терка; С2438. Идет свинья из Саратова, / Вся исцарапана. – Рогожа; C1168. Шла свинья из овина, / Размыкавши сено по рылу. – Вилы; С1625. Идет свинья из болота, / Вся испорота. – Бредень. Ясно, что свинья – это довольно общий заменитель, так сказать, загадочное местоимение; и все же было бы ошибкой принять этот мотив за абстрактного заместителя, заменимого любым другим, – не всяко лыко в строку, свинья чем-то особо мила загадке.
А вот загадки, родственные приведенной выше (С381) по принципу их сложения: С237. Бежит волчок, / Выхвачен бочок. – Залавок; С310. Крива сука / В кувшин глядит. – Кочерга; С358. Бежит котик, / Разинувши ротик. – Сковородник. Каждая из этих загадок в свою очередь имеет родственников по другим признакам. Так, последняя загадка использует повторяющийся мотив: С115. Сидит Арина, / Рот разиня. – Труба на крыше; С715. Стоит волчище, / Разинув ртище. – Колодец. Таким образом корпус загадки (национальный или региональный) оказывается пронизанным сетью родственных отношений – по лексике, или мотивам, и по формуле, или парадигме. Будем называть их материальными. Народная загадка имеет место в рамках события загадывания загадок – многих загадок, не одной, и это обстоятельство предопределяет отношение к каждой отдельной.
Особые отношения у загадки с логикой. Не то чтобы загадка была совсем иррациональна, но она заигрывает с алогичностью. Загадка описывает некоторый предмет, но отнюдь не в каком-либо основательном смысле, который бы давал понятие о нем. Иначе говоря, она описывает свой предмет, не подводя его под его понятие: понятия опираются на существенные признаки предмета, а загадка отмечает его второстепенные. Хотя образ предмета не противопоказан понятию – понятия предметов опираются на некоторый обобщенный образ (греческое ίδέα «идея» однокоренное с εἶδος «образ»; родство этих понятий обыгрывает Платон), – образ, предлагаемый народной загадкой, удален от понятия. Это особенное условие – искусственное и связанное с искусством. Свинья кувика – значит что-то вроде «жалобно стонущая». Можно сказать, загадка обращается к наблюдательности и способности воображения, намеренно минуя рациональную способность. Только вряд ли стоит видеть в этом некую «дорациональную стадию» человеческого сознания. Скорее народная загадка играет с рациональностью, с привычными понятиями и даже рассчитывает на них, как на естественную помеху. В этом отношении нам предстоит еще многое выяснить.
Наблюдательному читателю до всякого анализа бросается в глаза, что народная загадка своеобразно поэтична и даже бьет через край в своей образности при том, что пользуется с виду примитивными, весьма сдержанными и как будто даже недостаточными средствами. Разворачиваемая предварительная характеристика загадки опирается на доаналитические стилистические наблюдения и все же обращена к наблюдательности, подвергающей очевидности испытанию. Это еще не определение жанра; такому определению посвящено все дальнейшее исследование. Жанр народной загадки трудно поддается строгому определению – он лукаво использует множество путей уклонения от рациональности, и это обстоятельство соответствует его природе. Поэтому исследование путей уклонения загадки от рационального разгадывания должно быть частью стратегии разгадывания ее сути.
Если мы попытаемся обозреть народную загадку в антропологическом плане как один из жанров речевой культуры, то картина для начала может быть охарактеризована следующим образом. Народная загадка – один из самых древних речевых жанров. Она относится к числу элементарных, минимальных форм устной традиционной культуры,[2] как пословица, и этим отличается от повествовательных жанров. В отличие от повествования, или нарративной речевой модальности, загадка является представителем речевой модальности, которую следует назвать фигуративной. Она представляет собой не повествование, не последовательность событий, а фигуру речи, образованную некоторой сшибкой речевых компонентов; причем она, вероятно, превосходит сложностью любую другую известную фигуру. Исследование фигуративной природы народной загадки неизбежно, если и не очевидно, попадает на контрастный фон представления о повествовании.
В истории культурного самосознания народная загадка привлекала внимание как хранилище традиционной народной мудрости в сочетании с поэтическим воображением. Загадки собирали и ими забавлялись едва ли не с начала литературной культуры. Именно в качестве нелитературного и долитературного другого самой литературы привлекала внимание народная загадка. Ее образцы можно найти в составе древнейших литературных памятников, например, на ассирийских клинописных таблетах, в библейском Пятикнижии и в античных рассказах о Гомере.
Замечательной и крайне загадочной особенностью народной загадки является ее повсеместность. Она найдена на всех материках и едва ли не во всех типах культуры, как бы далеко они ни расходились в пространстве и времени. Загадочность этого обстоятельства достигает высокой степени в силу того, что народная загадка в самых далеких друг от друга культурах как будто обнаруживает по крайней мере некоторые черты фамильного сходства. Я говорю «как будто», потому что вопрос этот не изучен. Различия же при сходстве могут быть отнесены за счет различных судеб разных культур – в одних происходят утраты, в других архаические черты сохраняются хорошо и даже возникают обогащающие модификации. Неизученность этой проблемы – одна из кардинальных, быть может, критических трудностей для аналитического подхода. Во всяком случае повсеместность загадки говорит об ее архаичности и близости к корням культуры.
Собрания загадок с параллелями из разных языков были известны с давних времен, но сравнительное изучение возникло только в XIX веке. В 1877 г. вышел сборник Эжена Роллана (Eugène Rolland) «Divinettes ou Énigmes populaires de la France» («Популярные загадки Франции»), в котором к некоторым французским загадкам были подобраны параллели из других языков. Сборник вышел с предисловием Гастона Париса (Gaston Paris), известного лингвиста и одного из основоположников сравнительного литературоведения, который нашел интригующим то обстоятельство, что сходные загадки находимы в разных языках. В духе современной ему новейшей лингвистической науки он отметил естественность родства загадок в рамках индоевропейской семьи языков, родства, которое, по-видимому, восходит к наиболее ранней стадии в развитии этих языков, когда они еще не дифференцировались из общей колыбели. Он высказал и далее того идущую гипотезу: если параллели найдутся между загадками, принадлежащими различным языковым семьям, то это может означать типологическое родство стадий культурного развития всего человечества (Парис 1877). В следующем веке наличие далеко идущих и обширных параллелей между загадками из языков неродственных семейств и из различных частей света стали очевидны. Поразительно богатую коллекцию таких параллелей представил Арчер Тэйлор (Archer Taylor) в «English Riddle from Oral Tradition» («Английская загадка из устной традиции», [Тэйлор 1951]). Это собрание англоязычных загадок из всех регионов распространения английского языка на обоих полушариях Земли предстает в сопровождении параллелей едва ли не к каждой единице, приведенных из большого числа разноязычных и разнокультурных коллекций из всех частей света.[3] Параллели приводятся и во вступительных обзорных статьях к каждому разделу, и примечаниях к отдельным загадкам. Сама масса сравнительного материала впечатляет. Разумеется, сходства – это лишь одна сторона дела; расхождения не менее важны, но они не изучены. Сравнительное изучение загадки остается делом будущего.
Ничего подобного хотя бы схематической систематике мирового фонда пословицы, которую начертал Г. Л. Пермяков (Пермяков 1968), для загадки не существует. Это не удивительно, потому что проблема загадки много сложнее. Пословица определима с достаточной степенью убедительности в рамках логической классификации (см. там же: 918), но этого не скажешь о загадке. Понятно, что сомнительным представляется сравнительное изучение феномена, смысл которого неясен и ускользает. Каждый, кто вступает в обширную область научной литературы о народной загадке, сталкивается с тем, что в ней не существует ни отчетливого, ни хотя бы многими принятого определения ее предмета.
В этой работе будет критически рассмотрена и продолжена стратегия, которой не рефлектируя придерживались все те исследователи народной загадки, чья мысль с моей точки зрения была плодотворна. Замечательно то, что плодотворные исследования составляют некоторую последовательную и доминирующую в определенный период традицию. Желая присоединиться к ней сознательно, а не только инструментально, отмечу ее ограничение. Речь идет о европоцентрическом исследовании загадки. В этом отношении выделение языковой семьи не существенно, так как фольклор не знает границ и имеет обычай распространяться по географической смежности, не взирая на различия языков и даже языковых семейств.
Европоцентрический подход заведомо не может претендовать на универсальные результаты, и все же он оправдан двумя важными соображениями: 1) европейская загадка оказывается наиболее сложной и уже поэтому представляет наибольший интерес, о чем косвенно свидетельствует указанная исследовательская традиция; 2) обнаруженные до сих пор обширные параллели к европейской загадке из других частей света, пусть в силу непонятных еще обстоятельств, позволяют считать европейскую загадку репрезентативной для жанра по крайней мере условно, пока сравнительная перспектива не разработана. Я буду пользоваться сведениями о неевропейской загадке не в поисках недостающих аргументов, а лишь дополнительно, в поддержку того, что нам известно из европейской, и еще потому, что хочу держать дверь открытой возможностям более широкой концепции. Сложность европейской загадки, быть может, свидетельствует в пользу того, что в ней сохранились наиболее древние черты жанра. В дальнейшем я подробнее рассмотрю это предположение в контексте мыслей ее автора, Арчера Тэйлора, попытаюсь ее уточнить и показать ограничения, с нею связанные.
3. Трудности определения загадки. Как мы отражаемся в предмете нашего познания, или О древнем чувстве сложности и новейшем редукционизме
…какие у нас сложились привычки, такого изложения мы и требуем.
Аристотель, «Метафизика» 2.3 [995а.1].Удовлетворительного понимания загадки до сих пор не существует; тем не менее мы можем погрузиться в историю этого понимания в надежде найти там по крайней мере плодотворные ходы мысли.
Интерес к голосам народов, возникший в рамках антропологической мысли пост-ренессансного времени, был вызван желанием услышать и понять не только классическую древность, но и дальние культуры, включая и развитые, и примитивные. В связи с созревшей охотой к собиранию попало в поле научных интересов и то, что было под ногами всегда. Собирание народного творчества, нараставшее с XVI по XVIII век, стало филологической дисциплиной фольклористикой в начале XIX века. Интерес к экзотическому продолжал оставаться мотивом к собиранию, так как оказалось, что экзотика может быть найдена рядом, а непонятным может быть и язык ближайшего окружения, своего народа. А так как филология имела своей почвой классическую античность, то и в фольклоре почтение вызывала его предполагаемая древность. Плодотворным было сознание дистанции вопреки физической близости. Филологическая традиция исследования народной загадки сложилась и завершилась в течение неполных ста лет – с середины XIX по середину ХХ века.
Хотя удовлетворительное общее понимание народной загадки как жанра так и не было достигнуто, тем не менее существует традиция ее изучения, опирающаяся на просвещенную интуицию, так что накопленные ею удачи и неудачи равно ценны. В этих обстоятельствах лучше всего начинать с прохождения заново пути, уже однажды проделанного, с тем чтобы его отрефлектировать, проинтегрировать его удачи и попытаться разглядеть то, что осталось недосмотренным.
Филологической школе в фольклористике удалось сделать много: во-первых, зарегистрировать целые устные традиции загадки, когда они были на пороге исчезновения; во-вторых, указать, осмыслить и обобщить отличительные особенности языка загадки; в-третьих, осуществить важные первые шаги в понимании особенной структуры загадки; и, в-четвертых, на этой основе выстроить структурную классификацию загадки для данной традиции.
Филологическая работа над загадкой в значительной мере была движима одним замечательным несоответствием. С одной стороны, она опиралась на приблизительное согласие фольклористов и этнографов в выделении народной загадки как особого жанра при всем многообразии его форм. Существование естественных источников, из которых все эти формы черпались, то есть устных народных традиций, позволяло обходиться без отчетливого понятия предмета. С другой же стороны, филологам свойственно обращаться к авторитету античной мысли; и тут они нашли замечательное умозрительное определение загадки, оставленное Аристотелем. Афинский философ охарактеризовал загадки (ед. ч. αἲνιγμα) как «хорошо составленные метафоры» (Риторика 3.2.1405b) и тем самым выделил определенный тип среди того, что называлось загадкой (αἲνιγμα и γρίφον). В другом месте Аристотель предложил более изощренное определение: «идея загадки та, что говоря о действительно существующем, соединяют вместе с тем совершенно невозможное. Посредством связи <общеупотребительных> слов достичь этого нельзя, а посредством метафоры возможно…» (Поэтика XXII [1458a]). Эти определения, данные как будто походя, чрезвычайно проницательны по сути и открывают весьма плодотворную перспективу. Аристотель не имел в виду народную загадку, он говорил о загадке поэтической, но, видимо, в то время литературная загадка еще не слишком разошлась с народной, таков приведенный им пример (мы рассмотрим его позднее), а главное, его определение в полной мере можно отнести и к загадке народной.[4] Оно дает понятие о ее отличительной жанровой особенности. Так по крайней мере отнеслась к мысли Аристотеля филологическая школа в фольклористике.
Данное Аристотелем определение загадки стимулировало мысль филологов XIX – первой половины XX века и в то же время оказалось в конфликте с эмпирическим знанием, с опытом собирания и классификации загадки. Как только появились обширные собрания собственно народной загадки, стало ясно, что аристотелево определение приложимо лишь к некоторой, меньшей части зарегистрированных текстов, а большая часть, несмотря на явное материальное родство с ними, избегает такого соответствия. Вот, к примеру, в собрании Д. С. Садовникова «Загадки русского народа» загадки о топоре:
С1. Лицом к стене, / А спиной к избе;
С2. Лежит красавица / лицом в подлавицу;
С5. В лес идет – блеснет, / И из лесу – блеснет;
С6. Мужик идет по лесу, / Зеркало за поясом.
В этих загадках наблюдается разная степень затрудненности сочетания двух признаков, но только С6 более или менее приближается к определению Аристотеля, а остальные ничего невозможного, постулированного философом в качестве неотъемлемого компонента загадки, не включают. Между тем все эти загадки взяты из активной традиции, записаны в одних и тех же условиях и обнаруживают между собой семейное сходство.
Как тут быть? Научный подход требует определения предмета. Но как получить определение загадки, которое бы соответствовало ее реальности во всей ее разнообразной полноте? Эта проблема давала филологической школе плодотворные исследовательские импульсы, и результаты оказались значительными.
Но с наступлением второй половины ХХ века в гуманитарном знании произошла смена научной парадигмы, и изучение загадки стало осуществляться под знаком этнологии, антропологии и лингвистики, подчинивших свое мышление дисциплине универсальных структуралистических теорий, которые родились из гипертрофии структуральной лингвистики.[5] Даже в работах собственно лингвистов филологическая традиция прервалась. Отчасти это произошло оттого, что филологическая работа, казалось, успешно завершилась приемлемым решением поставленной ею себе сложной задачи классификации загадки. Эта практическая задача замаскировала внутреннюю жизнь филологической традиции и ее аналитические достижения для взгляда извне, из нового бравого теоретического мира. Изучение загадки началось сначала, как будто до того ничего и не было.[6] Если уж Язык и Искусство, Культура и Общество сдались на милость Общей Теории, то куда уж было деваться маленькой загадке? Разновидности Теории стали проецироваться на загадку в стремлении доказать свою приложимость и в этой области, колонизировать и этот предмет. На этом пути понимание загадки скорее деградировало, чем продвинулось хоть на шаг. Хуже всего то, что загадка по теряла свою загадочность. К ней стали подходить с какой-либо очевидной стороны, которую можно подвергнуть теоретической обработке.
Подводя итог взрыву структуралистских подходов к загадке в 60-е – 70-е годы ХХ века и рассмотрев множество новейших ее экспликаций, Дэвид Эванс (David Evans), не ставя себе целью выход за рамки структурализма, все же должен был прийти к выводу, что они «не сообщают нам ничего нового о загадке» (Эванс 1976: 169). Еще один лингвист, исследователь персидской и арабской загадки Чарльз Т. Скотт (Charles T. Scott), высказал такое мнение: адекватное определение загадки никогда не было сформулировано, и все, что мы имеем, это та или иная «основанная на эмпирических фактах и интуитивно выведенная» характеристика, имеющая силу только в определенном ограниченном контексте (Скотт 1969: 131). Признание этого состояния и резон для примирения с ним предложила Эли Конгас-Маранда (Eli Köngäs Maranda), которая в 1970ые годы была чемпионом в изучении загадки. Она адресовала сотоварищам упрек в настойчивом и бесплодном стремлении дать невозможное определение загадки (Маранда 1971: 191). Во вводной статье к собранному ею выпуску «Journal of American Folklore», целиком посвященному структуральным исследованиям народной загадки, она сочла достаточной для исследовательской работы молчаливую ссылку на «общее согласие в отношении того, что понимается под данным жанровым термином» (Маранда 1976: 132). По ее мнению, представление об особенной и компактной форме, даже без недостижимого точного определения этих характеристик, дает исследователю лучшие эмпирические ориентиры, чем грубое определение загадки в качестве вопросно-ответной формы (там же: 129). С этим нельзя не согласиться. Но лишь до некоторой степени. Следует иметь в виду, что намерением Конгас-Маранды было отнюдь не традиционные собирание и классификация загадок, а достижение аналитического и обобщающего описания загадки с позиций универсальных теорий языка, культуры и общества, которые известны под общим именем структурализма. Если интуитивное представление о жанре естественно для тех, кто стоял на почве собирания, классификации и морфологического описания загадки, то для представителя теоретического подхода оно парадоксально: если уж исходить из общей теории, то ты целиком зависишь от своего понимания предмета, которое ты закладываешь в теоретическую машину для переработки. Сознание этого обстоятельства отсутствует в гиперструктуралистических школах. В основу исследования загадки по выбору исследователя кладется та или иная очевидность: вопросно-ответная форма, неполнота описания, частичное соответствие описания разгадке, амбивалентность отношения загадки и разгадки, – которая подвергается аналитической экспликации в соответствии с той или иной структуральной теорией, лингвистической или антропологической. Результатом являются только теоретические фикции, которые к предмету могут быть приложены, но в суть его не проникают.
Как же совместить проницательное представление Аристотеля о загадке с эмпирическим фактом несогласованности с ним большой массы зарегистрированного материала? И можно ли вообще выработать отчетливое представление о хаотическом мире народной загадки? Когда филологическая парадигма сменилась структуралистической, эти вопросы получили новый, обостренный отклик. Филологи не заостряли противоречия, ценя импульсы, поступающие с обеих его сторон. Но теоретически последовательная гиперструктуралистическая позиция должна была раньше или позже увидеть вызов. Ответить на него взялись Роберт Жорж и Алан Дандес (Robert A. Georges A. and Alan Dundes). В совместной статье они сделали героическую попытку вывести всеохватывающее структурное определение загадки на все случаи ее странной протеической жизни.[7] Новейшее лингвистическое мышление подсказало этим авторам логический вывод, что ключом к жанру должен быть общий знаменатель для всех текстов всей области народной загадки. В духе господствовавшей в ту пору крайней формы структурализма, которая опиралась на логический редукционизм, они выбрали наиболее прямой путь к цели. Их опорная идея – рассмотреть все поле загадки как собрание вариантов некоторых инвариантов, причем инварианты должны быть извлечены на уровне минимальных форм загадки.
Чтобы дать структурное определение загадки, необходимо прежде всего выделить минимальную единицу анализа, Мы предлагаем здесь назвать такую минимальную единицу описательным элементом, в чем следуем за Петшем и Тэйлором. Описательный элемент состоит из темы (topic) и комментария. Тема – это очевидный референт, то есть объект или предмет предполагаемый описанием. Комментарий – это утверждение о теме, обычно касающийся формы, функции и действия темы. (Жорж и Дандес 1963: 113)
Введя далее представление об оппозиции между описательными элементами и заметив, что эта оппозиция может либо иметь место, либо отсутствовать, Жорж и Дандес различают две категории загадки: оппозиционную и неоппозиционную, причем неоппозиционная, собственно минимальная, в свою очередь может быть буквальной или метафорической. В результате они приходят к следующему определению:
Народная загадка – это традиционное словесно е выражение, содержащее один или более описательный элемент, пара которых может находиться в оппозиции: референт элементов должен быть разгадан. (Там же: 113, повтор 116)
Прежде всего необходима поправка: Петш и Тэйлор, упомянутые Жоржем и Дандесом, никогда не придерживались редукционистстических взглядов (это станет ясно, когда мы перейдем к их взглядам). И все же Жорж и Дандес, действительно, дали определение, под которое подходит любая загадка из обширного собрания Арчера Тэйлора, или любого другого. Казалось бы, крупное достижение. Вот только определение это говорит о загадке столько же, сколько общий знаменатель, найденный при сравнении Рембрандта и Джэксона Поллока, может что-либо сказать об искусстве живописи; правда, он может сказать нечто о Поллоке но не о Рембрандте, Учелло или Рублеве. Жорж и Дандес по сути действовали как последовательные позитивисты: они пытались построить понимание сложного феномена на выделении его атомов и их комбинаторике. Это нередко бывает с подданными Теории, поскольку их идеал – физические науки.
Как заметил Ч. Т. Скотт, данное Жоржем и Дандесом определение структурной единицы загадки в качестве темы-и-комментария применимо и к пословице; то, что специфично для загадки, – загадочность – оказывается вне их определения, которое, таким образом, цели не достигает (Скотт 1965: 19). И действительно, логический формализм – средство не достаточное для определения загадки; элементарный уровень рассмотрения текста не касается специфичности полного высказывания. Специфика загадки – в постройке ее целого, так сказать, на уровне организма, а не в элементарных единицах, которые общи разнотипным текстам. Нахождение уровня, на котором исследуемый феномен функционирует своим специфическим и уникальным образом, представляет собой фундаментальную задачу всякого анализа культурных феноменов, если он намерен быть имманентным, а не демонстрацией лояльности победившей теории.[8]
Не забудем о том обстоятельстве, что работа Жоржа и Дандеса интересна тем, что на путь редукционизма их толкнула не только их слепая приверженность гиперструктуралистическому универсализму. Это был отклик на реальную проблему: в любом достаточно большом собрании загадок можно найти, во-первых, наряду со сложными загадками чрезвычайно элементарные тексты, во-вторых, описания неметафорического характера, то есть такие, которые под определение Аристотеля не попадают и, следовательно, аристотелев а загадка выглядит частным случаем; следовательно, настоящее определение загадки должно быть шире, то есть… мельче. И тут мы оказываемся на уровне, где специфичность загадки уже не просматривается. Это реальный парадокс, он указывает на подлинную проблему.
И все-таки именно Аристотель схватил нечто особенное в природе загадки, а Жорж и Дандес его потеряли, стремясь объять все и все почтить равно. Аристотель смотрит на загадку аристократически-избирательно, а Жорж и Дандес, создают демократическую республику загадки, в которой каждый индивид имеет равные права, но при этом гражданские права ее членов урезаны до элементарных плебейских функций.
Упомянутая критика Жоржа и Дандеса была сделана Скоттом на пути к его собственному структуральному определению загадки. Он стремится избежать формального редукционизма и с этой целью выбирает лингвистическую теорию, в которой внимание уделяется семантике и целостному плану. Выбирает он свежую в то время общую лингвистическую теорию Кеннета Пайка (Kenneth Pike). Обращаясь к семантическому, или семиологическому, аспекту загадки, Скотт удачно выбирает фокус: его внимание сосредоточено на действительно симптоматической черте загадки – на неполном смысловом соответствии между описанием/вопросом и разгадкой/ответом. Он называет эту черту загадки «частично затемненным семантическим соответствием» («partially obscured semantic fit») (Скотт 1965: 74). Эта особенность хороша тем, что позволяет – по некотором размышлении – обнаружить перекличку с мыслью Аристотеля, указавшего на некоторую инконгруэнтность в основе загадки. Но эту возможность Скотт упустил. Он прямо приступил к анализу отмеченной им особенности. Общая теория и на этот раз сослужила плохую службу. Скотт с порога прибег к популярной в целом ряде гиперструктуралистских концепций языка идее инварианта-с-вариантами. Пайк описывает поле языковых смыслов по аналогии с фонологической концепцией: посредством представления о семантических (смысловых) различительных чертах, или семах, которые получают представительство в различных вариациях, или аллосемах. Соответственно, Скотт определяет описательную часть загадки как пучок аллосем, варьирующих некоторую семантическую черту, представленную в ответе. У Пайка он находит компактную логику для описания неполного соответствия между так определенными ответом и вопросом: оно хорошо описывается в виде пучка логических вариантов некоторого инварианта. Формально-логически это верно, но объяснения загадки, увы, не дает: мы получаем лишь пустой формализм, проекцию теории на наш предмет, которая демонстрирует теорию, но ничего не говорит о предмете по существу. Ведь загадка открыто бросает вызов логике. Пренебречь ее странностями – значит проглядеть ее.
В действительной жизни языка текучая стихия смысла не поддается формальной логике, если она ей не подчинена намерением говорящего. Предполагать формально-логическое намерение носителей фольклорного сознания и подчинять фольклорные тексты редуктивной логической модели неуместно. Концепция Пайка представляет смысловые отношения по типу черного ящика, то есть так, что имеется нечто на входе и есть нечто на выходе, а затем между первым и вторым прокладываются наиболее экономичные абстрактные, формально-логические связи, которые и принимаются за реальный механизм действия. Но реальному высказыванию совсем не обязательно подчиняться формальной логике и экономичным отношениям. Реальное высказывание может идти самыми неэкономичными путями.[9] Пайк имеет дело с теоретическими фикциями, полезными в специальных и узких практических целях, но реальность языка никак не объясняющими. Для того, чтобы понять реальность высказывания, нужен имманентный его анализ, формальной логикой заранее не связанный. В результате Скотт ушел не далеко от Жоржа и Дандеса. Хорошее начинание его провалилось в виду того, что он разделяет ту систему предрассудков, которую можно назвать гиперредукционизмом, введенным в лингвистику Ноумом Чомским (Noam Chomsky): реальные пути языка мыслятся по типу логической машины. Чомскианский редукционизм, как и варианты концепции Пайка, пригодились для конструирования искусственного разума (artificial intelligence) в языковых одеждах (отсюда все их медали), но для понимания реальной жизни языка они непригодны.[10]
Итак, Аристотель схватывает загадку в качестве проблематичного и внутренне сложного феномена, но его сеть имеет настолько крупную ячейку, что большáя, даже бóльшая часть текстов загадки, зарегистрированных в собраниях фольклористов и этнологов, не дотягивает до его определения и проваливается сквозь его сеть. Вместе с тем, попытка Жоржа и Дандеса поправить ситуацию путем ориентации на простейшие формы народной загадки и определения общего знаменателя для всех ее форм достигает охвата всего без исключения, найденного в сборниках загадок, ценой потери специфики жанра. Начало теоретической мысли о загадке и современное состоянии этой мысли не стыкуются. Это похоже на тупик, но как раз сформулировав его, мы оказываемся перед лицом кардинального познавательного парадокса загадки, который послужит путеводной звездой для дальнейшего анализа.
Проницательное определение, данное Аристотелем, следует считать теоретическим, но не в популярном сегодня смысле, подразумевающем некую заданную в аксиоматическом виде концепцию и соответствующую ей программу анализа, а в подлинном и первоначальном смысле: в смысле умного (интеллектуального) созерцания бытия предмета и схватывания его сущности. Вместе с тем подведение данных некоторой сложной специфической области под некоторую готовую общую теорию, чем занимаются гиперструктуралисты, вообще нельзя считать теоретическим актом – это акт механический. Он имеет утилитарную ценность: с его помощью можно строить машины (в рамках проекта «artificial intelligence, искусственный интеллект»); он относится к области технологии, не познания.
В мире загадки мы будем постоянно иметь дело с парадоксами, которые являются самыми надежными вехами в исследовании культурных феноменов как потому, что культура вообще представляет собой область схождения того, что не изоморфно – мира и разума, так и потому, что парадоксы символически отмечают для нас критические пороги нашего понимания.
4. Отступление о характере гуманитарного знания, или Кое-что о герменевтике не в классическом ключе
В виду нынешнего обширного кризиса гуманитарного знания нам необходимо хотя бы вкратце остановиться на особенностях этого знания, забытых под впечатлением колоссальных успехов физико-математических наук, которые стали считаться идеалом для всякого знания. Гуманитарное знание, или знание о предметах культуры (англ. humanities, нем. Geisteswissenschaften), имеет иной характер, чем знание физико-математическое; мы знаем предметы культуры иначе, чем мы знаем природу и математические отношения. Проблемы гуманитарного знания разрабатывались в XIX веке в рамках герменевтики, науки о понимании и интерпретации текстов. В конце ХIХ – начале ХХ века Вильгельм Дильтей (Wilhelm Dilthey) развил герменевтику как знание об особенной методологии гуманитарных наук на основе рефлексии по их поводу. Но вскоре эта философская дисциплина измельчала. Структуральная лингвистика, которая при своем рождении была тесно связана с герменевтикой и ее близнецом, феноменологической философией, попала под влияние триумфального универсализма физико-математического знания – так открылась дорога гипертрофии лингвистического структурализма. Связь лингвистики с герменевтикой и вообще с какой-либо рефлексивной дисциплиной прервалась.[11] Сегодня необходимость вернуться к проблематике гуманитарного знания настоятельна. Загадка дает достойное поле для такого опыта. Этим она может быть интересна и людям, далеким от фольклористики.
Фундаментальная особенность физико-математических наук заключается в том, что любые феномены физического мира рассматриваются как подчиненные одной и той же системе неизменных и вечных общих законов (по крайней мере таков постулат физической науки); подозревать такую униформность в области феноменов истории и культуры нет оснований. Историческая и культурная сопринадлежность и родство некоторых феноменов могут служить вспомогательными средствами понимания их языка, но не предполагают их сущностного тождества. Феномены истории и культуры отличаются свойством, которое можно назвать индивидуальностью: в чем-то самом существенном каждый из них вырывается из неизбежных общих условий, которым он отдает непременную дань, и стремится к отличиям непредвидимого характера и, что еще важнее, не укладывающимся в широко раскинутые концептуальные сети. Этому нас учит и история, в которой, в противоположность физике, не действуют предсказания, и индивидуальные продукты творчества, какие мы находим в искусстве. Последние непредсказуемы не в том смысле, в каком нам даны случайные события физического мира (которые в любом случае вызываются физическими, то есть законосообразными, причинами и поэтому предсказуемы, если не индивидуально, то статистически), а потому что представляют собой результаты неповторимых творческих актов. Разделяя множество свойств со смежными ему, каждый исторический и культурный феномен (тут не скажешь «они», тут нужно единственное число) тем не менее постольку обладает ценностью, поскольку несет нечто неподражаемое. «Доктор Живаго» и «Лолита», формально относятся к одному и тому же жанру романа и близки по времени появления, даже разрабатывают сходные мотивы, а их авторы являются продуктами одной и той же культурной эпохи, но тем не менее могут быть осмыслены по существу своему только в том случае, если подходить к каждому из них с независимыми установками, сформированными в опыте общения с каждым из этих романов и мирами их авторов в отдельности, – эти романы говорят с читателем на разных поэтических языках и их смысл конституирован в различных, несоизмеримых модальностях.
Таким образом, самый характер теории в области культуры нельзя себе представлять по типу физической или логико-математической. Аналитическая экспликация культурных феноменов не может быть предусмотрена какой-либо готовой теорией или ориентирована на универсальный набор элементов, структур и параметров. Мысль, анализирующая культурные феномены, должна быть на каждом шагу готова к неожиданностям и необходимости перестройки не только выстроенной концепции, но и исходных посылок. Как известно, и физическая мысль время от времени оказывается в критическом положении, когда накопленные эмпирические данные начинают на окраинах мира физического знания приходить в несоответствие с принятой теорией; тогда оказывается необходимым вносить поправки даже в исходные постулаты науки; и тогда меняется общая парадигма научного мышления. Теория и эмпирия время от времени расходятся. Но в физике это происходит редко, смена научной парадигмы начинает новую большую эпоху. В культурной же области кризис – непрерывное состояние; таково должно быть и условие здравой аналитической мысли на каждом ее шагу. Постоянный кризис требует недремлющего критического отношения к концептуальным средствам. Аналитическая мысль, занятая феноменами культуры, всегда находится на пороге неожиданного – не в смысле регистрации неизвестного факта, а в более фундаментальном смысле – в плане достаточности принципов анализа. Каждый предстоящий феномен может потребовать новых, непредусмотренных ходов мысли. В этой непредусмотренности вся прелесть гуманитарного исследования. И наоборот, каждое подведение исследуемого феномена под готовую концепцию без оглядки – сомнительно. И банально.
В этот момент мы подошли к довольно радикальному взгляду. Парадоксальным образом, контр-интуитивным для сознания, ориентированного на физику, каждый феномен культурной области требует особой теории. Возможно ли такое – теория единичного феномена? Возможно, если представить себе теорию данного феномена вписанной в открытый и скользящий концептуальный спектр, не подчиненный, в отличие от радуги, однажды зафиксированной парадигме. Между теориями близких культурных феноменов допустимы отношения смежности, ограниченного семейного родства, но не подчиненность единой системе измерений. При переходе от предмета к предмету может потребоваться переход к частично близкой, но все же другой концептуальной системе и другой модальности мышления.
Для теории некоторого культурного феномена можно сформулировать логическое правило: чем шире сфера приложения некоторой теории, тем ее результаты тривиальнее. Глубокая теория некоторого культурного предмета может строиться лишь по месту, с учетом готовых смежных теорий, но не с перенесением их и подчинением им. Любое понятие и представление, найденное готовым, при этом должно быть объектом пересмотра. Не место в готовой теории, а усмотрение проблемы схватывает предмет гуманитарного знания.
5. О зиянии. Подступ к логике загадки
Вернемся к загадке и сделаем первые аналитические шаги.
Аристотель рассмотрел особенность загадки как тропа: она построена на внутреннем, неприметном с поверхности логическом несоответствии. Взгляд Аристотеля касается одной части загадки – описательной. Но усвоив его, мы оказываемся в состоянии увидеть, что логическая нестыковка характеризует и полную структуру загадки – соотношение описания и разгадки. Неоднозначность логического перехода от описания к разгадке замечалась исследователями начиная с XVIII в.[12] Отмечено было, что одна и та же загадка, точнее – одно и то же описание, может в соседних географических пунктах получать неодинаковые ответы, отсылать к различным предметам. М. А. Рыбникова приводит пример загадки с разными ответами: Кто над нами вверх ногами? – Муха, Паук, Таракан, – отвечают в разных местах. По ее же свидетельству, и в одном месте одна и та же загадка получала различные разгадки (Рыбникова 1932: 46; в дальнейшем: Р). Пример из англоязычного собрания Арчера Тэйлора: Что каждое утро идет на мельницу и не оставляет следов? (What goes to the mill every morning and don’t make no tracks?); в разных местах зарегистрированы следующие ответы: дорога (Т181), дым (Т183), ветер (Т184), блоха (Т185).
Неполное соответствие описания и его разгадки и разные ответы на один и тот же вопрос – это две стороны одной медали. Они по-разному отмечают то напряжение, которое имеет место между двумя составными частями загадки. Даже в случаях, когда различные ответы на вопрос не зарегистрированы, неполное соответствие описания и предмета остается в силе и разнообразие ответов потенциально всегда возможно. К этому можно добавить отмеченную мною ранее (с. 18) удаленность образа, предлагаемого народной загадкой в описании, от понятия, под которое подходит разгадка.
Определив загадку, предлагаемое ею описание как соединение существующего с невозможным, Аристотель по сути показал, что если загадка и выглядит метафорой, представляет себя таковой, то под более углубленным взглядом обнаруживается аномальность этой метафоры. Более того, идея соединения несоединимого по сути взрывает метафору, делает в ней брешь, сквозь которую в область порядка, обозначаемого логически ясным понятием метафоры, врывается хохот той инстанции, которая в обликах гротеска была известна уже скульпторам первых в истории примитивных фигурок с преувеличенными, карикатурными формами и которую греки признавали и старались сдержать на периферии своей ойкумены. Этой защитной установке следовал и Аристотель, подведя загадку под знакомое понятие метафоры, но исключительная острота его зрения как бы вскользь и ненамеренно отметила в загадке вызов рациональности.
В свете сказанного на первый план выдвигается проблема напряженных отношений загадки с логикой. Это не значит, что загадка и логика несовместимы, – все, что имеет смысл, имеет логику, даже алогическое определяется через логику, потому мы его знаем как алогическое. Примем это обстоятельство как побуждение к тому, чтобы начать строить логику загадки по ее собственным меркам, не подгоняя ее под всеобщую формальную норму.
Особенность логики загадки, обнаруженная Стагиритом, заключается в том, что она неочевидна. Философ увидел загадку, с одной стороны, как соединение несоединимого – действительно существующего с совершенно невозможным, с другой, как хорошо сконструированную метафору. Иначе говоря, он ухватил странность загадки – логический слом в ее сердцевине, но не отказался подвести ее под знакомое определение. Его скупые замечания оставляют место комментарию. Метафорой загадка выглядит с поверхности, а усмотрение логической несовместимости компонентов загадочного описания выделяет ее неочевидную структурную характеристику как фигуры речи, ее особенную внутреннюю форму. Тут перед нами два уровня наблюдения: первый – как бы очевидный и общий и второй – скрытый и отличительный. Как мы вскоре увидим, новоевропейская фольклористика приняла усмотрение Аристотеля как указатель дальнейшего пути. Фольклористы пришли к ценным результатам, забытым сегодня. Чтобы на твердом основании оценить их работу, подведем итоги нашим предварительным наблюдениям над особенностями загадки, что даст нам возможность положить независимое начало логике загадки.
Первым делом нам нужно найти термин, который бы мог выступать в роли любого из ряда понятий, которыми и другие исследователи, и мы до сих пор пользовались, описывая логическую особенность загадки: амбивалентность, неполное соответствие, логическая нестыковка, инконгруэнтность, сдвиг, напряжение. При этом желательно понятие, способное охватить все понятия указанного ряда и находящееся от них на некотором отдалении, поскольку каждое из них характеризует тот или иной конкретный аспект загадки и уже предполагает некоторую интерпретацию. Дело в том, что неясным остается, насколько каждая такая интерпретация является достаточной; поэтому предпочтительно понятие сдержанное, оставляющее пространство для вопросов. Предпочтительно также понятие само по себе свежее, неангажированное, не обремененное грузом обязанностей по отношению к какой-либо теории, оставляющее свободу непредубежденному поиску.
Пригласим на эту роль понятие зияния (hiatus). Будем понимать его как термин ненавязчивый, не интерпретирующий, не дающий ответа, который нужно лишь теоретически обработать (достаточно его сравнить с понятием амбивалентности, которое сразу же подсказывает возможность вписать загадку в готовый теоретический контекст структуральной антропологии), а, скорее, задающий вопрос. Понятие зияния хорошо тем, что указывает на некоторое серединное место в проекциях нашего предмета, причем место неизведанное. Мы воспользуемся им для начала не столько как именем общим, сколько как именем собственным, которое взывает к лицу, но получит конкретный смысл только тогда, когда произойдет личное знакомство, и лишь постепенно будем его наполнять конкретным смыслом. В этой роли понятие зияния требовательно, поскольку указывает на непонятое, стоящее за спиной как будто понятного. Аристотель обратил внимание на то, что метафора загадки – не метафора в обычном смысле; сквозь призму понятия зияния загадочный вопрос и ответ-разгадка – больше не вопрос и ответ в прямом смысле. Мираж очевидностей начинает рассеиваться и открывается окно для свежего взгляда на неведомый еще смысловой строй загадки, на ее назначение и характер ее разгадывания.
Преодоление очевидностей начнем с отказа от определения загадки в качестве вопросно-ответной формы, которое дает не больше, чем определение человека как соединения кислорода, углерода и водорода. Начнем с более осторожной, открытой и проблематизирующей характеристики загадки как двучленной, или биномиальной, формы высказывания, отношения между двумя частями которой сложны, неоднозначны и не очевидны по своей сути; они предполагают некоторое соответствие, осложненное менее очевидным, но более глубоко идущим логическим разрывом – если между вопросом и ответом пролегает зияние, то они уже не просто вопрос и ответ, во всяком случае не логический ответ на логически поставленный вопрос.
Теперь нам следует остановиться и задуматься над тем обстоятельством, что загадка обнаруживает двойное осложнение. Если в ее описании своего предмета нет соответствия между составляющими, и это описание принимает ответ, который не имеет точного ему соответствия, то такое осложнение избыточно по отношению к простой задаче возвести затруднение на пути разгадывания. Приняв это осложнение как отличительное и принципиальное свойство народной загадки, мы больше не можем быть уверены, что знаем, что такое загадка, и должны заново поставить вопрос о функциях ее структуры и о том, что она представляет собой как особый типа высказывания.
Понятие зияния вводит нас в логику народной загадки и отделяет ее от любого другого жанра энигматики. С его помощью мы впервые обращаем внимание на загадочную сердцевину нашего жанра, уклончивого в отношении к схематизирующей мысли, ускользающего от прямого логического определения. Эти уклонение и ускользание искусно играют с рациональностью и, следовательно, не имеют ничего общего с такими отрицательными качествами, как аморфность или иррациональность. Дважды необходимое зияние – преднамеренный, смыслообразующий и артикулирующий внутреннюю форму принцип, благодаря которому логика предстает как алогичность, или алогичность как логика.
Мы все же будем понимать зияние не как объясняющее понятие, но и не как формальный признак, а как симптом того, что в данном месте укрыта проблема функциональной установки, то есть готовности и направленности сознания (или интенции, в переводе на язык феноменологии), которая соответствует феномену загадки и по отношению к которой только и может быть понята конструкция загадки.
Итак, мы установили, что загадка загадочна вдвойне и понимание ее не дается атаке в лоб. Она требует осторожного, ненавязанного и внимательного подхода к себе – подхода как к проблеме, а не очевидности. Мы можем теперь подвести первые аналитические итоги:
(a) Народная загадка из устной традиции выделяется среди форм энигматики тем, что предлагаемое ею метафорическое описание скрывает два логически разнородных компонента – действительно существующее в сочетании с совершенно невозможным (принцип Аристотеля), то есть в самом сердце ее содержится смысловое зияние. Таким образом, то, что представляется метафорой загадки, – не вполне метафора.
(b) Формально народная загадка представляет собой бином, состоящий из фигурального описания некоторого предмета и простой и краткой разгадки. Форма эта обманчива, так как описание – не вполне описание: оно столько же затемняет предмет, сколько описывает его. Вывести разгадку из описания как правило едва ли возможно, потому что отношение описания к его разгадке не один-к-одному; каждое описание по крайней мере потенциально допускает ряд разгадок. Так что и разгадка – не вполне разгадка. Между двумя членами биномиальной формы загадки пролегает смысловое зияние. Народная загадка существует на краю рациональности.
В этих тезисах представлены два аспекта зияния. Но по сути нам знаком и третий – несхождение между аристотелевым определением загадки и фактической картиной многообразия ее форм. Это не недоразумение, а одно из проявлений особого характера логики загадки. Тут требуется отдельное рассмотрение, и мы займемся им в следующих главах. Зияние в итоге проявится как кардинальный структурный концепт для понимания загадки.
6. О загадке как общественном достоянии и О силе рационалистических предрассудков
Систематическое изучение загадки началось в XIX веке. В этой молодой истории, как уже было сказано, можно выделить два периода: филологический, вторая половина XIX – первая половина XX века, и этнологический, или антропологический, – вторая половина XX.
Филологическая традиция опиралась на интуитивно определяемые стилистические наблюдения и шла по пути их анализа с точки зрения разгадки. Определение загадки Аристотеля было отличным отправным пунктом как потому что филологам свойственно начинать с классической античности, так и потому что определение загадки в качестве своего рода метафоры укладывалось в рамки учений о стиле, важных в ту пору. Филологическая традиция рассматривала загадку как текст, не принимая во внимание реальных условий ее загадывания и разгадывания. Универсально разделяемой догмой в этой традиции было представление, что загадка должна быть разгадана с помощью индивидуальной остроты ума. В этом ключе проходил анализ загадки.
С наступлением этнологического периода в истории изучения загадки совпало появление новых полевых данных, в виду которых, казалось бы, стал необходим отказ от представления о ее разгадывании усилиями индивидуальной остроты ума. Но новые сведения остались на периферии внимания. Дело в том, что этнологический период характеризуется своеобразной раздвоенностью. С одной стороны, этнологи, в отличие от прежних этнографов, вносят некоторые принципы наблюдения, обостряющие зрение, и в этой связи происходит значительное накопление важных полевых данных о загадке и ее реальном функционировании, с другой же, преобладает стратегия подведения текста загадки, понимаемого в том же ключе, что и прежде, под одну из господствующих гиперструктуральных теорий, лингвистических или идущих им вслед антропологических. Загадка тут не составляет исключения – таково положение дел в этнологии вообще: этнология – в противоположность эмпирической этнографии – выросла именно как наука, вооруженная теорией в результате слияния с антропологией, наукой во многом умозрительной. И для аналитического исследования загадки в этнологический период полевой опыт остался невостребованным.[13] Между тем в 60-е и 70-е годы сообщения этнографов о том, что загадка рассчитана отнюдь не на остроту индивидуального ума приходили со всех концов света.
Начнем издали. Джон Блэкинг (John Blacking), собиравший загадки венда (Venda) на юге Африки, полемически отстаивал «важность знания загадки как лингвистического целого, а не в виду способности разгадать ее посредством целенаправленной рационализации» (Блэкинг 1961: 3). Бронислав Малиновский рекомендовал этнологам видеть вещи глазами исследуемого общества. Так и поступает Блэкинг; он приводит слова местного жителя: «“Не тратьте свое время, – сказала старая женщина, стоявшая возле нас, – если вы не знаете загадки, вы ее не знаете. Что толку в попытках найти ответ?”» (там же: 5). Другой африканист, Д. Ф. Гаулет (D. F. Gowlet), передает свои наблюдения над практикой племени лози (Lozi): «…загадывание загадок не оставляет места угадыванию ответа» («… riddling has no place for guessing the answer»[14]) (Гаулет 1966: 147). Иэн Хамнетт (Ian Hamnett) сообщил о загадках африканских лесото (Lesotho): «некоторые из них утратили свой смысл для ряда информантов при том, что ответы на них остаются заученными» (Хамнетт 1967: 385). Ли Хэйринг (Lee Haring) так подвел итог состоянию дел в изучении африканской практики загадывания/разгадывания:
Изучение африканского загадывания-разгадывания загадок выдвигает простой и далеко идущий вопрос. В самом ли деле от человека, которому задается загадка, ожидается угадывание ответа? Большинство людей, получивших западное образование, дают положительный ответ на этот вопрос, но я полагаю, это не так. Африканская практика загадывания-разгадывания загадки более похожа на упражнения по катехизису, чем на творческий поиск. Обычно в африканской загадке связь между вопросом и ответом зафиксирована традицией и всенародным ее принятием. (Хэйринг 1971: 197)
Ни одно из этих наблюдений не претендует на универсальность, все они сделаны для более или менее ограниченного ареала, что естественно для этнографов. Но подобные же свидетельства приходили из различных частей света. О знании ответа на загадку, в противоположность разгадыванию, сообщает Донн В. Харт (Donn V. Hart) с Филиппин (Харт 1964: 57); Эли Конгас-Маранда отметила подобную ситуацию в финской загадке (Маранда 1971: 192); Анникки Кайвола-Брегенхей (Annikki Kaivola-Bregenhøj), задумавшись над во просом, почему при двусмысленности описания только один ответ из ряда возможных принят правильным в финской традиции, нашла объяснение в том, что «контроль общины всегда регулирует порядок игры», и делает вывод: «…загадки не разгадываются, разгадки представляют собой общее достояние» (Кайвола-Брегенхей 1977: 66б 72).
Подобного рода свидетельства можно было бы умножить, но приведенных достаточно. В процессе нашего исследования мы будем вновь и вновь убеждаться в справедливости такого взгляда. Заметим, что новые наблюдения были сделаны на новом материале, а не на хорошо известном материале русской, немецкой или английской загадки, где они вполне были бы уместны; европейские фольклористы были детьми эпохи рационализма и не заметили того, что должно было бы бросаться в глаза. Нужно было выработать новую этнологическую установку, позволяющую смотреть на вещи глазами носителей наблюдаемой культуры, вести свои наблюдения независимо от рационалистических предрассудков и увидеть загадку такой, как она есть. Таков положительный вклад этнологии в дело изучения загадки.
У нас есть достаточные основания заключить, что понимание загадки как во проса, предназначенного для разгадывания посредством усилий индивидуального ума есть не более, чем проекция модерным рациональным умом своих собственных особенностей на традицию, берущую свое начало в иного рода культуре. Этому заблуждению способствовало то, что в новое время сама загадка испытала влияние рационалистической установки и наше время создало загадки в новом ключе, чуждом народной традиции. Модерная установка внедрилась в древнюю традицию и внесла в нее искажения, часто пользуясь старым материалом. Под этими наслоениями сохранились черты народной загадки, какой та была до ее перерождения, когда она функционировала не в индивидуальном умственном пространстве, а в общинном. В собраниях XIX века загадки с традиционными чертами много.
Итак, урок этнологии относительно функционирования загадки должен быть введен в число наших тезисов:
(с) Народная загадка в естественных условиях загадывания-разгадывания не предназначена для разгадывания посредством индивидуальной остроты ума; разгадка представляет собой общинную собственность; обе стороны, участвующие в ритуале, загадывающая и разгадывающая, либо владеют и вопросом и ответом, либо находятся в процессе передачи этого знания от одной стороны – другой.
Если разгадку не нужно выводить из описания, то становится понятной уместность зияния в загадке: оно обеспечивает эту невыводимость.
Как только стало ясно, что загадка в целом, и вопрос и ответ, является общинной собственностью, стало необходимым уяснить ее социальные функции. Если ранее внимание было сосредоточено на тексте загадки, то теперь в фокусе наблюдения и обсуждения оказался процесс загадывания-разгадывания, то, что было названо «событием загадывания-разгадывания» («riddling occasion»). Роджер Д. Абрахамс (Roger D. Abrahams) так сформулировал этот подход: «Смысловую нагрузку несет загадывание-разгадывание и только иногда – сама загадка. Загадки создаются процессом загадывания-разгадывания, условностями загадывания-разгадывания и событиями загадывания-разгадывания» (Абрахамс 1972: 188–189). Это широко разделяемая этнологами позиция.
Но в толковании смысла процесса возникли расхождения. В зависимости от места наблюдения загадка была понята в своих функциях как: веселая игра (на Ближнем Востоке – Скотт 1969: 129), индивидуальное состязание (у филиппинцев – Харт 1964: 57), командное состязание (у африканских лози – Гаулетт 1966: 140), обстоятельство для обретения членства в «обществе знающих» (у нигерийского племени ананг – Мессенджер 1960: 226), средство завоевать престиж среди тех, кто «знает» (у африканских венда – Блэкинг 1961: 1).
Можно заметить, что хотя понимания процесса загадывания-разгадывания и различны, но все же не так уж далеки друг от друга, они скорее образуют некоторый спектр. Хотя ритуальный характер события во всех случаях очевиден, смысл ритуала оказывается недоисследованным, преобладает описательный способ характеризации, причем в качестве характеристики берется некоторое обстоятельство, вполне вероятно, внешнее. Мне не известны работы, в которых бы ставился вопрос о том, является ли отмеченная данным исследователем характеристика единственным определителем или только аспектом более сложного функционального комплекса. Аналитическая мысль из приведенных выше важнейших наблюдений импульса не получила. Эта ситуация соответствует тому, что этнологическая мысль в эту пору сама себе больше не доверяет, она стремится уйти под знамена большой антропологической Теории, черпать импульсы из нее, а не из своего собственного опыта.
Наиболее влиятельным видом Большой Теории в интересующей нас области стала структуральная антропология Клода Леви-Страусса (Claude Lévi-Strauss). Под влиянием структуральной лингвистики и Романа Якобсона в частности французский ученый нашел, что главную ценность антропологических исследований составляют примитивные практики наделения окружающего мира смыслом через учреждение классификаций посредством бинарных оппозиций (по аналогии с фонологической парадигмой языка). Теоретической изюминкой тут оказалось представление о том, что согласование бинарных оппозиций, или их медиация, осуществляется с помощью амбивалентных терминов. Приложение этой теории к загадке не заставило себя ждать. Но аналитические итоги этому направлению мысли о загадке до сих пор не подводились; дальше представительного обзора литературы дело не пошло (см. Хамнетт 1967).
Введенное в этнологию Леви-Страуссом понятие двусмысленности, или амбивалентности (ambigu ité), казалось привлекательным потому, что как будто объясняло как внутреннюю непоследовательность, инконгруэнтность метафоры, представляющей загадочное описание, так и отсутствие взаимнооднозначного соответствия загадочного описания и его разгадки. Оно проявило свое коварство, когда на его основе стали интерпретировать социальную значимость события загадывания-разгадывания. Наблюдаемое в ущербных, вырождающихся традиционных обществах, загадывание загадок нередко представлялось маргинальным явлением и даже не всегда желательной деятельностью (такого рода предположения: Шапера 1932: 215, Мессенджер 1960: 226, Блэкинг 1961: 2). Новая антропологическая концепция, казалось, позволяла вдохнуть новую жизнь в эти явления: событию загадывания-разгадывания было найдено место остаточного когнитивного процесса, напоминающего о первобытном мифологическом мышлении, признаком чего как бы и является амбивалентность логических отношений в загадке. «На уровне познания загадку можно рассматривать как некоторый тип согласования двух взаимно-несоответствующих множеств концептов или правил интерпретации», – так подытожил Хамнетт усилия новых теоретиков встроить загадку в новое концептуальное поле (Хамнетт 1967: 383). Этот взгляд получил широкое признание.
Лидирующую роль в исследованиях этого направления сыграла Эли Конгас-Маранда. Ее работы отлично демонстрируют тупиковый характер всего направления. Она представила загадку как недостающее звено в концепции структуральной антропологии. Согласно Леви-Страуссу мифические повествования в примитивных обществах играют роль устройств для регулирования классификационных противоречий данного культурного мира посредством бинарных оппозиций. На основе этой концепции английский этнолог Эдмунд Лич (Edmund Leach) стал рассматривать миф в качестве инструмента для решения практических проблем некоторой социальной группы или между группами. Он, таким образом, спроецировал бинарные оппозиции и медиирующие двусмысленные, или амбивалентные, термины из чисто ментальной области в социальную (Лич 1954). Конгас-Маранда подключилась к этой концепции: она описала социальную функцию загадки как дополнение к функции мифа по Личу.
В функциональном плане миф представляется укрепляющим установленный порядок вещей, тогда как главная функция загадки поставить под вопрос по крайней мере некоторого рода установленный порядок. Там, где миф доказывает законность притязания на территорию, власть общественных и культурных установлений или уместность туземной концептуальной классификации, загадки как раз нацелены на игру с концептуальными границами и их пересечением ради интеллектуального удовольствия продемонстрировать, что дела обстоят не так уж устойчиво, как это кажется. (Маранда 1971b: 53)
Миф ко второй половине ХХ века стал едва ли не самым престижным и образцовым предметом обобщающих гуманитарных построений; на него опирались, как бы зная, о чем говорят.[15] Найти место загадки рядом с мифом представлялось большой удачей. Концепция Конгас-Маранды остроумна и логична, если смотреть не нее издалека. Но при ближайшем рассмотрении ясно, что она не вытекает из материала, на который направлена, поскольку нет свидетельств, что загадки действительно имеют такую функцию – ставить под сомнение концептуальный порядок, установленный мифом. Функция эта просто примыслена. Возражение появилось, однако, не на фактической, а на теоретической почве и со стороны теоретика той же школы. Оказалось, что теория Конгас-Маранды не согласуется с важной для антропологических структуралистов теорией саморегулирующихся систем:
…культуры поддерживают себя, внося поправки к своим собственным “ошибкам”, возмущениям в системе, так же, как это делает любая система. Если загадка функционирует так, как полагает Маранда, то она вступает в противоречие с культурной системой и должна быть скорее устранена системой, чем поддержана ею. (Либер 1976: 258)
Задача этого оппонента не опровергнуть Конгас-Маранду, а внести поправку в ее теорию. С целью сохранить взгляд на загадку как когнитивную деятельность, ориентированную на классификационную систему, Либер дает другой вариант интерпретации:
«…разгадыватель испытывает свойства описания на совместимость с теми, что имеются в обиходе, путем редукции ad absurdum» (там же: 261). Вся разница в том, что Конгас-Маранда видит в загадке предмет интеллектуального удовольствия от обнаружения, что опоры культурной системы не так уж устойчивы, тогда как Либер видит ту же самую интеллектуальную деятельность как испытание системы, способствующее ее поддержанию. Беда в том, что, хотя в поправленной версии понимание загадки как испытующего интеллектуального упражнения не противоречит теории систем, оно точно так же, как и отвергнутая версия, не затрудняется выяснением того, есть ли основания для такой интерпретации в полевых наблюдениях антропологов. Загадка и в этом случае оказалась чисто умозрительно подведенной под идеи амбивалентности, двоичной классификации и т. п., то есть под аксиоматику Большой Гиперструктуральной Теории.
Как ни поворачивай ее, но идея амбивалентности в качестве точки опоры для понимания загадки является слишком грубым инструментом для представления того, что на самом деле имеет место в загадывании и разгадывании загадки как ментальном процессе. Имманентный анализ покажет, что загадка опирается на гораздо более тонкие и специфические мыслительные акты. Имманентный анализ, от которого гиперструктуралисты начисто отказались, не заменим никакими подходами сверху, от какой-либо аксиоматически обоснованной общей теории, как бы изящна она ни была с виду.
Конгас-Маранда осуществила еще одну попытку справиться с загадкой под другим углом атаки. На этот раз она обратилась к этнографическим данным, которые, по ее мнению, дают возможность встроить понимание загадки в теорию все того же Лича о двусмысленности, или амбивалентности, как средстве медиации между несовместимыми культурными системами соседствующих социальных групп. Она выделила следующее обстоятельство, зарегистрированное этнографами: из разных частей света поступали сообщения, что загадывани-еразгадывание загадок происходит в собраниях, связанных с ухаживанием, сватовством, подготовкой к браку и свадебными церемониями (Маранда 1971: 192). Это действительно важное обстоятельство вскоре станет предметом нашего подробного рассмотрения; что же касается Конгас-Маранды, то не подвергая эти наблюдения ни малейшему анализу, она сразу же совершает скачок к далеко идущим выводам:
Параллельным образом [по отношению к теории Лича] загадка может быть рассмотрена как, должно быть, более специализированный язык на котором группа говорит о своих наиболее фундаментальных социальных актах: о союзе мужчины и женщины. (Там же)
Конгас-Маранда предлагает структурную экспликацию того, как загадка работает в качестве пучка двусмысленностей того или иного рода. Ее анализ, опять-таки, идет напролом. На вопрос о смысле неоднозначного соотношения между описанием/вопросом и разгадкой/ответом, она находит готовый ответ у Всесильной Теории: отношение это кодифицировано. Так то оно так, но этот ответ не столько отвечает на вопрос, сколько позволяет его обойти, не вникая в его непростую суть. Понятие кодификации обладает в гиперструктуралистических текстах магическими свойствами – оно наделено здесь разрешающей силой; а между тем кодификацией называются самые различные явления, не говоря уже о том, что она нередко мерещится там, где действуют вообще другие силы. Пренебрежение методологической рефлексией, необходимой перед лицом анализа сложных феноменов, ведет к тому, что логические экспликации амбивалентностей загадки у Конгас-Маранды объясняющей силы не имеют. А прямое приложение их к проблеме союза мужчины и женщины в примитивном обществе приводит к таким заключительным откровениям, как: загадка – это «союз двух множеств» или «пересечение двух множеств» (там же: 229). Это пародия на научность; терминологический язык здесь обряжает пустоту мысли. Важные факты оказались и в этой теории загадки Конгас-Маранды втиснутыми в прокрустово ложе Всезнающей Теории и переведены в трюизмы.
К прояснению важнейшего вопроса о социальной функции народной загадки, перед которым мы оказались, сформулировав тезис (с), мы еще не готовы. Загадка не поддается лобовой атаке. Нам придется еще покружить вокруг нее в надежде на то, что, постепенно освещая ее с разных сторон, мы в конце концов выйдем к интегральному взгляду, позволяющему заглянуть в ее глубь, в ее смысл.
7. Проблема жанра народной загадки, или О необходимости дискриминации
…определение мы будем иметь тогда, когда словесное обозначение говорит о чем-нибудь первичном <…>. Поэтому суть бытия не будет находиться ни в чем, что не есть вид рода, но только в них одних.
Аристотель, «Метафизика» 7.IV [1030а. 8-10,12–13].Из сказанного ясно, что суть бытия не существует ни в чем, что не есть вид рода, но эта суть бытия имеется там, где даны виды рода; принадлежит же она не любым видам без различия, но видам, которые извлечены из сущностей; иначе говоря, суть бытия принадлежит вещам, от которых (мысленно) отделяются виды.
Александр Афродисийский, «Комментарии» [к Аристотелю] 438, 21–24.Теперь пора заметить, что сформулировав тезисы (a), (b) и (c), мы поставили себя в трудное положение. На утверждение, что загадка не предназначена для решения посредством индивидуальной остроты ума, можно возразить, что в устной народной традиции есть загадки, предназначенные для приложения умственных усилий. Для этого существуют различные приемы, отчетливо различимые в составе определения/вопроса. Такова, например, русская загадка: Стоит сноха, ноги развела, мир кормит – сама не ест; ответ: Соха (С1146). Совершенно очевидно, что, помимо смешного несоответствия загаданному предмету, сноха самим своим звучанием подсказывает ответ. Ответ может быть подсказан как рифма-эхо: С440. Что в избе любо? – Блюдо; С374. Что в избе гадко? – Кадка. Такого рода загадки есть и в других языках. Например, в английском: Drill a hall, drill a room; lean behind the door. – Broom (Вышколит холл, вышколит комнату; прильнет за дверью. – Метла. Т696а). В переводе она бессмысленна, потому что пропадают наводящие на ответ звуковые соответствия. А вот провансальская загадка: Court de branko en branko, / Per tuto la Franko, / E ba tuca la barba au rèi. – Lou soureil (Бежит с ветки на ветку, Через всю Францию И прикасается к бороде короля. – Солнце. Bladé 1879: № 38, с. 205). На каламбуре основаны загадки типа английской: Something has a ear and cannot hear. – Ear of corn (Нечто имеет ухо, которое глухо. – Початок кукурузы. Английское ear означает и то и другое. T285). Существуют загадки и более элементарно, простотой и ясностью образа рассчитанные на разгадывание. Такова русская загадка: Два конца, / Два кольца, / По середке гвоздик. – Ножницы (С618б), естественно принятая в фонд детских развлечений. В сборниках англоязычных народных загадок встречаются образцы такого же типа: A straight white man wid a red face an’ a black head. – Match (Прямой белый мужик с красным лицом и черной головой. – Спичка. T584a).
Такого рода загадки явно противоречат сформулированным нами тезисам. Не доказывают ли эти примеры, что тезисы слишком ограничительны? И да, и нет. Область народной загадки еще более разнообразна, чем показывают данные примеры. Как мы уже знаем, и аристотелева ссылка на метафорический характер загадки справедлива не для всех загадок. Именно многообразие народной загадки и заставило Жоржа и Дандеса и их последователей заняться поисками общего знаменателя для жанра. Но общий знаменатель нашелся только на уровне более низком, чем тот на котором загадка остается загадкой. С учетом этих обстоятельств становится очевидным, что, следуя за Аристотелем, мы ставим в привилегированное положение некую разновидность жанра народной загадки.
Какой смысл сосредоточиваться на некоторой привилегированной разновидности, если нашей целью является жанровое определение загадки? Концептуальный инструментарий последовательных теорий не рассчитан на подобную несправедливость: с точки зрения логического анализа объекты данного класса должны иметь общий знаменатель, и все тут. Но мы все же вступим на путь дискриминации, потому что не все загадки являются загадками в равной степени. Все граждане республики равны перед законом, но не все граждане в равной степени являются гражданами по существу – не все одинаково выполняют функции гражданина. Логика в некоторой области культурных феноменов может быть неэгалитаристской.
Ситуация осложнена тем, что загадка типа Два кольца, два конца, по середке гвоздик – это не народная загадка, а литературная, которая образована как бы в подражание народной, с соблюдением стилистической краткости этого жанра, но тем не менее без понимания его более глубокого характера. Такие загадки легко присоединяются к фольклорной традиции, и, если устная передача и означает фольклорную традицию, то они являются в каком-то смысле фольклорными. Но не традиционными народными. Потому что народная традиция понимает загадку иначе. По всей вероятности, и приведенные выше загадки со звуковыми подсказками также возникли под влиянием литературных игр из иных страт культуры. Но сегодня они входят в сборники народных загадок на законных основаниях. Дополнительное условие их легитимизации в качестве народных заключается в том, что сама народная традиция и без вмешательства иных слоев культуры порождает формы загадки, не соответствующие аристотелеву определению.
С формально-логической точки зрения выделение народной загадки среди других жанров энигматики и дифференциация форм внутри области народной загадки представляют собой две различные задачи. Но по существу это не вполне так. На территории народной загадки формальной логике суждено быть неадекватной. Проблема выделения нашего жанра неизбежно соскальзывает в проблему его внутренней морфологической дифференциации. Обе перспективы – широкая, охватывающая всю энигматику, и узкая, касающаяся видового многообразия народной загадки, – предстают неразделимыми.
Исследователей филологической школы, еще не одурманенных грандиозным соблазном Всемогущей Теории, интересовала проблема разграничения. Во-первых, чтобы яснее мыслить о народной загадке, им нужно было разобраться в многообразии жанров энигматики и отграничить свой предмет. Во-вторых, в процессе этого разграничения обнаружилось, что и жанр народной загадки так многообразен морфологически, что и тут нужно бы ввести разграничения. На ранних этапах изучения загадки исследователи терялись между тем, что собственно следует считать загадкой и что следует считать народной загадкой. Вскоре мы подробнее войдем в их мысль и увидим, сколько счастливых находок оказалось возможно обрести на пути осторожного и внимательного обследования предмета.
Интерес к народной загадке питался сознанием, что этот жанр ценнее любого другого энигматического жанра, потому что сложнее и неуловимее в его своеобразии. Особость народной загадки, различимая уже интуитивно, подсказывала необходимость рассматривать ее не в ряду других загадочных вопросов, а противопоставить им всем. Тогда как такие формы загадочных вопросов, как словесный ребус, словесная шарада, арифметическая головоломка, вопрос, требующий остроумного ответа или каламбура, и т. д. и т. п. (см. обзор: Тэйлор 1949), – все рассчитаны на рациональную способность, только народная загадка открыто объявляет о своем существовании на грани рациональности: вроде бы она и может быть понята, ее разгадка имеет смысл, и в то же время и разгадана сама по себе она быть не может и образы ее не получают достаточного основания в разгадке. Хотя никто не закрывал глаза на то, что рядом вот с такой загадкой, отвергающей остроту ума, в собраниях ее текстов есть множество образцов, поддающихся легкому разгадыванию, именно уклоняющийся тип был принят филологической интуицией в качестве образцового и позволяющего выделение жанра. Речь, таким образом, идет не просто о различении, но о дискриминации, внесении неравенства в поле форм, равно принадлежащих данному жанру.
Собрания народной загадки полны самых странных форм, бросающих вызов логике. Народная загадка поражает многообразием способов ускользания от метафорической формы. Даже и в казалось бы явно метафорических загадках характер метафоры понять нелегко, а кроме того существуют не-вполне-метафорические загадки, иногда трудно сказать, метафору или не-метафору представляет собой загадочное описание, например, Р93. Станет – / выше коня, / ляжет – / ниже кота. – Дуга (станет и ляжет метафоричны как действия, но буквальны в выражениях: шкаф стал рядом с диваном, бревно легло точно в предназначенное место). Загадка может подсунуть и буквальное описание, но оно предстает как метафорическое, прежде что разгадывающий вспомнит или узнает разгадку: Р63. По земле ходит, / а неба не видит. – Свинья.
Загадка не столько предлагает метафору, сколько играет с метафорой, прибегая к различным степеням ускользания от прямой сопоставимости. Что важнее всего, едва ли не каждый образец полновесной загадки находится в окружении упрощенных, иногда до крайнего примитивизма, форм. Совсем уж неметафорическая загадка, если она принадлежит традиции, всегда, без исключения обнаруживает черты материального родства – по сходству формулы и мотивов – с полновесной метафорической загадкой и потому является ее родственницей, хотя бы и бедной. Только что приведенная загадка о свинье, в которой дано буквальное описание, потому возможна, что мотив свиньи обычно служит метафорой во множестве загадок и так же обычна парадигма противопоставления двух свойств одного предмета. Этим родством, независимо от степени невыполнения родовых обязанностей, нельзя пренебрегать, и такую загадку нельзя исключить из благородного семейства. Загадки приходят к нам целы ми корпусами, в которых наблюдается родство и смежность. (Тут я отсылаю читателя к уже приведенным образцам родственных связей в гл. 2, с. 17).
Единство традиции дает корпус загадок. Местные традиции пересекаются друг с другом. Жанровое единство определяется генетически, родовой жизнью. Народная загадка живет жизнью клана.
Итак, жанр народной загадки равен не некоторому логическому классу, а роду, то есть единству генетическому. Родство, в отличие от членства в классе, не формальное понятие, а материальный факт. Поэтому рядом с полноценными образцами могут находиться и неполноценные, если только они хотя бы краем своего естества причастны к образцовой родне. Морфологические различия внутри жанра народной загадки не выстраиваются как равноценные логические варианты одного инварианта – образцовая сложная форма предстает в окружении упрощений различного вида и степени. При этом упрощенные формы не определяют жанра, они входят в жанр лишь на правах родственного конвоя полноценных образцов. Не определяя жанра, они в него входят. Теперь должно быть понятно, почему между определением жанра, которое ориентировано на полноценные образцы, и фактической картиной поля народной загадки имеется несоответствие, разрыв.
Наиболее распространенной ошибкой в исследовании загадки является рассмотрение всех ее разновидностей в одной плоскости. При этом особенность жанра загадки теряется либо в совсем не характерных элементарных, либо в самых банальных поздних чертах.
Теперь мы можем дополнить наши тезисы следующим:
(d) Некоторые народные загадки являются в большей мере загадками, чем другие. Жанр народной загадки определяется не каждым своим образцом, а своим образцовым видом. Область народной загадки морфологически не гомогенна: она состоит из множества форм, среди которых только образцовая загадка вполне отвечает потенциальной полноте условий жанра. Только образцовая загадка представляет жанр, остальные формы входят в него на правах родства с образцовым видом.
Таким образом мы получаем разъяснение того недоразумения, которое исследователи всегда замечали, но во второй половине ХХ века перестали вникать в его основания.
Ситуация все же предстает запутанной, и нам придется еще поработать, чтобы ее распутать. Именно распутывание этой ситуации ведет к пониманию загадки. Здесь открывается перспектива на морфологию загадки, а следовательно, и на ее глубинный смысл, незаметный с поверхности в историческую пору утраты из виду основных ее форм и подлинных условий ее функционирования. Теперь ясно обрисовалась наша центральная задача: реконструкция образцовой формы загадки, ее морфологии, функций, смысла.
8. В поисках подлинной загадки по заросшим травой следам фольклористов XIX века
Итак, мы находимся в некоем подобии круга. Понимание начал полностью достигается лишь исходя из современного состояния данной науки при ретроспективном взгляде на ее развитие. Но без понимания начал нельзя понять это развитие как развертывание смысла. Нам не остается ничего иного, как двигаться вперед и возвращаться назад, двигаться “зигзагом”, одно должно помогать другому и сменять друг друга.
Эдмунд Гуссерль, «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология», II, § 9, l.Искать подлинную загадку – задача не мною придуманная. Ею занималась филологическая школа фольклористики. В теоретически незамысловатых работах исследователей этой традиции можно заметить, что усилия по выделению народной загадки среди всех других жанров неразрывно соединены с намерением уловить этот уклончивый, но интуитивно отличимый предмет.
Задача отделения народной загадки от других форм энигматики предстала перед фольклористами XIX века не в теоретическом виде – им пришлось столкнуться с задачей практического ее выделения. Дело в том, что источниками для них служили не только записи загадки в процессе загадывания, но и в результате опроса отдельных лиц, не только свежие записи народного творчества, но и старинные тексты, где цитировались загадки, а также старые сборники загадок, включавшие различные загадочные вопросы без разбору. Проблема жанра предстала тут перед фольклористами в обостренном виде. Замечательна последовательность, с которой они прокладывали путь к пониманию особенной природы народной загадки. При этом многие из них шли своими независимыми путями к прояснению в общем одной и той же интуиции, и только на каком-то этапе отдельные усилия стали поддерживать друг друга.
Иоханнес Элерс (Johannes Ehlers), собиратель загадки Шлезвиг-Хольштейна, предложил отличать загадки, предназначенные для смыслового разрешения (das Sinnrätsel) от всего разнообразия хитроумных вопросов, основанных на игре слов, перестановках букв, перемещении слогов и других игр образованной публики (Элерс 1865). Заметить следует у него именно попытку рассмотреть народную загадку не просто как одну из форм энигматики, а противопоставить ее всем другим ее формам вместе взятым. Гастон Парис в своем предисловии к сборнику французских загадок предложил различие между «les énigmas de mots et les énigmas de choses» («загадками о словах и загадками о вещах»), которое более или менее соответствует различию между загадкой интеллектуальной и подлинно народной (vraiment populaire) (Парис 1877: VII). В том же году, то есть действуя независимо и параллельно, собиратель сербского фольклора Стоян Новакович (Стоjan Новаковиħ) стал отличать собственно загадку (праве загонетке) от таких жанров, как остроумный вопрос, загадка, разгадываемая на пари, загадочный вопрос, предполагающий математический расчет (Новакович 1877). Собиратель и исследователь мекленбургского фольклора Рихард Воссидло (Richard Wossidlo) сосредоточил свое внимание на жанре предметной загадки (das Sachrätsel), которую он определил по «Поэтике» Аристотеля (Воссидло 1897). Э. Х. Майер (Elard Hugo Meyer) в своем обобщающем труде по немецкому фольклору говорит, как и Новакович, о собственно загадке (das eigentliche Rätsel); она отличается от загадочных вопросов стилистическими особенностями, которые составляют ее сердцевину, такие, как ассонанс, осевая рифма, странные фонетические образования и искаженные слова (Майер 1898: 333). Наконец, Роберт Петш (Robert Petsch) также со ссылкой на Аристотеля говорит о необходимости отличать подлинную народную загадку от неподлинной (das wirkliche / das unwirkliche Volksrätsel) (Петш 1899). Заметим, что Петш стремится отдифференцировать подлинную загадку как будто вслед за Парисом, Новаковичем, Воссидло и Майером, но по существу он перенес центр тяжести вопроса отчетливо в область форм самой народной загадки.
На пике этих усилий по выделению подлинной загадки в качестве образцовой Петш предложил свое понимание загадки как морфологически сложного образования и осуществил первый анализ структуры загадки. Так как он, как и многие другие, а может быть и все фольклористы, опирался в своем понимании загадки на Аристотеля, то нам следует подробнее уяснить себе, что же сказал создатель поэтики – его определение отнюдь не прозрачно.
Сегмент «Поэтики», в современных изданиях обозначаемый как глава XXII, Аристотель посвятил стилистике словесного выражения. «Достоинство словесного выражения, – так начинается этот текст, – быть ясным и не быть низким». Философ сразу же отмечает противоречивость этого требования, потому что, будучи противоположностью низкого, «благородное и незатасканное выражение есть то, которое пользуется необычными словами», а необычные выражения уклоняются от ясности. Противоречие его не смущает, скорее, даже привлекает. В качестве примеров необычных выражений он называет глоссу и загадку. Глосса относится к варваризмам. Загадка пользуется метафорой – это благородное, необычное и неясное выражение. Разрешает противоречие Аристотель в своем обычном ключе: чтобы соединить ясность с благородством нужно метафору перемешивать с простыми словами. По ходу этого размышления он определяет загадку следующим образом: «… идея загадки такова: говоря о действительно существующем, соединяют это с чем-то совершенно невозможным. Этого нельзя достигнуть сочетанием слов, но с помощью метафоры можно» («Поэтика» XXII [1558a]). В переводе В. Г. Аппельрота под редакцией Ф. А. Петровского трудное выражение «нельзя достигнуть сочетанием слов» правдоподобно разъяснено: «связью <общеупотребительных> слов» (Аристотель 1957: 114). Аристотель тут же приводит следующий пример поэтической загадки: «Мужа я видел, огнем приклеившим медь к человеку». В «Риторике» философ приводит эту же загадку и поясняет, что речь идет о кровососных банках. И добавляет: «Из хорошо составленных загадок можно заимствовать прекрасные метафоры; метафоры заключают в себе загадку, так что ясно, что <загадки> – хорошо составленные метафоры» («Риторика» 3.2 [1405b]; Аристотель 1978: 131).
Сказанное Аристотелем подходит к народной загадке. Он указал логическую особенность загадки: 1) загадка описывает экстравагантный и противоречивый предмет или событие; 2) составляющая загадку метафора соединяет два несовместимых предмета – действительно существующий с совершенно невозможным. Действительно существующее, подразумеваемое в качестве предмета загадки, ее ответа, – это нечто, что мы знаем из нашего опыта, обыденная вещь, доступная называнию простым словом. Совершенно невозможное – понятие трудное; оно относится не к ограниченности нашего частного опыта, а ссылается на границы возможного опыта вообще. Оно указывает на пределы рациональности. Загадка, таким образом, выходит за пределы рациональности. Выходит, разумеется, на мгновение, поскольку все же имеет осмысленное решение. Но она заигрывает с запредельным рациональности, заглядывает за ее край. Такое определение загадки дал создатель формальной логики!
Фольклористы-филологи XIX века не занимались анализом Аристотеля, но приняв его определение, интуитивно двигались в подсказанном им направлении. Роберт Петш был первым, кто усмотрел в аристотелевой перспективе возможность морфологического исследования загадки. Идя по заданному его предшественниками пути противопоставления собственно загадки всем другим формам энигматики, он заметил, что подобная же проблема – выделения собственно загадки – остается актуальной и в самой области народной загадки: здесь тоже нужно отделять подлинную загадку от неподлинной (das wirkliche / das unwirkliche Volksrätsel). Подчеркиваю это замечательное событие: выделение народной загадки в качестве подлинной в области энигматики и выделение в области народной загадки подлинной, определяющей жанр формы сошлись в едином фокусе.
Именно подлинная загадка, по Петшу, характеризуется особой внутренней структурой. Отправляясь от Аристотеля, Петш все же читает его в рационалистическом ключе нового времени:
“Действительные” загадки имеют своей задачей описать некоторый предмет в затемненной, побуждающей к раздумью, вероятно даже, запутанной, поэтической оболочке, так что из этого описания его внешнего вида, его происхождения, его образа действия и т. д. можно и должно посредством рассудка распознать, или разгадать, этот предмет. (Петш 1899: 5)
Затемненность здесь относится только к форме, содержание же предполагается вполне рациональным. Как видим, Петш читает загадку в доантропологическом ключе, без понимания того, как загадка в действительности функционирует, в полной уверенности, что она подлежит индивидуальному рассудочному разгадыванию.
И все же у Петша есть важный нюанс: разгадывание имеет у него особый смысл. Подлинная загадка у него предназначена для разгадывания именно в отличие от других форм энигматики; это не тот же акт, что в других случаях. Другие формы энигматики ставят четко характерные вопросы. Последние у Петша представлены тремя разновидностями: испытаниями мудрости (die Weisheitsproben), шееспасительными загадками (die Halslösungsrätsel) и шуточными вопросами (die Scherzfragen). Но характер вопроса подлинной народной загадки определить непросто. Ясно, что неподлинные загадки не входят в поле интересов автора, а приводятся лишь для того, чтобы их отсеять и тем самым извне в обширном поле энигматики отграничить поле подлинной загадки. Когда имеешь дело со сложным, темным и ускользающим предметом, имеет смысл прежде всего указать на то, чем он не является, отделив от него то, что находится рядом и поддается более легкому определению. Замечательно же то, что Петш выгораживает поле подлинной загадки не для того, чтобы представить ее как однородное явление, а для того, чтобы в огражденных пределах можно было рассмотреть морфологическую сложность, гибкость, разнообразие загадки и в этом разнообразии усмотреть образцовую форму, определяющую жанр. Исследовательскому взгляду предстоит пробиться сквозь это озадачивающее многообразие загадки.
Обратившийся к народной загадке глаз оказывается ослеплен неисчерпаемым богатством ее форм. Внешняя и внутренняя форма, метр и стиль живо разнообразятся, а одна и та же загадка сочетает <…> разнородные компоненты. (Там же: 48)
Важно, что это разнообразие подвергнется дискриминирующему рассмотрению, которое даст о себе знать в процессе петшева морфологического анализа. Проблема подлинной загадки, по Петшу, заключается не в том, чего она ищет, как это обстоит с другими формами энигматики, а в том, как она предлагает свои вопросы. И он выбирает самую сложную форму загадки для того, чтобы дать представление о морфологии, характеризующей жанр.
9. Хампти Дампти и морфология подлинной загадки
Морфологическую сложность подлинной загадки Петш рассматривает в рамках стилистики, лингвистической дисциплины, в которой в конце XIX века разрабатывались мысли, предшествовавшие лингвистической поэтике ХХ века. Самые отличительные, бросающиеся в глаза стилистические особенности народной загадки, по Петшу, это краткость и слаженность, а определяющей особенностью является ее функциональная структура, артикулированная в этой лаконичной форме. Петш сосредоточивает свое внимание не на всей загадке как вопросно-ответном тексте, а на описании. В рамках вопроса он отделяет описание загадываемого предмета от риторических элементов, относящихся к вопрошанию. Описание загадываемого предмета он выделяет как главную часть загадки. Вот как он его характеризует:
Эти описания, лишь иногда выраженные в полных предложениях, а часто в неполных, но зато имеющих либо изобразительный характер, ориентированный на создание образа, либо характер эхоподобного звукового отражения, образуют собственно ядро, главную часть всей загадки. Без этого загадка либо невозможна, либо представляет собой “неподлинную” (“unwirklich”). (Там же: 48–49)
На этом пути Петш различает в описательной части, которую обычно называют вопросом, ядро и обрамление. Обрамление отличается лингвистически своим формульным характером. Оно состоит из вводной и заключительной формул, задача которых привлечь внимание адресата загадки, активировать некоторое напряжение внимания указанием на предстоящие трудности, а также на ожидающую в случае успеха награду, и раздразнить испытуемого «ожиданием, что он провалится», тем самым побуждая его к разгадыванию (там же: 49). Можно добавить более позднюю мысль Бронислава Малиновского, введенную Романом Якобсоном в лингвистику, что такое обрамление взывает к некоторой солидарности участников коммуникации; эта роль получила название фатической функции речи. Обрамление легко распознается. Оно слабо выражено в русской загадке, хотя и тут изредка встречается, например: Загануть ли те загадку…? (С570), отчетливее в английской: Riddle me, riddle, в аргентинской: Maravilla, maravilla, в брауншвейгской вводная формула может быть: Ra, ra, wat is dat? Обрамление часто выглядит как довольно позднее обретение, но, возможно, это эхо или закрепление памяти исчезающих ритуальных условий, непременных в прошлом. Вводный компонент обрамления может быть представлен формулой места, например, брауншвейгская загадка нередко начинается версией фразы Hinter ûsen Hûse (За нашим домом). Такая формула распознаваема именно как клишированное введение, не имеющее другой необходимой смысловой функции.
Главное достижение Петша – экспликация структуры ядра подлинной загадки. Он характеризует эту структуру в целом как сочетание стилистически разнородных форм обозначения: 1) непрямого называния предмета, 2) его описания и 3) еще одного элемента описания, который вносит черту, несовместимую с предшествующим о писанием. Последний компонент ядра создает дополнительное затруднение в разгадывание загадки, и без того затрудненное косвенностью первого и разнородностью первого и второго. Третий компонент Петш назвал тормозящим (там же: 49). Вот пример:
Hinter ûsen Hûse Ploiget vadder Krûse Ône plaug und ône rad. Râe mâl tau wat is dat? – Maulwurf [Позади нашего дома пашет папаша Краузе Без плуга и без колеса. Разгадай-ка такие чудеса. – Крот.] (Андре 1896: 354)Hinter ûsen Hûse (Позади нашего дома) и Râe mâl tau wat is dat? (Разгадай-ка, что это такое?) – обрамляющие формулы. Vadder Krûse (папаша Краузе) – называющий компонент ядра, но называющий непрямо. Ploiget (пашет) – описывающий компонент. И Ône plaug und ône rad (без плуга и без колеса) – дополнительный описательный компонент, вступающий в противоречие с предыдущим и тормозящий разгадывание.
Таким образом, полная структура вопроса/описания загадки состоит из пяти компонентов:
(1) вводный обрамляющий компонент (einführendes Rahmenelement),
(2) компонент ядра, косвенно называющий, или представляющий, загаданный предмет (benennendes Kernelelement),
(3) описывающий компонент ядра (beschreibendes Kernelelement),
(4) тормозящий компонент (hemmendes Element),
(5) заключительный обрамляющий компонент (abschliessendes Rahmenelement).
Подлинная загадка без ущерба может состоять менее, чем из пяти компонентов. Поэтому Петш предлагает двойное структурное определение загадки: полное и достаточное. Полная загадка состоит из пяти компонентов, но обязательны для того, чтобы загадка оставалась полноценной, только два: (2) косвенно называющий и (3) описывающий. Тормозящий компонент ядра (4) и обрамляющие (1) и (5) не обязательны; каждый из них в отдельности, вне связи с другими, может присутствовать или отсутствовать. Для вышеприведенной загадки о кроте достаточно одной фразы: Ploiget vadder Krûse (пашет папаша Краузе), – чтобы быть загадкой. Загадку, в которой присутствуют все пять компонентов, Петш называет нормальной (das Normalrätsel – в смысле задающая норму) и признает ее редкой.
Анализ Петша содержит ряд сильных сторон. Прежде всего он выделил подлинную загадку и дал артикулированное структурное представление о ней. Структура представлена как функциональная организация стилистически разнородных компонентов. Иначе говоря, Петш в своем анализе интегрировал стилистические, функциональные и структурные аспекты текста загадки, точнее – текста ее вопроса/описания (оставив в стороне ответ/решение). Освободившись от диктата вопросно-ответной формы, Петш сделал шаг, оказавшийся чрезвычайно плодотворным для дальнейшей истории изучения загадки. Его мысль о существовании полной и неполных форм подлинной загадки пошла у него по крайне формальному пути, но в будущем такое различие получит глубину.
Недостаток работы Петша – допущение, что загадка предназначена для индивидуального разгадывания; и такое понимание функции наложило сильный отпечаток на понимании морфологии. Но это допущение он разделяет со всей филологической школой, и оно послужило, хоть и ограничивающим, но на первых порах полезным инструментом. Его представление о морфологии загадки положило начало плодотворному пути исследования. Положительный итог петшева анализа можно подвести таким образом: Подлинная народная загадка, в противоположность смежным формам энигматики, отмечена стилистической компактностью, плотной упаковкой стилистически разнородных компонентов описания, так что эта разнородность, а с ней и смысловая противоречивость описания, оказываются скрытыми.
Отмеченная таким образом характеристика загадки представляет собой разработку аристотелева ее определения. Афинский философ указал на логическую противоречивость загадочного описания; немецкий филолог перевел характеристику в более осязаемый план стилистики – он усмотрел лингвистически определимые характеристики разнородности средств описания и в соответствующих терминах охарактеризовал компонентную структуру загадки. Переход Петша в лингвистический план – это начало структурного, или морфологического, изучения загадки в фольклористике нового времени. И все же мы все еще находимся в преддверии собственно структурного описания, поскольку оно у Петша не вполне удовлетворительно – стилистическая неоднородность описания разошлась у него с инконгруэнтностью, которой отведено отдельное и второстепенное место (компонент 4). Классическое структурное описание загадки дал другой исследователь.
Следующий шаг в исследовании структуры загадки сделал через полстолетия американский фольклорист Арчер Тэйлор в работах 1943, 1949 и 1951 годов. Движимый тем же интуитивным знанием, что народная загадка должна быть отличаема от всех остальных жанров энигматики и вместе с тем не всегда равна сама себе, он вслед за Петшем сделал центром своего внимания категорию подлинной загадки (true riddle).[16] Тэйлор отличает подлинную загадку, с одной стороны, от ложной, которую он представил такими категориями энигматики, как: шееспасительная загадка, арифметическая головоломка, хитроумный ответ и литературная загадка. Особое внимание он уделяет последней, потому что она иногда ставится в один ряд с народной. И он указывает на ее принципиальное отличие от народной: многословность, отсутствие определенной структуры и определенного функционального места в жизни. С другой стороны, он отличает в области народной загадки подлинную и уделяет внимание только ей. Приступая к структурному анализу подлинной загадки, он, вслед за Петшем, выделяет в ней обрамляющий компонент и ядро, но при этом разбирает ядро иначе.
Отметив, как и Петш, что решающим фактором в функциональном построении загадки является несоответствие внутри загадочного описания/вопроса, из чего проистекает затруднение для разгадывания, Тэйлор описывает это несоответствие как результат определенного рода дихотомии в тексте ядра. Если Петш различал три стилистически разнородных компонента в ядре, то Тэйлор различает только два, причем не просто разнородных, но и противоречивых, резко контрастных. Различает он их по иному принципу, чем Петш. Затруднение в разгадывании, по Тэйлору, возникает благодаря тому, что первый компонент имеет метафорический характер, а второй – буквальный (Тэйлор 1943: 130). Загадочное описание обладает способностью сбивать с толку потому, что метафорическое и буквальное описания сливаются в неразличимое с поверхности единство; оно закамуфлировано строем фразы. Разгадывающий загадку сталкивается в общем с иносказанием и принимает его за метафору; но на деле это не вполне метафора, или, быть может, – более, чем метафора, образование, которое позирует в качестве метафоры.
Тэйлор иллюстрирует свой анализ на материале популярной загадки:
Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, And all king’s horses and all king’s men Can’t put Humpty Dumpty together again. (Egg) Хампти Дампти на забор взгромоздился, Хампти Дампти упал и разбился, И все королевские кони, и вся королевская рать Не могут обратно Хампти Дампти собрать. (Яйцо)Имя Хампти Дампти несет в себе фигуративный заряд: humpty восходит к значениям «куча, бугор», и означает «комок, выпуклость, бугор, верблюжий горб»; и dump имеет в своем более широком смысловом репертуаре значения «куча, масса». Суффикс же —ty означает носителя соответствующих качеств; так что персонаж по имени Хампти Дампти предстает как метафора некоторой пухлой фигуры. Между тем высказывание о королевских конях и королевской рати имеет вполне буквальный смысл: речь идет о предмете, который, разбившись, в самом деле не может быть собран ни королевской ратью, ни с помощью лучших коней. Тэйлор заключает: «…это сбивает с толку слушателя, вознамерившегося установить предмет, описанный противоречивым образом» (там же).
Тэйлорово структурное определение загадки отчетливее того, которое предложил Петш. По Тэйлору, Папаша Краузе пашет – в целом, без более дробного, как у Петша, разделения на части – представляет собой метафорическое описание крота и его действий, а Без плуга и без колеса – должно быть понято в буквальном смысле (чего Петш не распознал). Таким образом, структурный анализ загадки у Тэйлора яснее и лингвистически последовательней. Он представляет загадку как высказывание особой, вполне определенной и опознаваемо специфической структуры, подчиненной четко определенной задаче. В отличие от Аристотеля, Тэйлор вводит невозможность не как референциальное свойство компонента, а в качестве внутреннего, реляционного, структурно-функционального свойства – невозможности соединения стилистически разнородных компонентов.
Итак, Тэйлор, следуя за Аристотелем и Петшем, предлагает модификацию, которая артикулирует представление о структуре загадки более точно и компактно. Аристотелева пара коррелятивных понятий, впервые схватившая структурную особенность загадки, – существующее и невозможное – относятся к способности спекулятивного мышления и далека от лингвистической реальности. Петшево представление о косвенно называющем и описывающем компонентах загадки переводит эту же перспективу в стилистические и функциональные термины, а с добавлением тормозящего компонента имеет смешанный и нечеткий характер в отношении к функции. Тэйлорова формула артикулирована в последовательной лингвистической терминологии и отличается структурной четкостью: народная загадка представляет собой фигуративное (метафорическое) высказывание в слиянии с буквальным. Конфликт создается сочетанием двух разнородных модальностей высказывания, мысли и восприятия. Эффект опирается на скрытость этой разнородности, на незаметность сдвига от одной модальности к другой, на том, что форма высказывания камуфлирует эту разнородность.
Следуя за Тэйлором, мы можем сформулировать следующий тезис:
(e) Инконгруэнтность, внутренняя конфликтность загадочного описания заключается в том, что в нем соединены фигуративное и буквальное описание загаданного предмета, причем неприметный, бесшовный способ соединения сбивает с толку.
Это положение можно назвать принципом Тэйлора.
В дальнейшем, когда бы у нас ни зашла речь о метафоре или метафоричности загадочного описания, следует иметь в виду, что это условность, дань аристотелевой традиции. В строгом смысле метафора составляет лишь часть загадочного описания, но оно и в целом выдает себя за метафору. Загадочное описание в целом функционирует как особого рода фигура речи – оно иносказательно представляет тот предмет, который должен быть назван в разгадке, и в некотором широком смысле может пользоваться названием метафоры. Сообщение о Хампти Дампти в целом, со всеми своими деталями, замещает понятие яйца. По отношению к загаданному предмету образ описания в целом разыгрывает роль метафоры, хотя это странная, деформированная, с одной стороны – недостаточная, с другой – избыточная, так сказать, неклассическая метафора. Словом, говоря о метафоре в контексте загадки, мы употребляем это понятие в особом смысле, какого она не имеет больше нигде. Уже осознание этого обстоятельства должно указать нам на то, что загадка представляет собой особую реальность, требующую специально ей соответствующих путей мышления.[17]
10. Подлинная загадка и ее окрестности. Что одному кажется сумбуром, то другому может звучать музыкой
Одно дело, когда аристотелево определение загадки не увязывается с ее эмпирической картиной, полученной в XIX веке. В этом можно заподозрить нестыковку взглядов из двух разных эпох. Но вот обратившись к «Английской загадке из устной традиции» Арчера Тэйлора (Тэйлор 1951), мы оказываемся перед новым, более обостренным вариантом уже знакомой нам ситуации: большая часть приведенных в собрании Тэйлора образцов не согласуется с морфологическим определением загадки у самого Тэйлора. Множество из его загадок куда как проще. Например: T1100. In this world it’s a mountain, and upon this mountain it’s a grass piece. – A man’s head (В этом мире горка, а на горке травка. – Человеческая голова). Эта загадка состоит из двух смежных метафор – таковы и горка и травка, – а буквального высказывания в ней вовсе нет; нет в ней и несовместимости частей описания. Или вот другая: T451a. Round the fields all day, / Sits on the table all night. – Milk (Весь день в полях, / Всю ночь на полке). Эта загадка состоит из одних буквальных описаний. Можно ли эти две отнести к жанру народной загадки, если они не отвечают его морфологическим характеристикам? Выбора нет, потому что они записаны в одном ряду с подлинными загадками, функционируют в тех же обстоятельствах и входят в ряды родственных загадок. Так, первая из них (Т1100) находится в родстве с загадкой, вполне отвечающей морфологическому определению Тэйлора: T3. What has head, / But no hair? – Pin (Что имеет голов[к]у, / Но не имеет волос? – Булавка). А вторая (Т451a) представляет собой усеченный вариант полноценной в смысле Тэйлора загадки: T451. What goes all over the hillsides during the day and sits on the shelf at night. – Milk (Что ходит по холмам в течение дня и народится на полке ночью. – Молоко).
Так и должно быть. Морфологические экспликации загадки у Петша и Тэйлора шли по следам Аристотеля, чье представление, как мы знаем, не стыкуется с опытной картиной жанра; и точно так же не стыкуется с последней и представление о подлинной загадке. Тэйлор был первым, кто осознал это обстоятельство и определял народную загадку двумя разными способами, с двух разных сторон: извне, в отличие от других жанров энигматики, и изнутри, в качестве образцового вида загадки. Области этих описаний не совпадают. Отграничив народную загадку от ложной и литературной, Тэйлор получает область гораздо более широкую, чем та, которая описывается его структурным определением. Его собрание охватывает все, что входит в родовое единство устной традиции под названием загадки, вне зависимости от структурного определения подлинной загадки. Если это положение дел выглядит как противоречие, то это именно то противоречие, которое морфологически характеризует область народной загадки. Область подлинной загадки в строгом смысле не совпадает с областью народной загадки, составляющей полную устную традицию, – последняя гораздо обширнее. Тем не менее Тэйлор определяет жанр народной загадки с помощью загадки подлинного вида. И правильно поступает. Формально-логически тут противоречие, но формальная логика не может быть судьей пред лицом образований, не подчиненных ей. Но и отмахнуться от формальной логики нельзя: она верно указывает на противоречие между двумя тэйлоровыми определениями народной загадки, не имея силы отменить достоверность каждой. Оба определения достоверны, поскольку формулируют два комплементарных подхода. Тэйлор прибегает к двум подходам, поскольку ни один из них сам по себе не достаточен. В этом удача Тэйлора. Дается это ему не гладко. Через несколько лет после того, как он дал структурное определение подлинной загадки в качестве ориентира, определяющего жанр народной загадки (1943), в предисловии к своему собранию (1951) он пишет: «Собрание включает только подлинные загадки. Таковые представляют собой описания предметов в терминах, предназначенных подсказать нечто совершенно иное» (Тэйлор 1951: 1). Это определение размывает собственную тэйлорову структурную характеристику подлинной загадки, чтобы позволить расширенный охват предмета. Перед лицом его обширного собрания Тэйлору нужно было менее обязующее определение. Нам же следует обнажить зияние, только тогда мы сможем разобраться в сути дела.
Мы должны как можно лучше разобраться в двойственности, перед которой мы находимся, потому что сама природа народной загадки сказывается в том, что загадка выглядит по-разному, будучи рассмотрена теоретически и эмпирически, на полнозначных своих образцах и в качестве зарегистрированного реального корпуса текстов. Необходимы оба подхода. Совместно они могут быть поняты как взаимно дополняющие, комплементарные.
Понятие комплементарности в данном случае нельзя смешивать со знаменитым близнецом, который прославился, будучи положен в основу квантовой механики. В квантовой механике двойственность, представляемая комплементарностью, радикально непримирима. Она означает, что в одно и то же время мы можем получить набор данных о субатомном объекте либо в качестве волны, либо в качестве частицы, – в этих случаях имеют место два модуса наблюдения, которые не соединимы, то есть не осуществимы одновременно. Иначе говоря, принцип комплементарности в квантовой механике выражается в дизъюнктивной логике, формула которой: или / или. Наоборот, комплементарность двух подходов к загадке связана конъюнктивной логикой – загадку следует рассматривать с обеих точек зрения, и следует найти перспективу, в которой они одновременно необходимы; ее формула: и / и. Именно к построению такой единой перспективы, в которой каждая из двух точек зрения найдет свое некомпрометируемое место, мы и будем стремиться. Комплементарность в данном случае означает взаимную необходимость двух точек зрения – принципиально, модально различных. Соотношение взаимно дополнительных точек зрения в этом случае можно метафорически описать как бифокальную установку зрения: микроскопическую и телескопическую. Микроскопическая установка глаза поймает совершенную идею загадки в ее детальной и сложной внутренней структуре; телескопическая установка столкнется с обширным пространством разнообразных явлений, ярких и бледных, составляющих единое поле родственных феноменов. Задача заключается в обретении установки зрения, способной совместить оба фокуса одновременно – как бы настроив один глаз на один лад, а другой на другой лад.
Многократно переходя в этом исследовании от одной точки зрения к другой, мы по сути уже подготовили такую объединяющую перспективу. Нам остается сформулировать ее как можно отчетливее.
Важнейшее условие эмпирического подхода к загадке заключается в том, что ни одно собрание народных загадок из устной традиции не может исключить из своего состава большого количества образцов, которые не согласуются со структурным представлением о полноценной загадке. Полноценная загадка, экспликацию которой выработала филологическая традиция в по исках подлинной загадки, всегда, в любом корпусе записанных в полевых условиях загадок находится в сопровождении слабых ее подобий, не дотягивающих до нее по своей структуре, тем не менее родственных ей либо по используемым мотивам, либо по парадигме. Попытка отделить полноценную загадку от родственных ей ущербных образцов приведет только к искаженному представлению о народной загадке, которая имеет родовой, множественный характер. Нет сомнения, представительным видом жанра является именно структурно полнозначная загадка, но традицию представляет вся полнота форм. Если попытаться провести границу между полнозначной и ущербной загадкой и разнести образцы по обе ее стороны, то окажется, что близкородственные загадки попадут по разные стороны, что вряд ли имеет смысл с точки зрения определения жанра. Например,
С52. Кум с кумой водятся, / А близко не сходятся. – Пол и потолок.
С52 м. Таня да Маня / Свидятся – не обнимутся. – Пол и потолок.
В первой загадке все, как положено: первая часть метафорическая, а вторая – буквальная. А в варианте обе части описания метафорические.
А вот другая пара:
С68а. Днем висит, болтается, / К ночи в норку собирается. – Болт.
С68. Висит, болтатся, / К ночи в дырочку спущатся. – Болт.
Родство здесь очень близкое, все различие в выражениях: в норку / в дырочку, но первый вариант состоит из буквального и метафорического описаний, а второй из двух буквальных.
Приведу и англоязычный пример:
Т262. Something runs but has no legs. – Clock (Нечто бежит [идет], а ног нет. – Часы).
Т264b. Bloodless and boneless, / And goes to the fell footless. – Snail (Бескровно и бескостно, И ходит на болото без ног. – Улитка).
Первая из этих загадок включает и метафорическое описание (Something runs / Нечто бежит) и буквальное (has no legs / ног нет). Это структурно полноценная, подлинная загадка. Вторая же состоит из двух буквальных описаний. Это упрощенная загадка, ущербный экземпляр. Как и первая она дает образ передвижения без ног. Обе построены на сходных мотивах: runs / goes, has no legs / footless, – поэтому их следует считать генетически родственными. Морфологическая характеристика и морфологическое различие здесь не являются решающими для решения вопроса об отнесении их к жанру народной загадки.
Таким образом, в деле определения народной загадки мы вынуждены прибегать к двум различным критериям, но непременно взятым в паре: генетическому родству и морфологической норме. Генетическое родство превалирует в деле отнесения к жанру, но морфологическая характеристика решает определение самого жанра. Только структурно полнозначная подлинная загадка отличает наш жанр от всех других жанров энигматики. Но область народной загадки из устной традиции включает как морфологически совершенные загадки, так и все множество ее несовершенных разновидностей, при условии, что последние состоят в генетическом родстве с первыми. В таких условиях в область народной загадки входят совсем примитивные образцы, никакой структурной сложностью не обладающие. Например, С65. Вокруг избушки / Все поползушки. – Ставни; С221. Что в избе за баса. – Образа; С575. Пузан съел мохрушку. – Веретено.
Обратившись к собранию Тэйлора, можно разглядеть некоторую закономерность в наборе видов народной загадки. Предлагаю отнюдь не исчерпывающую, но достаточно представительную картину морфологического разнообразия видов. Для примера возьмем загадку, построенную на описании странного движущегося объекта, и проследим ее вариации.
1. Начнем с морфологически совершенного образца, основанного на комбинации фигуративного и буквального описаний: Dere is somet’in runs day an’ night an’ never runs up. – River (Есть нечто, что бежит день и ночь, да никогда не прибежит [или: не бежит вверх]; Т143). Здесь четко сопоставлены метафора (бежит) и буквальное утверждение (не прибежит).
2. Несколько далее в том же собрании находим странный движущийся объект, описанный с помощью двух стилистически однородных фигуративных характеристик: Goes all around the house / And peeps in at the keyhole. – Wind (Ходит вокруг дома и заглядывает в замочную скважину. – Ветер; Т195). И goes (ходит), и peeps (заглядывает) здесь употреблены в метафорическом смысле. Здесь имеют место два метафорических описания. Загадка упрощена: в ней нет нестыковки двух частей описания.
3. Еще несколько дальше находим односоставное метафорическое описание без всяких дальнейших осложнений, которое все же обнаруживает свое родство с исходной парадигмой странного движущегося предмета: There is something dragging white guts all day. – Needle wid a t’read (Есть нечто, влачащее [за собой] белые кишки весь день. – Иголка с ниткой. T205e).
4. Несколько более отдаленное родство представляет собой псевдометафорическое описание: Something goes through the keyhole / Where nothing else can go through. – Key (Нечто проходит в замочную скважину, где больше ничего не пройдет. – Ключ; T197). Нехитрое описание представляется загадочным только при условии, что разгадывающий хоть на мгновение принимает его за метафорическое, тогда как оно буквальное. Двучленность описания способствует розыгрышу. Такая загадка могла родиться только в условиях хорошего понимания того, как загадка устроена, – она обыгрывает полноценную установку, рассчитывает на нее и обманывает ее. Но формально-морфологически эта загадка упрощена.
5. Предположительно фигуративное описание может балансировать между буквальным и метафорическим: What goes through the wood / And never touches a limb? – Voice (Что проходит сквозь лес и никогда не затронет ветки? – Голос; T152b). Голос и в самом деле проходит расстояния, но буквальность этого выражения представляет собой стертую в частом употреблении метафору. Язык вообще изобилует стертыми метафорами, которые как таковые уже не воспринимаются; поэтическое высказывание может оживить метафорический потенциал.
6. Две буквальные характеристики могут образовать хорошую загадку, если они поданы так, что представляются несовместимыми, хотя бы на первый взгляд: Something movin’ without a leg. – Snail (Нечто движется без ног. – Улитка; T261). Обе характеристики – movin’ (движется) и without a leg (без ног) – описывают улитку буквально, но движение и движение без ног поданы как несовместимые – так они выглядят на мгновение, достаточное, чтобы озадачить, на фоне ожидания, подготовленного подлинной загадкой.
7. Даже единичное буквальное описание может выглядеть загадочным, если его единственный мотив формально раздваивается так, что выглядит двучастным и описывает нечто, как может показаться, противоречивым образом: What goes up an’ never goes down? – Smoke (Что восходит и никогда не спускается? – Дым; T141). Загадочность этого вопроса зиждется на ассоциации идей восхождения и нисхождения, привычной, но не необходимой, запечатленной в обиходном выражении goes up and down ; ассоциация поддержана в данном случае присущим загадке ожиданием противоречия.
Только первый из приведенных образцов описания странного движущегося предмета отвечает морфологии подлинной загадки по Тэйлору, все остальные являют различные пути упрощения. Приведенные примеры выстраиваются в некоторый обозримый набор вариантов: 1. двучлен, состоящий из фигуративного и буквального компонентов описания; 2. двучлен, состоящий из двух фигуративных определений; 3. фигуративный одночлен; 4. двучлен, состоящий из двух буквальных компонентов; 5. двучлен, в котором из двух более или менее буквальных компонентов один все же балансирует между метафорическим и буквальным значением; 6. двучлен, в котором два буквальные компонента на мгновение выглядят как противоречивые; 7. одночлен (описание основано на одном мотиве), в котором о писание единственного мотива раздваивается мнимо противоречивым образом.
Заметим, что этот набор вариантов не того типа, к которому привыкла гиперструктуралистская редуктивная мысль – он не имеет инварианта: есть архетип от которого варианты отклоняются любым возможным путем упрощения. Они модифицируют исходную парадигму, сохраняя количество членов или редуцируя его к одному и варьируя фигуративность или буквальность членов в любом сочетании. Но исходная парадигма не является общим знаменателем для остальных форм – она больше любой из них. Чисто формального наблюдения здесь вообще не достаточно. Как бы парадигма ни была искажена, она все же должна как бы просвечивать сквозь искаженную форму. Исходная форма присутствует как фон ожидания в каждом случае, так что в функцию каждого смещенного варианта входит вызов этого фона, позволяющий мимикрию под него.
Тэйлор сознавал трудность своей задачи:
Трудно выстроить какое-либо распределение [загадок], еще труднее быть последовательным. Загадки Англии и англоязычных стран демонстрируют угасание знакомства с жанром и, соответственно, не всегда являют понимание ее техники. С утратой способности видеть подлинную природу загадочных сравнений и риторических приемов стали появляться сдвинутые и испорченные типы. Я обычно помещаю дефектные и испорченные версии наряду с лучшими образцами парадигмы, даже если вырождение зашло так далеко, что затемняет основные характеристики. (Тэйлор 1951: 4)
Должно быть все же, Тэйлор несколько упрощенно понял морфологическое разнообразие народной загадки. Варьирование и вообще относится к фундаментальным аспектам существования фольклора; в процессе варьирования формальные сбои неизбежны, ибо воспроизведение текстов в устной традиции происходит не по правилам, а на интуитивной основе; носители фольклора творят кто во что горазд, и сбои могут быть даже признаком энергично действующей традиции. Как только что показал наш анализ, причиной этого разнообразия является не только, как думал Тэйлор, вырождение понимания подлинной загадки, но и возможность игры на привычно сопутствующем ей ожидании. То есть не следует характер загадки полностью отождествлять со структурой как формой: функциональная интенция, или ожидание, составляет ее необходимый аспект. Тем не менее, разрастание формально упрощенных видов, действительно, должно было привести к ослаблению чувства ценности подлинной загадки и, соответственно, к вырождению традиции. В развитии форм загадки следует различать два противоположных фактора: обострение чувства внутренней формы загадки, так что и намека на ее структуру достаточно для полноценного функционирования, и ослабление понимания внутренней формы загадки, ведущее к вырождению. В общем же и целом, размножение упрощенных форм несомненно ведет к вырождению загадки и определяет общую историческую тенденцию ее развития.
Отметим разный подход к вопросу о полной форме загадки у Петша и Тэйлора. Петш рассматривает нормальную, полную форму загадки как фундаментальную, достаточную форму с добавленными риторическими украшениями; Тэйлор выносит за скобки риторический компонент вообще, чтобы представить полную, нормативную форму в качестве образцовой по отношению к окружающим ее вырожденным разновидностям. Он ориентирован исключительно на фигуративную задачу загадки. Увидеть эту картину жанра позволила ему более четкая концепция морфологии загадки. Теперь у нас появилась возможность с помощью Тэйлора несколько уточнить тезис (d): в области народной загадки полнозначная ее форма (подлинная загадка) сопровождается массой упрощенных и вырожденных форм, но и эти относятся к области жанра народной загадки в качестве деривативных и родственных форм подлинной загадки, потому что они в разной степени сохраняют следы ее полнозначной формулы и используют ее мотивы.
Итак, Тэйлор схватил загадку двойным зрением: он разработал аристотелев теоретический конструкт и петшеву попытку структурной экспликации в четкое аналитическое представление о структуре подлинной загадки и указал на ее привилегированное положение в качестве образцового вида в эмпирически зарегистрированной обширной области народной загадки, представленной во всем многообразии ее видов, отклоняющихся от полнозначного подлинного. Желая преодолеть эту дихотомию, он даже не лишил все многообразие видов загадки названия подлинной. Но в теоретических целях имеет смысл различать два аспекта народной загадки. Сохраним название подлинной загадки за структурно полнозначным видом в смысле Тэйлора, а область в целом будем называть народной загадкой.
Отметим, что образцы подлинной загадки встречаются, хотя и гораздо реже, за пределами Европы, ее азиатских соседей и ее дальних сфер влияния: их можно найти в примитивных африканских культурах. Например, у камерунских кунду: У меня есть карманчик, который никогда не будет полон. – Уши (Иттман 1934: № 147); у абиссинских тигринья: Черный вол, что всегда к водопою идет. – Пиявка (Литтман 1938: № 21/37); у танзанийских хехе: Я режу, а она не режется. – Вода (Редмэйн 1970: № 58).
11. Отступление о проблеме истории загадки. Необходимые вопросы, точных ответов на которые автор не знает
– Развитие, достойное Дарвина! – энтузиастически вскричала леди. – Только вы перевернули эту теорию. Вместо того, чтобы вывести из мыши слона, у вас выводится из слона мышь!
Люис Кэрролл, «Сильвия и Бруно» (Кэрролл 1991: 31).История загадки – наименее доступный ее аспект. Мы сможем сделать лишь несколько нетвердых шагов в этом направлении. Но и обойти его нельзя, потому что некоторое понятие об истории – необходимо е звено в понимании связи между морфологией загадки и ее функционированием, то есть в конце концов в реконструкции ее функциональной формы. Мы попытаемся вообразить контурную карту реки времен, делая лишь нежесткие допущения насчет ее масштабов.
Приняв, хотя бы с оговорками, наблюдение Тэйлора о том, что масса упрощенных загадок в устной традиции свидетельствует о том, что история загадки – это история вырождения традиции, следует признать осложнения, к которым оно ведет. История загадки предстает перед нами в порядке рассортированных по сложности ее образцов, причем полнозначный тип ее должен находиться в начале ее истории. Замечательно, что образец попадающей под тэйлорово определение подлинной, или древнейшей, формы, действительно, можно найти среди древнейших зарегистрированных загадок; такова расшифрованная аккадская загадка, сохранившаяся в ассирийской передаче: Кто беременеет без зачатия, кто тучнеет без еды? (Йегер 1892: 277). Если Мартин Йегер (Martin Jaeger) прав и разгадкой ей служит Облако, то первая часть загадки представляет собой метафору, а вторая описывает предмет, скорее, буквально. Но пример – не доказательство.
Почему Тэйлор поставил полнозначный вид загадки в начало ее истории, а неполнозначные счел продуктами ее распада? Другие авторы, как Жорж и Дандес, сделали противоположный вывод – что сложная форма выработалась из простых. Вывод Тэйлора вытекает из понимания упрощенных загадок как выродившихся, но вывод этот не очевиден, Тэйлор не дает ему обоснования и не рассматривает противоположной возможности. Ему интуитивно ясно, что дело обстоит именно так. У этой интуиции есть хорошее основание: подлинная загадка не является суммой более простых качеств, ее структурная особенность имеет целостный характер, и народная загадка отличима от других жанров энигматики именно как образование со своеобразной морфологией, причем примитивные виды не дают основания для выделения жанра. Таким образом, этот взгляд относится не к части истории загадки, которая начинается с утратой социальных условий ее полноценного существования, а ко всей истории. Согласиться с этим – значит принять ответственность за целый ряд осложнений.
Согласиться с Тэйлором – значит прежде всего вступить в конфликт со всей почтенной традицией эволюционных представлений. И Ламарк, и Гете, и Дарвин, и все последующие эволюционисты неизменно представляют процесс эволюции в качестве развития от простейшего к сложнейшему: органическая жизнь развилась из неорганической, сложные организмы развились из простейших, а человек – из предковой формы, которая находилась на эволюционной лестнице на уровне обезьяны. Этот ход мысли был затем перенесен в другие области. Общества эволюционировали от примитивных к высоко развитым. Науки от догадок дошли до сложнейших теорий. Так же развивалась и техника материального производства. Все это представляется очевидным. Мы так привыкли к превосходству естественнонаучных понятий, что даже не задаем себе вопроса: а дают ли они универсальную модель? удовлетворительны ли они для истории культуры во всех ее отраслях? не нуждаются ли в существенных оговорках? Трудно перечислить всех авто ро в, которые считают само собой разумеющимся, что сложные загадки выросли из слияния элементарных вопросов.
Но в отличие от материального мира, культурные феномены не происходят друг от друга в линейной последовательности и в процессе прогрессивного развития по нарастающей. Произведения искусства рождаются в головах людей в результате творческой свободы духа, открывающей новые перспективы. Всегда ли культура устремлена к более высокой организации? Мы знаем, что санскрит, древнегреческий и латинский языки обладали более богатый флективностью, чем их современные потомки; и мы не имеем представления о древности сложных флективных языков, ни об их происхождении. Можно ли сказать, что исторические тексты стали сложнее со времен Пятикнижия? Возможно указать ближневосточные тексты, родственные последнему и предшествующие ему, но считать их его предками нельзя, ибо Пятикнижие – это особый мир, который смог абсорбировать мотивы более ранних текстов, но на своих собственных условиях, а не в рамках некоторого генетического ряда. Стоит ли утверждать, что современная философия сложнее Платона и Аристотеля? Словом, перенесение естественнонаучной эволюционной схемы на историю культурных явлений без серьезных оговорок оборачивается сильно искажающим упрощением. Вряд ли имеет смысл говорить о генетической линейности развития культуры или о развитии культуры по восходящей. В разных областях культуры появляются необъяснимые и более не достижимые вершины.
Особый вопрос: можно ли вершинные явления культуры ставить в начало исторического ряда? Ведь крупные культурные явления, как Пятикнижие, возникают не в одночасье, как, скажем, рондо «Гнев по поводу утерянного гроша» родилось у Бетховена, – у них есть история формирования. И опять-таки вопрос этот сложнее, чем может показаться. Что считать началом? Считать им первый шаг в направлении данного явления? Но первых шагов нет. Начало в истории – трудное понятие, даже парадоксальное. В истории любому началу можно приискать предысторию. Историки то и дело открывают начала, предшествующие принятым.[18] И все же начало – не пустое понятие; то, что делает начало таковым по существу, не есть как-либо – всегда условно – выбранный первый элемент, из которого данное явление якобы развилось. Началом имеет смысл считать не менее, чем то состояние и соответствующее ему время, когда данное явление регистрируется уже как таковое, в его определяющих качествах. Явления культуры, предшествующие данному, не могут считаться его предковыми формами на одном только основании сопоставимости отдельных элементов. Если нам и удается выделить некоторые процессы, предшествующие данному культурному явлению, то их точнее называть его предысторией, а не историей. Это не игра словами: в предыстории некоторого явления еще нет того качества, что мы находим в истории. Для культурного явления нельзя найти зародыш, который несет уже генетическую информацию о будущем организме. История данного культурного явления начинается тогда, когда оно выступает как таковое, в своем отличительном качестве. К то м у же культурная история подсказывает, что предыстория вовсе не обязательно должна мыслиться как процесс – она может быть взрывом, рождением, подобным рождению Афины. Отчего бы и нет? Не парадигма ли это рождения в духе? Словом, тэйлорова концепция истории загадки требовательна в высокой степени.
Оставим в стороне неизвестную нам предысторию загадки, а ее собственную историю будем рассматривать с того момента, когда мы можем распознать загадку как таковую. Мы и этого момента не знаем, мы можем лишь его помыслить. Нахождение образцов подлинной загадки в древнейших записях и примитивных культурах, быть может, свидетельствует, что загадка возникла на заре культуры. Не знаем мы и собственно истории загадки – Тэйлор дал лишь схематическое представление о ней, предложив соображение, что сложнейший из видов, находимых в зарегистрированных традициях, должен быть ее древнейшим доступным нам видом среди них. Как древен он? Герман Гункель, исследователь ближневосточных традиций, отразившихся в Ветхом Завете, как-то заметил, что где бы народ ни появился в свете истории, он уже обладает богатством устных традиций и мы никогда не видим их возникновения (Гункель 1917: 3). В этой перспективе трудно завысить ценность наиболее сложной формы, которую мы примем в качестве свидетельства о со стоянии загадки, основополагающем для жанра и традиции.
Сформулируем теперь исторический тезис:
(f) Подлинная загадка, структурно наиболее сложная форма среди сохранившихся народных загадок, должна быть признана родоначальницей дошедших до нас форм, тогда как остальные формы должны считаться более поздними пришельцами и продуктами ее упрощения.
Тэйлор лишь отметил возможность разглядеть историческое измерение в разнообразии видов сохранившейся загадки; он не занялся изучением исторического аспекта – у него были другие задачи на уме. Открывающаяся тут возможность проникновения в историческую древность загадки заманчива. Если загадка шла в общем по пути распада, то понять, что она собой представляет, мы можем лишь реконструировав ее древнее полноценное состояние – не только структурное, но и функциональное. Тем более, что Тэйлор в своем структурном анализе исходил из модерного понимания функционирования загадки, которое не может быть адекватной отправной точкой. Поэтому тэйлорово представление о подлинной загадке мы будем считать не собственно реконструкцией древнейшей загадки, а первым шагом в этом направлении. В отличие от Тэйлора мы не станем отождествлять наиболее сложный тип среди дошедших до нас загадок с древнейшим, а рассмотрим его как ближайшее доступное нам свидетельство о древнейшем полнозначном типе. Назовем искомый древнейший тип классическим и попытаемся его реконструировать.
Филологическая школа установила морфологию народной загадки в соответствии со своим представлением о том, что загадка предназначена для индивидуального разгадывания. Признав при свете этнографических данных этот взгляд анахронизмом, мы оказываемся перед задачей реконструкции тех функций, которые дали основание существованию загадки. О сложнейшей древней загадке мы должны мыслить в функциональных терминах, идущих дальше представления о разгадывании. Случилось так, что решающие в этом деле этнографические данные до сих пор не привели к обновлению понимания функций загадки; этнографы новой антропологической школы оторвались от морфологического понимания загадки, которое было достигнуто филологами. Произошла невстреча двух линий исследования.
Путь, ведущий к интеграции этих исследовательских традиций, не прямой. Прежде нужно разобраться в контексте мыслей фольклористов филологической школы: ведь анализ морфологической структуры загадки явился частным продуктом их движения к иным целям. Оставив в стороне поиски и находки фольклористов, антропологи стали решать задачу структуры загадки по-своему, на своих схоластических путях. Между тем и задачи филологической школы, и путь, ведущий к их решению, чрезвычайно ценны для понимания того, какой емкой и своеобразной является проблема загадки. Путь этот продиктован самим предметом (в отличие от подчинения общим теориям), является имманентным и потому обещает ввести нас в глубину предмета. Лишь пройдя этот путь, мы сможем дать должное место полевым антропологическим данным. Тогда у нас появится возможность реконструировать ту форму загадки, которая дала основание ее бытию, положила ей начало.
12. Классификация по Леманну-Нитше. Рассказ о том, как простейшая задача внести порядок в собрание загадок привела к решению сложнейшей задачи классификации загадки и подвела к порогу решения еще более трудной задачи построения таксономии загадки
И пропали ослицы у Киса, отца Саулова, и сказал Кис Саулу, сыну своему: возьми с собою одного из слуг, и встань, пойди, поищи ослиц.
1 Царств, 9:3.Как только фольклористы в XIX веке стали приводить в порядок собранные ими загадки, они столкнулись с тем, как трудно их расположить компактным и рациональным образом. Перед ними встала задача классификации. Записывая загадки в какой-либо деревне и затем переходя в другую, фольклористы получали естественное расположение материала по географической смежности. Обстоятельство это обладает ценностью, поскольку фольклор кочует, и полезно иметь представление о том, как это происходит. Но для издания такая организация оказалась нерациональной: одна и та же загадка или ее варианты записывались в разных местах, так что, сохраняя географический принцип, приходилось повторяться и при этом разрывать родственные связи между вариантами загадки, найденными в разных местах. Нужно было придумать более компактный способ группировки материала. Способом решения этой задачи представилась содержательная классификация материала, собранного в каком-либо более или менее обширном культурно однородном регионе. Постольку загадка понималась как направленная на решение с помощью индивидуальной остроты ума, естественным представилось классифицировать ее по разгадке, по тому, «о чем загадка». Простейшим способом расположения разгадок явился алфавитный порядок.
Но для фольклористов, ставивших себе этнографические задачи, желавших описать образ жизни народа, этот путь выглядел слишком формальным. Стремясь понять смысловой мир крестьянской общины, фольклористы-этнографы стали рассматривать свой материал как отражение мира общины, или ее космоса. Это подсказало идею классифицировать загадку не в алфавитном порядке разгадок, а согласно тематике разгадок, распределяя ее по сегментам крестьянского мира. Этнограф Д. С. Садовников в своем собрании 1876 года распределил русскую загадку по 25 категориям такого типа, как «Жилище», «Тепло и свет», «Внутреннее убранство», «Домашнее хозяйство», «Пища и питье», «Домашние животные», «Лес», «Земля и небо» и т. д. Как ни условны были эти категории, так распределенная загадка оказалась охватывающей все, что окружает крестьянина, описывающей весь земледельческий универс. По этому пути пошли с некоторыми модификациями такие авторитетные создатели обширных собраний, как Рыбникова (1932) и Митрофанова (1968).
Этот метод классификации выражал определенное понимание загадки. Он дал наглядное представление о том, что загадка может быть о чем угодно. С этнографической точки зрения собрать крестьянский мир в его отражениях в одном жанре было интересно, но понимание загадки при этом пошло по ложному пути: земледельческий космос – лишь материал загадки, он может быть отражен в любом жанре и о самом жанре ничего не говорит. Подобными красноречивыми тупиками полна история фольклористики.
Однако уже в 1865 году Йоханнес Элерс, собиратель шлезвиг-хольштейнского фольклора, заметил, что загадки можно классифицировать двумя способами: либо по внутреннему, либо по внешнему родству, то есть либо по способу описания загадываемого предмета, либо по разгадке («innerlich oder auβerlich, nach dem Text oder nach dem Auflösung» (Элерс 1865: viii). В этой вскользь брошенной мысли таилось зерно самого успешного направления в изучении загадки. Элерс ничего не сделал в этом направлении, и его мысли пришлось ждать годы, пока она была оценена по достоинству.
Рихард Воссидло в своем собрании мекленбургской загадки 1897 года распределил тексты не только по ответам, но вдобавок еще и по семантическим и стилистическим смысловым особенностям, то есть пошел сразу по обоим путям – внешнего и внутреннего описания. Отделив тот тип, что он назвал предметной загадкой (das Sachrätsel), он распределил 522 ее образца по 13 категориям. В основании его классификации не было никакой системы; основания для выделения классов были разнородными: загадки в форме диалога, загадки с упоминанием псевдотопонимов, загадки о нескольких животных, несколько групп он выделил по устойчивым словесным формулам и т. д. И все же то, что загадки у него оказались сгруппированы по некоторым внутренним признакам, выявило вариативность описательных средств загадки. Как бы ни была несовершенна классификация Воссидло, это был знаменательный шаг: ученый перенес основу классификации загадки с разгадки на описательную часть.
Роберт Петш в конце своей вышеупомянутой диссертации о структуре загадки (1899) поместил короткое «Добавление», в котором предложил программу действия для будущих собирателей. Он одобрил то, что Воссидло повернулся спиной к разгадкам и расклассифицировал загадки по стилистическим признакам, относящимся к описательным мотивам, то есть к предметам инструментальным, метафорически замещающим загаданный предмет. Петш предложил идти дальше. Если одни загадки пользуются мотивом вишневого дерева таким же точно способом, как другие мотивом орехового дерева, то можно выделить группу загадок, использующих мотив дерева во всех его конкретизациях. Аналогичным образом группа загадок, которая использует составной мотив свиньи и желудя должны быть подгруппой в группе под заголовком «Животное и его добыча». Он предсказал, что на этом пути можно создать компактную классификацию средств загадки, а на этой основе – классификацию загадки по ее средствам. Он предположил, что эффективность такой классификации будет высокой, если выделение каждого класса будет сопровождаться списком мотивов, которые в нем используются, и типов отношений между ними (Петш 1899: 150–151).
Программой Петша творчески воспользовался Роберт Леманн-Нитше (Robert Lehmann-Nitsche), столкнувшись с проблемой организации собрания испаноязычных загадок из аргентинского района Рио-Плата. Он сам указал на то, что Петш «облегчил ему задачу нахождения нити Ариадны, которая провела бы его через лабиринт народного воображения» (Леманн-Нитше 1911: 21). Он организовал свое собрание, распределив загадки по 16 классам, соответствующих типам описательной части загадки. Напоминаю: разгадка выносится за скобки. В этот уникальный проект вкралось осложнение, которое затемнило его подлинные достижения: в собрание вошел более широкий круг загадок, чем только подлинная народная загадка и ее родственное окружение. Вот классы загадок, выделенные в этом собрании: 1. биоморфные, 2. зооморфные, 3. антропоморфные, 4. фитоморфные, 5. использующие разнородные сравнения, 6. собственно сравнительные, 7. описательные, 8. повествовательные, 9. арифметические, 10. обыгрывающие категории родства, 11. криптоморфные (обыгрывающие буквы и слова), 12. омонимические, 13. бурлескные, 14. способствующие обучению, 15. искусственные (использующие словесные шарады, логогрифы, акростихи), 16. эротические (примеры не приводятся). Среди них только классы с 1-го по 7-й представляют подлинную народную загадку, все последующие – это разновидности головоломок, по происхождению ничего общего с древней народной традицией не имеющие, но адоптированные устной передачей. Леманн-Нитше отлично знал, что только первые семь классов демонстрируют затемненную метафору и неоднозначное соотношение с разгадкой, – он сообщил об этом в отдельной статье (Леманн-Нитше 1914), но ему хотелось представить весь материал, циркулировавший в устной передаче.
Только рассмотрев отдельно первые семь классов Леманна-Нитше, мы можем вполне оценить то, что исследователю удалось сделать. Он продемонстрировал новый компактный способ классификации загадки. Семь классов Леманна-Нитше спроектированы не произвольным образом, но и не в логических терминах. Классификация нацелена на схватывание семантической структуры загадочных описаний в их очевидном качестве. Ученому не удалось найти единого основания для классификации по всем семи классам (этого никому до сих пор не удалось), но он сумел сделать то, что ближе всего к такому идеалу: положить в основу классификации два основания, его 7 классов народной загадки распадаются на две группы, каждая из которых имеет свое единое основание. Первая группа объединяет классы, выделяемые по тому или иному типу метафорического, или инструментального предмета, с помощью которого описывается загаданный предмет (1–4); классы второй группы определяются тем, как описывается инструментальный предмет, при том, что сам он не назван, то есть дается парадигма описания (5–7). Важно не упускать из виду, что предметы, по которым определяются классы 1–4, – это не те предметы, которые нужно угадать, а мотивы, из которых строится описание, метафорические, или инструментальные, предметы, замещающие загаданные. Классы же 5–7 отличаются прямой неназванностью инструментальных предметов: даже замещающий, метафорический предмет тут уклоняется от называния – он представлен лишь некоторыми косвенными описательными характеристиками; здесь классификация построена на типах описываемых свойств метафорических предметов и их взаимных отношениях – единственном, что здесь названо.
Признаки, положенные в основу каждого класса далее распределяются по подклассам, представляющим их типовые варианты. Далее следуют под-подклассы и под-под-подклассы. Конкретные загадки появляются пучками на последней ступени классификации – как вариантные конкретизации парадигмы, а точнее – конкретные наполнения своего места на классификационном дереве.
Вот пример того, как загадка получает свое место на классификационном дереве сообразно своему метафорическому предмету. Загадка Vuela sin alas, / Silba sin boca, / Y no lo ves ni lo tocas. – El viento (Летает без крыльев, свистит без губ, / И не видим, не осязаем. – Ветер) классифицируется как принадлежащая к классу I) биоморфных метафорических предметов (летание без крыльев и свист без губ подразумевают животное) (1-й класс из числа возможных 4: I–IV, перечисленных выше в полном списке классов); к подклассу А) (из числа 2 возможных подклассов: А. одно животное или В. различные животные); к под-подклассу 7) (из числа 7 возможных под-подклассов: 1. по социально-психологической характеристике, 2. по стадии жизни, 3. по обычным характеристикам формы, 4. по обычным характеристикам физиологических процессов, 5. по комбинации обычных свойств формы и физиологии, 6. по необычным признакам формы, 7. по необычным признакам физиологии); к под-под-подклассу b) (из числа двух возможных под-под-подклассов: a. по признакам гетерофизиологическим и b. тератофизиологическим). Формула, определяющая место этой загадки в классификации: IA7b.
А вот пример загадки, классифицированной по косвенным характеристикам некоторого предмета, ускользающего от какой-либо категоризации. Tapa sobre tapa, / Corazón de vaca. – La empanada (Покров на покрове, / А сердцевина коровья. – Пирог) классифицируется как принадлежащая к классу V) (из числа 3 классов: V–VII, перечисленных выше в полном списке классов) как составленная из разнородных форм; к подклассу А) (из числа 2 возможностей: A. разные признаки одного предмета, B. разные признаки разных предметов); к под-подклассу 3) (из 3 возможных под-подклассов: 1. предмет сравнения не принадлежит к био-, зоо– или фитоморфным, 2. сравнение меняется в связи с обстоятельствами, 3. характеризуется повтором и взаимным расположением частей). Формула, определяющая место этой загадки в классификации: VA3.
Каждая подлинная загадка собрания Леманна-Нитше имеет свое единственное место в этой изобретательной классификации, часто наряду с однотипными. Система компактна, всеобъемлюща для данного материала и удобна в употреблении.
Фактическая достаточность этой классификации не спасает ее от некоторых принципиальных сомнений. Неясным остается, насколько она согласна с жанровой морфологией загадки, не является ли она окказиональной, узко отражающей особенности данного материала, то есть имеет ли она принципиальный характер.
То, что систематичность области описаний, практикуемых загадкой, раскрывается в имманентном изолированном анализе этой области самой по себе, взятой в ее совокупном составе и независимо от разгадок, проливает новый свет на загадку. Обнаруживается, что две части загадочного бинома – описание и разгадка – представляют собой смысловые области разного порядка.
В этом отношении подтверждается плодотворность выбора понятия зияния в качестве исходного и описания с его помощью загадки как бинома, структуры еще не выясненного характера.
Сознание невыясненности – первый шаг к выяснению. Рассматривая карту загадочных описаний, начертанную Леманном-Нитше, и заметив здесь некоторый предметно ограниченный и по особым правилам организованный мир, отличный от простого и открытого универса разгадок, мы вправе заподозрить в нем какую-то особенную интенсивную жизнь, отличную от жизни мира разгадок. Подчеркиваю, речь идет не об очевидном различии в сложности между описанием и разгадкой – первая сложна по своему составу, а вторая проста, односложна, – а о неочевидном различии их смысловой конституции: контекст первой интенсивен, контекст второй экстенсивен.
Если загадочное описание относится к иному и более высокому порядку организации, чем разгадка, то разумно предположить, что дело обстоит совсем не так, как представляется на первый взгляд: не загадка направлена на разгадку, а разгадка как-то подчинена загадочному описанию, которое при этом обладает еще и некоторой целью в себе, к разгадке прямо не причастной. Поэтому описательной частью загадки имеет смысл заниматься до поры до времени, не обращая внимание на разгадку, рассматривать ее как имманентную область. И в этом следует видеть не просто тактический шаг. Перед нами переворачивается обычный ход рассуждений, который заключается в суждении о загадке с точки зрения разгадки, в рассмотрении загадочного описания как полностью подчиненного своей направленности на разгадку. Тут возникает новый угол зрения, под которым функциональный характер разгадки нуждается в переопределении.
Итак, загадочное описание, с одной стороны, рассчитывает на ссылку вне себя – на то она и загадка, которая ждет разгадки, а с другой, таит в своем строе отнесенность к некоторой независимой, имманентной смысловой области. Наше представление о зиянии в смысловой структуре феномена загадки начинает содержательно углубляться. Оно задает нам новую проблему.
Поставив вопрос о подчинении усилий по упорядочению мира загадки имманентному порядку исследования, в частности морфологически обоснованной классификации, мы оказываемся на пороге перехода от классификации к таксономии. Любой удобный способ размещения некоторого материала представляет собой классификацию. Хорошая классификация – это удобная кладовая, которую отличает четкость плана и компактность. Но классификация может быть навязана предмету, может пользоваться признаками поверхностными и даже случайными, если они ведут к удобной аранжировке многокачественного множества. Иное дело таксономия. Таксономия – это классификация, соответствующая внутреннему строю предметной области; она не только упорядочивает ее, но раскрывает естественный строй предмета. Правильное установление таксономических классов растений и животных – одно из величайших достижений в истории науки. И эта задача так сложна, что требует постоянной бдительности ученых; на каждом новом шагу взывает она к пересмотрам и поправкам. Открытие новых видов и подвидов то и дело ведет к обсуждению морфологических оснований выделения видов и подвидов. Априорной теории таксономии живой природы не существует. Таксономия живой природы возникла на основе и в сочетании с изучением морфологии организмов и формированием самой концепции организма. Организм же в свою очередь подразумевает то, как функции его частей сочетаются с формой и структурой целого. Так, передние конечности у человека выполняют совсем иные функции, чем у остальных млекопитающих и, соответственно, их малые морфологические отличия имеют повышенное значение. Словом, таксономия, морфология и понимание функций неразрывно связаны. Аналогичным образом таксономия загадки откроется нам там, где принципы классификации сольются с морфологическими представлениями, а морфология в свою очередь уточнится в связи с функциями целого и частей в этом целом.
13. Классификация по Арчеру Тэйлору, или О непреднамеренных и счастливых результатах научных поисков
А об ослицах, которые пропали у тебя уже три дня, не заботься: они нашлись.
1 Царств, 9:20.Арчер Тэйлор – ученый, достигший больше того, на что он претендовал. По следам Леманна-Нитше он сделал следующий шаг в деле классификации загадки; при этом его классификация открыла перспективу перехода к таксономии, которая едва ли просматривалась в работе его предшественника.
Как и у Леманна-Нитше, классификационные усилия Тэйлора были направлены на практическую организацию того материала, из которого составилось собрание, появившееся под названием «English Riddle from Oral Tradition» (1951). То обстоятельство, что полторы тысячи англоязычных загадок в нем сопровождаются большим числом разноязычных и разнокультурных параллелей, свидетельствует в пользу того, что систематика Тэйлора может рассматриваться по крайней мере как возможность движения в универсальном направлении.
Сам Тэйлор дал характерную для его стиля скромную оценку своих усилий:
Организация собрания загадок связана с рядом трудностей. Старая алфавитная классификация по разгадкам или начальным словам разлучает близко родственные тексты и совершенно неприемлема. <…> Удовлетворительная система должна объединять загадки, описывающие предмет одинаковым образом, независимо от разнообразия разгадок. Я позаимствовал такую систему из аргентинского собрания Роберта Леманна-Нитше. Она пренебрегает разгадками, вспоминая о них разве что в виду вспомогательных функций. Фундаментальная концепция, на которой покоится загадочное сравнение, определяет место конкретной загадки. (Тэйлор 1951: 3)
Запомним это выражение «фундаментальная концепция, на которой покоится загадочное сравнение» – оно станет для нас ключевым.
На самом деле Арчер Тэйлор модифицировал систему Леманна-Нитше. С виду скромная, эта модификация существенно изменила угол зрения. Как и Леманн-Нитше, Тэйлор не нашел единого основания для своей классификации, и также, как тот, смирился с необходимостью опираться на два разных основания – где не срабатывало одно, действовало другое. Однако он сформулировал свои основания несколько иначе, так, что они оказались уже не совсем чужды друг другу. А еще важнее то, что саму свою систему классификации Тэйлор осмыслил как систему родства, а не только схему формальной упорядоченности. Это важно, потому что именно идея родства ведет от представления о жанре как условности к идее жанра как рода, живого генетического единства, и от формальной классификации к таксономии.
Тэйлор распределил все свое объемистое собрание загадок по 11 классам, которые распадаются на две группы. Первую группу составляют 7 классов, которые, подобно первым 4-м классам Леманна-Нитше, охватывают загадку, пользующуюся для описания загаданного предмета таким метафорическим предметом, который поддается классификации. Вот эти классы: I) нечто живое, II) животное, III) несколько животных, IV) человек, V) несколько человек, VI) растение, VII) неодушевленный предмет. Во вторую группу попадают загадки, метафорический предмет которых избегает опознавания и поэтому признаками классификации берутся типы несовместимых характеристик: VIII) перечень нестыкующихся сравнений, IX) несуразная форма или нескладные формальные функции, X) непонятная перемена цвета, XI) несовместимые действия. Эта группа подобна группе классов VVII у Леманна-Нитше: она опирается на типы характеристик предмета (а не на характер самого предмета), но признаки для выделения классов выбраны по-иному.
Важное отличие тэйлоровой системы от предшествующей появляется в 1-й группе классов на уровне подклассов, то есть на 2-м уровне классификации. Принцип выделения подклассов здесь такой же, что применен для 2-й группы уже на начальном уровне: классифицируются типы противоречивости, или инконгруэнтности, описаний. Там, где у Леманна-Нитше в 1-й группе на 2-м уровне классификация обращается к эмпирическим характеристикам метафорических предметов, там Тэйлор применяет структурный принцип, подобный тому, что он установил в своем морфологическом анализе загадки – инконгруэнтность высказывания. Пример загадки из 1-й группы тэйлоровых классов (IVII): Т3. What has head, / But no hair? – Pin (Что имеет голов[к]у, но без волос? – Булавка). Загадка классифицируется следующим образом: она относится к I) классу, охватывающему сравнения с живым существом, и к подклассу, определяемому некоторым инконгруэнтным соотношением: один член описываемого предмета присутствует, другой, который нормально предполагается сопутствующим, отсутствует. Таких типов инконгруэнтности вообще много, поэтому они не удобны для первичной классификации, удобны для этой цели типы метафорических предметов – их всего 7. Типы инконгруэнтности внутри каждого из этих классов по отдельности легче ограничить.
Иначе дело обстоит во 2-й группе, то есть в следующих 4 классах: тут у Тэйлора принципиальных расхождений с Леманном-Нитше нет, тут инконгруэнтные характеристики поддаются компактной классификации (Тэйлор распределил их всего по 4 типам), тогда как метафорический предмет, к которому они относятся, в своей неопределенности ускользает от предметной классификации. В этих условиях тип инконгруэнтности берется в качестве базового для классификации – он определяет начальный ее уровень. Таким образом, принцип, легший в основу выделения второй группы классов (VIII–XI), с самого начала является морфологическим. Пример загадки из второй группы классов: T1449. When it goes in, / it’s stiff and stout, / When it goes out, / It’s floppin’ about. – Cabbage (Пока он там, / Он крепок и прочен, / Оттуда достал, / А он вял. – Капуста). Ввиду того, что метафорический предмет здесь не ясен, класс определяется сразу по связанности казалось бы несвязанных характеристик места и состояния (IX).
Итак, принципиальный для загадки морфологический принцип классификации – инконгруэнтность загадочного описания – применен на 1-м уровне во 2-й группе классов (VIII–XI) и на 2-м уровне в 1-й группе классов (I–VII) – так что этот принцип оказывается пронизывающим всю классификацию Тэйлора. Таким образом, между двумя группами классов имеет место не полная разнородность, как у Леманна-Нитше, а относительное различие. За тэйлоровой классификацией просматривается следующая концептуальная матрица:
Эта схема демонстрирует следующие особенности классификации по Тэйлору: типы инконгруэнтности описания принимаются во внимание во всех классах; но для 1-й группы это происходит на втором уровне, а для 2-й группы – на 1-м; для 1-й группы исходным является 1-й уровень классификации, для 2-й группы – 2-й уровень.
Привожу еще два примера загадки для разъяснения предложенной схемы: первая – с легко определимым и классифицируемым инструментальным предметом, вторая – с ускользающим:
TIV,544. Old man in his room and the beard out in the hall. – Ear of corn (Старик в горнице, а борода за оконницей [буквально: в сенях]. – Початок кукурузы). Парадигма этой загадки в классификации Тэйлора определяется так: уровень 1: инструментальный предмет – человек (класс IV); уровень 2: тип инконгруэнтности описания – противоречивое взаимное расположение частей.
ТXI,1662. One man can carry it upstairs, / A thousand man can’t bring it down. – Needle (Один человек может поднять это по лестнице, а тысяча не спустит вниз. – Иголка). Парадигма: уровень 1: неясно, о чем идет речь – о предмете или живом существе, о человеке или животном, так что на этом уровне класс не определим и остается пустым; поэтому определение класса начинается на 2-м уровне: тип инконгруэнтности описания – два несовместимых условия действия (иголка совместима с первым способом действия и несовместима со вторым); так выделен класс XI.
Словом, Тэйлор всюду сортирует загадки в отношении к одной и той же двухуровневой схеме, которая отмечает 1) тип метафорического предмета, 2) тип инконгруэнтности; при этом начало классификации падает на тот из двух уровней, который отчетливее. Иначе говоря, тэйлорова классификация спроектирована в раздваивающейся на поверхности форме, но по существу в основе ее лежит цельная концепция. При этом именно фундаментальный морфологический принцип загадки – инконгруэнтность описания – является неизменным классификационным ориентиром на всем пространстве жанра.
Снова возникшее понятие инконгруэнтности должно напомнить нам о тех случаях, когда мы уже применяли это понятие к загадке. Но статус и функции обозначаемого им явления в данном случае иные, скорее, противоположные. Если во всех прежних случаях инконгруэнтность выступала как характеристика тщательно скрываемого зияния, то в данном случае перед нами мнимое зияние – тщательно разыгрываемое, но обманное: его задача скрыть то действительное взаимное несоответствие модальностей описания – метафорической и буквальной, – которое лежит в основе морфологии загадки по Тэйлору. Это обстоятельство поднимает понятие зияния на новую степень важности и подтверждает его ключевой характер.
Обнаружив в основе классификации Тэйлора разновидность основного морфологического принципа загадки, мы получаем углубленное представление о единстве жанра народной загадки. Если Роберт Леманн-Нитше впервые продемонстрировал неожиданную возможность классифицируемости обширного корпуса народной загадки, то Арчер Тэйлор сделал и вовсе удивительную вещь: он открыл перспективу классифицируемости загадки в формах, имеющих таксономическую ценность. Тэйлорова классификация основана на представлении о морфологии загадки и демонстрирует систему морфологического родства, пронизывающего всю область загадки. Если вдуматься в суть того, как представил нам загадку Тэйлор, то его классификация открывает не просто некоторый порядок, а нечто гораздо большее; она напоминает ту картину живого мира, которую начертал Карл Линней в своей классификации растительного мира: пред нами не удобно организованная кладовая, а система родственных явлений. Тут перед нами родство генетического порядка – глубокое и таинственное родство. Классификация Тэйлора указывает на условия генерирования загадки.
На основе проделанного анализа мы можем сформулировать следующие тезисы:
(g) Всю область народной загадки пронизывает компактная система морфологического родства, уподобляющая данный жанр биологическому роду, в котором виды указывают на общее происхождение и морфологическую сопоставимость.[19]
(h) Инструментальные, метафорические предметы загадочного описания образуют некоторую особенную область, пронизанную ограниченными структурно-смысловыми закономерностями, что отличает ее от открытой области предметов разгадки.
14. Пост-тэйлорианская перспектива. Еще немного рефлексии
И днем и ночью кот ученый Все ходит по цепи кругом. А. С. Пушкин, «Руслан и Людмила».Теперь нам нужно оглянуться на проделанный нами извилистый путь по территории изучения загадки, но не на прощанье, а чтобы еще покружить, внимательнее вглядываясь в значимость тех поворотов, которые осуществлялись исследователями, ведомыми своими ограниченными задачами и не склонными к рефлексии. Наша задача – отрефлектировать этот путь поглубже. Каждая удача в истории исследования загадки может сказать о природе нашего предмета больше, чем это было видно достигшему ее, а каждое заблуждение стать порогом открытия новых задач.
Загадка представляет собой загадку более, чем в одном смысле. В качестве вопроса, требующего ответа, она приглашает нас поверить, что она находится на службе у ответа, разгадки. Но внимательный обзор любого корпуса загадок в том виде, как они записаны фольклористами, заставляет усомниться в этой очевидности. Оказывается, что загадка служит своей объявленной цели как бы неохотно, – об этом свидетельствуют различные ответы на одно и то же описание, регистрируемые в разных местах, а порой и в одном и том же. У загадки нет обязательного один-к-одному отношения с разгадкой; она до известной степени равнодушна к выбору одной из возможных разгадок. Как тут не усомниться в расхожем представлении о том, что загадка находится на службе у разгадки? Загадка путешествует из селения в селение и из культуры в культуру, бросая по пути старые разгадки и обретая новые. Загадка и разгадка оказываются неравными партнерами. Всё здесь оказывается не таким, как кажется на первый взгляд.
Смысл отношения между загадкой и разгадкой чаще всего понимается упрощенно, а между тем он интригующ и драматичен: он открывает глубокий разрыв, зияние. Без рук, без ног – / На бабу скок. – Коромысло. Разгадать эту загадку невозможно – информация недостаточна. Но одновременно тут и излишек информации: понятно, что без ног не прыгнешь, но к чему без рук? Загадочное описание при том, что оно как будто указывает в сторону разгадки, содержит, с одной стороны, некоторый недостаток означения для разгадывания, с другой – некий его избыток, этой задаче не подчиненный. Загадочное описание, таким образом, имеет свой собственный, относительно независимый уровень и порядок означения. За структурным неравенством между двумя частями загадки скрывается более глубокое – онтологическое. Загадка и разгадка принадлежат различным порядкам означения (сигнификации).
Это усмотрение оказалось важным при решении практической задачи создания классификации, позволяющей компактное расположение полевого материала загадки в виде собрания. Только отставив разгадку и сосредоточив свое внимание на загадочном описании, фольклористам удалось найти стройную классификацию загадки. В результате обозначился вопрос: что представляет собой загадочное описание в качестве законченного текста? Установление внутренней стилистической разнородности текста описания привело сначала Петша, а затем Тэйлора к обнаружению его внутренней структуры и к морфологическому представлению о загадке как жанре. А усилия по созданию компактной классификации привели к картине, очень похожей на таксономию всей загадочной области, то есть к представлению, что вся она пронизана единой системой родства, сказывающейся в материале и структуре.
Если вдуматься в это удивительное открытие, то неминуем новый ряд вопросов. Почему так должно быть? Почему выбираемые загадочным описанием инструментальные предметы и способы их представления должны принадлежать системе классов, ограниченных в материале и структуре? Это еще более удивительно, если осознать, что материал и структура загадочных описаний охарактеризованы Тэйлором в содержательном плане. Именно так: Арчер Тэйлор дал не только формальную классификацию загадки, но и четко назвал круг содержательных характеристик инструментальных предметов, используемых загадкой, и способов их представления.
Так же, как виды организмов отличаются не только по форме, но и по материалу, по генетическому составу, так и загадка оказалась не в условных отношениях к своему материалу, а в интимных. Подчиненными некоторой системе условий оказались не только и даже не столько отношения между загадкой и разгадкой, то есть экстраверсивные отношения, но и в гораздо большей степени отношения интраверсивные, то есть отношения загадки к своему собственному материалу, из которого она построена, и к своей собственной морфологии. Оказалось, что морфология загадки каким-то таинственным образом связана с ее строительным материалом, образуя совместно с ним единую систему родства, пронизывающую всю область загадки.
При виде этой картины возникает вопрос: не свидетельствуют ли открывшиеся особенности загадочного описания не только об особом порядке означения (сигнификации), но и об особом регистре феноменальности? Не подчинены ли загадочные описания как некая особая область неким собственным интересам, независимым от разгадки? Иначе говоря, не имеет ли загадочное описание своих собственных целей существования, своего телоса, своего raison d’être и своей особой предметной области, независимой от мира разгадок?
Избыток означения загадочного описания не склонен легко выдавать своих секретов, своего смысла. Этот смысл проходит незамеченным – загадке положено быть загадочной. И все же выясняется, что в тени ее ожидаемой загадочности по отношению к разгадке таится больше, чем ожидается. Возможно ли, что некоторое безразличие загадки к разгадке говорит о том, что загадка как бы прячется за первую подходящую разгадку? Если так, то что же она прячет и почему?
Подтверждением того, что она нечто прячет, как и указанием, в каком направлении искать это спрятанное, является ее смысловая избирательность. Классификация Тэйлора демонстрирует круг ограниченных предпочтений загадки при выборе ее инструментов. Вспомним выражение Тэйлора: «фундаментальная концепция, на которой покоится загадочное сравнение». В это выражение стоит вдуматься. Тэйлор знал, что фигуративные средства загадки, ее мотивы и парадигмы, не являются инструментом, подчиненным исключительно делу намека на разгадку – они заявляют о существовании некоторой смысловой области, которой они принадлежат.[20]
Эти размышления побуждает нас сформулировать такой тезис:
(i) Загадочное описание имеет особый смысл существования, не сводимый к его направленности на разгадку. Загадочные описания пользуются в качестве своего инструментария ограниченным кругом смысловых предпочтений, которые включены в компактную систему морфологического родства, пронизывающую всю область загадки.
История изучения загадки обнаруживает некоторую герменевтическую траекторию имманентного анализа, которой не было в умах фольклористов, преследовавших чисто практические задачи, – их усилия направляла задача организовать свой полевой и архивный материал, построить собрания загадок наиболее компактным, систематическим способом. Решение этой задачи привело к результатам, чреватым непредвиденным потенциалом, который остался неотрефлектированным. Когда же в изучение загадки вторглись готовые общие теории, имманентный анализ прекратился. Ценные свежие полевые данные о жизни загадки в естественных условиях, полученные антропологами, не оказали влияния на аналитическую работу, потому что изменилось представление об аналитическом мышлении. Нам нужно ввести в поле нашего анализа загадки антропологические наблюдения о ее функционировании – это как раз то, чего не хватало филологической школе. С этой целью нам нужно проработать достижения филологической школы с той стороны, с которой она может войти в соприкосновение с антропологическими данными. Тут нам нужно снова возвратиться к Тэйлору, сказавшему последнее слово в фольклорно-филологической традиции.
Важнейшим ограничителем тэйлорова концептуального горизонта стал разделяемый им со всей школой рационалистический предрассудок в понимании загадки: представление, что загадка предназначена для разрешения путем индивидуальных усилий ума. Этот взгляд был отброшен некоторыми антропологами уже при жизни Тэйлора. Во второй половине ХХ века антропологи сообщали из всех концов света записи ритуалов разгадывания загадки, свидетельствующие о том, что знание разгадки представляет собой общинную собственность и разгадывание не рассчитано на индивидуальную остроту ума. Наблюдения эти не были совсем новыми, им предшествовали аналогичные более ранние спорадические наблюдения этнографов в Европе и Азии, которые были сделаны все же вскользь и не отразились на аналитической работе филологической школы. Это обстоятельство диктует необходимость пересмотреть, при всех ее достоинствах, картину загадки, оставленную нам Тэйлором. При этом следует помнить, что его интуиция, как бы сдерживаема она ни была им самим, идет дальше его формальных достижений.
Посттэйлорианская перспектива открывается вопросом, является ли начертанное Тэйлором представление о морфологической систематичности загадочных описаний чисто формальным аспектом или это явление следует рассматривать как внутреннюю форму, то есть такую, за которой стоит особый смысл, диктующий эту форму. Тэйлор ограничился первым представлением; он догадывался о большем, и его начертания открывают и вторую перспективу. Нам нужно еще раз вглядеться в то, как она открывается изнутри тэйлорова концептуального пространства.
Как мы уже знаем, разработав для обширного собрания англоязычной загадки в сопровождении большого сравнительного материала систем у классификации из 11 классов, Тэйлор, по его собственному признанию, не нашел единого формального принципа для этой системы. Тем не менее он изящно развернул два разнородные с виду способа классификации посредством набора индикаторов, укладывающихся в единую систему координат. Но сам он, похоже, не вполне был удовлетворен своими результатами, и в его пояснениях к развертыванию классификации то и дело пробегают нотки оправдывания. В попутных замечаниях, открывающих каждую главу его книги, он то и дело указывает на более глубокие родственные связи между загадками – даже тогда, когда они попадают в разные классы и даже в разные группы классов. Но входить в значение этих наблюдений он не стал.
Тэйлор скупо прокомментировал свою классификацию, по-видимому, оттого, что считал свою задачу практической: создание способа удобной организации обширных корпусов загадки. Это отнюдь не малая задача. Я уже сопоставлял ее с той, что решал Карл Линней в XVIII веке для царства растений. Кстати, Линнею тоже не удалось построить свою классификацию на едином основании. Тут уместен вопрос: если явления природы загадочны, то отчего же не быть загадочным жанру загадки? Вопрос этот не риторический, и ответ на него не само собой разумеющийся. Между природными феноменами и культурными есть существенная разница: культурные феномены допускают вопросы, которые бессмысленны для природных. Природные феномены даны нам при отсутствии знания их смысла и цели. Они существуют не для нас, даже если мы склонны принимать их как подарки природы или ее Создателя и подчинять их себе. Если отвлечься от недоступной нам точки зрения Создателя, самый вопрос об их смысле и целях имеет метафорический характер. Поэтому мы можем подходить к ним только в практическом, манипулятивном или в формальном, логико-математическом планах. Иное дело феномены культуры – мы создаем их сами и, независимо от того, наделяем их целью или нет, предназначаем для таких же существ, как мы, так что они существуют для нас, и вложенный в них смысл является их непременным условием существования. На языке Иммануила Канта, мы не знаем вещей-в-себе, а только явления, или феномены, вещи-для-нас. Но последние – отнюдь не субъективные сущности; изучая физические явления логически, можно предсказать поведение объектов физического мира. В составе культуры особое место занимает культура выражения, искусство. Феномены искусства – это вещи-для-нас особого характера: они не есть то, как вещи-в-себе явлены нам; наоборот, то, что предстает их носителями, как звук для речи и краски для живописи, подчинено их функции-для-нас, которая трансцендентна их физической природе и в по существу своему уникальна в каждом отдельном случае. Не только физико-математическое, но любое законосообразное описание «Маскарада» Константина Сомова или «Петрушки» Игоря Стравинского ни при какой степени точности ничего не скажет о них как о произведениях искусства. Феномены искусства – предметы интенциональные не только в нашем сознании, но и сами по себе, по своей сущности. Не столько мы их осмысливаем в восприятии, сколько они нас, сообщая нам свой смысл, заданный им при их создании. Предметы искусства созданы для нас исключительно и манипулируют нами. Поэтому вопросы, не приложимые к феноменам природы, законны для феноменов культуры выражения. С народным искусством дело обстоит несколько сложнее: отличие фольклора заключается в том, что в рассматриваемом плане с индивидуальными произведениями искусства сопоставимы его жанры, а не отдельные тексты. Поэтому мы можем и даже должны задать вопрос, невозможный в отношении природы: какой смысл имеет система родства, пронизывающая все бытие загадки как в морфологическом, так и в содержательном плане? С этим вопросом нам следует обратиться снова к картине Тэйлора – его достижения так богаты, что их следует разворачивать слой за слоем.
Тэйлор отметил, что его интересует только то, как загадки описывают то, что они описывают, и соответственно, разгадки он выносил за скобки. Он достиг того, чего искал, и не задал вопроса о возникшем в его постановке задачи противоречии, которое позволило ему достичь своей цели. Ведь по его представлению загадочное описание нацелено на разгадывание. Казалось бы в таком случае загадку от разгадки оторвать нельзя. Тем не менее только примкнув к школе, предложившей тактику отрыва загадки от разгадки, он сумел создать стройную классификацию для всего корпуса англоязычной загадки, а, возможно, и для всего универса народной загадки. Только отвернувшись от разгадки и ограничив поле наблюдения имманентными свойствами загадочных описаний можно было усмотреть то, что они составляют некоторую единую область со своими тесными смысловыми предпочтениями и компактной системой родства.
Удивительным является то, что, как мы видели, полная классификация загадки поддается описанию в рамках единой системы координат. Это обстоятельство Тэйлор и, казалось бы, видел, и воздерживался от его признания, предпочитая указать на несовершенство своей системы, на отсутствие единого основания классификации. Тут Тэйлор подошел к порогу, на котором он счел за лучшее остановиться. Ведь заглянув по ту его сторону, пришлось бы задавать следующие вопросы, не совместимые с рационалистическим взглядом на загадку. Пришлось бы поставить вопрос, не является ли готовность загадки раскрывать свои тайны независимо от разгадки свидетельством того, что у нее могут быть иные цели, помимо направленности на разгадку. Такая возможность контринтуитивна, и в ней таилась угроза устоявшемуся представлению о загадке.
Но как только мы осознали противоречие, перед которым стоял Тэйлор, у нас обходного пути нет. Нам предстоит ставить и преследовать вытекающие отсюда вопросы. Если бы Тэйлор усомнился в стандартном представлении о загадке, он вряд ли смог бы остановиться и сделать то, что он сделал – подвести итог открывшейся возможности изящно классифицировать всю область загадки. В истории познания достижение определенных важных результатов нередко оказывалось возможным благодаря готовности ограничить горизонт проблематики. Это обстоятельство можно назвать прагматическим условием теоретического познания. А ведь Тэйлор был фольклористом и решал практическую задачу. Теоретическая глубина оказалась избыточным продуктом имманентного направления исследования, точно найденного сильной интуицией Тэйлора.
Итак, сформулируем неизбежный вопрос: что это значит, что, с одной стороны, мы наблюдаем небрежно неоднозначное отношение загадки к разгадке, тогда как, с другой стороны, обнаруживается тесный набор условий, управляющих загадочными описаниями и их порождением? Этот вопрос ведет к следующему: не означает ли это обстоятельство, что цель загадки, ее функция, ее телос[21] до сих пор слишком узко определялись фольклористами?
Настоятельность этих вопросов подсказывает необходимость радикальной переоценки загадки как жанра. Жанр оказывается проблемой в еще большей степени, чем мы заметили вначале. Если ни отношение между загадкой и зарегистрированной разгадкой, ни, в более широком плане, функция загадочного описания не могут быть приняты как очевидности, то они должны быть приняты как проблемы, а вместе с ними проблематизируется и самый жанр. Этого не случилось в рамках двух эпохальных исследовательских традиций. В рамках фольклорно-филологической традиции не возникло сомнений в том, что загадка предназначена для индивидуального рассудочного разгадывания; в свою очередь антропологи и этнологи, ясно видевшие, что отношения между загадкой и разгадкой имеют условный характер и являются общественной собственностью, также не опознали в этом открытии побуждение к пересмотру взгляда на загадку. Произошло это оттого, что филологическая традиция была ими заброшена, а вместе с ней и присущая ей способность удивляться. Только сочетание углов зрения обеих традиций открывает новый, более плодотворный вид на загадку. Возможность такого сочетания возникает в посттэйлорианской перспективе, открывающейся с порога, на котором остановился составитель «Английской загадки из устной традиции».
Перемену направления поисков телоса загадки мы начнем с вопросов к внутренней форме и функциям загадки, которые мы будем задавать в виду антропологических данных.
15. Народная загадка как фигура сокрытия. В этой центральной главе книги речь идет о том, что загадка представляет собой не только жанр словесного искусства, но и особую символическую формацию и особый феномен сознания
У нас, разумеется, нет прямых свидетельств о жизни загадки в исторически ранних устных традициях. Этнологические и антропологические исследования примитивных обществ имеют сравнительно недавнюю, короткую историю; они контаминированы современностью, но некоторые страницы этой истории отличаются большей проницательностью, чем другие. Раньше других Джэймс Джордж Фрэйзер (James George Frazer) задумался над тем, что природа загадки не так уж ясна, как обычно кажется, что ее функция может быть эзотерической. В своем гигантском труде о культурах примитивных обществ под названием «Золотая цепь» он поместил в одном из примечаний к 9-му тому обзор этнографических наблюдений относительно места загадки в жизни примитивных обществ (Фрэйзер 1911: 9.121–122). В этом обзоре находится следующее замечание:
Обычай задавать загадки в определенные сезоны или по некоторым особым случаям любопытен и, насколько я знаю, до сих пор еще не был объяснен. Возможно, загадки были первоначально иносказаниями, принятыми в те времена, когда по некоторым причинам говорящему было запрещено употребление прямых терминов. (Там же: 121)
Имя этому запрету – табу. Интригующее предположение Фрэйзера получило отклик в трудах о загадке, но слишком буквальным образом, без достаточного анализа и развития, что привело к еще одному тупику. В русской фольклористике Д. К. Зеленин обратил внимание на употребление «подставных слов» восточноевропейскими и североазиатскими народами с целью табуирования, чтобы уберечься от сглаза и накликанья (Зеленин 1929 и 1930). В. П. Аникин приложил эти идеи к загадке и высказал мнение, что тематика загадок, обозначенная отгадками, восходит к «тематическим кругам предметов и явлений, имевших условные обозначения в тайной речи древности» (Аникин 1959: 23). Это мнение трудно согласовать с широко разделяемым представлением о том, что мир отгадок народной загадки охватывает универс крестьянского быта. А. В. Юдин подробно рассмотрел употребление имен (антропонимов и топонимов) в восточнославянской загадке в качестве замещений загадываемого предмета (напр., Стоит Орина выше овина. – Очеп; Дуб волынский, на нем платье богатырско, а сучье дьявольско. – Терновник) и пришел к выводу, что заместительные именные номинации в загадке «обнаруживают значительное единство принципов их образования с табуистическими языками» (Юдин 2006: 93). Значимость этого вывода зависит от того, как его интерпретировать: если остановиться на некотором сходстве всех древних табуистических языков, реликты которых находимы в фольклоре и вообще в речевой практике, то это слабый вывод; если в этом ряду отождествить загадку с такими языками вообще, то загадка оказывается попросту упущенной.
Попытки реконструировать историю загадки в свете антропологических данных не могли продвинуться далеко в виду того, что, как это ни странно, в примитивных обществах загадка находится в еще более обветшалой и угасающей форме, чем это обстоит с загадкой в высоко развитых обществах Европы и Азии.[22]
Гипотеза Фрэйзера заслуживает пристального внимания, но не прямого повторения. Она обретает смысл в виду сделанного в предыдущей главе предположения, что загадка имеет иную цель, помимо зарегистрированной разгадки. Гипотеза Фрэйзера указывает на цель такой двойственности: табу, со всеми сопутствующими ему условиями.
Согласовать эту гипотезу с загадкой не просто: табу означает, что загадка не должна раскрывать подразумеваемый ею предмет, но это противоречит тому, что загадка разгадывается и разгадка оглашает то, что в описании представлено иносказательно. Ведь нелепо было бы допустить, что оглашаемый разгадкой предмет является табуированным. Если понятие табу может быть отнесено к загадке, то, по-видимому, как-то помимо ее отношения к разгадке и ее огласке.
Понятие табу согласуется с загадкой в том случае, если загадка в целом, вместе с разгадкой, является иносказанием по отношению к некоторому иному, неназываемому предмету. Иначе говоря, размышление о табу подсказывает, что разгадка не называет предмета табу; предмет табу должен быть иной, чем тот, что назван. У загадки должна быть другая разгадка, помимо регистрируемой, – неназываемая. Только в этом случае она может быть причастна к практике табу. Примем эту гипотезу в преддверии множества подтверждений, которые сразу же всплывают, как только ее смысл осознан. Ее привлекательность с самого начала заключается в том, что она восстанавливает единство загадки как высказывания, нарушенное исследованием загадочных описаний независимо от разгадок.
О том, что внесенное предположение уместно, свидетельствует наш анализ посттэйлорианской перспективы. Народная загадка из устной традиции, рассмотренная независимо от разгадок, обнаруживает систему морфологических и предметных предпочтений, которая никак не диктуется открытым миром разгадки и, следовательно, свидетельствует о наличии в загадке, помимо программы кодирования, направленной на разгадку, еще другой программы кодирования, от разгадки не зависимой. Присутствие этой другой программы, или того, что я назвал избытком означения, становится понятным, если предположить, что она направлена на другой предмет, отличный от того, который называет разгадка. Именно это подсказывает и гипотеза Фрэйзера – она называет функцию, которая нуждается в такой двойственности и порождает ее. Нам теперь предстоит проверка этой гипотезы в свете: а) уже имеющихся наблюдений фольклористов и этнологов, b) уже проделанных наших собственных наблюдений над загадкой, c) дальнейших аналитических размышлений, поскольку они с помощью этого предположения позволят углубиться в понимание загадки.
Начнем с рассмотрения аналитической картины загадки насвежо. От выяснения частных аспектов загадки мы можем теперь – в виду обобщающей идеи относительно ее функции – перейти к ее новому уразумению в целом и новому взгляду на ее структуру. Табу к этой структуре причастно, имеет в ней необходимую роль, но все же напрямую ее не объясняет. Табу требует иносказания, но иносказание, вообще говоря, не требует табу; иносказание может быть, например, украшением речи. Кроме того, для соблюдения табу достаточно простого иносказания, в загадке оно само по себе не нуждается. Загадка – это сверхзадача на основе табу. Она предлагает двойное иносказание, и это уже совсем иное дело. Загадка – это высказывание, в котором слиты два иносказания: одно подразумевает нечто, что раскрывается в разгадке и тем самым затеняет присутствие другого иносказания, которое раскрытию не подлежит. Табуированным является лишь второе иносказание. Очевидная направленность загадки на разгадку скрывает, затеняет ее другую направленность. Разгадка активно уводит в сторону от потаенной цели загадки. Но эта табуированная цель выдает, если не себя, то свое присутствие в избыточности описания и в заговорщическом подмигивании одной загадки другой.
Своеобразную речевую постройку высказывания, которую я сейчас пытаюсь охарактеризовать, можно понять, усмотрев взаимосвязь его различных функций в единой интегральной функциональной структуре. Единство заключается в том, что две направленности загадки – на очевидную и неочевидную разгадку – нуждаются друг в друге. То есть иносказание загадки подчинено некоторой более высокой функции в иерархии о значения (сигнификации), чем простое замещение. Назвать эту функцию символической – значит существенно изменить наше представление о загадке. Она оказывается не просто вопросом и ответом, а единым речением. Тут мы подходим к пониманию загадки как особой фигуры выражения.
Загадка – в целом, описание и разгадка, – представляет собой фигуру выражения посредством сокрытия. Для краткости будем называть ее фигурой сокрытия. Фигура эта отмечена формальной противоречивостью. Функция выражения вообще характеризует каждую символическую фигуру, в этом суть символа. Фигура же сокрытия скрывает именно то, что она выражает. В формально-логическом плане это парадоксальный акт. Наша фигура скрывает свою главную направленность, выдвигая вперед очевидную направленность другого рода, которая и выдается за ее прямую функцию. То, что не должно или не может быть названо по условиям табу, оказывается спрятанным в глубокой тени того, что может быть названным и требует называния по условиям игры. Но сокрытие не является отдельной задачей, наложенной на задачу выражения: оно органически слито с функцией выражения того, что скрыто. Иносказание, направленное на очевидную цель, оглашаемую в разгадке, является в то же время иносказанием иного, неочевидного. То есть план выражения двух целей загадки один и тот же. Очевидная цель является не только средством сокрытия неочевидной, но и средством ее выражения, способом ее осуществления, условием самого ее существования.
Загадка как фигура сокрытия, однако, не соблюдает скромности, приличной хранящему тайну. Загадка – фигляр. Она рядится нарочито, ведет себя с подмигиванием и вызовом: И у нас / И у вас / Поросенок увяз. – Клин (С11); Курица на курице, / А хохол на улице. – Изба (С16); Стоит баба в углу, / А рот в боку. – Печь и чело (С127). Имея скрытую цель, загадка парадоксальным образом не скрывает странного, до нелепости кривого, сверх меры смешного – с одной стороны, неполного, с другой, избыточного – своего способа означения и тем самым лихо намекает на скрытую свою направленность и по сути выражает ее, не допуская при этом называния. Так, скрытая цель оказывается выраженной, но не названной, и представленной, но в неожиданном виде. Всякий символ имеет дело с подменой, важно, что перед нами подмена двойная и парадоксальная: сокрытие посредством выражения и выражение посредством сокрытия. Функция фигуры сокрытия – двойное означение: очевидное и неочевидное, причем неочевидное осуществляется и одновременно скрывается благодаря очевидному. Для того, чтобы такое означение было возможно, нужно, чтобы две цели были ценностно разнородны, причем очевидная (манифестируемая) цель находилась бы в подчинении у скрытой (латентной).
Аристотеля, как это свойственно философу, интересовали начала. Он и назвал исходный пункт для понимания загадки, указав на скрытый конфликт в ее смысловой структуре, и тем самым положил краеугольный камень в фундамент изучения загадки. Это непоколебимое начало. Дальнозоркость Аристотеля увела нас далеко от него. Понятие фигуры сокрытия предлагает новое понимание загадки, в том числе и конфликта, указанного философом. Понимание, что инконгруэнтность в сердце описательной метафоры нацелена на сокрытие выражаемого, радикально отличается от представления, господствовавшего в теориях загадки до сего дня: будто все назначение этого приема – сбивать с толку разгадывающего, тормозить разгадывание. Концепция сокрытия не тождественна представлению о затруднении разгадывания; она вводит совсем другую задачу и представление о предмете сокрытия, отличном от предмета разгадывания. Те же средства, что работают на торможение по пути к разгадке, создают и сокрытие, но это особая функция. Она объясняет избыточность означения, заложенную в структуре загадочного описания.
Затемненное метафорическое описание затрудняет разгадку, но сокрытию служат как описание, так и разгадка, а точнее сказать – сама функция разгадывания, уводящая в сторону. Здесь открывается вторая иносказательная функция: увод внимания в сторону манифестируемой разгадки достигает цели, когда завершается обнаружением неполного соответствия разгадывания загадки ее полному значению и таким образом указанием на иное, скрытое значение. Оглашаемая разгадка тем лучше служит своей конечной цели, чем упрощеннее она отзывается на загадку и тем самым поддерживает зияние. Этой же цели служит возможность различных разгадок как раз в виду условного выбора одной. Разгадывание служит делу сокрытия не только отрицательным образом, но и положительным: разгадка, отвечая на загадку, тем самым служит и – пусть отдаленным и искаженным – эхом на неназываемый, скрытый предмет, который закодирован в том же двусмысленном загадочном описании. В дальнейшем нам предстоит подробно рассмотреть характер отношений между предметом разгадки и предметом сокрытия. А пока сформулируем следующие тезисы:
(k) Народная загадка классического, то есть древнего полнозначного, типа направлена на две различные цели: очевидную и неочевидную, манифестируемую и латентную, произносимую и молчаливую, просто иносказательную и табуированную.
(l) Ряд зияний, конституирующих загадку [тезисы (a) и (b)], дополняется зиянием между манифестируемой и латентной целями при том, что обе они представляют направленности одного и того же текста. Тогда как манифестируемая цель (разгадка) берется из открытого и неограниченного смыслового универса и допускает варианты, то есть представляет собой переменную по отношению к загадочному описанию, латентная цель относится к привилегированной, стабильной, узкой, закрытой смысловой области.
(m) Манифестируемая цель, или регистрируемая разгадка, будучи ответом на иносказание загадочного описания, служит иносказанием по отношению к предмету латентной цели того же описания, или эвфемистическим замещением этого табуированного предмета, которое позволяет последнему оставаться неназванным.
(n) Функциональный строй загадки классического типа представляет собой своего рода фигуру сокрытия, или троп, одновременно служащий делу выражения и сокрытия, выражения посредством сокрытия и сокрытия посредством выражения.
Из сказанного неизбежен вывод: загадка как фигура сокрытия интимно связана с некоторым особым содержанием, которое должно быть и скрываемо и выражаемо. Еще до введения в наше рассмотрение гипотезы Фрэйзера о причастности загадки к табу такая мысль была подсказана наблюдением над классификацией Тэйлора: последняя обнаружила ограниченность всей области загадочных описаний компактной системой внутреннего родства, которому должно соответствовать некое поле привилегированного содержания. Также до введения гипотезы Фрэйзера мы увидели, что избыток означения, заложенный в загадочном описании, таит нечто иное, помимо нацеленности на разгадку. Я напоминаю об этих обстоятельствах, чтобы было ясно, что гипотеза Фрэйзера вошла в горизонт нашего рассмотрения не как палочка-выручалочка, а потому что нечто подобное уже ожидалось.
Это важно ввиду предстоящего нам уточнения поля сокрытия: содержание, с которым нам придется иметь дело в этом поле нередко вызывает сопротивление; распространено представление, что оно навязано влиянием одного автора, совратившего всю европейскую мысль. Его имя, и в самом деле, сейчас появится в этом тексте, но прежде всего по другой причине: ему принадлежат самые глубокие мысли о фигуре сокрытия. И если тот, для кого скептицизм служит заменой мысли, все равно скажет: «Прежде, чем сослаться на Фройда, автор оправдывается», то не станем его лишать такой возможности.
А пока вернемся к Фрэйзеру. Он сообщает, что есть три ситуации, в которых прибегают к табу: ритуалы, связанные со смертью (пребывание вблизи мертвого тела), обряды плодородия в сельскохозяйственных циклах и упоминания половой жизни. Возникает вопрос, равноправны ли эти обстоятельства перед лицом табу в качестве основополагающих. Не исключено, что табу принципиально связано с одним из них, откуда оно перенесено в другие. У меня нет доказательного решения, но установлено, что, например, в русской весьма архаической крестьянской традиции ритуалы, связанные с браком, смертью и сельскохозяйственными циклами отражаются друг в друге и разделяют общий запас образов (итоги этнографических наблюдений: Еремина 1991). Наблюдения Абрахамса над сидениями у мертвого тела (wakes) на острове Св. Винсента в Карибском море в 1965-66 гг. отчетливо показывают, что загадки переносятся в эти ритуалы вместе с мифическими рассказами и песнями из других обрядов. Загадки эти могут быть самого различного типа, включая шееспасительные и подлинные. Он также заметил, что даже подлинные загадки тематически связанные со смертью, могут иметь эротический смысл (Абрахамс 1975: 189–195).
На этом этапе обращение к Зигмунду Фройду становится неизбежным, потому что он исследовал табу и указал на его связь с эротическим содержанием, а еще больше, потому что он оставил самые обстоятельные и глубокие описания символических структур того типа, который получил на этих страницах название фигуры сокрытия. Сила фройдовой мысли заключается в обращении к символическим формациям и подробной экспликации их морфологии и функций. Именно в этом отношении наши перспективы пересекаются. Но эта сторона трудов Фройда менее всего изучена и известна.
У Фройда можно заметить пристрастие к понятию загадки (достаточно заглянуть в индексы к его работам). Он пользовался им чаще всего в фигуральном смысле, но также и в прямом. Не без основания сравнил он свой любимый предмет, сновидения, с загадкой, а также провел параллель между загадкой, с одной стороны, и шуткой и анекдотом, с другой, в отношении к тому, что он называл их техникой, то есть конструктивными средствами, лежащими в основе их функциональной организации. Понятие загадки служило отличным оперативным термином для обозначения его излюбленного предмета, который он в самом общем виде никогда не называл, но всю жизнь описывал его разновидности. Мы можем только догадываться, сознавал ли Фройд глубокую общность тех феноменов, которые предпочитал описывать, – во всяком случае он не обобщил свой концептуальный опыт. Но читатель, а еще лучше, перечитыватель Фройда может заметить, что, во-первых, большой ряд излюбленных феноменов его анализа обнаруживает в его освещении сходные символические структуры, и, во-вторых, его описание этих излюбленных структур смежно с нашим описанием народной загадки, которой он не анализировал.
Обратимся к работе Фройда о шутке, или острóте (der Witz). Замечательно, что автор анализирует жанр острóты (и анекдота как ее разновидности) последовательно и полно без ссылок на ранее установленные им принципы. Он дает имманентный и функциональный анализ жанра. Фройд исходит из усмотрения, что острóта выражается посредством определенной словесной техники. Он направляет свой анализ на средства выражения, на язык острóты и приходит к заключению, что она представляет собой «заместительное образование» с манифестированным и латентным уровнем содержания (Фройд [1905]: 30). Иначе говоря, острóта говорит одно, а подразумевает другое. Фройд замечает, что это напоминает сновидения, а мы помним, что это самый излюбленный его предмет и образцовая тема психоанализа. И в самом деле, именно символическая структура, названная им формацией замещений, которая одновременно нечто выражает и скрывает, составляет постоянный предмет его исследований под разными обличьями и в разных вариантах. Это его главный предмет, хотя сам он этого никогда не сформулировал. Кажется, только Поль Рикёр (Paul Ricoeur) в своем феноменологическом анализе Фройда пришел к подобному выводу, что центром фройдовой мысли является концепция двойной символической функции, он называет ее также «ядерной темой» Фройда (Рикёр 1970: 7).
О символах Фройд говорит часто, и не сразу становится ясно, что он употребляет это расхожее понятие в особом смысле, имея в виду символическую структуру двойной сигнификации. Только проследив ход его мысли, можно увидеть, что он по сути имеет в виду. Следует заметить множественное число в приведенном выше выражении «формация замещений» – речь идет о сложном образовании в отличие от простых тропов, как метафора и метонимия, также основанных на замещении и обычно относимых к символическим формам.[23] О них достаточно сказать «формация замещения». Чтобы указать на особенный характер тех символов, которыми он интересуется, Фройд иногда называет их «истинными символами» (Фройд [1917]: 161).
Именно под знаком одной кормчей звезды, формации замещений, разворачивается исключительная широта интересов Фройда. Именно в качестве формаций замещения о н представляет такие разнообразные предметы своих исследований, как невроз, фетишизм, сновидения, мечтания наяву, парапраксис (die Fehlleistung «ошибочный результат, оплошность», в том числе, так называемую фройдову оговорку), острóту, а также всю обширную область механизмов защиты. Все эти феномены в интерпретации Фройда обнаруживают в своей основе фигуру выражения в сочетании с сокрытием. Сам Фройд никогда не пользовался понятием фигуры сокрытия, как никогда не упоминал, что у него имеется ядерная тема. Он пользовался контекстуально ограниченными выражениями: die Kompromissbildung «компромиссная формация», die Verdrängung «репрессия», die Abwehrmechanismen «механизмы защиты» и т. п., – по существу обозначающими разные формы симптомов, то есть символических свидетельств, выразительных знаков, под которыми лежит некое сокрытие. Симптом одновременно скрывает и выражает травму. Фройд всегда подчеркивал взаимную зависимость выражения и сокрытия, их функциональную связанность. Он обращает внимание на два обстоятельства: 1) между выразительным симптомом и скрытым содержанием находится разрыв, то, что у нас названо зиянием; 2) исследованные им символические структуры интимно связаны с сексуальной сферой, с особым ее местом в человеческом сознании.
Читатель помнит, что к пониманию функциональной структуры загадки как фигуры сокрытия мы пришли независимо от Фройда в ходе имманентного исследования, а связь с сексуальной сферой нам вскоре предстоит рассмотреть в виду антропологических свидетельств. В этом отношении его авторитет нам не нужен. Фройд помогает нам понять совсем другое: при чтении его трудов становится ясным, что загадка представляет собой не единственную фигуру сокрытия; фигура сокрытия – это фундаментальная категория психики и культурного выражения. Она относится к области самых высоких в смысле сложности организации и самых глубинных функциональных структур психики и культуры. Фигура сокрытия, таким образом, не может быть поставлена в ряд других тропов и фигур, известных риторике и поэтике, – это структура совсем другого порядка, не по сложности даже, а в онтологическом плане. Это своего рода функциональный орган сознания и культуры, а не частная функция.
Фройдов контекст позволяет нам увидеть, что загадка относится к семейству сложных феноменов и принадлежит фундаментальному порядку сознания и культуры, являясь особой формой.
Хотя Фройд никогда не заявил о том, что в его мышлении есть доминирующая парадигма, эта парадигма все же является условием его мысли. Во всяком случае он указывал на сходства между описанными им формами фигуры сокрытия и постоянно обращал внимание на различия между ними. Он указал, в частности, на то, что двойное (очевидное и скрытое) значение оплошности, в том числе оговорки, может осуществиться и при мимолетном затмении причинившего ее значения, которое нередко тут же оказывается осознанным. Иначе дело обстоит в сновидении, где скрытое значение скрыто настолько прочно, что даже не допускает намека на свое существование. Сновидение не стремится сказать что-нибудь кому-нибудь. Это не средство общения; наоборот, оно стремится остаться непонятым (Фройд [1917]: Третья лекция). В этом спектре крайностей, можем мы добавить, загадке принадлежит особое место: в отличие от оплошности, скрытое в загадке имеет устойчивый, постоянный смысл, а в отличие от сновидения, загадка адресована и должна быть понята, в этом ее цель. При этом сновидение может представлять свое скрытое содержание как в невинной, знакомой форме, так и в странной, ни на что не похожей, эксцентричной. Загадка, можно сказать, рождена под знаком эксцентричности.
Фройд, вопреки распространенному мнению его невнимательных критиков, отнюдь не приписывает эротическое содержание каждой фигуре двойной сигнификации – он указывает, что оплошности не всегда с этим связаны, но подчеркивает, что «в сновидении символы используются почти исключительно для выражения сексуальных объектов и отношений» (там же: 161). Нам предстоит выяснить, как в этом отношении обстоит дело с загадкой. Фройд не подталкивает нас в ту или иную сторону; наоборот, он разворачивает перед нами широкий спектр возможностей.
Как мы видели, фигура сокрытия представляет собой форму символического выражения, которая проявляется в различных модальностях: она может выразиться и в образах зрительной фантазии, как в сновидениях, и, как в случае оплошности, – в действиях. Правда, язык и языковое сознание у Фройда всегда подстилает все интересующие его феномены, и он извлекает их скрытый смысл, подвергая анализу речевые сообщения о непосредственно недоступных феноменах сознания. А ведь загадка непосредственно существует именно в форме языкового выражения. Казалось бы это обстоятельство передает ее прямо в ведение лингвистики. Нужно ли в таком случае вообще затрагивать вопрос о глубинной психологии? Но отношения с наукой о языке у загадки напряженные. Репрезентация путем подстановки – одна из главных концептуальных структур, которыми оперирует семиотическая теория языка. Но фигура сокрытия загадки осуществляет свои репрезентации с коленцем, которое помещает ее в особый регистр выражения и указывает на ее уникальность: лингвистика занимается тем, как язык говорит то, что говорит, загадка же в качестве высказывания не только скрывает нечто, но и тó, чтó она скрывает, как мы вскоре увидим, вообще стремится избежать языка, находится по ту его сторону – ему необходима зрительная модальность. Тут мы расходимся и с психоанализом, который не только занимается способностью языка скрывать, но полагает, что сокрытие вообще, в принципе происходит в языковой модальности, даже если оно выражено в неязыковых формах. Так что наши пути не укладываются ни в рамки лингвистики, ни в рамки психоанализа, потому что для нас существенна полимодальность загадки, включенность, как мы вскоре увидим, в ее структуру наряду со словами зрительных образов, нередуцируемость ее к языку.
Психоанализ – в этом заключается его главная концептуальная особенность – занимается феноменами глубинного символического выражения и высокого порядка организации. В этом отношении мы будем впредь поддерживать с ним контакт, не разделяя ряда специальных концепций, касающихся психоаналитической интерпретации. Если нам снова придется войти в контакт с Фройдом, то это произойдет там, где наш собственный путь либо путь других исследователей окажется в согласии с его мыслью.
Важнейшее же отличие народной загадки от предметов, которыми занимался Фройд, заключается в том, что это не феномен индивидуального сознания, а предмет особого социального института, чем нам предстоит заняться. Институт этот, однако, оперирует индивидуальным сознанием и задевает его глубоко.
16. Скрытое содержание загадки. О том, что есть вещи, которые предпочитают быть скрытыми
Фольклористы заинтересовались идеями Фройда еще при его жизни. Рассматривать это обстоятельство по аналогии с массовыми обращениями в веру той или иной Теории, в том числе фройдовой, было бы несправедливо – фольклористы встретили у Фройда то, что они сами различали в фольклоре. Фройд научил не отводить глаз от сексуального содержания, что за редкими исключениями было обычным до него.
В XIX веке можно отыскать редкие случаи, когда бы фольклорист позволил себе отметить существование загадок с отчетливым сексуальным намеком и невинной разгадкой (напр., Майер 1898: 333). Дело меняется в ХХ веке, когда серьезность этой темы становится ясной.
Вольфганг Шульц (Wolfgang Schultz) в работе, посвященной мифическим и ритуальным корням загадки в эллинистическом культурном ареале, включил в поле своего исследования и литературную загадку, и немецкую народную (Шульц 1912). Как о чем-то само собой разумеющемся говорит он о большом количестве загадок с сексуальным содержанием и о загадывании загадок в процессе сватовства. Отмечает он и древнейший, так сказать, корневой характер сексуально-брачных мотивов в культуре.
Прочную приверженность загадки к сексуальной тематике усмотрел на русском материале основатель русской формальной школы в литературоведении Виктор Шкловский. С обычным для его раннего периода блеском он предложил свежий взгляд на литературу и фольклор, включая загадку. Сделал он это в самой знаменитой своей работе, статье «Искусство как прием» (1929), посвященной концепции остранения как фундаментального художественного приема, направленного на представление хорошо известных вещей в новом и поразительном свете. Чтобы освободиться от автоматизированного называния вещей их привычными именами, которые в результате многократного повторения уже не вызывают живых представлений, настоящий художник слова, включая народ, подает предметы в странных на первый взгляд ассоциациях, так что они предстают в новом ракурсе, вызывают свежее ви́дение.
Целью искусства является дать ви́дение вещи как ви́дение, а не как узнавание; приемом искусства является прием “остранения” вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия… (Шкловский 1983: 15).
Шкловский противопоставляет такое восприятие узнаванию: оно позволяет заново увидеть знакомую вещь как незнакомую, вместо того чтобы узнать ее как хорошо знакомую и потому не требующую мыслящего взгляда. Он ставит вопрос радикально: в этом суть искусства. За примером он обращается к Л. Н. Толстому, который «не называет вещь ее именем, а описывает ее как в первый раз виденную» (там же). Вот пример того, как Толстой добивается этого: он рассказывает о жизни лошади и о том, что с ней произошло по смерти, а затем в тех же понятиях описывает смерть человека: «Ходившее по свету, евшее и пившее тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились» (там же: 17).
В описании остранения можно узнать загадку. И в самом деле, Шкловский приводит загадку в качестве образцового случая остранения. Более того, представленная в этом качестве загадка у него оказывается прототипом искусства вообще. Заметим, Шкловский отрицает узнавание как функцию остранения: узнавание, ссылка на известное – акт редукции, противоположный восприятию. Если отнести это к загадке, то взгляд Шкловского ведет к выводу, что цель ее – не то узнавание, которое объявляется в разгадке, а более внимательное восприятие образа, представленного описанием, и проникновение в его странность как значимую, а не как затруднение, через которое нужно переступить. Неузнавание Шкловский ценит выше узнавания. Неузнавание, впрочем, имеет особое значение у Шкловского: оно означает не «Я не знаю, что это такое», а «Я никогда этого так не видел – как это забавно!». Неузнавание в этом смысле означает созерцание чего-то в неожиданном и обнажающем суть облике. Созерцание затрудненного, неожиданного и свежего образа доставляет удовольствие – это художественный эффект.
И вот тут Шкловский совершает характерный для его манеры письма прыжок:
Но наиболее ясно может быть прослежена цель образности в эротическом искусстве.
Здесь обычно представление эротического объекта как чего-то в первый раз виденного. (Там же: 20)
Почему именно в эротическом искусстве яснее прослеживается цель образности, Шкловский не объясняет, но он демонстрирует, что дело обстоит именно так. Литературные примеры, приведенные Шкловским, взяты один из Гоголя, который немало почерпнул из фольклора, и другой, менее внятный, из Гамсуна, а дальше он переходит к предмету нашего интереса – к фольклору. Он цитирует былину о Ставре, в которой повествуется о том, как к богатырю приходит его собственная жена, переодетая мужчиной, и, чтобы он узнал ее, предлагает ему ряд иносказаний, в которых содержатся намеки на травестию. Она говорит об их совместных играх с его сваечкой серебряной и ее колечком позолоченным, об их совместном обучении грамоте, когда у нее была чернильница серебряная, у него перо позолоченное. Есть версия былины, в которой «дана и разгадка»: «Тут грозен посол Васильюшко / Вздымал свои платья по самый пуп. / И вот молодой Ставер, сын Годинович, / Признавал кольцо позолоченное…». Позднее Шкловский приводит еще ряд гораздо более смелых и ошарашивающих примеров из народных сказок.
А сразу же после рассмотрения былины следует еще один скачок авторской мысли – к обобщению: «Но остранение не только прием эротической загадки – эвфемизма, оно – основа и единственный смысл всех загадок» (там же: 21). Так оказывается, что остранение, которое ранее было объявлено сутью искусства, интимно связано с загадкой, так что загадка может служить прообразом искусства. Интимная связь загадки с эротической темой у Шкловского отмечена, но не объяснена. Ясно все же, что эротическая тема дает каким-то ей одной присущим способом повод к эвфемизму и остранению.
В отличие от Шкловского, несколькими годами позднее русский медиевист Варвара Адрианова-Перетц в статье о загадке 1935 года прямо ссылается на Фройда. Она не переносит его идеи на фольклор, а сообщает об обратном намерении: «…я хочу в настоящей заметке попробовать иллюстрировать наблюдения Фрейда над символикой сновидений поэтикой русских загадок» (Адрианова-Перетц 1935: 498). Ссылается она и на А. А. Потебню, указавшего в своих комментариях к малорусским песням на символизацию девицы в мотивах чаши или бочки (Потебня 1883: I,7),[24] и на этнографа народов Сибири Л. Я. Штернберга, заметившего, что фольклорные образы говорят о том, что учение Фройда о символике сновидений отнюдь не экстравагантно (Штернберг 1926: 41).
Адрианова-Перетц обращает внимание на то, что русская народная загадка содержит сексуальные символы в изобилии, но в таком виде, что они чаще всего в глаза не бросаются. Самые невинные загадки, обыгрывающие предметы домашнего обихода, содержат под поверхностью сексуальные намеки. Так, изба или баня означают беременную женщину. Мотивы, указывающие на входы и емкости, как амбар, ведро, корзинка, печь, дверь, ворота, самовар, являются женскими символами, а большинство мотивов, обозначающих инструменты, служат символами мужскими. При этом женские и мужские символы часто появляются парами, как пест и ступка, палец и кольцо, свайка и кольцо, сковорода и ухват, колодец и журавль, рука и варежка, ключ и замок, что усиливает их подразумеваемое значение.
Эти примеры могут показаться проекциями известного фройдова символизма. Расшифровав в сновидениях и некоторых литературных текстах эротический подтекст, Фройд указал на то, что носителями его могут являться некоторые знакомые мотивы, взявшие на себя символическую функцию. Этот несомненный факт был доведен до фарса вульгарными фройдианцами среди литературоведов, которые стали видеть сексуальные символы в каждом продолговатом и округлом предмете. Необоснованность подобных операций не означает необходимости вообще отказаться от идеи сексуального символизма в сновидениях, литературе и фольклоре. Неприемлемо лишь автоматическое отождествление. Шкловский был точен, отметив высокий эротизм фольклора. Загадка же вне всякого сомнения пользуется символическим языком и подстановками. В загадке подстановки искусно игривы и подчеркнуты в этом качестве – странностями своими они обращены к художественно чуткому восприятию. Культивирование такого, чуткого, алертного к символизму восприятия – вообще особенность фольклора. Фольклор охотно пользуется двусмыслицей, подчеркивая ее подмигиванием и ухмылкой. И загадка, обращаясь к культивированному таким образом восприятию, подает ему знаки – помещает свои символы в необычный, парадоксальный или оксюморонный контекст, даже если эротический намек неочевиден. Описательная фигура загадки не просто упоминает диру, а помещает ее на новой шубе, не только упоминает коня, но он у нее по колено увяз. Так вводится сомнение в прямом значении и требование свежего взгляда. Дира и конь оказываются в их загадочных контекстах не любой дырой и конем, а особенными. Метафорическому употреблению это не нужно – в выражении звезды балета нет ни иронического подрыва, ни странности, которые нужны в случае указания на избыток сигнификации. Странность указывает, что наряду с метафорическим смыслом, направленным на разгадку, в загадке имеется еще и дополнительный символический смысл. Метафора может быть окказиональной, придуманной для данного частного случая, чем обычно и пользуются поэты, а культурный символ не может быть символом в одиночестве. Культурные символы создаются повторением и принадлежат традиции. Загадка, точнее, культура загадки пользуется, как мы уже знаем с подсказки Петша, устойчивым набором мотивов. Устойчивость мотива не есть некий механический факт повторяемости – у повторяемости должно быть смысловое основание, которое даже будучи забыто, живет в генетическом коде традиции.
Вопрос остается только в том, права ли Адрианова-Перетц, усмотрев такое основание в специальном, повышенном интересе загадки к сексуальным значениям. С целью убедить, что сексуальная символика в загадке важна и не является фигментом воображения в извращенных умах некоторых фольклористов, ученый указывает на признанное рядом этнографов существование категории «нехорошей» загадки. Эта характеристика получена из рук самих носителей фольклора. Не менее важно, что значение этой категории загадки шире ее границ. Адрианова-Перетц находит, что, хотя «нехорошие» загадки по большей части осталась в архивах, в неопубликованных материалах экспедиций, некоторые все же попали и в печатные сборники:
Имея отчетливо выделенную самими носителями их группу загадок с явным или скрытым, но во всяком случае ясно сознаваемым сексуальным содержанием, мы можем и из печатных сборников извлечь аналогичный материал. Тогда видно будет, что и прежние собиратели встречали подобные загадки, но не всегда считали нужным отметить особое отношение к ним самого народа. Любопытно сопоставить иногда с русскими загадками очень близкие к ним порою загадки того же типа, записанные или у народов, живущих на территории Союза, или у соседей: обычно эти загадки еще откровеннее обнаруживают свой сексуальный характер.[25] (Адрианова-Перетц 1935: 500)
Адрианова-Перетц отмечает, что если присмотреться, то, несмотря на самоцензуру редакторов, можно обнаружить обширное присутствие «нехорошей» загадки в известных собраниях, и, более того, нет оснований отграничивать эту категорию от всех остальных. На самом деле те же самые или подобные им мотивы с сексуальным содержанием легко обнаружить и в загадках, не прибегающих к преувеличенному и подчеркнутому фиглярству; подмигивание и ухмылка могут быть некрикливы. Мотивы подобного рода в загадке повсеместны; они присутствуют в каждой ее категории; они пользуются любыми предметами, чей круг полностью охватывает крестьянский мир и окружающую природу.
Тут требуется оговорка: не все культуры сохраняют такой характер загадки или, по крайней мере, не все в одинаковой мере; в иных загадки рассматриваемого характера могут быть редки. Если сексуальный характер загадки является реликтом ее архаического состояния и вообще архаического состояния сознания и культуры, то он должен был быть обречен на исчезновение вместе с этим состоянием. Но иные традиции имеют более высокую способность хранить культурную память. Русская, немецкая, английская традиции, видимо, такого типа. В романских странах мощные этнические сдвиги поздней античности и раннего средневековья, связанные с переходами на чуждые языки, и рациональная литературная традиция в значительной мере вытеснили древнюю культурную память, а с нею и архаическую загадку.
Столкновение этики XIX века со способностью культуры хранить архаическую память породило в России стойкую тенденцию к самоцензуре среди фольклористов. Д. Н. Садовников, составитель одного из наиболее представительных собраний русской загадки, в примечании к первому изданию своей книги упоминает, что загадку о самоваре он счел неудобной для публикации (Садовников 1976: 317). В переиздании его сборника в 1959 г. и само примечание опущено. Другая заметная составительница, М. А. Рыбникова, признала, что «неприличность» некоторых загадок стесняла собирателей (Рыбникова 1932: 49). Издатель собрания, претендующего на то, что оно представляет всю русскую загадку, В. В. Митрофанова, признала, что она все же выпустила загадки «неудобные для публикации» (Митрофанова 1968: 17). Собрание фольклора А. Н. Афанасьева, включающее «неприличные» загадки и названное самим автором «Народные русские сказки не для печати» (1857-62), было впервые издано только после смерти автора в Швейцарии (издания на родине оно дождалось лишь в 1997 г.). Русский случай не исключителен. Леманн-Нитше в своем собрании аргентинских загадок выделил категорию эротической загадки, но не привел ни одного примера (Леманн-Нитше 1914: 255). Даже Арчер Тэйлор в своем исключительно богатом собрании англоязычной загадки в середине ХХ века (!) сделал то же (Тэйлор 1951: 687), и это при том, что его собрание изобилует загадками с не бьющим в глаза, но, если присмотреться, несомненным эротическим содержанием. Именно последнего типа загадки интересны более всего.
Чтение Шкловского и Адриановой-Перетц приводит к мысли, что
(o) Сексуальная тематика не просто присуща народной загадке, а дает основание самому жанру, поскольку является причиной запрета называния. Без окольного выражения она не имела бы никакой реальности. Самый жанр загадки объясняется как необходимая форма представительства сексуальной темы в культуре.
Представление о табуированном характере сексуальной темы указывает в глубину веков, так что в этой связи подкрепляется представление Тэйлора о том, что наиболее сложная форма загадки должна быть и наиболее древней.
17. Место загадки в жизни общества. Содержание, функция и морфология загадки
Кто хочет понять древний жанр, должен прежде всего спросить, где его место в народной жизни (Sitz im Volksleben).
Герман Гункель, «Литература израелитов» (Гункель [1906]: 3).Эротические или обсценные – это различие не всегда очевидно – загадки зарегистрированы в самых ранних собраниях. В ХХ столетии сообщения об эротических загадках приходили из всех концов мира. Помимо России и упомянутых сообщений из Аргентины и англоязычного мира, такие загадки документированы на Филиппинах (Харт 1954: 54), в Индии (Бхагват 1965), в современных Соединенных Штатах Америки (Кларк 1967), Африке (Эванс 1976: 182-3), Финляндии (Виртанен 1977b: 86-7). И все же немногое изменилось в понимании их значения: загадки с эротическим содержанием продолжали понимать как особую и побочную категорию в репертуаре народной загадки, не претендующую на особую роль. Между тем это только вершина айсберга. Накопились все же и наблюдения более основательного характера. Уже в XVIII веке финский этнограф Христфрид Ганандер (Christfrid Ganander) в книге «Финские загадки» («Aenigmata fennica», 1783) заметил, что в процессе загадывания загадок «подвергают испытанию женихов» (via Маранда 1876: 127). В следующем столетии русский ученый привел народную песню, в которой жених задает загадки невесте: он женится на ней, если она верно их разгадает (Буслаев 1861: 1.33). Другой русский этнограф записал загадки, задаваемые жениху в порядке свадебного ритуала (Шейн 1900: 1.2.655-6). Иногда русская загадка прямо указывает свое назначение: С632. Днем как обруч, / Ночью как уж; / Кто отгадает, / Будет мой муж. Путешественник Вамбери (Hermann [Ármin] Vámbéry) сообщил, что у среднеазиатских тюркских племен есть предсвадебные ритуалы, в которых девушки окружают жениха и требуют, чтобы он разгадал их загадки, причем не сумевший ответить подвергается осмеянию (Вамбери 1885: 232). Лоуб (Loeb) отметил, что в татарских устных повествованиях способность разгадать загадку используется как испытание претендента на руку девушки (Лоуб 1950: 831). Старр (Starr) писал о том, что у филиппинцев загадки «становятся востребованы, когда юный джентльмен наносит визит своей возлюбленной» (Старр 1909: 18); полвека спустя было подтверждено, что на Филиппинах загадывание загадок входит в ритуал ухаживания (Мануэль 1955: 153). О распространенности загадывания «оскорбительных» гротескно-сексуальных загадок в связи с предсвадебным и свадебным ритуалом в Индии сообщает Дурга Бхагват (Durga Bhagwat) и приводит ссылки на литературу, подтверждающую этот обычай в разных областях страны (Бхагват 1965: 58–59). А вот впечатление Блэкинга об африканском племени венда: «Я был поражен сходством структуры обмена загадками и организации браков» (Блэкинг 1961: 3–4); он при этом признал, что его информанты не подтвердили его наблюдений, но, заметим от себя, это могло быть результатом деградации традиции, заметной в сообщениях из Африки, и сопутствуемой потерей понимания своей традиции самими ее участниками, тогда как взгляд наблюдателя со стороны может быть острее. Эванс, который подробно записал полный период сходки для загадывания загадок на Миссисипи, нашел, что период в целом обнаруживает бессознательный строй, в котором обсценная загадка играет центральную роль (Эванс 1976: 185-7); но он не стал углубляться в проблему. Можно предположить, что загадывание обсценной загадки ради ее обсценности в данном случае явилось результатом дислокации традиции, сохранением эротической темы при утрате ее традиционной функции.
Нет сомнения в том, что загадки загадываются в качестве развлечения в самых различных обстоятельствах. Но ухаживание, испрашивание невесты, подготовка свадьбы и свадебный ритуал в качестве условий загадывания загадки имеет смысл выделить особо среди всех прочих обстоятельств этого развлечения. Прежде всего, предпочтение загадок эротического содержания, то есть связанных необходимостью с фигурой сокрытия, в предбрачных ритуалах уместно по существу, чего не наблюдается в других случаях. Если в других обстоятельствах функции загадок неясны и задаются загадки, с характером обстоятельств не связанные, различного содержания и разных типов, в том числе и не подлинные, то в предбрачных условиях ясно, почему отдается предпочтение загадкам с сексуальным содержанием: это содержание имеет прямое отношение к браку. Загадывание загадок сексуального содержания позволяет проверить готовность молодых людей к браку. Описывая содержание северо-индийских загадок, Бхагват прямо сообщает: «это инструкция жениху для осуществления брачных отношений» (Бхагват 1965: 59). Испытание, так сказать, умственной половой зрелости как условия готовности к браку есть единственное обстоятельство, в котором содержание загадки и ее цели совпадают.
Во-вторых, предбрачные ритуалы интимно связаны не только с содержанием, но и с жанром загадки. Во всех остальных случаях, описанных и истолкованных этнографами, обстоятельства загадывания не имеют обязательной связи с жанром загадки. Развлечение, игра, принятие в сообщество знающих, обретение престижа и все другие упоминавшиеся когда-либо цели загадывания загадки могут быть удовлетворены и другими формами игр, соревнования, обмена знаниями или выказывания превосходства. И только разговор на эротические темы требует табуированного языка загадки, то есть в конечном счете самой формы загадки как фигуры сокрытия, функционально и морфологически самого сложного вида загадки, определяющего жанр.
В-третьих, ухаживание и брак – события, жизненно важные для выживания племени, продолжения рода, существования общества. Загадка в этом случае является необходимой частью культуры, институтом аккультурирования, очеловечивания биологических задач общества, аналогично сельскохозяйственной культуре по сравнению с собиранием диких растений. Культура не оставляет важных вещей на волю случая, она вводит загадку в качестве инструмента для решения общественной задачи поддержания рода. Сексуальная загадка – инструмент и институт. Похоже, что загадка в условиях полноценной традиции не только служит проверке умственной половой зрелости, но и является школой, которая развивает юные умы и в которой она сама развивается как культура. На известные в русских деревнях посиделки молодых людей, где задавались загадки, приходила молодежь разного возраста, так что старшие и более развитые передавали свои эзотерические знания младшим, учили их понимать загадку и при этом правильно на нее реагировать. Загадка – это традиция сексуальной культуры. Рассмотреть ее позволяет контекст уже реконструированной картины.
Помимо содержания сексуального образования, важно и правильное реагирование на него – тут наряду с обучающей возникает воспитательная задача. Загадка воспитывает эвфемистическое реагирование и умение правильно откликаться на шутку. Шутка – отнюдь не естественное явление, это явление культуры, она нуждается в культивировании. Не исключено, что происхождение культуры шутки в принципе связано с сексуальным воспитанием. В общем, ритуал загадывания загадок – это школа, воспитательный институт жизненной важности для общества. Тут отчетливо раскрывается интимная связь между функцией, формой и содержанием, которой нет ни в каких других обстоятельствах загадывания загадок, а также привилегированность определенного рода содержания для загадки.
В ущербной фазе традиции утрата исходной функции при сохранении памяти об исходном содержании ведет к опохаблению загадки. Естественно, похабная загадка сегрегируется, отмечается как особый вид, пригодный лишь для ограниченных обстоятельств. Так возникает категория «нехорошей загадки». Но четких границ между похабной и эротической загадкой нет – не в формальном смысле, а по существу: загадка явно провокативного характера, как мы вскоре увидим, имеет важную функцию в рамках полноценной культуры загадки.
Итак, мы можем, кажется, с высокой степенью вероятности реконструировать следующее положение относительно условий возникновения и полноценного функционирования загадки. Загадывание загадок в подходящих условиях вырисовывается как школа передачи, выработки и утончения культурно необходимых установок на пути к браку, а отнюдь не знаний вообще, и проверка культурно-половой зрелости, а не остроты ума. Необходимость загадки как таковой имеет основание в табуированности содержания, которым она оперирует. Знания о сексуальном, введенные в поле сознания, то есть ставшие культурными знаниями, не могут быть даны напрямую, но они должны быть переданы и поддержаны. Культурная форма такой передачи обеспечивается эвфемизмом. Инстинкт облагораживается культурной традицией. Передача такого знания, разумеется, опирается на пререфлексивный рудиментарный опыт, имеет место на основе инстинктивной, а в своем выражении – на основе игровой. Культурная передача переводит биологический инстинкт в игру воображения и чувства юмора. Ни один другой вид знания – священного и табуированного – не требует игривости.
Приведем сказанное к следующей краткой форме:
(p) Эвфемистическая манера речи, соблюдение табу являются культурным условием воспитания и проверки умственной половой зрелости.
(q) Социальная функция загадки – служить культивированию и проверке умственной половой зрелости на пути к браку дает единственное объяснение взаимной необходимости таких ее фундаментальных свойств, как избыток сигнификации, морфология в качестве фигуры сокрытия и связанность выразительных средств единой компактной смысловой областью.
Интимная связь наиболее полной морфологической структуры народной загадки с сексуальной смысловой областью не означает, что вся народная загадка во всех ее разновидностях подразумевает эротическое содержание. Дело обстоит следующим образом: 1) существует обширная категория загадок, которые намекают на эротические предметы, не раскрывая их, играя в намеки-сокрытие; 2) эта категория соответствует морфологически наиболее богатому виду загадки, который является семинальным, потому что по отношению к нему все остальные виды являются производными и более простыми, то есть продуктами его распада; 3) эта категория является классической и, можно догадываться, свидетельствует об архаическом типе загадки и поэтому более всего говорит как о жанре народной загадки, так и о ее генетическом коде. Подчеркнем это обстоятельство: классика загадки, ее наиболее совершенная форма, совпадает с ее архаикой.
Все загадки, находимые в данном языковом или диалектном корпусе, – включая и самые полнозначные, и отклоняющиеся от этой полноты вплоть до самых элементарных, – являются участниками сквозной системы родства, обеспеченной единым запасом мотивов и парадигм. Это означает, что и те загадки, которые не имеют эротического содержания несут генетическое свидетельство своего происхождения от загадки, наделенной наиболее сложной структурой и, соответственно, эротическим содержанием. Эта ситуация логически необратима, то есть нельзя предположить, что сложная загадка развилась из элементарной путем усложнения и в ограниченном масштабе обрела эротический характер. Если бы это могло быть так, то не было бы оснований для единого и умещающегося в рамки ограниченной классификации поля мотивов, для общей системы мотивного родства в каждом корпусе загадки. Существование такого поля свидетельствует о единой генетической основе. В противном случае область описаний загадки была бы разомкнута так же, как область разгадок. Чтобы опровергнуть вывод о характере исходного предпочтения, нужно отыскать другое, которое проливало бы свет на селективность и классифицируемость метафорических средств загадочной фигурации и при этом объясняло бы необходимость функциональной структуры фигуры сокрытия.
18. Психология загадывания загадки, или Три способа подразнить. Компетенция в разгадывании загадки
Шарю я, пошарю, до правды дошарю…
Русская загадка. Худяков 40.По сравнению с представлением о морфологии загадки, разработанным филологической школой (Петш, Тэйлор), мы продвинулись в том, что выяснили более глубокую функциональную структуру нашего предмета. С этой позиции можно разглядеть основные функциональные разновидности загадки, совокупность которых обеспечивает внутреннюю жизнь жанра.
Среди собраний загадок, изданных в ХХ веке, есть более обширные, чем известные когда-либо ранее, но более ранние собрания чаще включают загадки с очевидными эротическими намеками в сочетании с характерными для жанра поэтическими качествами и архаическими чертами. Таковы собрание мекленбургских загадок Рихарда Воссидло (1897; в дальнейшем В), собрания русской загадки И. А. Худякова (1861; в дальнейшем ИАХ) и Д. Н. Садовникова (1876).[26] Они распределяются по следующим видам.
Основным видом будем считать загадки, которые не выставляют напоказ сексуальных намеков, так что посторонний их может не заметить; они заговорщически подмигивают лишь посвященному, и от однажды посвященного в их тайны они своего секрета не укроют:
ИАХ1. Стоит горница / Об одной окольнице. – Анбарушка.
ИАХ4. У деда под крыльцом / Висит дубина с кольцом, / Налита свинцом. – Безмен.
ИАХ26. Шуба-то нова, / Да на подоле-то дира. – Бочка.
ИАХ63. У нашего соседа конь саврас / По колени увяз. – Воротный столб.
ИАХ84. Кругло, горбато, / Около мохнато, / Придет беда, / Потечет вода. – Глаза.
ИАХ88. Стоит палата, / Кругом мохната; / Одно окно / И то мокро. – Глаз.
ИАХ233. Ступка рублева, / Пест без окова, / Толчет и опехает, / Никто не слыхает. – Квашню месят.
ИАХ309. Еду, еду, / Следу нету, / Режу, режу, / Крови нету. – Лодка.
ИАХ310. Без рук, без ног. / На брюхе ползет. – Лодка.
Назовем этот вид нормальным. Большая часть загадок в собрании Худякова принадлежит этому виду или смежна с ним при том, что характерные черты оказываются в разной степени стерты.
Отчетливо выделяется сравнительно немногочисленный вид загадки, охарактеризованный рядом фольклористов в качестве нехорошей, или озорной, – сексуальные намеки в ней настоятельны:
ИАХ40. Шарю я, пошарю, / До правды дошарю; / На правде дира, / На дире хохол. / Всунул да пошел. – Варежка.
ИАХ87. В парну баеньку иду, / Пару яблочков несу. – Глаза.
ИАХ230. Без рук, без ног, / Одеяло вздымает. – Квашня киснет.
Озорная загадка отличается морфо логически. В ней напористому намеку на сексуальное содержание противопоставлена невинная разгадка – она отвергает намек, но, конечно же, не аннулирует его предшествующий эффект, и разгадывающий под хохот посвященных приходит в смущение прежде, чем спасительная разгадка вспоминается или подсказывается. Морфологически такая загадка представляет собой частичную инверсию нормальной: то, что скрыто в нормальной, подчеркнуто в озорной. Можно заметить, что разница между нормальной и озорной загадкой невелика – малый нажим или небольшое смягчение, и загадка переходит из одной категории в другую. Отчетливо озорные загадки относительно немногочисленны.
Присутствие озорной загадки в английской традиции засвидетельствовано Тэйлором:
Сцена зачастую содержит некую намекающую коннотацию, и остроумие загадки в таком случае состоит в том, что разгадывающему наносится поражение невинной разгадкой. Пусть примером послужит загадка о луковице: “У меня есть маленькая девица, и я плачу, раздевая ее”. Примерами такого стилистического приема изобилует староанглийская загадка. (Тэйлор 1943: 133)
Приведенная Тэйлором загадка явно довольно современная, но он прав: она хранит память о более старой. Насколько более старой?
По-видимому, у озорной загадки есть своя особая функция, жизненно необходимая жанру в принципе. Она представляет собой своего рода экспериментально-контрольную группу: она должна напоминать разгадывающему о том свойстве загадки, которое проявляется не напрямую и если будет забыто, то весь жанр потеряет свой исконный смысл. На излете традиции, когда есть опасность, что понимание ее сути находится под угрозой, должна, по всей вероятности, возникнуть обостренная необходимость в такой загадке, но вполне допустимо, что она относится уже к классике загадки – контрольная функция актуальна при всякой передаче традиции. Малочисленность образцов этого вида свидетельствует о вспомогательной его роли. Когда традиция вырождается, озорная загадка становится самоцелью, тем не менее и в этих условиях она хранит память о своей функции по отношению ко всему жанру.
Иллюстрацию того, какой эффект производит озорная загадка, правда, в модернизированных условиях, побуждающих к некоторой утрировке, записал финский фольклорист в Карелии:
Юноша спрашивает девушку:
– Что это за загадка о черном сверху и красном изнутри?
Девушка осаживает юношу:
– Типун тебе на язык, что ты такое спрашиваешь, фу!
– Не фукай. Это всего лишь галоша. А это что такое: Красное изнутри и черное сверху?
– Ну, разумеется галоша.
– Нет, не угадала. Это как раз то, что ты имела в виду минуту назад.
(Виртанен 1977: 88)
Существует третий вид загадки с сексуальным содержанием – на этот раз особым; это содержание ее объявляется в разгадке – в противоположность фундаментальному правилу сокрытия. Исключение из правила позволено потому, что существует сексуальное содержание, которое имеет универсально приемлемый характер и не требует эквивокации (разве что при очень жеманных нравах). Этот предмет – беременность. Вот образцы загадки о беременности:
ИАХ9. За стеной, стеной / Стоит коровашник костяной. – Беременная женщина.
ИАХ10. Без рук, без ног / На гору ползет. – Беременность.
Особенность загадки о беременности состоит в нейтрализации манифестируемого и латентного – они в этом случае равнозначны: то, что в других видах должно было бы быть скрываемо, здесь может быть сказано открыто. Игровой эффект заключается в том, что ожидаемое сокрытие не состоится. Нейтрализация – предсказуемое явление: она возникает в любом поле продуктивных преобразований сигнификаций, основанных на противопоставлениях, как это известно со времен возникновения фонологии.
Нейтрализация в данном случае замысловатее, чем открывается в чисто логическом плане: она не отменяет двойственности, двусмысленности. Двойственность возникает по крайней мере на мгновение в сознании разгадывающего: на пути к ответу должен быть момент колебания уже потому, что культура загадки должна выработать у спрашиваемого привычку к эвфемистическому ответу, что в данном случае было бы ложным ходом. Предвкушение этого момента колебания и наблюдение его – источник удовольствия для задающего загадку и коллектива опытных наблюдателей. Для отвечающего веселая разрядка приходит с чувством облегчения, когда откроется или вспомнится, что истина в данном случае не относится к табуированным. Но и отсутствие табуированного предмета в классическом контексте загадывания загадок, именно как исключение, должно напоминать о существовании табуированного.
Это рассмотрение наводит на мысль, что в традиционном ритуале загадывания-разгадывания загадки загадывающий и разгадывающий должны были испытывать сходное удовольствие. Оба должны были быть знакомы с правилами игры в двойственное значение загадки, знать, как правильно разгадывать загадку, владели ответами или находились в процессе овладения ими. Испытывался не ум разгадывающего, а подготовленность, которая, если еще не дана, несомненно будет ему дана, в отличие от ума. Участники ритуала имели дело с общим достоянием. Состояние их умов сильно отличается от состояния человека, который собственным умом должен разгадать загадку. В традиционных условиях важнейшее обстоятельство – уверенность в надежности правил игры. Она задает дистанцию между разгадывающим и результатом разгадывания, которая позволяет несколько отстраненно, по-игровому относиться к возникающим в процессе обучения затруднениям. Дистанция создает условия и для эстетического момента: отстраненность созерцающего дает место остраненному созерцанию табуированного предмета, которое позволяет оценить характер загадочного высказывания именно как артистизм, а не простое затруднение.
Теперь мы можем уточнить наше представление о психологических условиях традиции загадывания загадок. Так как загадка не могла быть и не должна была быть разгадываема усилиями индивидуального ума, необходимо было знать или узнать приданную ей разгадку. При этом латентная разгадка, никогда не демонстрируемая, должна была быть узнаваема, как это описывает поэтика остраненной репрезентации. Именно это свежее и драматическим путем обретаемое созерцание должно было составлять заветную цель процесса загадывания-разгадывания, тогда как очевидная разгадка давалась задаром.
Узнавание скрытого содержания отличается особой модальностью, иной, чем в случае рационального вывода и формулирования ответа. Скрытая разгадка может полагаться единственно на образное созерцание. Интуитивный, направленный на образ, способ осознания скрытого содержания предоставляет условия для сохранения завесы табу и в то же время делает эту завесу прозрачной или, скорее, полупрозрачной. Знание без обнаружения этого знания, созерцание без наименования – таков познавательный статус скрытого предмета загадки. Эти же условия содействуют поддразнивающему характеру загадывания и веселому удовлетворению тем, что скрытое остается скрытым при том, что участники ритуала понимают, о чем идет речь.
Загадки озорного и нейтрализованного типа дают боковую подсветку характеру нормальной загадки. Их примесь в среде последней путем усиленного поддразнивания учит тому, что загадка собой представляет, и не позволяет об этом забыть. Неудивительно, что есть загадки, которые трудно поместить безусловно в один из трех видов. Во многих языках есть очень продуктивная загадка, представляемая следующей русской: Без окон, без дверей, / Полна горница людей (ср. Т 909, 910, 916). Она подразумевает locus fertilitatis, утробу, беременность. Она демонстративно дает место множеству разгадок, так как любым природным и культурным условиям знакомы разнообразные плоды с семенами и любой такой плод годится, так что угадать его нельзя. Она завершается невинной подставной разгадкой, условно выбранной из этого множества, и этим отличается от загадки о беременности, чей предмет может быть назван без оглядки и подмены. Сомнение в том, что дело обстоит невинным образом подсказывается слишком реалистическим описанием, так что формальная загадочность этой загадки почти утрачена – и это своего рода обманный ход. Дело довершает то, что выбор разгадки из большого числа возможных ответов слишком очевидно для посвященного выставляет в ироническом свете любой определенный ответ; еще ироничнее гиперболическое упоминание множества людей. Эта загадка совмещает в себе черты загадки нормальной, озорной и о беременности, не соблюдая полностью условий ни одной из них. Словом, границы между всеми категориями классической загадки нежестки. Я полагаю, что нашлись читатели, которые иначе распределили бы по видам приведенные мною выше загадки. В самом деле, отнесение загадки о глазе к одной из двух категорий зависит от готовности узнать в ней сексуальный намек – один узнает мгновенно, другой нет. Что же касается загадки Шарю я пошарю… (ИАХ40), то насчет ее принадлежности к озорной сомнений быть не должно.
Итак, установка на подрыв доверия к невинности подлинной загадки осуществляется с помощью следующих стратегий: 1. путем повторения (или близкого варьирования) средств описательной фигуры/вопроса при разнообразии разгадок, что должно указать на столь же иносказательный характер вторых, как и первых; 2. путем озорного подчеркнутого намека на сексуальное содержание при невинной разгадке; 3. путем нейтрализации противоположности между скрываемой и невинной разгадкой в амбивалентном явлении беременности. Эти стратегии проливают свет друг на друга и совместно служат выработке компетенции в разгадывании загадки.
Отнесение той или иной загадки к одному из рассмотренных трех видов довольно часто не безусловно, но типологические различия способов артикуляции загадки, установок разгадывания и способов повеселиться – вполне осязаемое условие жизни загадки в ее естественных условиях. Эти различия, при отсутствии жестких границ между ними, в свою очередь укрепляют представление о том, что подлинная загадка пронизана единством нацеленности, или, на уместном здесь языке феноменологии, единством интенции. Они демонстрируют также неизменность принципиальных средств – столкновение табуированного и невинного значений, – при том, что характер их сочетания может варьироваться.
Просуммируем наши наблюдения:
(r) Функционально-морфологическая дифференциация подлинной загадки на три типа: нормальную (с полным соблюдением функции сокрытия), озорную (с настойчивым намеком на нормально скрываемый предмет и невинной разгадкой) и о беременности (где различие нормально скрытого и объявленного содержания нейтрализовано), – является средством воспитания готовности различать присутствие сексуального содержания, служит поддержанию установки на это содержание и, таким образом, программирует выработку компетенции в разгадывании загадки. Так дидактическая функция принимает участие в морфологической артикуляции загадки.
Веселое поддразнивание является существенной составляющей жизни загадки как игры. Оно ответственно за личную вовлеченность разгадывающего в процесс. Загадка бросает вызов разгадывающему, но не его остроте ума, а умению выбрать правильный путь в испытании и выйти из затруднения так, как подобает зрелому, компетентному члену общества. Загадка провоцирует его тем, что непроизносимое может оказаться в неожиданном месте – то ли хорошо скрытым, то ли лукаво подсказываемым. Если загадка и испытывает разгадывающего как индивида – он ставит на кон свою гордость, то при этом он знает, что на выручку ему заготовлена коммунальная мудрость, родовое, а не индивидуальное, достояние. Спасительная причастность к родовому гению ценой переживания мгновенной опасности ведет к мгновенному же участию в шопенгауэрианском бессмертии: в сознании слияния с вечностью родового существования.
Загадка в некотором ограниченном значении родственна острóте в смысле Фройда: в качестве формации подмены, создающей на мгновение озадаченность с тем, чтобы тут же наградить неожиданным разрешением, приносящим радость. Ограничивает это сравнение прежде всего то, что острóта является формой индивидуального выражения, загадка же имеет место в ритуализированной коллективной веселой игре, сопровождающей выполнение общественно важной задачи. Индивидуальное поведение при разгадывании загадок оценивается по его соответствию условиям игры. В тех случаях, когда разгадывающий плохо владеет условиями игры и не узнает подходящий в данном случае путь в обход неназываемого, возникает угроза стыда. Поддразнивание, порой переходящее в жестокое осмеяние и третирование провалившегося в игре, зарегистрировано в финской традиции (Виртанен 1977b: 80 и след.). Этот аспект разгадывания отличает хорошо сохранившуюся традицию от пресной обстановки испытания индивидуальной остроты ума, как это выглядит в выродившихся традициях.
Результаты проведенного рассмотрения сформулируем в виде следующего тезиса:
(s) Народная загадка принадлежит особой культуре веселой ритуализованной игры, в которой обретается жизненно необходимое знание. Она проводит испытуемого между смешным и постыдным. Личная вовлеченность обеспечена в этой игре поддразниванием, а выход обеспечен коллективной мудростью. Веселье здесь оправдывает затруднения и испытание, которым подвергается участник в процессе обучения. При этом смех может выполнять три разные функции: 1) подбадривания в процессе загадывания загадки, 2) подтверждения преодоленной трудности (совместный смех загадывающих и испытуемого) и 3) насмешки над провалившимся.
19. В кулисах тэйлоровой сцены таится возможность установить соответствие между формальными средствами загадки и ее смысловыми предпочтениями
Наши современные представления о загадке сформированы при чтении ее собраний и во многом зависят от того, как эти собрания организованы. Если классификация построена на разгадке, как это имеет место в собраниях русских загадок, то даже установив изобилие сексуального символизма в этом жанре, не получаешь представления о его месте. Картина меняется, когда классификация произведена без внимания к разгадке, по свойствам загадываемого текста, или загадочного описания, как это обстоит у Арчера Тэйлора.
Обнаружение того, что мир загадочных описаний компактен и ограничен в своих средствах фигуративного описания, особенно поражает на контрастном фоне известного обстоятельства, что мир разгадки неограничен и охватывает весь крестьянский универс. Придя к мысли, что загадка таит направленность на табуированное, запрещенное для называния содержание, отличное от объявляемого в разгадке, мы тотчас наталкиваемся на сильные, хотя и косвенные, свидетельства в пользу предположения, что ограниченный диапазон путей и средств загадочного описания обусловлен именно необходимостью выражать это табуированное содержание и, следовательно, оно может быть реконструировано из них. Наличие внутренней формы жанра всегда свидетельствует о присутствии содержательной задачи, ее обусловившей. При таком положении дел непременно возникают дальнейшие вопросы к тэйлоровой систематической картине загадки.
Как мы видели, классификация Тэйлора по сути гораздо совершеннее, чем на то претендовал сам автор: тогда как он считал, что ее недостатком является отсутствие единого основания классификации, на деле ее неочевидным образом подстилает единая система концептуальных координат. Я повторяю эту мысль не ради похвалы, а чтобы с этого места сделать следующий шаг: ясное представление о типологии Тэйлора позволяет сосредоточить внимание на некоторых ее шероховатостях, которые обладают большой значимостью. В тэйлоровой классификации загадки, описывающие различные виды фруктов – яблоки, арбузы и апельсины – в качестве дома со многими обитателями, попадают в один подкласс, а загадки, описывающие один и тот же фрукт – скажем, яблоко – разными способами, попадают в разные подклассы. Это как будто понятно, но наряду с этим есть озадачивающие обстоятельства.
Даже очень похожие друг на друга описания порой попадают у Тэйлора в различные классы, потому что различие классов в некоторой степени условно. Сравним загадки, размещенные соответственно в главах (главы соответствуют классам, которые мы будем обозначать, как у автора, римскими цифрами перед номером загадки) I и VIII: ТI.45а: Hump back, smoove [smooth] belly (Сгорбленная спина, гладкое брюшко); и TVIII.1293: Crooked as a rainbow, / Slim as a ja’ (Крив, как радуга, строен, как сосуд). Эти описания сходны в том, что оба изображают нечто кривое, hump и crooked, как обладающее еще одним качеством, никак с первым не ассоциирующимся; при этом гладкий (smoove [smooth]) и стройный (slim) в английском перекликаются по звучанию и не далеки по смыслу в их переносных употреблениях (a slim употребляется и в смысле умеющий проскользнуть, проныра, а smooth – в выражении с тем же значением a smooth operator). В общем, перед нами в двух загадках одна и та же смысловая парадигма либо две близкородственные. Значимое в классификации Тэйлора различие между ними чисто формально: ТI.45a описывает нечто, в чем легко опознается живое существо, потому что упомянут живот (belly), тогда как ТVIII.1293 описывает предмет, избегающий классификации, ибо о нем нельзя сказать, животное это или предмет. Поэтому эти две родственные загадки попадают в разные классы. Такие случаи свидетельствуют о том, что тэйлорова классификация при всех ее достоинствах все же, по всей видимости, несколько чересчур формальна и потому затемняет еще более тесные родственные связи загадочных описаний, чем те, которые проявляются в системном характере их классификации.
Не следует упускать из виду, что хотя отмеченное более тесное родство проходит поверх тэйлоровой классификации, выявляется оно благодаря ей и лежащей в ее основе морфологической концепции. Вообще говоря, более компактные схемы нередко получаются при формальной обработке предмета наблюдения, при отходе от конкретного, при повышении уровня абстракции – это источник множества крупных заблуждений в современных гуманитарных науках. Но в приведенном примере родство проявляется не в формальном отвлечении, не при повышении уровня абстракции, а по другую сторону – оно имеет конкретный, содержательный, предметно-смысловой и материально-языковой характер. Следовательно, существует потенциальная возможность представить себе содержательное родство, пронизывающее область загадочных описаний, еще более компактное, чем формальная система родства, начертанная Тэйлором.
Как наш анализ уже показал, два основания, на которых покоится тэйлорова классификация, вписываются в единую концептуальную систему координат. Леманн-Нитше и Тэйлор должны были считаться с тем, что классификация по метафорическому предмету, используемому загадочным описанием, ограничена, так как в ряде случаев предмет неясен и не поддается категоризации; для таких загадок они ввели другой способ классификации – по способу описания этого предмета. Тэйлор, получив это наблюдение от Леманна-Нитше, улучшил список категорий и достиг высокой степени логической четкости в их разработке. И как раз эта четкость позволяет заметить, что именно в той части, которая касается неуловимых метафорических предметов имеет место не только отрицательно е единство (по невозможности категоризировать метафорический предмет), но и положительное. Привожу по одному примеру из каждого класса второй категории (VIII–XI), но число их может быть умножено:
VIII.1261: It is no bigger than a plum, / and yet it serves the king from towne to towne. – It is an eye (Не более, чем слива, а служит королю из города в город. – Это глаз).
IX.1426b: Something that has hair on it, and water comes out. – Eye (То, на чем есть волос и из чего вытекает вода. – Глаз).
X.1538a: Red inside, / Black outside, / He raises his leg an’ shoves it in. – Boot (Красное изнутри, черное снаружи, он подымает ногу и сует туда. – Сапог).
XI.662: One man can carry it upstairs, / A thousand men can’t bring it down. – Needle (Один подымет его по лестнице, тысяча человек не спустит его вниз. – Иголка).
Присутствие в загадке метафорического предмета как инструмента для описания все же необходимо; и данные случаи не составляют исключения. В каждой из приведенных выше загадок описан некоторый предмет, категориальные признаки которого стерты или двусмысленны. В разгадке загаданный предмет назван либо вещью (сапог, иголка), либо органом тела (глаз), но описание играет все же именно на неопределенности, точнее, на двусмысленности. Это и дало основание считать метафорический предмет неподдающимся категоризации. Заметим, что даже когда предмет назван в разгадке органом, в данном случае глазом, это не тот орган, который имеется в виду (или имелся в виду в архетипе). Нечто подобное происходит и в случаях, когда предмет расшифрован как вещь: речь ведь идет не о сапоге или иголке. Речь идет и в этом случае об органе тела. Смысл этой игры проясняется в фольклорной традиции представлять отдельные части человеческого тела как независимые предметы или существа. Так, в некоторых русских диалектах мужской член называют плеханом («плешивый человек», а также «гусь»), а женский – мохнаткой («мохнатое существо», но также и «рукавица шерстью наружу»); аналоги имеются и в других языках. Разница между живы м существом и предметом в этих случаях умышленно амбивалентна и стерта в описании. Такой умысел нетрудно разглядеть в приведенных выше примерах. Тип предмета, описанием которого по большей части заняты загадки, помещенные в классы VIIIXI, может быть определен как часть человеческого тела, осмысленная в качестве отдельного предмета, или существа. (Говорю «по большей части», а не «целиком» потому лишь, что каждая подлинная загадка находится в сопровождении своих бедных родственников.) Единство такого отмеченного странной неоднозначностью предмета выявляется в плане латентного содержания, а в метафорическом плане оно отражено лишь в качестве амбивалентности, которая и не позволяет однозначной логической категоризации. Эта амбивалентность как раз выдает характер латентного предмета более, чем это имеет место в случаях, когда метафорический предмет четко категоризируется. Проницательный Тэйлор догадывался, что небезобидность большинства предметов, описываемых в классах VIIIXI, ближе к поверхности, чем в других случаях. Он видел провокативный характер загадок, помещенных в этих главах. Во вступительных замечаниях к гл. IX читаем:
Некоторые загадки в этой главе подсказывают <…> предмет иной, чем в ответе, но читатель зачастую не сознает намека <…> и собиратели тоже не поняли, что они записывают. В таких обстоятельствах я не счел необходимым сделать очевидным, чего наблюдатель и собиратель не поняли. (Тэйлор 1953: 571-2)
Это был порог, на котором Тэйлор должен был остановиться, чтобы не прийти в противоречие с его собственным фундаментальным представлением о том, что загадка предназначена для индивидуального рассудочного разгадывания, да и классификация по формальным признакам оказалось бы под угрозой. Следующий шаг должен был бы коснуться условий, в силу которых, помимо предмета, называемого разгадкой, в загадке предполагается еще один предмет, разгадкой не называемый.
Итак, тэйлоровы классы VIII–XI отличаются не только двусмысленной формой, но и тем, что эта форма обусловлена двусмысленностью латентного предмета, который в этих случаях является частью человеческого тела, увиденной как вещь и/или как живое существо. Так, пристальное рассмотрение формальной классификации описательных средств загадки выводит нас за рамки формальных признаков и приводит к обнаружению содержательных оснований формальных средств.
Интимная связь средств выражения и скрытого предмета присуща не только классам VIII–XI. Она позволяет увидеть и предшествующие семь классов в новом освещении. Вернувшись к тому, как Тэйлор рассортировал метафоры, которыми пользуется загадочное описание, можно заметить, что самый их порядок у него красноречив. Прежде всего он выделяет описание живых существ определимого характера – животное или человека, в единственном или множественном числе. Загадочный характер вносится в их описание аномальной комбинацией форм, членов или функций. Затем следуют классы растений и вещей, которые однако же функционируют как живые существа и члены тела живого существа. Количество загадок, построенных на метафоре растения или вещи относительно невелико по сравнению с теми, что кладут живое существо в основу метафоры: 226 из общего числа 1259 предметов, поддающихся прямой классификации (классы I–VII). Что бы загадка ни описывала, живое существо или неодушевленную вещь, она характеризует их прежде всего и по большей части через комбинацию форм, членов и действий. Тэйлор отметил это обстоятельство и так его охарактеризовал:
Членов обязательно очень немного и они описаны в таких общих терминах, как головы и ноги. Более определенная описательная деталь скорее всего указала бы слушателю специфическое животное или человека. Функций называется также очень немного и по тем же причинам. Любое действие, более определенное, чем движение или еда, обычно выдает существо. (Тэйлор 1951: 9)
Словом, выбор, который загадка делает среди возможных метафорических возможностей, имеет не только формальные ограничения, но и указывает на предпочтения содержательные. Вопрос должен быть задан: почему первым предметом предпочтения является живое существо, причем выбор членов падает на голову и ноги, а выбор функций – на движение и еду?
Ответ уже подготовлен нашим исследованием. Таинственное живое существо, предстающее иногда как растение или вещь, со странной комбинацией членов и немногими функциями, как движение и еда, – это как раз модус репрезентации сексуального содержания в культуре. Речь идет не о сексуальных предметах как таковых, в их натуральном бытии, а именно о характере представления их в культуре, об их культурном бытии.
Тэйлорова номенклатура представляет именно те средства, которые требуются для неполного, странного, остраненного, эвфемистического и потешного представления полового акта или половых органов. Образцом такого описания является фраза Шекспира, появляющаяся в начале «Отелло», – Яго говорит Брабанцио: «…ваша дочь и мавр в этот момент представляют двуспинное животное» («…your daughter and Moor are now making the beast with two backs»). Отчетливая здесь задача иронического остранения дает наглядное пояснение тому, какое содержательное основание побуждает к выбору таких средств, как аномальное число членов.
И в тех случаях, когда загадка, помимо странного животного, использует в метафорических целях растение или неодушевленный предмет, у нее есть достаточные основания: область символической сексуальной образности, помимо копуляции, включает образы половых органов человеческого тела, которые и в более широком фольклорном плане и обсценной речи традиционно представлены как независимые существа, зверушки, либо в качестве вещей суггестивной формы и с соответствующими способами действия. Тут велика роль антропоморфизма. Обычай обсценной антропоморфизации, включая называние частей тела человеческими именами, слишком хорошо знаком каждому, чтобы нуждаться в иллюстрациях.[27]
Теперь нам предстоит следующая ступень анализа, на которой мы сможем уточнить фундаментальную для загадки сферу содержания и ее морфологический потенциал. То образное содержание, что загадка как фигура сокрытия скрывает и что составляет интерес традиции ее загадывания, определяет структуру фигуративных средств загадки.
20. Образное ядро народной загадки. Слово и образ. Гротеск в полную силу. Попытка архетипологии на основе остранения
Шекспирова фраза о животном с двумя спинами представляет собой эталон образности, на которой строится народная загадка. С феноменологической точки зрения важно, что область сексуальных содержаний представлена как зримый образ, эйдос. Предмет свой этот образ представляет в странном, по терминологии Шкловского, остраненном виде, с достаточной степенью неопределенности, чтобы сделать представляемое неузнаваемым, скрытым. Скрытое таким манером нельзя узнать – его нужно знать. Знать и увидеть. То есть разгадывание скрытого совершается в мгновенной настройке и перестройке зрения. То, что в описании остается неопределенным, уточняется в ви́дении; образ, выстроенный с помощью понятийных имен, преображается в зримый и избегающий называния. То, что Шкловский описал под именем остранения, рассчитано на процесс нахождения фокуса, ведущего к мгновенному усмотрению эксцентрически представленного, а в нашем случае скрытого, предмета.
Но разгадывание загадки не завершается усмотрением скрытой разгадки. Оно завершается разгадыванием другой, демонстративной разгадки. Последняя беспрепятственно переводится в слово, в понятийное имя, называется, и таким путем образ редуцируется к подписи под образом, к титру. Юмор заключается в том, что подпись не соответствует рисунку. Но в лучшей загадке получается еще забавнее: самый образ демонстративной разгадки, названный словом, представляет собой отклик и на исходный метафорический образ, и на образ скрытый, причем это карикатурно редуцированный отклик на скрытый образ. Когда в ответ на «Сам худ, / голова с пуд» отвечают: «Безмен» (Р1093), или на «Кривоногий всклокочет, / зубастый причешет», отвечают: «Плуг и борона» (Р1312), тут дается не только невинный ответ, это еще и пародия на скрытый предмет. Так ответить можно, потому что метафорический образ допускает такой ответ. Так ответить нужно, чтобы латентный образ остался неназванным. Так ответить необходимо, чтобы достигнуть завершающего гротескного эффекта. Загадка предстает в полной силе тогда, когда завершается гротеском.[28]
Ускользание в демонстративную разгадку казалось бы подменяет несказуемое невинным, которое оказывается не таким уж невинным. И не менее важно, что демонстративная разгадка приводит загадку снова к слову в его понятийной функции. Загадка начинается словом и кончается им, а где-то посредине скрытое содержание сохраняется в эйдетической форме, избегающей называния и тем не менее активированной словом. Табуированное не просто не называется – оно есть неназываемое в условиях нормализованного общения. Неназываемое, но активированное словом. Молчание входит в состав этого акта.[29] Загадывание загадки, ее способ описания табуированного содержания не есть его называние, а вызывание.
Аристотель обратил внимание на соединение в загадке существующего с невозможным – гротеск и представляет последнее необходимое основание такого соединения. Подчеркиваю: не возможность, а именно необходимость соединения существующего с невозможным. Табуированное содержание загадки – это предмет, которого нет и быть не может – он порожден самим способом гротескного видения. Сексуальное содержание и гротескное ви́дение со единены интимной связью. Сексуальный предмет как предмет культурный впервые возникает в гротескном видении. И наоборот, в основе гротеска как такового изначально, исторически лежит сексуальный предмет. Первые гротески – это фигурки с преувеличенными половыми признаками, находимые археологами в ранних слоях культуры.[30]
В загадке гротеск достигает совершенства – он формулируется как двойная символическая структура: невинная односложная разгадка представляет собой пародию, карикатуру на табуированное содержание. Такие ответы, как морковка, безмен, глаз, крот, комната, банька и ступка, – это подмены табуированного предмета невинным, но это еще и смешные подмены, подмигивающие на сходство. Поэтому широко принятое представление, что загадка соединена с разгадкой условной связью, должно быть пересмотрено. Связь эта условна лишь до некоторой степени. На самом деле предмет, провозглашаемый разгадкой, достигает максимального эффекта тогда, когда похож на латентный – речь идет о смешном, пародийном сходстве. Сочетание гротеска описания с его пародийным разрешением – это то, что создает двойную символическую фигуру табуированного предмета и двухвершинный процесс разгадывания. Гротеск в загадке возводится во вторую степень. Гротеск при разгадывании загадки не отменяется, а завершается и обостряется путем веселого совмещения латентного и демонстративного предметов. Совмещения, которое не устраняет зияния. В этом завершении только и происходит переход от несуразного в задаваемом описании к гротескному в итоговом целом. Только в этот момент возникает полное соответствие репрезентации своему предмету: сексуальный предмет в качестве предмета культурного – это самая дальняя противоположность логическому, если при этом оставаться в пределах смысла. Мы и видеть его не должны, и видим особенным, искушенным, тренированным, культурным, а не непосредственным, природным глазом. Эти особенности запечатлены в структуре загадки, сопротивляющейся логике. Там, где утрачено пародийное сходство латентного и демонстративного предмета, даже при сохранении двусмысленности, имеет место уже несколько вырожденная структура загадки. Пример: Еще коня не запрягли, / а он уж хвост поднял. – Дым (Р, Томские загадки 256).
Сформулируем итоги нашего анализа:
(t) Тогда как предмет демонстративной разгадки получает оглашаемую словесную форму выражения, латентный предмет остается под завесой табу не только потому, что его имя запрещено, но и потому, в первую очередь, что суть этого образа в его образности. Это не просто придержанное знание, а знание эйдетическое, словесно же не передаваемое лучше, чем это делает загадка.
(u) Остраненная форма сексуальной образности представляет универсальную установку культуры по отношению к сексуальным предметам. Порождающая эффект остранения гротескная, алогическая модальность смысла с зиянием посредине представляет ту двойную спираль, то семя, из которого процвела загадка. И наоборот, загадка – это образцовая культура репрезентации сексуальных предметов. Загадка как выразительное высказывание получает новую характеристику: ее два значения, манифестируемое и латентное, по сути представляют собой единое двойное значение, гротескно раздвоенное и необходимо единое. Это своеобразный гротеск в квадрате; его многомерная структура соединяет метафорическое описание с буквальным и образ табуированного предмета с его несобственным и пародийным именем.
Существующее в соединении с невозможным в загадке теперь обрело смысл более глубокий, чем тот, который непосредственно может быть прочитан у Аристотеля; но, быть может, Стагирит знал больше, чем его язык позволял сказать. Как бы там ни было, но на арене невозможного, в эксцентрическом цирке культуры сексуального, а не в мире естественных явлений, разыгрываются причудливые игры загадки.
Вернемся теперь к нашему выводу о том, что содержательный мир табуированного предмета загадки в его совокупности обнаружил систему компактного родства. Это компактность гораздо большей степени, чем та, что представлена в тэйлоровой классификации метафорических средств загадки. Если в фокусе внимания оказываются используемые загадкой средства остранения, а не средства метафорики, то типы остранения могут быть представлены набором архетипов. Предлагаю предварительный обзор таких архетипов остранения, ответственных за большую часть загадки:
(1) Предмет, который сомнителен как предмет в силу:
a) странной организации частей, например: дом в доме, – или невозможной конструкцией: дом без кром;
b) несочетающихся свойств, данных в перечислении сравнений, например: большой и маленький, кривой и стройный;
c) меняющейся формы или цвета необъяснимым образом, например: чем дольше он стоит, тем короче он растет, или: сначала белый, а затем красный.
(2) Существо, которое не является существом, например, благодаря невозможному сочетанию членов: животное с двумя спинами.
(3) Часть, представляемая как целое, член организма в качестве отдельного живого существа, например: то, что ходит вниз головой, или: птица без перьев.
(4) Нечто, действующее не нормальным образом, например: движение без перемещения, движение без следа, еда без зубов.
(5) Подвержение чего-нибудь действию, без ожидаемых результатов, особенно – истязанию без привычных последствий, например: резать что-либо без кровопролития.
(6) Хотя утроба и беременность в загадке характеризуются нейтрализацией скрытого и явного, гротеск присутствует и здесь в виде преувеличения быстроты роста или количества семян.
Перед нами архетипы гротескной репрезентации сексуальных предметов. Они соединяют необходимой интимной связью что загадки с ее как, ее скрытую предметную область и способы ее представления. Не исключено, что список этот можно уточнить; он позволит построить классификацию загадки заново. Большая часть народных загадок, либо попадет под архетипы остранения, либо оказывается их вырожденными, однобокими и смещенными дериватами. Загадки, не выводимые из архетипических, скорее всего свидетельствуют об очень позднем происхождении в условиях отрыва от корня.
21. Снова Хампти Дампти. Генетический код загадки и механизмы ее морфологического изменения
К настоящему моменту ясно, что мы преследуем двойную задачу: во-первых мы пытаемся реконструировать наиболее полнозначный, емкий, сложный тип народной загадки, который определяет ее жанровую область; во-вторых, пробуем в этом виде загадки распознать классический тип, который лежит в исторической основе всего доступного нам поля народной загадки. Определяющие черты этого типа в виде ряда тезисов, описывают то, что мы назвали генетическим кодом загадки. На нынешней стадии исследования представляется возможным вернуться к проблеме истории загадки и несколько уточнить некоторые ее особенности. Речь идет не о буквальной истории, а о том, как соотносятся морфологические особенности с процессом развития загадки на воображаемой временной оси. Но попытки соотнести эту воображаемую ось с историей как таковой тонут в тумане.
Арчер Тэйлор полагал, что наиболее полнозначная форма загадки, которую он назвал подлинной, является наиболее древней, а все остальные, которые представляют ее редуцированные формы, явились продуктами ее распада. Его мысль не получила отклика, скорее всего, не была даже замечена, потому что противоречила представлению о характере истории на основе эволюционной парадигмы, то есть о развитии от простого к сложному. Усмотрение, что все более простые формы являются осколками полной, хорошо соотносится с тем, что устные традиции загадки обнаруживают древнее родство по использованию единого арсенала мотивов и парадигм. Перевернуть представление о направлении развития невозможно, ибо необъясненным останется и компактность арсенала мотивов, и компактность системы родственных форм. Будь в начале процесса элементарные вопросы, отнесенные к сельскохозяйственному универсу, они не могли бы синтезироваться в компактное по мотивам и структурам единство. Остается в принципе согласиться с Тэйлором. Он все же упростил картину.
Обратим внимание на нетождественность истории функций и форм в традиции. Функции и формы не развиваются синхронно. Структурные особенности консервативнее, поскольку воспроизводятся по образцам; они могут сохраняться и тогда, когда функция изменилась. Но с течением времени установившаяся видоизмененная функция вызовет изменения и в структуре. Нетрудно себе представить, что в том случае, когда ритуальное загадывание загадки в расчете на разгадку, которая является общинной собственностью, сменяется разгадыванием на основе личного остроумия, старая загадка может использоваться, но новые условия приведут к пренебрежению теперь уже избыточно сложными особенностями старой и возникновению упрощенных форм, более соответствующих новой функции. Как только загадка становится рационально разрешимой проблемой, поэтическая игра суггестивными мотивами, намекающими на существование двойной разгадки, оказывается избыточной, и, хотя может в некоторой степени по инерции сохраняться, будет допускать и более элементарные формы, а память о присутствии другого плана и соответствующей внутренней, скрытой форме должна угасать и вызывать к жизни более поверхностную форму – стиховую. Расчет на индивидуальное разгадывание зависит от интеллектуального уровня участников загадывания-разгадывания, так что в определенных обстоятельствах и самых элементарных форм оказывается достаточно. Но и в таких случаях наблюдается желание платить дань традиции – жанровая инерция остается жизненной силой; она проявляется в том, что и элементарные формы извлекаются из традиционных, прежде чем придумываются новые. Культурные формы в традиции жанра, могут значительно изменять свою суть, но тем не менее хранить архаические черты даже в качестве membra disjecta – генетический код, влекомый по традиции, остается живой связью традиции, необходимой для поддержания жанра. Так продукты распада остаются надежными свидетелями классической старины.[31] При этом несомненно, что ее древнейшая поддающаяся реконструкции форма предстает самой сложной. И все же представление об истории загадки как последовательной деградации неточно.
Соображения Тэйлора об истории загадки дают плодотворный импульс для понимания ее развития и приблизительный общий контур истории, но ее упрощения заслоняют путь к древнейшей загадке, архаической по месту в истории, или классической по форме. Во-первых, даже подлинную загадку, записанную в новое время, вернее рассматривать, как современную форму, носительницу лишь некоторых свидетельств о древней полнозначной форме загадки. Во-вторых, более пристальный взгляд обнаружит, что, хотя распад и представляет собой общую тенденцию истории загадки, наряду с этим возникали и противоположные, хотя бы и менее устойчивые, тенденции к усложнению загадки, позволяющие лучше понимать древнюю, ибо несут ее отзвуки.
Начнем с того, что подлинная загадка является не собственно архаической формой, а лишь носителем свидетельств об этой форме, которая куда более сложна. Любопытно, что Тэйлор упустил странности той самой загадки, на примере которой он развил свою морфологическую концепцию подлинной загадки, а странности эти открывают архаическую глубину, которой не заподозришь, оставаясь в рамках начертанной им формальной структурной концепции. Рассмотреть загадку о Хампти Дампти в обретенной нами перспективе поучительно.
Как верно показал Тэйлор, загадка о Хампти Дампти артикулирована в виде смешанного описания, образованного соединением двух разнородных способов характеристики. Они должны вызывать у разгадывающего две несовместимые установки понимания: один компонент описания, метафорический, вызывает представление о живом существе, Хампти Дампти, которое может влезть на забор; второй компонент характеристики сообщает буквальную истину о том, что ни королевская рать, ни королевские кони не могут его собрать. Но от разгадывающего искусно скрыто то, что посреди загадки заложен перелом установки, и поэтому он сбит с толку смежностью двух частей описания. Это самое глубокое усмотрение в истории энигматики. А загадка о Хампти Дампти, действительно, хороший образец подлинной загадки в том, что касается ее формальных признаков. Но Тэйлор промолчал о том, что в этой загадке есть веселая ирония или по крайней мере остатки таковой. Тогда бы пришлось задать вопрос: отчего?
Загадка о Хампти Дампти играет намеками. Само имя Хампти (от hump «бугор») подсказывает англоязычному сознанию нечто округлое, выпуклое, и это вполне можно согласовать с разгадкой: яйцо. Но поскольку загадка не единичное явление, а член жанрового сообщества, или рода, то она говорит на особом племенном языке. Как это делают вообще лингвисты, сталкиваясь с каким-либо словом на мертвом языке, чтобы понять его, нам нужно увидеть, есть ли другие употребления этого слова и каковы они. Действительно слово hump встречается в англоязычных загадках, пример: ТI.45а. Hump back, smoove [smooth] belly (Сгорбленная спина, гладкое брюшко). Как мы видели она перекликается с другой загадкой о кривом теле (TVIII.1293. Crooked as a rainbow, / Slim as a ja’ (Крив, как радуга, изящен, как сосуд). Ясно, что hump и crooked не только перекликаются семантически, но и в функциональном плане – они являются однородными компонентами в рамках одной и той же парадигмы, образуют фрагмент сети родственных отношений и, следовательно, являются мотивами, то есть единицами специфического языка загадки. Смысл парадигмы, которой они служат, так же ясен (она встречается и в других языках, например, ИАХ84: Кругло, горбато, / Около мохнато) – это эвфемизм для обозначения как женского, так и мужского полового органа.[32] Кроме того, в корне имени Хампти, при корне hump «горб, бугор, пухлость» и поблизости мерцает коннотация его глагольного употребления to hump (с транзитивным значением), для пояснения которого в старых словарях принято прибегать к латинскому futuo, futuere.
Не обращая внимания на эти особенности загадки, Тэйлор делает следующее замечание: «Сравнение яйца с предметом, который, будучи разбит, не может быть восстановлен, редко» (Тэйлор 1951: 267). Речь в загадке идет, однако, не о предмете, а разве что о предмете в эвфемистическом смысле. Тэйлор все же сформулировал точно: «предмет, который, будучи разбит, не может быть восстановлен». Этот латентный предмет не так уж редок. Он появляется в ряду, представляемом в собрании Тэйлора загадкой T589b: Miss Mary goin’ upstairs / Get her frock tare. – Egg (Мисс Мэри, поднимаясь по лестнице, порвала свое платье. – Яйцо). Крайняя странность связи двух компонентов описания явно указывает на то, что речь идет о другом. Хрупкость яйца в обоих случаях служит метафорой для этого другого. Заметим, что и разгадка, и мотив подъема наверх сближает загадку о Хампти Дампти с загадкой о Мисс Мэри и, вероятно, свидетельствует, о том что первая образована под влиянием того же архетипа, к которому восходит вторая. Это предположение подтверждается наличием промежуточной загадки: T951c. Humpty Dumpty went to town, / Humpty Dumpty tore his gown. / All the women in the town / Could not men’ Humpty Dumpty’s gown. – Egg (Хампти Дампти отправилась [NB!] в город, Хампти Дампти порвала свое платье. Все женщины города не смогли починить платье Хампти Дампти. – Яйцо). В Т45а had a fall (упал[a], или буквально совершил[a] падение [род в английском глаголе не выражен]) – мотив не менее суггестивный, чем мотив порванного платья.
Вторая половина загадки Т45а, о королевской рати и королевских конях, также имеет родство в отчетливо эвфемистической загадке: Т1325. Round as hoop, / And as deep as cup, / All king’s horses / Can’t put it up. – Well (Кругло, как обруч, и глубоко, как чаша, все королевские кони не могут его поднять. – Колодец).
При явном родстве рассматриваемого круга загадок, можно заметить, что латентная разгадка не остается в них тождественной, хотя и вращается в кругу смежных значений. Рассматривая родовую основу загадки, следует учитывать связанность материальную, по мотивам, и связанность смысловую, а в конечном счете, единый формально-смысловой комплекс – сексуальный гротеск.
Так нам открылась закулисная сторона загадки о Хампти Дампти, о которой Арчер Тэйлор если и подозревал, то не подал виду. Скороспелым, однако, было бы предположение, что эта загадка представляет собой классический, или архаический, тип. Скорее же всего именно ее эвфемистический предмет – нечто хрупкое и невосстанавливаемое в результате падения (или восхождения) – довольно поздний предмет насмешливого интереса. Косвенным свидетельством этому служит то, что предмет, скрытая разгадка, обусловившая тот энигматический круг, в ассоциации с которым возникла загадка о Хампти, скорее понятие, чем гротескно представимый образ. Да и парадигма – описание необратимого события – должно быть, поздняя (см. Левин 1973: 185). Загадка о Хампти Дампти, таким образом, отстоит от архаической на значительном культурно-историческом расстоянии, но тем не менее хранит свидетельства своей причастности к ней, хранит важную часть генетического кода, полученного ею из традиции в форме мотивов.
Узнается ли в этой загадке ее родовое наследие или нет, во многом зависит от компетентности в языке загадки. Но ее четкая рифмованная и ритмическая форма выдает позднее происхождение. Материалом своим и искусным бесшовным стыком метафорического и буквального значений она по традиции имитирует классическую загадку, но делает это чересчур гладко. Несомненна ее принадлежность к жанру невинной детской прибаутки (nursery rhyme).
Рассмотрение загадки о Хампти Дампти позволяет сделать вывод, что формального, структурного определения загадки не достаточно для того, чтобы представить себе древний и наиболее полнозначный ее вид. Подлинная загадка, определяемая лишь по формальным структурным критериям, хранит в себе свидетельства классического типа в разной степени, но ею не является. Уяснив, какие разные черты в какой разной степени сохраняются, можно реконструировать древнюю полнозначную загадку. Ее лучшим свидетельством является морфологическая и функциональная структура фигуры сокрытия. Подлинная же загадка в тэйлоровом значении, которое ограничивает ее чисто формальными, структурными признаками, скорее хранит весть о том пороге в истории жанра, на котором начался распад полнозначного вида.
Не претендуя на полноту картины, к которой можно приблизиться по крайней мере разобрав все собрание Тэйлора, приведу характерные пути деформации классической загадки, отмеченные потерей первичного значения при сохранении сходства с исходным образцом.
Совсем небольшой сдвиг может привести к тому, что первоначально метафорический компонент потеряет метафорическое значение, оба компонента окажутся буквальными и скрытый символизм, а с ним и латентная разгадка, исчезнут. T1173c. The Queen of Morocco she wrote to the King / For a bottomless vessel to put flesh an’ blood in. – Ring (Королева Марокко написала Королю о бездонном сосуде, для плоти и крови. – Кольцо). Здесь по классическому типу сохраняется двойной смысл и комбинация метафорического компонента (bottomless ves sel «бездонный сосуд») с буквальным (to put flesh an’ blood in «чтобы поместить туда плоть и кровь»). Кольцо – не бездонный сосуд, и даже не сосуд, но его некоторое подобие без дна, это сдвинутая метафора, тут остается пространство для домысливания, в котором проскальзывает проказливый намек. Но вот в эту модель вкрадывается небольшое изменение, которое ведет к потере метафоричности первого компонента, а с ней и второго смысла: T1172b. My father have something without top or bottom, had it with him wherever he go. – Ring (У моего отца есть кое-что без крышки или дна, оно у него с собой, куда бы он ни пошел). А вот аналогичная русская загадка, которая не теряет ни загадочности, ни двусмысленности при буквальности двух сопоставленных образов: С679. Стоит девка на горе / Да дивуется дыре: / – Свет моя дыра, / Дыра золотая, / Куда тебя дети? / На живое мясо вздети. – Кольцо. Загадка эта работает, потому что сбивает с толку: «Дыра золотая» рядом со «Свет моя дыра» с суггестивным «моя» принимается в соответствии с нормальной загадочной установкой за метафору – второму, метафорическому, смыслу ничто в этом тексте не противоречит.
Даже при очевидной потере метафоричности сохранение противоречивости в описании может дать место второму смыслу. Например, существует парадигм а Hooked, crooked and straight (варианты: slim / sleek) (Согнутый, кривой и прямой / стройный / ровный) и т. д. – тут две казалось бы несовместимые буквальные характеристики расшифровываются как два разных состояния предмета. Тут есть место недоразумению и другому значению. Но вот первая характеристика появляется в другом сочетании: Crooked as a rainbow, / Teeth like cat (Кривой, как радуга, / Зубы, как у кошки; T1295), – и загадка удаляется от исходной парадигмы. Аналогичным образом от исходной парадигмы уходит французская загадка: Quelle chose est qui a deux dos et si n’a que un ventre. – C’est un soufflet (Роллан 1877: 157. Что за вещь имеет две спины и только один живот. – Это [кузнечные] меха). Замена животного на вещь ослабляет метафорическую установку, а добавление un ventre ([один] живот) и вовсе устраняет возможность прежней ассоциации, которая хранилась в шекспировском животном с двумя спинами. Аналогична русская загадка: С699. Одно брюхо, / Четыре уха. – Кошель. И здесь близкое родство с архетипической загадкой остается очевидным. В этих случаях ясна полная потеря классического понимания загадки, замена его рациональной задачей, но в рамках сохраняющейся материальной связи с традицией, с архетипами, от которых они отправляются.
Архетипична загадка T1171. My mother have a barrel, haven’t got any staves. – Egg (У моей матери есть бочонок без клепки. – Яйцо; русский эквивалент: Дом без кром). По этому типу сочетания двух несочетающихся свойств образована загадка T1126. Build the house with no post. – Oven (Построил дом без опор. – Печь). Связь с образцом здесь явная: идея конструкции без привычных креплений. Но другое значение здесь утеряно в силу отдаления от латентного смыслового поля.
Удаление от табуированного смыслового поля может происходить путем умножения членов описываемого странного существа или предмета так, что он(о) выходит за пределы сопоставимости с исходной сферой смысла. Все загадки со множеством членов происходят от архетипических загадок с их числом, превосходящим нормальное для существа, но минимально и не более, чем у двух: существо на трех ногах (загадка Сфинкса), существо с двумя спинами (загадка Яго), или головами. Когда же описываются предметы с шестью ногами (всадник на лошади) и т. п., то здесь следование принципу построения сопровождается выходом за рамки поля сексуального образа.
Приведенные примеры демонстрируют, как происходит замеченный Тэйлором распад полноценной и сложной формы подлинной загадки и отчего образцы последней предстают всегда в сопровождении упрощенных форм, которые, однако, сохраняют черты родства с подлинной загадкой и свидетельства происхождения от ее архетипических образцов, что ведет к необходимости включать в представительные собрания загадки ее дегенерировавшие формы.
И все же представление о линейном характере истории видов загадки в направлении распада, от сложной к предельно элементарной, неточно. Наряду с процессом распада классической формы можно наблюдать и процессы усложнения. Не все загадки с отклонениями от структуры подлинной загадки по Тэйлору следует считать вырожденными. Если учесть не только форму, направленную на обман воображения, но и функцию сокрытия, то оказывается, что поддержание этой функции, память о ней может играть продуктивную роль и тогда, когда возникают отклонения от архетипической структуры описания. Генетическая память позволяет осложнения, не только компенсирующие формальные упрощения, но и превосходящие классический уровень сложности. Скажем сильнее: возникают психологические осложнения загадки, не проявляющиеся на формальном уровне, но использующие формальные упрощения. Делается это путем манипуляции психологической установки, то есть определенных нормальных ожиданий. Если загадка формально построена на столкновении двух как будто бы противоречивых буквальных описаний, это может обмануть ожидание разгадывающего, нацеленное на то, чтобы увидеть метафору, и подтолкнуть его к тому, что он примет неметафорическое за метафорическое. Например, С481. Режу, режу, / Крови нет. – Каравай. Или наоборот, две метафоры выдаются за нормальное – метафорическое + буквальное – описание: С71. Не шагает, а ходит. – Дверь. Неполнота формы сама по себе не свидетельство дегенерации.
Во всем этом важно лишь то, что память традиции гораздо живучее, чем то, что представлял себе Тэйлор на основе чисто формального рассмотрения жанрового поля загадки. Формальные упрощения возможны в рамках полноценной активной традиции – как способы более изощренной игры с классическим ожиданием; они не обязательно результаты вырождения. Жанровая установка продолжает жить не только пассивно, как реликтовая память, но и активно, как функциональный и творческий импульс, даже при сильно вырожденных формах. Потеря памяти о символизме сокрытия и связи с табуированным смысловым полем происходит в условиях усыхания обрядовой традиции, с потерей социальной функции полового воспитания. Иначе говоря, падение культуры загадки сопряжено с перерождением социально важного института загадывания загадок в простое развлечение.
Оставляя эти более или менее умозрительные выводы в стороне, можно сформулировать тезис на вполне доказанном уровне. Наконец-то мы можем себе представить морфологическую картину жанрового поля народной загадки:
(v) Ядро жанра загадки и семинальную страту в устной традиции составляет классическая, то есть полноценная древняя, загадка, определимая как фигура сокрытия с двойным значением – латентным и манифестируемым. Следующую страту составляет загадка, отвечающая тэйлоровым критериям подлинной загадки, то есть соединяющая метафорическое описание с буквальным в фигуре затемнения, но утратившая функцию сокрытия. Третью страту составляет загадка с упрощенной структурой: двучленным буквальным описанием или даже с одночленным, метафорическим или буквальным. Во второй и третьей страте как правило сохраняются материальные следы родства с архетипической классической загадкой, от которой данная вырожденная отклонилась.
Этот тезис описывает в принципиальных чертах морфологическую стратификацию жанрового поля народной загадки с четкостью, свойственной теоретической мысли, на практике же четко определить можно лишь формальные признаки или по крайней мере структурные признаки. То же, что касается смысла и смысловых функций, всегда является делом конкретного состояния традиции или конкретной интерпретации. Тут уж об определенности говорить трудно. Но даже второстепенные, поверхностные формальные черты могут быть характеристиками чрезвычайной важности. Так, мы видели, что загадка о Хампти Дампти, при полноте принципиальных формальных признаков и сохранении ряда признаков родства с загадками очевидно сексуального содержания, является детским увеселительным стишком (nursing rhyme). Об этом свидетельствует ее форма: рифмовка по современному типу и игровой ритм четверостишия. И все же она сохраняет некоторую, одновременно материальную и призрачную, связь со своими архаическими корнями и проливает на них свет. Вывод:
(x) Древняя классическая загадка должна отвечать следующим признакам: 1) быть причастной к табуированному сексуальному содержанию в его архетипических гротескных конфигурациях; 2) выражать его в форме фигуры сокрытия с двойной разгадкой, произносимой и непроизносимой; 3) соединять в своем описании метафорическое и буквальное изображения; 4) использовать рекуррентные мотивы устной традиции; 5) называть в декларируемой разгадке предмет, пародийно сходный с латентным предметом и тем самым завершать гротеск на уровне второго порядка.
Остается неясным, дошли ли до нас образцы подлинной древнейшей загадки. Например, T7b. Chink, chink in the grass, / Bald head, no [ass]. – Snake (Шур, шур в траве, лысая голова без зада. – Змея), – отвечает всем выше названным пяти признакам, включая двусмысленность с сексуальной подкладкой архетипической конфигурации, излюбленной загадками, что подтверждается присутствием рекуррентных двусмысленных мотивов grass (трава) и bald head (лысая голова, ср. русское плехан и его функции), и тем не менее легкие ритм и рифмовка выдают ее принадлежность новому времени. Похоже, что почтеннее по возрасту русская загадка типа ИАХ1. Стоит горница / Об одной окольнице. В большинстве же случаев, когда кажется, что все признаки на месте, перед нами все-таки сохраненный генетический код древней классической загадки, но не она сама. Возможно, что подлинную древнюю загадку мы находим только в ее фрагментах, продуктах распада, которыми являются как раз наиболее вырожденные и примитивные формы загадки.
22. Обзор фигуративных средств загадки. Морфология загадки vis-à-vis морфологии сказки
С морфологической точки зрения в области словесного художественного выражения выделяются две фундаментальные модальности: повествовательная и фигуративная. В художественной литературе они обычно смешаны, но фольклор знает их чистые формы. Классический анализ повествовательной морфологии представлен в работе В. Я. Проппа «Морфология сказки» (Пропп 1928); народная загадка дает образец фигуративного выражения в чистой и глубокой форме. Если за повествовательным текстом закрепилось и широко используется понятие нарратив, вокруг которого развилась дисциплина – нарратология, то рядом с ним имеет смысл ввести понятие фигуратив для обозначения текста, целиком подчиненного фигуративной задаче.[33]
Сопоставление нарратива и фигуратива в едином логическом пространстве – трудная задача. В качестве разнородных модальностей высказывания нарратив и фигуратив подчиняются разным логикам; и все же уяснение сути каждой из модальностей требует сопоставления – хотя бы в виде двух независимых описаний. Для решения этой задачи придется опираться на некоторую металогику, пусть не вполне отрефлектированную в своем логическом качестве; поэтому предпринятое сопоставление будет проходить на ощупь.
Морфология нарратива была построена Проппом для рассмотрения сказочного повествования в его развертывании вдоль временнóй оси в форме последовательности характерных функциональных компонентов в составе секвенции, ряда, полно представляющего эту последовательность. Разобрав взаимные отношения компонентов этого ряда, Пропп выяснил логику их последовательности. Назовем ее консеквенциальной логикой, то есть такой, в которой одни компоненты ряда (состояния и поступки героя) наделены векторами вызова ответных событий, другие – векторами вызова изменений состояний героя, а третьи – и теми и другими. Проппова морфология сказки описывает логику этого ряда в виде формулы – последовательности функциональных компонентов. На фоне морфологии сказки лучше может быть понята особенность морфологии загадки.
Загадка представляется столь же образцовой для теории фигуратива, как сказочное повествование для нарратологии.[34] Общим исходным пунктом может служить то, что мы сопоставляем речевые модальности. Но пути этих дисциплин тут же расходятся. Понятие сказочное повествование отсылает к референциальной области, к мысленной сцене, на которой в нормальном случае представлены семь героев, их состояния и поступки, причем последовательно проиграны их взаимодействия. Здесь действует событийная логика, в рамках которой функции наделены векторами вызова ответных событий и ответных изменений состояний героя.[35] Смысла сказки мы не знаем. Проппу не пришлось выяснить, почему сказка нуждается в семи героях. Мы знаем, что сказка – ложь. «Сказка ложь, да в ней намек…» – намек в ней не разгадан, но фантазия – несомненна. И сказка повествует о чем-то. То, о чем она повествует, – ее событийное содержание, – может быть отделено от языка повествования, поэтому сказка может быть пересказана другими словами – да так оно и происходит в традиции; речевые формулы имеют место лишь как украшения в ее передаче. Но загадка тяготеет к языковой формульности в целом; она может быть повторена лишь с минимальными изменениями. Загадка прочно связана с языком. И загадка не ложь; истина и ложь – понятия по отношению к ней неуместные. Морфология сказки относится к сказочной сцене с ее темпоральной логикой; морфология загадки относится к феноменальной ахроничности, к структуре речевого построения представления, к функциям компонентов речи в этом построении. И все же и сказка, и загадка представляют модальности высказывания; и это дает нам возможность сопоставить их ради взаимного освещения.
Пропп отметил, что элементарный компонент нарратива может быть представлен сочетанием субъекта и предиката, называющим героя и его состояние или действие. Такие же элементы могут составлять фигуратив, но в этом случае они участвуют в иного рода функциональной структуре и морфологической конфигурации. Элементарный уровень по типу нарратива загадку не характеризует никак и не является жанрово специфическим (на этом споткнулись Жорж и Дандес). Жанрово определяющей является морфология в плане функциональной структуры целого высказывания.
Проделанный в этом исследовании анализ позволяет сформулировать исходные положения относительно принципиальной формы фигуратива: 1) это речевой бином; 2) взаимные отношения компонентов внутри этого бинома проблематичны.
Предлагаемая мною попытка определить фигуративные отношения имеет не более чем предварительный и минимальный характер и потребует в будущем уточнения. Сделаю в этом направлении, что могу в данный момент с позиции наблюдателя загадки.
Всякий троп, всякая фигура основаны на некоторой двуплановости, которая строится по-разному и имеет разные функции, откуда проистекает множество тропов и фигур. Бином может быть чисто смысловым, лишенным формальной двоичности и вообще формальных признаков, как, например, в фигуре иронии, где план выражения, формально не раздваиваясь, имеет раздвоенный смысл – непосредственный и другой, его подрывающий по осмыслении высказывания. Биномиальная структура в плане выражения имеет развернутую форму в тропе сравнения – оно артикулируется в двух сопоставленных частях. Непременной особенностью тропа и фигуры, как установили те, кто ими занимался (напр., Якобсон 1966: II.239-59), является подстановка, подмена одного смыслового составляющего другим, или столкновение двух планов, или их взаимная дополнительность. На этом общие знания о тропах и фигурах, собственно кончаются, и тут начинается спецификация их разновидностей.[36] Считаю важным отметить одно динамическое условие функционирования фигуративной морфологии, избегающее формального взгляда: затрудненные, напряженные смысловые отношения между составляющими фигуративного бинома. Обострение и разыгрывание этих напряжений, возведение их в степень, нагромождение друг на друга, – в общем проблематизация высказывания составляет существенную характеристику внутренней жизни фигуратива. Подчеркиваю: проблематизация является свойством смысловой жизни фигуратива, а не только аналитического подхода к нему. Высокую, вероятно, образцовую степень такой проблематизации мы находим в народной загадке как особой фигуре речевого выражения. Функционально-морфологическая экспликация фигуративной природы загадки и составляет главную линию этого исследования.
Биномиальная структура как нельзя более резко обозначена в плане выражения загадки: она – это кажется очевидным – состоит из вопроса и ответа. И эта всем знакомая, как бы сама за себя говорящая форма естественно является первым предметом разработки и одновременно первым камнем преткновения для исследователя. Поверивший ей обречен блуждать во тьме потому, что функции бинарной формы загадки не укладываются в условия вопросно-ответной формы, которая служит лукавой личиной. Загадка – не столько вопрос и ответ, сколько погудка и отклик. Вопрос загадки и не должен быть вообще вопросом, и зачастую не бывает – он может быть выражен в утвердительной форме; но отклика он требует. Загадку точнее определить как диалог, игровой обмен репликами.
Следующая очевидная особенность морфологии загадки заключена в неравенстве двух членов биномиальной структуры: описание сложно, отклик элементарен. Описание имеет собственную сложную структуру, тогда как отклик может быть предельно прост, может состоять из одного слова. За этим формальным различием стоит совсем другое, из него прямо не вытекающее и не очевидное, – логико-смысловое: описание не находится во взаимнооднозначных отношениях с откликом, одно и то же описание может иметь разные ответы. Наряду с этим загадке принципиально свойственно другое морфологическое несоответствие: в отличие от атомарного отклика, описание в загадке имеет сложную внутреннюю форму – оно в свою очередь представляет собой бином: соединение метафорического и буквального описания в форме, стирающей грань между ними и скрывающей необходимость двойной, так сказать, бифокальной установки зрения.
Биномиальная форма загадки обретает смысл только тогда, когда раскрывается ее функциональная задача. Загадочное описание в своей направленности на разгадку, с одной стороны, недостаточно, не обеспечивает однозначного опознания предназначенного для разгадки предмета, с другой, избыточно, превосходит потребность того, что принято считать очевидной функцией загадки – ее направленность на разгадку, включает элементы метафорического предмета, к разгадке отношения не имеющие. Этот избыток сигнификации открывает глубокое зияние между описанием и разгадкой – фундаментальную онтологическую особенность загадки. Описание и разгадка принадлежат двум различным порядкам сигнификации и поэтому должны рассматриваться не только в том очевидном плане, в каком загадка складывается из их взаимной, будь то неполной, пригнанности, но описательная часть загадки должна быть рассмотрена и в том плане, в котором она независима от своей очевидной направленности на разгадку. Тут уместно подозрение в том, что у описания, а следовательно, и у самой загадки, есть и другая, неочевидная функция. В этот момент загадка оказывается загадочнее, чем она представляет себя под личиной вопросно-ответной формы.
Новый угол зрения открылся исследователям непреднамеренно в ходе решения чисто практической задачи упорядочения собрания загадок, принадлежащих определенной устной традиции. После ряда малоудачных попыток оказалось, что даже самый большой корпус загадок некоторой традиции может быть компактно и элегантно классифицирован, если повернуться спиной к зарегистрированным разгадкам (целям загадки!) и сосредоточить свое внимание исключительно на загадочных описаниях. Оказалось, что устные традиции используют довольно ограниченный набор инструментальных, метафорических предметов, которые могут быть названы мотивами, и ограниченное число парадигм, по которым эти мотивы сочетаются.
Тут уместен следующий вопрос: не свидетельствует ли поддающееся инвентаризации, ограниченное число мотивов и парадигм, их соединяющих, о том, что загадочные описания данной традиции в совокупности выказывают некоторое содержательное предпочтение и связанны единым смысловым полем? Поставив вопрос о характере этого поля, прежде всего замечаешь, что разные традиции питают пристрастие к одному и тому же полю.
Особо отметим перемену перспективы при переходе от рассмотрения отдельной загадки к рассмотрению корпуса загадок, представляющего некоторую устную традицию. Загадка – не индивидуальный литературный текст, а принципиально множественное явление. «Фауст» Гете и «Евгений Онегин» Пушкина могут легко обходиться без близких родственных явлений, быть уникальными феноменами, но загадка – явление роевое, она существует только во множестве проявлений творческих сил традиции. В ее естественных условиях она может функционировать только как множество. Без множества нет обряда загадывания-разгадывания, а загадка, как пронаблюдали этнологи, живет именно в этом процессе. Множественность загадки разрабатывает некий устойчивый запас мотивов и парадигм их соединения, присущих данной традиции, и разыгрывает ее привилегированное смысловое поле. Повторяемость и смежность этих мотивов и парадигм выявляет в них характер генетического материала жанра.
Корпус загадок проявляет себя в обряде загадывания-разгадывания. Обряд – социальный институт, и в его основании должны быть некоторые общественные функции. Одна соответствующая функция общего вида известна антропологам – это табу, запрет на называние некоторых предметов. Табу может означать больше, чем умолчание: существует табуированное называние, которое осуществляется косвенно – с помощью иносказательных выражений, эвфемизмов. В загадке функция табу еще более специфична. Важнейший момент тут заключается в том, что оглашаемая разгадка не может быть тем табуированным предметом, на который направлено иносказание вопроса, потому что табуированный предмет не называем напрямую – на то он и табуированный. Необходимость того избытка сигнификации, который мы нашли при анализе отношения загадки к разгадке, объясняется тем, что загадка имеет и другую направленность, помимо разгадки; она говорит еще и о другом предмете, которого не называет. На этот табуированный, неназываемый предмет указывает смысловое предпочтение в выборе всей областью загадочных описаний метафорических предметов и их свойств.
Эзотерическая функция загадки, а заодно и ее структура, проясняются еще более при помощи концепции фигуры выражения посредством сокрытия, или просто фигуры сокрытия. Эта фигура представляет собой символическую структуру выражения особого рода: она имеет очевидный, демонстрируемый смысл, прикрывающий другой смысл, латентный, который только благодаря этому прикрытию и может осуществиться. Латентный смысл не выходит на поверхность, в план выражения, остается на глубине и поэтому загадка как высказывание непременно должна быть охарактеризована как глубинное выражение.
Фигура сокрытия, вообще говоря, представляет целое семейство родственных символических формаций, проявляющихся в тех феноменах психической жизни, которые выражают глубинные содержания сознания, конфликтные по отношению к нормативным и в ряде случаев вытесняемые на бессознательный уровень. Таковы сновидения, оплошности, оговорки и т. д. Не заимствуя ничего у создателя психоанализа, мы можем пролить дополнительный свет на описанные им феномены. Фигура сокрытия в загадке – это культивированная, социальная форма, это сама культура выражения/сокрытия. Если наблюдения глубинной психологии касаются функциональных органов индивидуальной психики, то загадка представляет собой общественный орган, институт. Здесь, вероятно, уместно представление об особой сублимации. Загадка – не спонтанное явление, а культура, жанр речевой деятельности, искусство со своей поэтикой и образцами. Загадке учатся, ее получают из традиции. Соответствие ее функциональной структуры глубинным явлениям психики поясняет ее способность давать разрядку. Это сближает загадку с шуткой (der Witz), которая в отличие от других, непроизвольно индивидуальных фигур сокрытия, описанных Зигмундом Фройдом, является культурной разновидностью – не существует культуры оговорок, но есть культура шутки, обладающая историческим и этническим привкусом. В этой связи возникает вопрос, не являются ли и спонтанные проявления фигуры сокрытия в индивидуальной психике результатом вторжения культуры в глубокие слои сознания, то есть результатом интериоризации культуры? У Фройда в этом отношении речь идет только о роли языка.[37] Это несколько более узкая позиция, и она у него носит принципиальный характер.
Если теперь рассмотреть область схождения формальной морфологии загадки как языкового высказывания, морфологии смысловой сферы загадочных описаний и функциональной морфологии загадки как фигуры выражения табуированного содержания (то есть фигуры сокрытия), то в центре схождения отчетливо вырисовывается суть ее привилегированного смыслового поля – культура сексуальных содержаний, остраненных, гротескных, напоминающих самые ранние найденные археологами изваяния и, одновременно, подобные широко распространенным образам еще недавно существовавшего фольклора. Гротеск в основе загадки указывает на ее интимную и, вероятно, генетическую связь с архаическими слоями культуры.
Более того, загадка предстает как необходимая форма выражения сексуального содержания и как культура этого выражения, впервые создающая это содержание. У этой культуры есть фундаментальная общественная функция: она вызвана к жизни необходимостью культивировать половую зрелость. То, что у животных является физиологическим инстинктом, у человека нуждается в культивировании; человек не доверяет природе. Загадка практикуется во многих архаических культурах в рамках обрядности, ведущей к браку. Загадывание загадок воспитывает и тестирует половую зрелость как культурное состояние. Оно является культурной прелюдией к браку. Загадывание-разгадывание загадок представляет собой веселый, игровой обряд. Серьезная и даже опасная в силу табуированности задача получения эзотерического знания завершается счастливой разрядкой. Тем не менее процесс разгадывания – это своеобразное испытание в условиях, в которых легко попасть впросак. Ответ, который дается при разгадывании загадки, дается не индивидуальной остротой ума, а является даром общины – настоящую народную загадку разгадать невозможно, хотя бы потому что она не имеет однозначной связи с разгадкой. Она даруется в процессе повторного участия молодого члена общества в обряде разгадывания – он слышит как ее разгадывают другие и учится разгадывать сам.
И все же загадка задевает личность. В процессе разгадывания ловушки расставлены на каждом шагу, потому что загадка полиморфна: разные виды ее создают разную установку, что должно деавтоматизировать разгадывание, держать настороже. Основной вид загадки скрывает наличие латентной разгадки – это условие игры, о нем нужно знать и наслаждаться этим знанием, объявляя при этом как бы невинную разгадку. Знанию о латентной разгадке обучает другой вид загадки (озорная загадка), который настойчиво подсказывает сексуальную разгадку при том, что требует декларировать невинную. Наконец, этой же задаче служит загадка о беременности, сексуальном предмете, который позволяется называть и тем самым в виде исключения как бы нарушать запрет, не нарушая его, и так дает счастливое чувство проницаемости границ. Опасность заключается в том, чтобы не спутать виды загадки и не попасть впросак.
Загадка имеет завершение, но не раскрытие. В загадке зало жена большая прочность; структура образности загадки обеспечивает правильное поведение разгадывающего. Игра в загадывание-разгадывание проходит в двух когнитивных модальностях, не редуцируемых друг к другу: словесной и образной. Описание должно вызвать образ, представляющий собой странную фигуру, составляющие которой при их рассматривании в одной плоскости не складываются во что-либо осмысленное. Только практическое знакомство с поэтикой загадки побуждает к бифокальной установке на описание и позволяет видеть одну часть его в метафорическом, а другую в буквальном смысле. Лишь в результате этого акта возникает образ, который может быть осмыслен, но не в порядке привычной узнаваемости, – он должен быть дорисован воображением, руководимым культурным знанием. Странность позволяет ему быть двусмысленным, как это имеет место в образах, открытых гештальтпсихологией: взгляд, ориентированный в одну сторону, видит утку с открытым клювом, взгляд ориентированный в другую, – длинноухого зайца. В загадке дело обстоит несколько сложнее; во-первых, нужно знать, что загадка имеет в виду, чтобы увидеть то, что она в виду имеет; во-вторых, два образа, проявляющиеся сквозь описание, неравнозначны, в отличие от гештальтистского эксперимента: один так и остается сложным, гротескным и не поддающимся легкому наименованию, другой неожиданно элементарен и попадает под простое понятие невинного предмета, в-третьих, два образа действуют совместно, в паре. Сложный, гротескный образ уже своим остраненным образным качеством предохранен он называния. Другой же, простой, легко переводим в слово и годен для оглашения. Обе образные разгадки при всем их различии относятся к одной фигуре описания. Манифестируемая разгадка предлагает карикатуру латентного образа до смешного упрощенным своим сходством с ним, либо дает не менее смешное несходство. Пример первого: T118b. Goes upstairs and downstairs and always on his head. – Nail in a shoe (Идет ли вверх по лестнице, вниз ли, все вниз головой. – Сапожный гвоздь); пример второго: T30a. What has two heads and one body? – Barrel (Что имеет две головы и одно тело? – Бочка). Аналогичные русские примеры: С717. Старик над водой / Трясет бородой. – Очеп; С579. По локоть горбато, / По локоть мохнато, / По локоть в кулак ушло. – Пряжа. Нераскрываемый гротескный образ перестает быть угрозой под защитой невинного, произносимого и карикатурного своего представителя, совместно с которым он составляет гротеск второго порядка. Первый гротеск вызывает замешательство; при этом характерна реакция гиперкомпенсации – стремление скрыть замешательство смехом. И эта потребность в смехе получает свое сильное подкрепление, когда подоспеет манифестируемая разгадка, разрешающая всю ситуацию самым невинным образом и в то же время удваивающая скрываемый гротеск. Происходит это при сознании, что все вокруг разделяют эту игру и участвуют в ее скрытых перипетиях. Удовольствие, приносимое разгадыванием загадки, увеличивается как множеством разгадываемых загадок в одном ритуале, так и множеством участников, разделяющих веселье.
Обращаю внимание на то, что рассмотрение функций и функционирования загадки радикально углубляет представление о ее морфологии, открывает ее основание, вписывает в более сложную функциональную структуру. В загадке функция доминирует над морфологией.
Итак, классическая загадка может быть рассматриваема как сложный многомерный гротеск, разыгрываемый в виде фигуры сокрытия. Вероятно, это гротеск в его высшем потенциале. В этом качестве загадка есть воплощение имманентного модуса сексуального знания как культуры. Иначе говоря, сексуальное знание как культ ура и должно быть таким; гротеск и культура сексуального знания находятся в интимной и неразрывной связи. При этом загадка является воплощением культуры полового воспитания. Добавим: правильного и сублимированного, – потому что существует и противоположная ей фольклорная культура: обсценная речь, русский мат и его эквиваленты, известные едва ли не в каждом языке.
23. Замечания о загадке как поэтическом жанре. О двух понятиях поэтического: о поэтической основе загадки и о поэтическом на службе у загадки
Народная загадка – жанр поэтический по существу. Поэтичность ее в некотором неотчетливо-стилистическом смысле отмечалась старыми фольклористами. Она легче всего распознается со стороны формальных признаков. Но их осмысление затруднено, потому что зависит от понимания их функций в структуре жанра.
Понятие поэтического неоднозначно само по себе. С одной стороны, поэзия традиционно противопоставляется прозе как формально организованная речь; ритмическая мера долго была наиболее отчетливым ее признаком. Но определяющими поэзию представлялись и некоторые нерегламентирующие свойства речи – образность, фигуративность, символическая насыщенность текста и лиричность. В опыте современной культуры эти два понятия поэзии разошлись настолько, что каждое из них не нуждается в другом.
И о поэтических свойствах загадки можно говорить в двух различных смыслах. В одном отношении в поэтические характеристики загадки можно зачислить экономию ее средств, опору текстов на некоторый устойчивый запас мотивов и фигуративность высказывания. Эти характеристики можно назвать внутренними, в отличие от внешних, которыми можно считать рифмовку, фонетические переклички и куплетную или катренную форму. Эти два аспекта достаточно независимы друг от друга, чтобы о них можно было говорить порознь. Дифференциации требует их неравное положение и ценность.
В контексте мышления формальной школы, лингвистической поэтики и семиотики Р. О. Якобсону удалось дать определение поэзии, почти преодолевающее указанную дихотомию. В статье «Что такое поэзия?» (1933) он определил поэзию как вид речи, разыгрывающий нетождественность языковых знаков с их предметом, которая обычно скрыта функцией речи обозначать внеречевую реальность; «… помимо прямого осознания тождественности знака и объекта (А есть А1), существует необходимость в прямом осознании неадекватности этого соответствия (А не есть А1)» (Якобсон 1966: III.750). Эта формулировка позволяет увидеть то фундаментальное свойство загадки, с которого мы начали наше исследование, – зияние между описанием и разгадкой – как собственно поэтическое свойство, даже как одну из образцовых экспликаций собственно поэтической функции языка. Загадка предстает в этом свете фундаментальной метапоэтической фигурой – фигурой, задающий образец поэтической речи.
Нам все же удобно воспользоваться обозначенной выше дихотомией в определении поэтических признаков, потому что указанные два аспекта расходятся в истории загадки. Не претендуя на какую-либо полноту, попытаюсь посредством нескольких разведок дать представление об особенностях поэтики загадки в связи с ее морфологией.
А) Внутренние поэтические средства загадки
Итак, загадка располагает поэтическими средствами, независимыми от таких внешних примет, как метрическая организация и рифмовка. Загадка поэтична по своим речевым средствам, когда она говорит компактными неясными образами, взывающими к воображению. Например, C924е. У нашей невестки сорок рубашек, / А ветер подул – гузно голо. – Курица; или: T1272. Large as house, / Small as mouse, / Bitter as gall, / And sweet after all. – Pecan [tree and nut] (Просторно, как дом; мало, как мышь; горько, как желчь; и все же сладко, как мед. – Орех пекан [дерево и орех]). Мотивы, которыми изъясняется загадка, поэтичны в еще более глубоком смысле. Если мы станем рассматривать загадки в их естественном окружении, то есть в пределах данной традиции, то мы можем заметить – особенно предупрежденные Петшем, Леманном-Нитше и Тэйлором, – что едва ли не все они связаны сетью родственных отношений. Эти родственные отношения проявляются не только в повторяющихся и варьирующихся парадигмах, но и в том, что в каждой загадке есть опорные слова, которые находимы и в других загадках, неоднократно повторяются, имеют соответствия по принципам синонимии, частичной синонимии, метонимии, омонимии и антонимии. Например, матица избы может быть названа мостом, брусом, кишкой, щукой, козой, коровой, матерью, Марьей, Наташей, барыней, барышней и свекровью (С42-48). При этом матерью может быть названа не только матица, но и печь (С144), и стог сена (С1264); коровой могут быть названы и хлебы (С476); козой – нитка (С610); а коза в другом отношении может быть синонимична свинье (С615). Это обстоятельство дает право называть эти подменяющие друг друга слова мотивами и считать основными стандартными строительными блоками загадки. Это смещенный, но не условный язык: в отличие от слов общего языка у мотивов нет устойчивых значений; но они и не условны, ибо могут принимать едва ли не любые значения, которые определяются контекстом. Подобно маскам commedia dell’arte, они могут разыгрывать различные сюжеты, и, наоборот, сходные сюжеты могут разыгрываться разными масками, причем возникают модификации сообразные их особенностям. Такие игры могут осуществляться только в некотором корпусе загадок. Поэтому следует сказать, что загадка поэтична не только как отдельный текст, но как представитель традиции.
Родственные сети мотивов чрезвычайно интересны. С одной стороны, они обнаруживают сходство разных традиций, с другой же, каждая национальная или диалектальная традиция имеет своеобразные способы их обыгрывания и свой особенный запас мотивов.
Есть мотивы, которые встречаются с высокой частотностью едва ли не в любой традиции. Таковы в предметном плане дом, горница, глаз, названия плодов, в плане качеств: кривой, прямой, ёмкий, сухой, мокрый и т. д. Их особенность – участие в различных парадигмах и применимость для шифровки различных предметов.
Другое измерение, в котором возникают поэтические мотивы – это уникальное слово. Так, в русской загадке употребляются искусственные слова, которые образуются так, чтобы в контексте содержать не вполне ясные намеки. Например, С912. Две ковырки, / Две подковырки, / Один вертун, / Два войка, Третья маковка. – Кошка; С955. И стучиха, / И бречиха, / И четыре / Шумитихи, / И хохол, И махор / И змея с хохлом. – Телега, колеса, лошадь; С1241. Потату! Потаты! / Такату! Такаты! / А яички ворохом несутся. – Молотят.
Заметная странность языка загадки,[38] своеобразное стремление к частному, так сказать, приватному языку, наблюдается в традициях, сохранивших архаические черты. Так в северонемецкой загадке сохранились странные слова, не принадлежащие вразумительному репертуару языка или даже диалекта. В мекленбургской загадке зарегистрированы следующие синонимы для дождя: Polickerpolacker, Plickerdeplacker, Slickerdeslacker, Klickerklacker, Tripptrapp – все они встречаются в вариантах одного и того же текста (Воссидло 108 вар.) и, следовательно, взаимозаменимы. Не имея понятийного смысла, эти слова звучат как своего рода имена; но в отсутствие соответствующей именной традиции, они скорее являются псевдоименами. В традиции восточнославянской загадки бросается в глаза широкое употребление собственных имен из христианского фонда: маленький Данилко оказывается пуговицей, Микола – часовней в поле, Василий – льдом на реке, а Андрюха – овином (Юдин 2007). Тут зачастую обыгрывается звукообразная сторона имени. Может показаться, что приведенные немецкие называния дождя имеют ономатопоэтический характер: они в слуховом образе как бы воспроизводят игривость и повторность звуков дождя, являются звуковыми метафорами. Но вот, что мы находим для бороны: Knickerdeknacker, Rickerunracker и совсем уж удивительным образом – знакомое Polickerpolacker (В109d). Это же излюбленное слово может замещать и аиста (В171а1–2), а также и яйцо в тексте, напоминающем английского Хампти Дампти (В20d). Таким образом, предположение об ономатопоэтическом характере этих слов отпадает. Большинство этих слов рифмуется с der Acker «поле» в разных вариантах парадигмы Knickerdeknacker leep oever den acker (Кникердекнакер прыгает по полю). Но в этот же ряд входит и Tripptrapp (В108f), слово, не рифмующееся с Acker, что ставит под сомнение этот резон и требует поисков другого, более глубокого основания. Возможно, в основании словопорождения этого ряда лежит воссоздание образа энергичного и ритмического действия, точнее даже, производителя такого действия. В самом деле, как имена, так и псевдоимена антропоморфизируют подразумеваемый предмет. При этом удвоение корня дает отличительную игровую парадигму, призывающую к подражанию, повторению, дает отчетливое правило для создания своего приватного, тайного языка. Вместо удвоения корня может появляться отчетливо двукоренное слово, как: Klipperbüdel, Klisterbüdel, Klapperjack, Jickjack, Jolljapp и т. п. (В119). Замеченная нами ранее рифма на Acker, скорее всего, служит частным катализатором, передатчиком процесса, но не его основанием. Можно догадываться, что суть словопорождения в данном случае составляет наименование без наименования определенного рода действия или его производителя и, возможно, иконизация повторности и, вероятно, двусмысленности.
Организация опорных лексических элементов загадки, или мотивов, представляет собой цепочки, связанные по каким-либо функционально важным свойствам. Подобно тому, как падежные формы имени существительного или формы спряжения глагола составляют грамматические парадигмы языка, цепочки замещающих друг друга мотивов являют парадигматические ряды языка загадки. Только у загадки язык приватный, и его парадигмы не имеют установленных общезначимых ограниченных форм – каждая идет своим путем и открыта обыгрыванию всех языковых возможностей своего материала.
Поэтическая синтагматика загадки несет на себе проекции тех же средств переклички, что мотивная организация. Обратимся к такому характерному типу синтагмы в загадке как сравнение. Сравнение всегда производится по каким-либо смысловым, содержательным признакам. Но загадочное сравнение опирается на перекличку тех признаков плана выражения, которые нередко отделены изрядным расстоянием от сравниваемого содержательного признака. Так, в английской загадке для сравнения часто выбираются слова, связанные аллитеративной звуковой перекличкой в стиле (и возможно как наследие) древнегерманской поэзии: big as a barn (T1260), high as a hall (T1269a, 1277), soft as silk (T1359a), bent as a bucker и round as a ring (Т1290). Любопытно, что два последние примера приведены из одной и той же загадки, разгадка которой сообщившему ее, по его признанию, была неизвестна, что, по-видимому, говорит о более высокой валентности самого соотнесения, самого приема, чем его референциального значения.
Рядом с этим находится прием рифмового соотнесения: keen as a pin (T1340), deep as a cup (T1317, 1325b). В первом случает рифма подкрепляет сравнение. Второй отличается смысловой странностью. Созвучие скрадывает эту странность. Между тем именно такие странные случаи несут на себе черты древности. Можно даже предположить, что специальное загадочное назначение звукового соответствия между приводимыми в соответствие лексическими единицами – затушевать смысловой сдвиг. Сказать, что нечто глубоко (deep), как чаша (cup), – забавное преувеличение, которое подсказывает, что чаша в данном случае скорее всего не чаша, а заместитель чего-то другого. И действительно, продолжение загадки – All the king’s oxen / Can’t pull it up – включает эту загадку в уже знакомый нам ряд с сексуальными значениями. Таким образом, на синтагматической оси загадочной речи сближение опорных лексических элементов высказывания по образцу мотивных перекличек (что и в самом деле делает их мотивами, поскольку дает им устойчивость и повторимость) служит не только установлению приватного языкового родства, но и основой для расподобления с обычной речью и проблематизации всего высказывания.
Обратимся теперь к более сложному плану построения загадочного высказывания, основанного на смежных сравнениях. Рядом находятся два варианта загадки:
T1361b. As black as a mole, as slick as a coal. – Skillet (Черный, как крот; гладкий, как уголь. – Сковородка).
Т1361с. Black as a coal, slick as a mole. – Frying pan (Черный как уголь; гладкий, как крот. – Сковорода).
В одной загадке чернота приписана кроту, а гладкость – углю, в другой, наоборот, чернота – углю, а гладкость – кроту. Строение каждой фразы, взятой самой по себе, как будто соотносит черный предмет с гладким, но безразличие в выборе качества и предмета для нужного соответствия сближает черное с гладким – они и, действительно, не контрастны – и скорее говорит о том, что сопоставляемые качества – лишь предлог для соотнесения предметов: угля и крота – оба черны и гладки, то есть тождественны в отношении к названным качествам. Соотнесение все же имплицирует сопоставление неназванных, но интуитивно очевидных противоположных качеств этих предметов: твердости и мягкости. В итоге перед нами как бы один и тот же предмет, который предстает в двух разных состояниях, твердости и мягкости, как если бы он был двумя разными предметами. Это такая же пара противоположных состояний, как те, что разыгрываются в загадках, находимых в разных традициях, сопоставляющих сухое и мокрое, растущее и сокращающееся, кривое и прямое. Как ни странно, но законно предположение, что мотивы угля и крота относятся к одному генетическому ряду, где они связаны одновременными сходством и противоположностью, то есть являются парадигматически связанной парой мотивов.[39]
Архаическая память мотива гораздо важнее в жизни жанра загадки, чем его прямая описательная сила. Загадка проносит эту память через множество поколений, на какой-то стадии теряя отчетливое знание о первоначальном смысле и все же храня его, так сказать, в жанровом подсознании – в ауре, окружающей данный мотив и включающей перекличку с другими мотивами по смежности в контексте традиции – в виде ли сходства или противоположности. Эта память поддержана той неточностью отношений, тем «частично затемненным соответствием» (Скотт 1965: 74), которое проявляется не только с очевидностью в отношении загадки и разгадки, но и в менее заметном виде на всех уровнях соединения элементов, будь то субъект и предикат или члены сравнения в загадочном описании, – неточность отношений переносит валентность с общего смыслового знаменателя соотносимых компонентов на них самих и их традиционную смежность. Говорить о «верном соответствии» («accuracy») загадочного описания, как это делает Абрахамс (Абрахамс 1972: 188) не лишено смысла, если иметь в виду верное соответствие загадки своей традиции, которая хранится в цепочках мотивов, передаваемых и видоизменяющихся в процессе порождения новых загадок, или энигмопоэзисе. Следует оговориться, что, когда у нас идет речь о цепочках или рядах мотивов, то имеются в виду отнюдь не четко выделяемые дискретные ряды, а лишь абстрагированные в густой сети пересекающихся в разных направлениях родственных отношений. Один и тот же мотив обычно обнаруживает разные связи по разным признакам и вступает в родственные ряды по разным направлениям – первой реальностью мотивных отношений является многомерная сеть родственных связей.
Наблюдения над родственными связями мотивов в загадке, говорят о том, что столкновения мотивов и рядов тут важнее, чем выбор конкретного слова. Взаимная перекличка слов в качестве мотивов, то есть в качестве представителей рядов, к которым они принадлежат, господствует над соображениями предметной или логической точности. Слова, которыми загадка пользуется, выбираются не по признаку объективного соответствия данному предмету или по характеру отношения между данными предметами, а прежде всего по наличию в арсенале мотивов, по возможностям варьирования и сочетания последних – это повторно используемые строительные блоки, хранители той генетической памяти, которая делает загадку загадкой.
Подытожим наши наблюдения об особом характере мотивов, на которых строится загадка:
(y) В основе корпуса загадок, представляющего определенную устную традицию, лежит арсенал словесных мотивов, связанных сетью родственных отношений. Мотивы связаны поэтическими смежностями, проходящими на разных лингвистических уровнях и в разных направлениях. Пролиферация цепочек родства в энигмопоэтическом процессе может происходить как за счет трансформаций на основе смыслового или формального родства мотивов, так и в результате тенденции к использованию в различных ролях одних и тех же масок из имеющегося арсенала мотивов.
В заключение наблюдений над мотивами загадки отмечу их интимную связь с жанром. Мотивная структура в фольклоре повсеместна, но мотивный инвентарь загадки специфичен для данного жанра. Как показывают диссертация А. А. Потебни «О некоторых символах в славянской народной поэзии» (Потебня 1860) и его более поздняя объемистая работа «Объяснения малорусских и сродных народных песен» (Потебня 1883), мотивы славянской народной песни как правило не совпадают с мотивами загадки. Случаи совпадения единичны, да и те могут расходиться по смыслу; так, парный мотив ключа и замка, находимый и в загадке, в песне является символом власти (Потебня 1860: 133), то есть имеет смысл совсем не тот, что в загадке. Это обстоятельство подтверждает важное в нашем исследовании представление о том, что описательные средства загадки подчинены выражению своего особого содержания, специфичного для этого жанра.
В) Внешние поэтические свойства загадки
Легкий ритм и точная рифма, куплетная или катренная форма должны быть сравнительно молодыми приобретениями загадки, и наблюдаются они лишь в некоторых традициях. Дело выглядит так, что эти особенности возникли в европейских и производных от них колониальных культурах под воздействием иных, часто более высоких, страт культуры.[40] На этом основании ими все же не следует пренебрегать, во-первых, потому что влияние высших слоев культуры на низшие – процесс неисследимо давний и почтенный, значительная часть знакомого нам фольклора возникла таким образом, во-вторых, даже сравнительно молодые свойства, включаясь в старую традицию, нередко становятся отзывчивыми носителями и даже усилителями очень древних тенденций жанра. Именно с этой стороны мы попытаемся рассмотреть внешние поэтические свойства загадки – как зон у, гостеприимную по отношению к основополагающим тенденциям загадки, где происходит последнее разыгрывание первичных свойств.
С рифмой в этом отношении дело обстоит проще: она имеет своим предшественником перекличку мотивов, которые могли подбираться по созвучию. Сложнее дело обстоит с организацией стихового текста.
Согласно исследованиям, просуммированным А. Н. Веселовским и Р. О. Якобсоном, наиболее древняя и элементарная форма поэзии основана на грамматическом параллелизме. Двучастное высказывание, в котором грамматическая структура одной части повторена или приближенно отражена во второй, предположительно была исходной формой, артикулирующей элементарный поэтический текст. Поэтическое качество возникает там, где формальные соответствия индуцируют смысловые переклички, будь то по подобию или по противоположности. Такой способ выражения – фигуративный по существу – компактнее и богаче прямого высказывания (Веселовский [1882]; Якобсон 1966: III.98-135). Особая, осложненная форма параллелизма, отрицательный параллелизм, является излюбленным средством русской песенной традиции. Например, То не муж с женой, то не брат с сестрой – Добрый молодец с красной девицей. Смысл, возникающий в этой простой конструкции, не прост; его можно передать примерно так: добрый молодец с красной девицей – это не то, что муж с женой или брат с сестрой, но по сути они уже состоят в тех же тесных отношениях. Отрицательный параллелизм отклоняет сопоставление, чтобы тут же его утвердить в более существенном плане; параллель драматизируется отсутствием тождества, так что то, что естественно в одном случае, предстает исключительным в другом. Параллельная грамматическая форма с малым отклонением тут ответственна и за формальную гармонию, и за драматический диссонанс.
Форма загадки также представляет собой некоторую особенную разновидность отрицательного параллелизма: две составляющие загадочного описания, обычно артикулированные как два или два-и-два сопоставленные стиха, указывают на один и тот же предмет, представляя его двумя параллельными, а по существу несовместимыми способами. Параллелизм в основе загадки гораздо сложнее, чем тот, что мы наблюдали в песне, но он процвел на том же корне поэзии. Его функция – взаимодействие с синтаксической структурой.
Структура загадочного предложения подсказывает единство субъекта всего двучастного выражения, создавая впечатление, что и предикаты в каждой из частей, занимающие параллельные места, однородны, между тем как они по смыслу разнородны, определяя субъект с нетождественных точек зрения. Например, С423. Без рук, без ног – / На бабу скок. – Коромысло. Загадка эта состоит из трех предикатов: [он] без рук, и [он] без ног, / [он же] на бабу скок. Рук и ног у коромысла нет в буквальном смысле, а на бабу оно скачет в переносном; но синтаксическая структура относит все три предиката к одному и тому же подразумеваемому субъекту так, как если бы они были однородны, и тем самым затушевывает разнородность двух частей высказывания.
Функция загадочной стихотворной формы противоположна функции синтаксической организации. Если мы обратимся к элементарной стиховой форме в виде двустишия (четверостишие лишь удваивает эту структуру), то два стиха представляют собой две метрически эквивалентные единицы высказывания. Стиховая форма, таким образом, артикулирует членение высказывания на две сопоставимые части, и сопоставленность настораживает по отношению к грамматической согласованности между ними. Рифма подчеркивает сопоставленность. Так, скрытно двусмысленное выражение проблематизируется игривым, поддразнивающим образом. Одно дело сказать: Прыгает на бабу без рук и без ног, другое: Без рук, без ног – / На бабу скок – тут две части высказывания сталкиваются друг с другом. Другой пример: Идет мужик в горку / Задрамши бородку. – Крюк (ИАХ291). Стиховой псевдопараллелизм подталкивает к сопоставлению двух частей высказывания, обращая внимание на необязательность и необычность их сочетания. Таким образом стиховая форма включается как дополнительный, усиливающий фактор в старинную игру.
Другая функция стихотворной формы – мнемоническая: ритм и рифма наделяют загадку легкой запоминаемостью. Это качество не противоречит древним свойствам загадки, но, по-видимому, вызвано к жизни ослаблением сознания смысловых функций.
Эвфонические средства, в особенности аллитерация, могут служить подсказкой к разгадке. Тут как раз и появляются загадки того типа, который был приведен уже ранее: С1146. Стоит сноха, ноги развела, мир кормит – сама не ест; ответ поблизости: Соха. Или: С392. У нашей туши / Выросли уши, / А головы нет; ответ полностью подготовлен: Ушат. Английский пример: Drill a hall, drill a room; lean behind the door. – Broom (Вышколит сени, вышколит горницу; прильнет за дверью. – Метла. Т696а). Теперь мы можем увидеть эти загадки по-другому: подсказка в этих случаях усиливает функцию сокрытия, направляя внимание в сторону демонстративной разгадки, провозглашением которой дело загадки, как мы знаем, не ограничивается.
И все же опора на стиховую форму при порождении загадки создает условия для переакцентировки загадки, для забвения исходных функций и перевода ее в жанр детской забавы, как в известном случае: Два конца, / Два кольца, / Посредине гвоздик. – Ножницы (запечатленном уже у Садовникова 618). Вывод, характеризующий позднюю загадку:
(z) Стихотворная форма усиливает проблематизацию загадочного описания путем введения сопоставления там, где синтаксис стремится скрыть неоднородность двух челнов описания, и таким образом участвует в игре выражения и сокрытия. Стихотворная артикуляция загадки одновременно создает условия для поддержания генетической памяти жанра и для ее утраты.
На этом наше исследование загадки заканчивается, не исчерпав предмета.
24. Методологическая рефлексия. Глава дополнительная, предназначенная лишь для самых любознательных читателей
Загадка, разгадка да семь верст правды.
Русская народная пословица.Методологическая трудность понимания того, что такое загадка, служила важнейшим стимулом для этой работы, и я допускаю, что есть читатели, которым интересно было бы обозреть методологические особенности этого исследования в целом.
В тех исследованиях, которые мне довелось прочесть, меня удивляла крепнущая со временем уверенность, что мы знаем, что загадка такое, – остается лишь найти методологию или теорию, позволяющую ее описать в аналитической форме. Но сознание той эпохи, когда загадка возникла и жила полной жизнью, от нас далеко; как войти в него, не очевидно. И загадка предстала проблемой, которая еще не поставлена, как надлежит. Она, следовательно, проблема вдвойне: прежде, чем решать проблему загадки, неизвестно, как ее поставить. Мои попытки поставить ее обнаружили, что задача эта многомерна; приступив с одной стороны, легко попасть в тупик. Это положение может быть плодотворно, если отрефлектировать условия, порождающие тупик, установить необходимость введения другого угла зрения и предоставить арену для столкновения перспектив, открывающихся под разными углами зрения.
К этому времени мне уже было известно, что аналитическая работа с культурными феноменами часто подменяется непригодными суррогатами, в основном двух видов: 1) подбором свидетельств в пользу некоторой догадки и 2) приложением готовых аналитических средств к непонятому предмету. Подбор свидетельств может быть тенденциозным; и нет ничего более не-теоретического, чем приложение готовой теории к проблематичному предмету. В гуманитарной области познавательный статус теорий иной, чем в физико-математических науках, которым в ХХ веке стремились подражать гуманитарии.
В гуманитарной области мы имеем дело с феноменами, глубинная суть которых в их уникальности. К пониманию их по существу не подойти, исходя исключительно из какой-либо всеохватывающей теории. Разумеется, обобщающие знания нужны в любой сфере, но в гуманитарной объем сферы теоретических претензий обратно пропорционален глубине их познавательных возможностей. Каждый гуманитарный предмет открывает свою суть лишь в индивидуальном отношении к нему. Он требует выработки познавательных средств по месту, в соответствии с его единственностью.
Означает ли сказанное отрицание теоретической мысли в гуманитарной области? Нисколько. Теоретическая умудренность исследователя не только не упраздняется, но совершенно необходима. Но только ей уместно быть всегда под вопросом. Положение аналитической мысли в гуманитарной области парадоксально: она глубока, когда единственным образом соответствует данному предмету, не может быть подведена под готовую теорию. Остается ли в таких условиях место теории? Ответ на этот вопрос зависит от того, как понимать, что такое теория. Если освободить это понятие от узкого влияния победоносных сегодня образцов, то теорию можно определить как усмотрение сущностей и аналитический путь с этим сопряженный. Полагать, что теория – это определенная и достаточная совокупность фундаментальных посылок, значит мыслить ее по типу логико-математических наук. И уж совсем убого допущение, что теория – это то, что дает алгоритмы исследования. Теорию данного феномена, разумеется, следует строить в горизонте совокупности накопившихся пониманий смежных феноменов, так чтобы они способны были бросать боковой свет друг на друга, но при этом редукция к общему знаменателю и обращение к идее инварианта бесплодны. Нужны средства мышления, сопротивляющиеся редукции. Нужна дискретная и полимодальная логика. Это положение здесь не развить в достаточной степени, но я дам о нем некоторое представление в той мере, в какой его иллюстрацией может стать пояснение исследовательской установки, принятой в этой работе.
Эта установка исходит из убеждения, что размышления об особенностях феномена загадки и поиски адекватных методов анализа представляют собой одну неразрывную проблему. Методы такого анализа нельзя сформулировать a priori. Готовые концепции должны приниматься во внимание, но при этом их следует подвергать полному критическому пересмотру на пригодность в данном случае, что позволит развивать теоретическую мысль без предрассуждений и в ответ на вызов, бросаемый данным особенным предметом.
Дело было жарким летом 1981 года. Я сидел в книгохранилище библиотеки Индианского Университета в Блумингтоне в ожидании Вадима Всеволодовича Ляпунова, с которым мы в ту пору изучали морфологию русской пословицы, и читал загадки в собрании пословиц и загадок Владимира Даля. Наши занятия пословицей позволили мне по-новому читать загадку. Подойдя сзади и заглянув через плечо в мою книгу, Вадим Всеволодович сказал: «А со мной знаете какая незадача вышла? Есть у нас тут известный фольклорист О. Недавно в связи с какой-то своей работой он попросил меня послужить ему в качестве native informant в разгадывании русских загадок. Я согласился. Стали мы встречаться – он читает загадки, а я… ничего не могу угадать. И сколько мы ни бились, я не научился разгадывать загадки». Рассказ В. В. прозвучал для меня как ответ на мои собственные мысли. Стало ясно то, о чем я раньше лишь смутно догадывался, – что хорошую народную загадку разгадать и невозможно – не для того она существует.
Вскоре я узнал, что как раз в предыдущие два десятилетия, в 1960-е – 70-е гг., этнографы, один за другим, стали отмечать, что у тех народов, у которых сохранилась живая традиция загадывания загадок, она представляет собой ритуал, в котором ответы известны как загадывающей, так и разгадывающей стороне (Блэкинг 1961 и многие др.). Кроме того, аналитики наконец-то признали, что между загадкой и разгадкой существует неоднозначная связь (Скотт 1965, Маранда и Маранда 1971 и др.), но, вместо того, чтобы задуматься над этим обстоятельством, занялись вписыванием его в какую-нибудь готовую теорию. Я обнаружил еще, что о загадке известно много важных вещей, но то, что важно для одних исследователей, не принимается во внимание другими, так что в общем состояние знания о загадке напоминает jigsaw puzzle – есть осколки отдельных сведений, которые нужно собрать так, чтобы они стали сосудом знания.
Следовало собирать знания о загадке без опоры на готовую теорию и искать пути имманентного подхода к ней. В процессе таким образом обозначившегося исследования начали вырабатываться некоторые ориентиры, и по мере его продвижения стал складываться некоторый путь обретения понимания, или герменевтическая стратегия. Но достаточно прояснилась она лишь на завершающих этапах работы. И это совсем не то, что готовая теория – стратегия создавалась по месту и складывалась по мере проникновения в тайны предмета исследования. Попытаюсь выделить ее характерные особенности.
1. Эмпирическая разноголосица знаний и мнений о загадке стала приобретать для меня некоторую разумную стройность, когда она предстала не как склад знаний и мнений, а как последовательность усилий по ее изучению, как история изучения загадки, то есть когда развернулась картина второго уровня рефлексии – горизонт рассмотрения того, как загадка рассматривалась. Ясно стало, что разыскание стоит начать на этом уровне: заново пройти весь путь, пройденный исследователями загадки, разобраться в том, как они смотрели на нее; разобраться, пользуясь при этом преимуществом более позднего пришельца – дистанцией. Нужно было осуществить критическое обследование методов их работы, установить адекватность этих методов проблеме – отнюдь не единственно с целью принять или отвергнуть их результаты, но для того, чтобы установить ограничения, присущие вообще всякому методу (то, что называется критикой, die Kritik, в смысле Канта) и таким образом определить момент, где данный метод исчерпывает свою эффективность и возникает обоснованная необходимость перейти – переступить порог, выйти в другое концептуальное пространство – к другому аспекту предмета, другой перспективе наблюдения и другому методу анализа, который бы дополнил только что исчерпанный подход. Так сложился первый – отнюдь не априорный – методологический принцип этого исследования. Он дал естественную арену действия, не сконструированную умозрительно, а готовую, данную, обозначенную историей исследования.
2. Оказалось, что история исследования загадки распадается на три периода: 1) античный, 2) новый, филологический и 3) новейший, характеризующийся двояко: этнолого-антропологической наблюдательностью и гиперструктуралистическим теоретизированием. В первый период Аристотель, мастер усмотрения сущностей, дал замечательную характеристику загадки, побуждающую к размышлению. Во второй период фольклористы филологической школы имели дело с практическими, приземленными проблемами собирания и классификации и на этом пути достигли замечательных результатов. В третий период ученые стали переносить концепции структуральной лингвистики (успешные в тех областях, для которых они были выработаны) на загадку и в результате произвели горы мертвой схоластики. Ценные антропологические, или этнологические, полевые наблюдения этого периода оказались начисто оторванными от филологической традиции; а под солнцем теорий они тотчас усыхали до банальностей. На этом фоне отчетливее обозначилась ценность наследия филологической традиции. Внешне скромные ее результаты потребовалось проходить вновь и вновь в виду каждого из аспектов многомерной проблемы загадки. Это занятие я уже назвал топтанием на месте. В этом процессе, стали вырисовываться и другие принципы, которые постепенно стали выстраиваться в порядке взаимной необходимости.
3. При разборе каждого из аспектов, уже рассмотренных филологической школой, нужно было освободиться от очевидностей и предрассудков и увидеть предмет как проблему. Прежде всего нужно было освободить биномиальную форму загадки от очевидности вопросно-ответной формы, увидеть под ее прикрытием более проблематичную форму описания и отклика. А функцию загадки нужно было освободить от очевидности рационального разгадывания – тут можно было опереться на антропологические наблюдения о необходимости знания разгадки, которая является коммунальным достоянием. Эти наблюдения позволили заново усмотреть глубину аристотелева описания загадки как соединения существующего с невозможным: в нем открылся более глубокий и драматический смысл, чем тот, что предлагает идея затруднения на пути разгадывания. Соответственно, и идею рационального перехода от вопроса к ответу пришлось заменить представлением о зиянии в самом сердце загадки и таким образом перейти от очевидности к проблеме. Свежий взгляд, освобожденный от очевидностей и предрассудков, позволил пересмотреть работы Петша и Тэйлора о структуре загадки и понять в чем их успех, и в чем недосмотр, а следовательно, в каком направлении можно идти дальше.
4. Среди наиболее ранних и устойчивых тенденций исследования загадки выделились попытки определения ее как жанра, которые сразу же столкнулись с проблемой морфологии. Выделение жанра народной загадки в широкой области энигматики привело исследователей к пониманию, что и в этом аспекте загадка представляет собой проблему: народная загадка кардинально отличается от всех других форм энигматики вместе взятых, и в то же время многообразие форм в ее собственном жанровом поле не сводится к общему знаменателю – попытка установить таковой с помощью понятия изоморфизма привела гиперструктуралистов к потере уровня жанрового своеобразия. Тут оказалось полезным проследить усилия фольклористов филологической школы по выделению подлинной загадки, то есть той формы, в которой загадки больше, чем в других, которая представляет лицо жанра полноценным образом в отличие от тех, которые жанру принадлежат, но являют скорее его ослабленные формы. Принцип, возникший в виду задачи прояснения внутренней карты жанра, можно назвать принципом морфологической дискриминации в рамках семейного единства.[41]
5. Наблюдение морфологического разнообразия народной загадки и ценностного неравенства форм привело Тэйлора к мысли о том, что тут перед нами отложения истории загадки. А ту форму загадки, которая была понята как подлинная, наиболее полноценная и представительная, он увидел как свидетельство о том, какой загадка была в ее лучшую, древнейшую, так сказать, классическую пору. Отсюда стало возможным двигаться к ее реконструкции. Помехой на этом пути оказался рационализм филологической школы: убеждение, что загадка предназначена для разгадывания путем индивидуальных усилий ума. Возникла необходимость пересмотреть достигнутое филологической школой представление о морфологии загадки в свете антропологических данных о ее жизни в устной традиции, о ее Sitz im Leben. Полученное антропологами понимание разгадки как общественного достояния, передаваемого в ритуале загадывания-разгадывания, радикально меняло представление о функции описательной части загадки и, соответственно, позволяло ввести новое представление о функциональной структуре загадки в целом. Стала очевидной вызывающая избыточность сигнификации загадочного описания и возник вопрос о том, чему служат избыток и вызов. Перед нами открылась новая проблема, а с нею и новая перспектива в исследовании загадки.
6. На этой стадии складывается герменевтически важное представление. То, как загадка уклоняется от рациональности, имеет структурное выражение в особенности ее биномиальной структуры – зиянии, разделяющем/соединяющем ее члены. Зияние говорит больше, чем о затруднении: оно фиксирует принадлежность загадочного описания другому порядку смысла и организации, нежели разгадка. Следовательно, этот порядок должен быть исследован без оглядки на функцию описания по отношению к разгадке. Только тут происходит первое обнаружение уровня наблюдения, адекватного характеру предмета. Замечательным обстоятельством оказалось то, что логика фольклористического исследования привела именно к такому вынесению разгадки за скобки и осуществила новый уровень наблюдения, имея в виду отнюдь не эту задачу, а всего лишь построение классификации. Работы Петша, Леманна-Нитше и Тэйлора по упорядочению загадки показали, что загадочные описания (загадка минус разгадка) составляют отдельный мир, с ограниченным числом парадигм и мотивов, то есть пронизанный системой внутреннего избирательного родства.
7. Анализ оснований классификации Леманна-Нитше и Тэйлора показал, что область загадочных описаний пронизана еще более глубоким внутренним родством, чем эти авторы представляли себе, и это родство свидетельствует о том, что все смысловое поле загадочных описаний таит некоторое содержательное предпочтение. Характер этого предпочтения разъясняется в наблюдениях Фрэйзера о табу, во множестве сообщений этнографов и антропологов о связи загадывания загадок с предбрачными ритуалами, в наблюдениях Шкловского о фундаментальной роли остранения в народной культуре и о предпочтительном предмете остраненного представления в фольклоре и в анализе Адриановой-Перетц мотивов загадки. Во всех этих случаях исследователи подходили к загадке под разными углами, в виду разных задач, но приходили к сходным или смежным выводам. В результате загадка предстала как особого рода символическая формация – фигура выражения и сокрытия. Тут произошло второе обретение адекватного уровня рассмотрения – завершающего. Новое функционально-морфологическое представление о полноценном виде народной загадки явилось одновременно реконструкцией характера древней загадки в ее полноценную пору, ее общественной роли и психологии функционирования, что в свою очередь позволило уточнить ее феноменологическую структуру, в которой сталкиваются несводимые друг к другу модальности предметной интенции – языковая и эйдетическая. Представление о древней загадке подводит нас ближе к пониманию корней человеческой культуры, в частности, природы гротеска.
8. По мере того, как путем рефлексии второго порядка выстраивались параметры имманентного рассмотрения загадки, в этих рамках стали расширяться возможности рефлексии первого порядка, а именно, возможность анализировать феномен загадки в интеллектуальном созерцании, или умозрительном наблюдении. Так предстал перед нами ряд психологических, когнитивных и социальных особенностей функционирования загадки. В аспекте психологического функционирования восстанавливается единство загадки и разгадки – как удвоенного гротеска. Эти результаты ждут вторичной рефлексии.
Итак, герменевтическая стратегия этой работы выстраивается в процессе исследования по месту, согласно требованиям самого предмета. Она начинается полным отказом от теоретических предпосылок, но опирается не на чисто эмпирический материал, а на, так сказать, вторичный эмпирический материал, уже пронизанный мыслью – на историю изучения загадки. Тут мы получаем возможность разглядеть, как аналитическая мысль прощупывает свой предмет и насколько удачно она это делает. Установление горизонта историко-методологической рефлексии оказалось первым обретенным принципом исследования. Первая задача в этом контексте – освободить достигнутое от примеси предрассудков и тем самым проблематизировать предмет. Вторая задача – найти границы каждого подхода к данной проблеме и на каждом критическом пороге усмотреть необходимость перехода к новой проблеме и новым методам. Каждая проблема вводит загадку на имманентном основании в новую модальность рассмотрения и, соответственно, в сферы причастных научных дисциплин – лингвистики, логики, феноменологии, психологии, социологии, антропологии, теории культуры. Важно, что на этом пути загадка входит в каждую из этих сфер на своих собственных условиях, не формуется готовыми теориями, а вносит свой уникальный вклад. Решающий момент исследования наступает тогда, когда постигается уровень наблюдения, специфический и адекватный для данного предмета. Это обретение уровня наблюдения адекватного предмету я считаю главным событием герменевтического процесса. В сложных функциональных системах адекватным является высший уровень, на котором просматривается их функциональное единство. Этот уровень дает основание интеграции многомерного, или полимодального, представления о предмете. То есть основание достигается в конце пути.
25. Финальные замечания о незавершенности этой работы
Народная загадка, один из самых малых, так называемых элементарных, жанров фольклора, оказалась при внимательном рассмотрении сложным явлением. На этих страницах была сделана попытка выяснить фигуративный строй загадки и признаки ее классического, полнозначного состояния, названные здесь ее генетическим кодом. То состояние, в котором загадка была найдена как в модерных обществах, так и в примитивных, явно не соответствует ни тому состоянию, в котором она возникла, ни тому, в котором она была в пору своего расцвета. Классика загадки – это ее архаика, утраченная древность, пора цветения. И все же отдельные классические ее черты сохранились в некоторых зарегистрированных традициях. Сохранились они зачастую отраженными в вырожденных формах и вперемежку с поздними чертами. Проделанная реконструкция классической народной загадки позволяет увидеть в ней один из древнейших и фундаментальных жанров культуры. Возможно, загадка проливает свет на самые корни культуры, дает нам нить Ариадны, ведущую туда, к началу культурной жизни человека. Обнаружение культурных, психологических и философских следствий этой реконструкции – дело будущего.[42]
Народная культура отличается тем, что не стремится быть непротиворечивой; любое утверждение в ней легко сосуществует со своей противоположностью, выраженной теми же или сходными средствами. Насчет пословицы, смежного загадке минимального жанра, замечено было, что если одна утверждает что-либо в форме всеобщей истины, то следует ожидать, что в той же самой культуре, либо уж во всяком случае в другой, найдется иная, утверждающая прямо противоположное: «Если одни из них говорят, что новое лучше старого (как, например, афоризм “Жена да циновка чем свежее, тем лучше”), то другие, напротив, утверждает, что старое лучше нового (“Жена да кастрюля чем старее, тем лучше”)» (Пермяков 1968: 34; оба примера японские). Если русская пословица утверждает: Под лежач камень вода не течет, то английская отвечает: A rolling stone gathers no moss (Катящийся камень не соберет мха – собирание мха здесь имеет положительный смысл). Краеугольный камень загадки – табу, отказ от называния некоторого предмета; в этом отношении двойником и противоположностью загадки является русский мат и его повсеместные эквиваленты в других культурах, чья откровенная цель – обнародовать табуированное, доведя его до высшей степени очевидного гротеска.[43] Эта универсальная культурная оппозиция проливает свет на то, как глубоко в человеческой психике заложено напряжение между сексуальностью и оральностью, речевым выражением. Изучение этого обстоятельства должно быть плодотворно для психологии, философии, эстетики.
В дальнейших исследованиях загадки полное внимание должно быть уделено ее словесной материи. Можно сказать, что каждое слово языка представляет собой некоторого рода загадку, так как помимо своих употребительных значений, каждое слово либо хранит другое значение в своей внутренней форме (как «спаси Бог» в спасибо), либо забыло свои прежние значения, которые, иногда могут быть реконструированы этимологами. Судьба едва ли не каждого слова – быть погасшим символом, значение которого имеет историю, так что помимо ходового значения оно таит в эклипсе другое(ие). Искусство слова – в отличие от риторики – заключается в умении пробудить дремлющую глубину слова. Загадка на основе этого кардинального свойства языка создает особую и преднамеренную культуру выражения. Антрополог Роджер Д. Абрахамс заметил, что загадки в их древней форме функционирования «употребляются как приемы, благодаря которым молодежь обучается способности слова к независимости и контролю над словом» (Абрахамс 1972: 188). Изучение родства лексических мотивов загадки и условий их повторного появления, эквивалентности, трансформации, переклички даст представление о загадке как области творческих процессов, проливающих свет на связь языка и культуры.
Большой неисследованной областью является сравнительное изучение традиций загадки в разных культурах. Накопившийся материал из всех частей света огромен. Будущее сравнительное изучение загадки либо углубит проделанную на этих страницах работу, либо сузит значимость ее результатов. Как бы там ни было, но сравнительная работа не может обойтись без учета и пересмотра выдвинутых на этих страницах функционально-морфологических представлений.
Поэтическая природа народной загадки должна быть рассмотрена и в широком культурном плане. Двойственность смыслов загадки, как в целом, так и на уровне отдельных мотивов имеет аналоги в священной поэзии древней Индии. Ведические гимны имеют двойное значение: священное и обыденное. Ригведа говорит о священных именах, которые являются тайной. Поэт Ригведы владеет тайными словами. Начало 61-го гимна 8-й мандалы в Ригведе называет свою речь двойной. «Парафразы, или кеннинги, являются, в самом деле, главными инструментами тайного священного языка» (Гинцер и Гинцер 2000: 159; см. также всю ч. 2, где эта мысль нюансирована и сопровождается обзором литературы). Тут уместно предостережение: вписать народную загадку в эту традицию слишком легко, чтобы этот взгляд можно было принять без сомнений. Рассмотрение народной загадки в этом ряду представляет скорее проблему, чем объяснение.[44]
Проделанный анализ загадки позволяет бросить свежий взгляд на заглохшие проблемы психоанализа с точки зрения морфологии феноменов в его поле. Полезным должно быть рассмотрение типологического различия тропов и фигур в психоанализе, поэтике и риторике.
Наконец, не исключена возможность увидеть в загадке архетип, или даже зерно, всякого развитого художественного текста. Если морфология сказки по Проппу проливает свет на повествовательные жанры вплоть до современного романа, то не меньшего можно ожидать от морфологии загадки по отношению к художественной литературе как искусству фигуративной организации смысла. Центральное для этой морфологии понятие фигуры сокрытия позволяет по-новому взглянуть на то, что иногда упоминается как художественная глубина.
Я надеюсь, что читатель, проделавший путь по страницам этой небольшой книги, мог заметить, что моя манера изложения не опирается на железобетонный теоретический фундамент и не претендует на бесспорную истинность. Эта работа стремится предоставить тому, кто готов совместно проделать путь, возможность увидеть народную загадку освобожденной от накопившихся предрассудков и рассмотреть каждый шаг, к этому видению ведущий. Вместо пропускания эмпирического материала через мясорубку Авторитетной Теории, здесь рассмотрен большой корпус исследований, посвященных загадке, чтобы она была увидена глазами тех, кто в нее вникал, так, чтобы их ви́дение можно было оценить и выстроить перспективу, в которой наши знания не замыкались бы в мнимой самодостаточности, а можно было бы продолжить исследовательский путь.
Приложение: Генетический код загадки
Под именем генетического кода предлагается определение народной загадки, не поддающееся какой-либо компактной формулировке:
(a) Народная загадка из устной традиции выделяется среди форм энигматики тем, что предлагаемое ею метафорическое описание скрывает два логически разнородных компонента – действительно существующее в сочетании с совершенно невозможным (принцип Аристотеля), то есть в самом сердце ее содержится смысловое зияние. Таким образом, то, что представляется метафорой загадки, – не вполне метафора. (С. 39)
(b) Формально народная загадка представляет собой бином, состоящий из фигурального описания некоторого предмета и простой и краткой разгадки. Форма эта обманчива, так как описание – не вполне описание: оно столько же затемняет предмет, сколько описывает его. Вывести разгадку из описания как правило едва ли возможно, потому что отношение описания к его разгадке не один-к-одному; каждое описание по крайней мере потенциально допускает ряд разгадок. Так что и разгадка – не вполне разгадка. Между двумя членами биномиальной формы загадки пролегает смысловое зияние. Народная загадка существует на краю рациональности. (С. 39)
(c) Народная загадка в естественных условиях загадывания-разгадывания не предназначена для разгадывания посредством индивидуальной остроты ума; разгадка представляет собой общинную собственность ; обе стороны, участвующие в ритуале, загадывающая и разгадывающая, либо владеют и вопросом и ответом, либо находятся в процессе передачи этого знания от одной стороны другой. (С. 43)
(d) Некоторые народные загадки являются в большей мере загадками, чем другие. Жанр народной загадки определяется не каждым своим образцом, а своим образцовым видом. Область народной загадки морфологически не гомогенна: она состоит из множества форм, среди которых только образцовая загадка вполне отвечает потенциальной полноте условий жанра. Только образцовая загадка представляет жанр, остальные формы входят в него на правах родства с образцовым видом. (С. 53)
(e) Инконгруэнтность, внутренняя конфликтность загадочного описания заключается в том, что в нем соединены фигуративное и буквальное описание загаданного предмета, причем неприметный, бесшовный способ соединения сбивает с толку. (Принцип Тэйлора.) (С. 66)
(f) Подлинная загадка, структурно наиболее сложная форма среди сохранившихся народных загадок, должна быть признана родоначальницей дошедших до нас форм, тогда как остальные формы должны считаться более поздними пришельцами и продуктами ее упрощения. (С. 79)
(g) Всю область народной загадки пронизывает компактная система морфологического родства, уподобляющая данный жанр биологическому роду, в котором виды указывают на общее происхождение и морфологическую сопоставимость. (С. 94)
(h) Инструментальные, метафорические предметы загадочного описания образуют некоторую особенную область, пронизанную ограниченными структурно-смысловыми закономерностями, что отличает ее от открытой области предметов разгадки. (С. 94)
(i) Загадочное описание имеет особый смысл существования, не сводимый к его направленности на разгадку. Загадочные описания пользуются в качестве своего инструментария ограниченным кругом смысловых предпочтений, которые включены в компактную систему морфологического родства, пронизывающую всю область загадки. (C. 98)
(k) Народная загадка классического, то есть древнего полнозначного, типа направлена на две различные цели: очевидную и неочевидную, манифестируемую и латентную, произносимую и молчаливую, просто иносказательную и табуированную. (C. 108)
(l) Ряд зияний, конституирующих загадку [тезисы (a) и (b)], дополняется зиянием между манифестируемой и латентной целями при том, что обе они представляют направленности одного и того же текста. Тогда как манифестируемая цель (разгадка) берется из открытого и неограниченного смыслового универса и допускает варианты, то есть представляет собой переменную по отношению к загадочному описанию, латентная цель относится к привилегированной стабильной, узкой, закрытой смысловой области. (C. 108)
(m) Манифестируемая цель, или регистрируемая разгадка, будучи ответом на иносказание загадочного описания, служит иносказанием по отношению к предмету латентной цели того же описания, или эвфемистическим замещением этого табуированного предмета, которое позволяет последнему оставаться неназванным. (C. 109)
(n) Функциональный строй загадки классического типа представляет собой своего рода фигуру сокрытия, или троп, одновременно служащий делу выражения и сокрытия, выражения посредством сокрытия и сокрытия посредством выражения. (C. 109)
(o) Сексуальная тематика не просто присуща народной загадке, а дает основание самому жанру, поскольку является причиной запрета называния. Без окольного выражения она не имела бы никакой реальности. Самый жанр загадки объясняется как необходимая форма представительства сексуальной темы в культуре. (С. 121)
(p) Эвфемистическая манера речи, соблюдение табу являются культурным условием воспитания и проверки умственной половой зрелости. (C. 125)
(q) Социальная функция загадки – служить культивированию и проверке умственной половой зрелости на пути к браку дает единственное объяснение взаимной необходимости таких ее фундаментальных свойств, как избыток сигнификации, морфология в качестве фигуры сокрытия и связанность выразительных средств единой компактной смысловой областью. (C. 1256)
(r) Функционально-морфологическая дифференциация подлинной загадки на три типа: нормальную (с полным соблюдением функции сокрытия), озорную (с настойчивым намеком на нормально скрываемый предмет и невинной разгадкой) и о беременности (где различие нормально скрытого и объявленного содержания нейтрализовано), – является средством воспитания готовности различать присутствие сексуального содержания, служит поддержанию установки на это содержание и, таким образом, программирует выработку компетенции в разгадывании загадки. Так дидактическая функция принимает участие в морфологической артикуляции загадки. (C. 133)
(s) Народная загадка принадлежит особой культуре веселой ритуализованной игры, в которой обретается жизненно необходимое знание. Она проводит испытуемого между смешным и постыдным. Личная вовлеченность обеспечена в этой игре поддразниванием, а выход обеспечен коллективной мудростью. Веселье здесь оправдывает затруднения и испытание, которым подвергается участник в процессе обучения. При этом смех может выполнять три разные функции: 1) подбадривания в процессе загадывания загадки, 2) подтверждения преодоленной трудности (совместный смех загадывающих и испытуемого) и 3) насмешки над провалившимся. (C. 134)
(t) Тогда как предмет демонстративной разгадки получает оглашаемую словесную форму выражения, латентный предмет остается под завесой табу не только потому, что его имя запрещено, но и потому, в первую очередь, что суть этого образа в его образности. Это не просто придержанное знание, а знание эйдетическое, словесно же не передаваемое лучше, чем это делает загадка. (C. 145)
(u) Остраненная форма сексуальной образности представляет универсальную установку культуры по отношению к сексуальным предметам. Порождающая эффект остранения гротескная, алогическая модальность смысла с зиянием посредине представляет ту двойную спираль, то семя, из которого процвела загадка. И наоборот, загадка – это образцовая культура репрезентации сексуальных предметов. Загадка как выразительное высказывание получает новую характеристику: ее два значения, манифестируемое и латентное, по сути представляют собой единое двойное значение, гротескно раздвоенное и необходимо единое. Это своеобразный гротеск в квадрате; его многомерная структура соединяет метафорическое описание с буквальным и образ табуированного предмета с его несобственным и пародийным именем. (C. 145)
(v) Ядро жанра загадки и семинальную страту в устной традиции составляет классическая, то есть полноценная древняя, загадка, определимая как фигура сокрытия с двойным значением – латентным и манифестируемым. Следующую страту составляет загадка, отвечающая тэйлоровым критериям подлинной загадки, то есть соединяющая метафорическое описание с буквальным в фигуре затемнения, но утратившая функцию сокрытия. Третью страту составляет загадка с упрощенной структурой: двучленным буквальным описанием или даже с одночленным, метафорическим или буквальным. Во второй и третьей страте как правило сохраняются материальные следы родства с архетипической классической загадкой, от которой данная вырожденная отклонилась. (C. 156)
(x) Древняя классическая загадка должна отвечать следующим признакам: 1) быть причастной к табуированному сексуальному содержанию в его архетипических гротескных конфигурациях; 2) выражать его в форме фигуры сокрытия с двойной разгадкой, произносимой и непроизносимой; 3) соединять в своем описании метафорическое и буквальное изображения; 4) использовать рекуррентные мотивы устной традиции; 5) называть в декларируемой разгадке предмет, пародийно сходный с латентным предметом и тем самым завершать гротеск на уровне второго порядка. (С. 156)
(y) В основе корпуса загадок, представляющего определенную устную традицию, лежит арсенал словесных мотивов, связанных сетью родственных отношений. Мотивы связаны поэтическими смежностями, проходящими на разных лингвистических уровнях и в разных направлениях. Пролиферация цепочек родства в энигмопоэтическом процессе может происходить как за счет трансформаций на основе смыслового или формального родства мотивов, так и в результате тенденции к использованию в различных ролях одних и тех же масок из имеющегося арсенала мотивов. (C. 173-4)
(z) Стихотворная форма усиливает проблематизацию загадочного описания путем введения сопоставления там, где синтаксис стремится скрыть неоднородность двух челнов описания, и таким образом участвует в игре выражения и сокрытия. Стихотворная артикуляция загадки одновременно создает условия для поддержания генетической памяти жанра и для ее утраты. (C. 177)
Сокращения (Часто цитируемые сборники загадок)
В – Воссидло 1897.
Р – Рыбникова 1932.
С – Садовников 1876.
Т – Тэйлор 1951.
ИАХ – Худяков 1861.
Библиография[45]
Аарне
1918 – Aarne, Antti. Fergleichende Rätselforshungen. // FF Communications, 26–28 (1918-20).
Абрахамс
1972 – Abrahams, Roger D. “The Literary Study of the Riddle” // Texas Studies in Literature and Language, 14 (1972). Сс. 177-97.
Адрианова-Перетц
1935 – Адрианова-Перетц, В. «Символика сновидений Фрейда в свете русских загадок» // Академику Н.Я. Марру. М.: АНСССР. Сс. 497–505.
Аникин
1959 – Аникин, В. П. «Д. Н. Садовников и его сборник загадок». // Д. Н. Садовников, Загадки русского народа. М.: Изд. МГУ. Сс. 3-30.
Античные риторики
1978 – Античные риторики. / А. А. Тахо-Годи, ред. М.: Изд-во Московского Университета.
Аристотель
1957 – Аристотель. Поэтика. М.: ГИХЛ.
1978 – Аристотель. Риторика. // Античные риторики. Сс. 15-125.
2002 – Аристотель. Метафизика. СПб.: Алетейя.
Афанасьев
1997 – Афанасьев, А. Н. Народные русские сказки не для печати, заветные пословицы и поговорки, собранные А. Н. Афанасьевым. 1857–1862. М.: Ладомир.
Афиней
1961 – Athenaeus, The Deipnosophists, in 7 vv. London: Harvard UP, 1961–1980.
Андре
1986 – Andree, Richard. Braunschweiger Volkskunde. Braunschweig: Friedrich Vieweg und Sohn.
Блэкинг
1961 – Blacking, John. “The Social Value of Venda Riddles” // African Studies, v. 20, no. 1 (1961). Сс. 1-32.
Бремон
1964 – Bremond, Claude. «Le Message narratif» // Communications, 4 (1964). Сс. 4-32.
Буслаев 1861 – Буслаев, Ф. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. В 2-х тт. С.-Петербург: Издание Д. Е. Кожанчикова.
Бхагват
1965 – Bhagwat, Durga. The Riddle in Indian Life Lore and Literature. Bombay: Popular Praskashan.
Вамбери
[1885] – Vámbéry, Hermann. Das Türkenvolk in seinen ethnologischen und ethnographischen Beziehungen. Osnabrück: Biblio Verlag, 1970. (Reprint of the 1885 Leipzig edition.)
Веселовский
[1882] – Веселовский, А. Н. Историческая поэтика. Л.: Художественная литература, 1940. («Лекции по истории лирики и драмы»: 398–445.)
Виртанен
1977 – Virtanen, Leea et al. Arvoitukset. Finnish Riddles. Finnish Literature Society.
1977a – Virtanen, Leea. “The Collecting and Study of Riddles in Finland.” // Virtanen 1977. Сс. 51-7.
1977b – Virtanen, Leea. “On the Function of Riddles.” // Virtanen 1977: 77–90.
Выготский
[1934] – Выготский, Л. С.. Собрание сочинений в 6 тт., М.: Педагогика, 1982–1984. (Мышление и речь. Т. 2, сс. 53–61.)
Воссидло
1897 – Wossidlo, Richard. Mecklenburgische Volksüberlieferungen. Erster Band: Rätsel. Wismar: Der Verein für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde.
Гаулет
1966 —Gowlett, D. F. “Some Lozi Riddles and TongueTwisters Annotated and Analysed.” // African Studies, 25 (1966). Сс. 139-58.
Гринцер и Гринцер
2000 – Гринцер, Н. П., Гринцер П. А. Становление литературной теории в древней Греции и Индии. М.: РГГУ/РАН.
Гункель
[1906] – Gunkel, Hermann. Die israelitische Literatur. Stuttgart: B. G. Teubner, 1963. (1-е изд.: Leipzig 1906.)
1917 – Gunkel, Hermann. Das Märchen im Alten Testament. Tübingen: Mohr.
Еремина
1991 – Еремина, В. И. Ритуал и фольклор. Л.: Наука.
Жорж и Дандес
1963 – Georges, Robert A. and Alan Dundes. “Toward a Structural Definition of a Riddle.” // Journal of American Folklore, 76 (1963). Сс. 111-18.
Зеленин
1929 – Зеленин, Д. К. «Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Ч. 1. Запреты на охоте и иных промыслах». // Сборник Музея антропологии и этнографии, т. 8. Л. (1929). Сс. 1-151.
1930 – Зеленин, Д. К. «Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Ч. 1. Запреты в домашней жизни». // Сборник Музея антропологии и этнографии, т. 9. Л. (1930). Сс. 1-166.
Исследования
1994, 1999 – Исследования в области балто-славянский культуры. Загадка как текст. М.: Индрик, Т. 1, 1994; т. 2, 1999.
Иттман
1934 – Ittman, J. “Kundu Rätsel” // Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen. Berlin: Walter de Gruyter. Jahrgang 37 (1934). Сс. 162–184.
Йегер
1892 – Jaeger, Martin. “Assyrische Rätsel und Spruchwörter” // Beiträge zur Assyriologie und vergleichenden semitischen Sprachwissenschaft, Bd. 2., Hf 2. (1892). Сс. 274–305.
Йоллес
1930 – Jolles, André. Einfache Formen: Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus, Memorabile Märchen, Witz. Halle a. S., (Forschungsinstitut für Neuere Philologie Leipzig: Neugermanistische Abteilung; 2).
Кайвола-Брегенхей
1977–Annikki Kaivola-Bregenhøj, “Means of riddle expression” // Virtanen 1977. Сс. 58–76.
Кларк
1967 – Clarke, Kenneth W. “Griffrätsel at Home and Abroad.” // Western Folklore, v.26, no. 2 (1967). Сс. 119-21.
Кэрролл
1991 —Carroll, Lewis. Sylvia and Bruno, San Francisco: Mercury House.
Левин
1973 – Левин, Ю. И. «Семантическая структура русской загадки» // Труды по знаковым системам VI, Тарту. Сс. 166-90.
1978 – Левин, Ю. И. «Семантическая структура загадки» // Паремиологический сборник 1978. Сс. 283–314.
Леманн-Нитше
1911 – Lehmann-Nitsche, Robert. Adivinanzas Rioplatenses. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata.
1914 – Lehmann-Nitsche, Robert. “Zur Volkskunde Argentiniens, 1. Volksrätsel aus dem La Plata Gebiete.” // Zeitschrift der Vereins für Volkskunde, 24 (1914). Сс. 240-55.
Либер
1976 – Lieber, Michael D. “Riddles, Cultural Categories, and World View.” // Journal of American Folklore, v. 89, no. 352 (1976). Сс. 255-65.
Либерман
1985 – Liberman, Anatoly. “Between Myth and the Wondertale.” // Andrej Kodjak et al. (eds.). Myth in Literature. New York University Slavic Papers V. Columbus, Ohio: Slavica Publishers, Inc. Сс. 9-18.
Литтман
1938 – Littman, Enno. “Tigriña Rätsel” // Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Leipzig: Brockhaus. Bd. 92 (1938). 611–632.
Лич
1954 – Leach, Edmund R. Political Systems of Highland Burma. Cambridge: Harvard UP.
Лоуб
1950 – Loeb, E. M. “Courtship and the Love Song.” // Anthropos, 45 (1950). Сс. 821-51.
Майер
1898 – Meyer, Elard Hugo. Deutsche Volkskunde. Strassburg: K.J. Trübner.
Майнерс
1781 – Meiners, Christoph. Geschichte der Ursprungs, Fortgangs und Verfalls der Wissentschaften in Griechenland und Rom. 2 Bde. Lemgo: Meyer, 1781-82.
Мануэль
1955 – Manuel, E. Arsenio. “Notes on Philippine Folk Literature.” // University of Manila Journal of East Asiatic Studies, 4 (1955). Сс. 137-53.
Маранда
1971 – Maranda, Elli Köngäs. “The Logic of Riddles.” // Maranda & Maranda 1971. Сс. 189–234.
1971а – Maranda, Elli Köngäs. “Theory and Practice of Riddle Analysis.” // Journal of American Folklore, 84 (1971). Сс. 51–61.
1976 – Maranda, Elli Köngäs. “Riddles and Riddling.” // Journal of American Folklore, v. 89, no. 352, (1976). Сс. 127-38.
Маранда и Маранда
1971 – Maranda, Pierre and Elli Köngäs Mranda. Structural Analysis of Oral Tradition. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
1971a – Maranda, Pierre and Elli Köngäs Mranda. Structural Models in Folklore and Transformational Analysis. The Hague: Mouton.
Мейерхольд
1968 – Мейерхольд, В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. 2 тт. М.: Искусство.
Мессенджер
1960 – Messenger, John C. “Anang ProverbRiddles” // Journal of American Folklore, 73 (1960). Сс. 225-35.
Митрофанова
1968 – Митрофанова, В. В., ред. Загадки. Л.: Наука.
Новакович
1877 – Новаковиħ, Стоjан. Српске народне загонетке. Београд и Панчево: В. Валожиħ, Б. Jовановиħ.
Олерт
1886 – Ohlert, Konrad. Raetsel und Gesellschaftsspiele der Alten Griechen. Berlin: Meyer und Mueller.
Паремиологический сборник
1978 – Паремиологический сборник. М.: Наука.
Паремиологические исследования
1984 – Паремиологические исследования. М.: Наука.
Парис
1877 – Paris, Gaston. “Préface.” // Rolland 1877: V–XII.
Парос
1984 – Paros, Lawrence. The Erotic Tongue. Seattle: Madrona Publishers.
Пермяков
1968 – Пермяков, Г. П. Избранные пословицы и поговорки народов Востока. М.: Наука, 1968.
Петш
1899 – Petsch, Robert. Neue Beiträge zur Kenntnis des Volksrätsels. Berlin: Meyer & Müller.
Потебня
1860 – Потебня, А. О некоторых символах в славянской народной поэзии. Харьков: в Университетской Типографии.
1883 – Потебня, А. А. Объяснения малорусских и сродных народных песен. В 3-х кн. Варшава: В типогр. М. Земкевича и В. Ноаковского, 1883-87.
Пропп
1928 – Пропп, В. Я. Морфология загадки. Л.: Academia.
Редмэйн
1970 – Redmayne, Alison. “Riddles and Riddling among the Hehe of Tanzania” // Anthropos, v. 65, nos. 5/6 (1970). Сс. 794–813.
Рикёр
1970 – Ricoeur, Paul. Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation. New Haven: Yale University Press.
Роллан
1877 – Rolland, Eugène. Devinettes ou Énigmes populaires de la France. Paris: F. Vieweg.
Рыбникова
1932 – Рыбникова, М. А. Загадки. М.: Academia.
Садовников
1876 – Садовников, Д. Загадки русского народа. Сборник загадок, вопросов, притч и задач. СПб.: Н. А. Лебедев. (2-е изд. 1901, 3-е изд.: МГУ, 1959.)
Скотт
1965 – Scott, Charles T. Persian and Arabic Riddles: A Language-Centered Approach to Genre Definition. Bloomington: Indiana University Press.
1969 – Scott, Charles T. “On Defining the Riddle: The Problem of Structural Unit.” // Genre, v. 2, no. 2 (1969). Сс. 129-42.
Старр
1909 – Starr, Frederick. A Little Book of Filipino Riddles. New York: World Book Co.
Томпсон
1955 – Thompson, Stith. MotifIndex of Folk-Literature. Revised and enlarged edition. In 6 vv. Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1955-58.
Тэйлор
1943 – Taylor, Archer. “The Riddle.” // Western Folklore, 2 (1943). Сс. 129-47.
1949 – Taylor, Archer. “The Varieties of Riddles.” // Philologica: The Malone Anniversary Studies, Kirby, T.A. and H.R. Woolf, eds. Baltimore: Johns Hopkins Press. Сс. 1–8.
1951 – Taylor, Archer. English Riddle from Oral Tradition. Berkeley: University of California Press.
Флёгель
1788 – Flögel, KarlFriedrich. Geschichte des Grotesquekomischen: Ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit. Leigzig: David Siegert.
Фрейденберг
1973 – Фрейденберг, О. М. «Происхождение литературной интриги» // Труды по знаковым системам VI, Тарту. Сс. 497–512.
1997 – Фрейденберг, О. М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт.
Фройд
[1905] – Фрейд, Зигмунд. Остроумие и его отношение к бессознательному. СПб.: Алетейя, 1998. (1-е изд. 1905.)
[1917] – Фрейд, Зигмунд. Введение в психоанализ. СПб.: Азбука-Классика, 2004. (1-е изд. 1917.)
Фрэйзер
1911 – Frazer, James George. The Golden Bough. 3rd ed. In 12 vv. London:
Macmillan, 1911-15.
Хамнетт
1967 – Hamnett, Ian. “Ambiguity, Classification and Change: The Function of Riddles” // Man, v. 2, no. 1 (1967). Сс. 379-92.
Харт
1964 – Hart, Don V. Riddles in Filipino Folklore: An Anthropological Analysis. Syracuse: Syracuse University Press.
Хойзинга
[1938] – Johan Huizinga. Homo Ludens: A Study of the lay Element in Culture. New York: J. & J. Harper, 1970. (1-е изд. 1938.)
Худяков
1861 – Худяков, И. А. Великорусская загадка. М.: Типогр. Грачева и Коми.
Хэйринг
1974 – Haring, Lee. “On Knowing the Answer.” // Journal of American Folklore, v. 87, no. 345 (1974). Сс. 197–207.
Цивьян
1994 – Цивьян, Т.В. «Отгадка в загадке: разгадка загадки?» // Исследования 1994. Сс. 178-94.
Шапера
1932–Schapera, I. “Kxatla Riddles and Their Significance” // Bantu Studies, 6 (1932). Сс. 215-31.
Шейн
1900 – Шейн, П. В. Великорусс в своих песнях, верованиях, сказках и т. п. СПБ.: Императорская Академия Наук.
Шкловский
1983 – Шкловский, Виктор. О теории прозы. М.: Советский писатель.
Штернберг
1926 – Штернберг, Л.Я. «Современная этнология. Новейшие успехи, научные течения и методы» // Этнография, № 1–2 (1926). Сс. 15–44.
Шульц
1912 – Schultz, Wolfgang. Rätsel aus dem hellenischen Kulturkreise. Leipzig: J.C. Hinrichs.
Эванс
1976 – Evans, David. “Riddling and the Structure of Context.” // Journal of American Folklore, 89, no. 352 (1976). Сс. 166-88.
Элерс
1865 – Ehlers, J. SchleswigHolsteensch Rätselbok mit 500 lustige Rätsels. Kiel: Schwers.
Юдин
2006 – Юдин, А. В. Ономастикон восточнославянских загадок. М.: ОГИ.
Якобсон
1966 – Jakobson, Roman. Selected Writings. The Hague: Mouton. V. II (1971): Word and Language. (“Two aspects of Language and Two Types of Aphasic Impairments”: 239-59.); v. III (1981): Poetry of Grammar and Grammar of Poetry (“Linguistics and Poetics”: 18–51; “Grammatical Parallelism and Its Russian Facet”: 98-135? “What is Poetry?”: 740–750.).
Примечания
1
Множество таких интеллектуальных загадок (больше, чем в любом трактате нового времени по энигматике), которыми развлекались на пирах мудрецы и поэты древней Греции, приведено у Афинея Наукратского (II в. РХ) в «Пирах мудрых» (Αθήναιος Ναυκράτιоς, «Δειπνοσοφισταί»: х.448–459, [Афиней 1961: 4.531–583]).
(обратно)2
Попытка общей теории элементарных форм литературы: Йоллес 1930.
(обратно)3
Число разноязычных собраний, из которых Тэйлор черпает параллели, превышает тысячу; они охватывают примерно две с половиной сотни языков и диалектов.
(обратно)4
Специально загадке в античности был посвящен трактат Клеарха из Сали «Περὶ γρίφον», не дошедший до нас (упоминает Афиней 1961: 4.531 [х.448с]).
(обратно)5
Подчеркиваю: ценность структуральной лингвистики на этих страницах не ставится под сомнение – речь идет о ее гипертрофии, которая, по-видимому, отражает общую тенденцию культуры, всегда готовой приостановить понимание в пользу манипулятивных процедур, подтвердивших свою практическую успешность. Читатель увидит, что автор не чужд ни лингвистической поэтике, ни семиотике, дисциплинам, возникшим на основе структуральной лингвистики, но он не дает им власти над собой.
(обратно)6
Картина поразительного отсутствия связи с предшествующей традицией открывается в таких представительных структуралистических собраниях исследований загадки, как Journal of American Folklore, v. 89, no. 352 (1976), Паремиологический сборник 1978, Паремиологические исследования 1984, Исследования 1994 и 1999.
(обратно)7
Статья Жоржа и Дандеса – не рядовая среди многочисленных структуралистических работ о загадке, она получила большой отклик и до сих пор является авторитетной, на ее выводы принято полагаться.
(обратно)8
Лучшие известные мне размышления о выборе адекватного уровня анализа сложных функциональных систем находятся в книге Л. С. Выготского «Мышление и речь» (Выготский [1934]). Они должны войти в золотой фонд научной герменевтики.
(обратно)9
Можно попутно отметить, что в художественных текстах смысл непременно отклоняется от логической предсказуемости.
(обратно)10
К. Пайка принято противопоставлять Н. Чомскому, но их объединяет логический редукционизм.
(обратно)11
Положение осложнено тем, что феноменологическая философия, сопряженная с герменевтикой и давшая импульс фонологии, классической структурально-лингвистической дисциплине, с самого начала в трудах Эдмунда Гуссерля (Edmund Husserl) была ориентирована на проблематику логико-математического знания, а затем оказалась мистифицирована и переведена в область метафизики Мартином Хайдеггером (Martin Heidegger), так что перестала быть полезной лингвистике.
(обратно)12
Христоф Майнерс (Christoph Meiners), комментируя интеллектуальные загадки (γρίφος), которыми развлекались мудрецы и поэты в «Пирах мудрых» Афинея, отмечает, что эти загадки… – и тут, в отрицательном модусе, он дает определение загадки, которая похожа на народную, – не были: «ни неопределенными вопросами, которые самым разнообразным способом представляются верными, но лишь некоторым определенным образом могут быть разгаданы, ни описаниями, которые на первый взгляд никаким действительным предметам не соответствуют, а при ближайшем рассмотрении приложимы ко множеству предметов и все же в остатке содержат нечто неопределенное, пока не наткнешься на предмет, что подразумевался и чьи признаки приведены в некотором запутанном виде» (Майнерс 1781: I, 55). Спустя столетие Конрад Олерт (Konrad Ohlert) похожим образом, но более точно описал древний тип загадки: «В древнейшие времена нам попадаются в загадках почти только простые вопросы, на которые казалось бы можно ответить различным образом, но на самом деле нужно одним определенным образом. Во многих этих загадках признаки или свойства предметов представлены не так, чтобы путем их соединения и дополнения недостающими можно было бы найти искомое слово или предмет, но задача обозначена зачастую лишь неопределенными чертами и лишь иногда дан намек в единственном верном направлении, так что разгадка может быть найдена лишь в качестве счастливой находки, но никак не в результате целенаправленного размышления» (Олерт 1886: 111). Неполное соответствие загадочного описания разгадке разрабатывалось аналитически, как уже было отмечено, Ч. Т. Скоттом (Скотт 1965) и позднее, например: Э. Конгас-Марандой (Маранда 1971, 1971b), Ю. И. Левиным (Левин 1972, 1978) и Т. В. Цивьян (Цивьян 1994).
(обратно)13
Показательно, что два тома Исследований 1994 и 1999 носят подзаголовок: «Загадка как текст».
(обратно)14
Английское слово riddling, терминологически используемое этнологами, означает одновременно загадывание и разгадывание загадки, может означать одно из этих действий, но чаще – оба сразу, загадывание-разгадывание. Этим последним сдвоенным понятием я и буду передавать riddling.
(обратно)15
О разнородности текстов, именуемых мифами, и отсутствии общего знаменателя для концепции мифа см. Либерман 1985.
(обратно)16
The true riddle Тэйлора, по всей вероятности, перевод das wirkliche Rätsel Петша.
(обратно)17
Но может быть вся культурная реальность состоит из таких своеродных областей, каждая из которых при ближайшем рассмотрении требует особого подхода, который нельзя переносить из одной в другую, так что, пользуясь общеизвестными понятиями, нельзя рассчитывать на их известные свойства?
(обратно)18
Этой мысли Томас Манн посвятил пролог к роману «Иосиф и его братья».
(обратно)19
Особую главу в истории выяснения генетического родства загадок представляет собой работа Антти Аарне, в которой сравнительное исследование проведено по историко-географическому принципу, на основе которого и сделана попытка сформулировать «трансформационные правила» (т. о., опередившая трансформационную грамматику второй половины XX века) выведения для группы родственных загадок их исходной формы, или праформы (Urform) (Аарне 1918). В соответствии с концепцией школы, называемой исторической в фольклористике и сравнительной в литературоведении, Аарне постулировал, что в мировой культуре имеет место обширный процесс миграции загадки, сопровождающийся трансформациями исходных форм. В самом деле, загадки, варьирующие некоторую формулу, зарегистрированы как в смежных географических ареалах, независимо от языка, так и в довольно отдаленных друг от друга. Аарне исследовал восемь загадок, или, точнее сказать, восемь групп родственных загадок, и вывел их праформы. При этом он сделал ряд роковых ошибок. Он рассматривал родство загадок как по вопросу/описанию, так и по ответу/разгадке, и, соответственно, переходил как бы от варианта к варианту по сходству как на одном, так и на другом основании. Он рассматривал загадки, имеющие сходные формулы или мотивы, в качестве трансформаций одной и той же загадки. И он рассматривал загадки, имеющие одинаковую разгадку как связанные лишь переменой терминов. Он также включал в свои группы литературные загадки и их проекции в фольклоре. В результате такого отсутствия дискриминации, его трансформационные правила являются логическими фикциями. Его реконструкции праформ в качестве общего знаменателя для группы якобы родственных загадок крайне сомнительны. Логическая слаженность некоторой цепи аналитических операций не гарантирует их адекватности предмету.
(обратно)20
Аналогичный вопрос привел О. М. Фрейденберг к мысли о присутствии архаического элемента в литературах классической античности: «Бросается также в глаза, что выбор тем в античной литературе, выбор сюжетных и жанровых вариаций, как ни разнообразен на первый взгляд, все же узок…» (Фрейденберг 1997: 49).
(обратно)21
Я пользуюсь понятием телос в смысле, идущем дальше понятия функция в применении антропологов; телос здесь означает не только наблюдаемый эффект загадки и структуру процесса, ведущего к нему, но также цель, которая породила загадку в первую очередь, ее онтологический принцип, который мог быть утрачен к моменту антропологического наблюдения, но оставил следы, свидетельствующие о раннем состоянии.
(обратно)22
Лучшая сохранность загадки в развитых обществах по сравнению с примитивными – обстоятельство, казалось бы, парадоксальное. Не связано ли оно с различием культурных механизмов между устремленными к обновлению и самодостаточными примитивными обществами? Допустимо, что как раз традиции, ориентированные на развитие, обладают механизмами амортизации в отличие от примитивных. Если развитие предполагает именно развитие, а не простую замену, то именно в новаторских культурах архаические традиции способны сохранять генетическую основу. В таком случае различия зарегистрированных состояний загадки в разных традициях не противоречат возможности сходства в древнейший период. Особая проблема – культуры Китая, Японии и Кореи, где загадки, похоже, не имеют архаических черт, подобных европейским.
(обратно)23
Этого обстоятельства не учел Жак Лакан (Jacques Lacan), редуцировавший мысль Фройда к опоре на элементарные тропы.
(обратно)24
Более того: ведро или бочка – с крепким (дубовым) или непрочным дном, а также с медом (там же). Любопытно, что Потебня сопоставляет этот песенный мотив с образом русской загадки, описывающей бочку так: «Стоит голенище, В голенище суслое масло» (ИАХ 49). Отсюда же он выводит бранное слово в отношении к женщине: халява (Потебня 1883: I.9 примеч.).
(обратно)25
Большая откровенность, то есть меньшая изощренность, скорее, говорит о культурной вторичности.
(обратно)26
Садовников практически включил всего Худякова в отличие от последующих составителей собраний, претендующих на полноту.
(обратно)27
Тенденция фольклора антропоморфизировать предметы окружающего мира представляет собой особую проблему. В книге «Ономастикон восточнославянских загадок» А. В. Юдин отметил: «Одним из основных способов создания “заместительных концептов” в восточнославянских загадках является персонификация (и антропоморфизация как ее разновидность). <…> Легко персонифицируются и антропоморфизируются светила и стихии, праздники и части тела человека, разнообразные постройки, наконец, бытовые предметы, причем даже те из них, которые обычно относят к категории “неподвижных” (“неперемещающихся”), не говоря уже о “подвижных”. Основанием для этого служат широко распространенные и многократно описанные исследователям и представления об антропоморфности домашней утвари, в частности мебели, инструментов, посуды и т. д. Эти предметы представлялись изоморфными человеческому телу» (Юдин 2007: 11). С этим обстоятельством автор связывает широкое употребление человеческих имен для замещения загадываемых предметов в восточно-славянской загадке. Тут легко за лесом не увидеть деревьев, растворить особую жизнь загадки в более широкой фольклорной тенденции. Антропоморфизация является не единственным способом создания заместительных концептов: они создаются и обратным путем – путем замещения живых существ или частей тела названиями предметов, а также животных. Значительная часть ономастикона загадки состоит из топонимов (в отличие от антропонимов). Значит антропоморфизация сама по себе в отношении загадки ничего не объясняет. В конце «Ономастикона» читаем: «…мы должны констатировать, что даже обращение к одной группе заместительных номинаций [то есть к именам, – С.С.] из близких загадок действительно обнаруживает значительное единство принципов их образования с табуистическими языками» (там же: 93). Приведение антропоморфизации к табуированию важно: табу немыслимо без определенной задачи. К сожалению, автор видит суть табуистических языков в отличении «своих» от «чужих», то есть опять-таки размывает специфику загадки. Но у загадки свой табуистический язык, со своими целями, не общими; он выясняется из анализа загадки и не должен быть вносим в нее извне.
(обратно)28
Параллель: реконструируя архаический корень паллиаты (римской комедии плаща), О. М. Фрейденберг нашла, что его представляют два персонажа – εἲρων, притворщик, выдающий себя за другого, и ἀλαζών, хвастун, приписывающий себе чужое (Фрейденберг 1973: 504). Вопрос и разгадка как бы предвосхищают эти роли. Эйрон и аладзон – быть может, наиболее верные имена для составляющих бинома загадки, обычно называемых описанием и разгадкой.
(обратно)29
В фольклоре зарегистрирован мотив обращения с речью к вагине, чтобы проверить ее невинность: ответная речь свидетельствует о порочности (Томпсон 1955: D1610.6.1). Молчание самого табуированного предмета (не путать с молчанием о нем) должно быть свидетельствует об остром архаическом чувстве распределения функций между визуальностью и оральностью (устной словесностью). Следует вспомнить, что древнейшая форма письма, иероглифическая, была основана на образности, но ненатуралистического характера, – она требовала знания и искусства. Письмо и чтение были иератическими знаниями – способность сочетать образ и слово должна была пониматься как исключительная, как особый дар. Мотив говорящей/молчащей вагины, зарегистрированный в уже в новое время, должно быть, хранит архаическую память. Нетрудно себе представить, насколько просто этот мотив может быть тривиализован в современном феминистском ключе, что свидетельствует о полной нестыковке архаического сознания с рационалистическим и напоминает о необходимости археологической осторожности в реконструкции первого. Фаллическому символу в загадке, наоборот приписывается шум – выстрел (ружья) или крик (петуха), но ведь и шум – иная, нежели молчание, противоположность речи.
(обратно)30
Описываемый тип гротеска не совпадает со знаменитым описанием у М. М. Бахтина в книге о Рабле: он не направлен на переворачивание нормального порядка вещей. Более широкая и подходящая теоретическая база может быть найдена в работе основоположника теории гротеска: Флёгель 1788, а также в наиболее глубокой работе об этом предмете, книге В. Э. Мейерхольда 1912 года «О театре» (Мейерхольд 1968: I.224-29). Последний определяет гротеск как «произведение юмора, связывающего без видимой законности разнороднейшие понятия» (там же: 224-5).
(обратно)31
Сказанное об истории жанра загадки не относится к общей картине истории жанров, во всяком случае к ее основной тенденции. В высоких стратах культуры наблюдаются продолжительные восходящие линии развития жанров, прежде чем они идут под уклон. Но загадка, одна из самых древних культурных традиций, должна быть рассмотрена на своих собственных условиях.
(обратно)32
Заметим попутно: мотивы полового значения в загадке тяготеют к амбивалентности.
(обратно)33
Дисциплины, соответствующей развиваемому здесь представлению о фигуративе, не существует – слишком элементарны знания в этом направлении. Если такой дисциплине предстоит возникнуть, то она должна начаться с разграничения тропов, или фигур, в риторике и поэтике, с одной стороны, и, с другой, в поэтике и глубинной психологии.
(обратно)34
Работа Проппа дала Клоду Бремону идею построить на ее основе общую теорию нарратива (Бремон 1964), за чем последовали усилия в этом направлении многих других; аналогично любой троп может быть рассмотрен на фоне загадки как особенно богатого тропа. Я пользуюсь здесь понятием теории фигуратива для обозначения дисциплины, которой еще нет.
(обратно)35
Именно эта установка сказки и ее теории на референциальную область привела нарратологию к выходу за пределы искусства слова, не предусмотренному Проппом. Выходу куда? В логику событийности?
(обратно)36
Как, например, теория метафоры и метонимии Р. О. Якобсона («Linguistics and Poetics» // Якобсон 1966).
(обратно)37
В этой связи возникает вопрос антропологического характера: не мыслит ли человек на ранних стадиях культуры, так сказать, глубинными потенциалами своего сознания? Согласно экспликациям К. Леви-Страусса, мифологическое мышление протекает в смысловых структурах, гомологичных тем, которые были открыты Н. С. Трубецким и Р. О. Якобсоном на фонологическом, то есть на глубинном и скрытом, бессознательном уровне языка. Если это так, то развитие человеческой мысли и культуры идет в сторону большей поверхностности и, соответственно, свободы.
(обратно)38
«Загадка чаще всего не поддается прямому переводу» – заметил Вольфганг Шульц (1912: XII).
(обратно)39
Вольфганг Шульц, рассмотревший контекстуальные значения мотивов в богатой архаическими чертами мекленбургской традиции (представленной в собрании Воссидло), пришел к выводу, что взаимно связанные мотивы черный и белый восходят к сексуальному значению: черный имеет свое начало в контексте кузницы и ковки (тут место мотива угля); в ряду черного он нашел и мотив крота (Шульц 1912: гл. 5).
(обратно)40
Отчетливо влияние раешного (профессионального скоморошьего) стиха на русскую загадку.
(обратно)41
Этот принцип, вероятно, сохраняет свою силу и для изучения других жанров.
(обратно)42
Перспектива, разворачиваемая вглубь частного феномена культуры, принципиально отличается от генерализаций такого типа, какой представлен в книге Йохана Хойзинги «Homo ludens» (1938). Легко согласиться с предположением, сделанным в ней, что игра является кардинальной чертой человеческой цивилизации, но Хойзинга обратил это усмотрение в банальность, продемонстрировав свой тезис списками отобранного материала, сопровождаемого беглым обзором таких выделенных характеристик игры, как интуитивность, условные правила и агонистическая форма. Обзор примеров, подобранных к схеме, сформулированной с порога, не имеет ничего общего с анализом, зато претендует на статус работы, которую «едва ли возможно не принять». Не случайно, включив в свой обзор загадку и посвятив ей отдельную главу, Хойзинга вообще упустил народную загадку. Такой подход минует проблемы. Зато такого рода псевдоаналитические концепции обречены на успех в академической среде.
(обратно)43
Тяготение обсценного эротического языка к гротескности хорошо продемонстрирована в книге: Парос 1984.
(обратно)44
В последние десятилетия престиж приобрела противоположная позиция неомифологической школы. Авторы этой школы разрабатывают тезис «о возникновении загадки как вербализованного опыта интерпретации феноменов Макрокосмоса через антропоцентрические феномены бытия Микрокосмоса» (Исследования 1999: 5). Согласно идеям ведущего представителя этой школы, наиболее глубокое представление о происхождении загадки дает ритуальная ведийская загадка (brahmadya), построенная в вопросно-ответной форме и имеющие своим предметом Вселенную (там же: 8-53). В неоднозначности возможного ответа на народную загадку и в звуковой ее организации этот же автор видит обучение языку космологической загадки (там же: 54–80). На вопрос: почему именно космологической? – мы получаем ответ: в народной загадке есть мотивы, сходные с космологической, и она обращается с языком в каком-то отношении образом, аналогичным ведийской. Между тем народная загадка отражает весь крестьянский космос и потому в ней можно найти все, что угодно. Наличие сходства не является достаточным свидетельством генетического единства. Крыло насекомого и крыло птицы как будто аналогичны, но являются разными органами разных организмов и по происхождению своему они разнородны. Как народная загадка может хранить реликты мифологической, так и ведическая загадка могла пополняться рефлексами народной без того, чтобы одна из них была предком другой. Сведение одной к другой проблематично, и я не встречал попыток поставить проблему. Охотно пользуясь словом проблема в том смысле, что загадка ставит проблему, которую разгадывающий решает, авторы неомифологической школы не ставят проблему загадки как таковой. Они с порога знают, что загадка такое, и вся работа заключается в демонстрации исходного тезиса. Но убедительность многочисленных примеров имеет только риторический характер и не является аналитическим доказательством. Развивающиеся и богатые жанровые традиции не имеют замкнутого характера, они несут на себе рефлексы других, смежных традиций, ассимилируют их материал и инструментарий, но делают это на своих собственных условиях. Обнаружение рефлексов одной традиции в другой является скорее вопросом, чем однозначным свидетельством линейного генезиса. Гетеротрадиционные рефлексы легко обнаруживаются в каждой данной традиции, но, подобно кругам на поверхности воды от брошенного камушка, они ничего не говорят о глубине. Предпочтительнее беспредпосылочная постановка проблемы данной традиции, ее исследование, оснащенное критической проверкой опыта ее изучения, то есть рефлексией второго порядка, которая дает надежду выйти на путь имманентного анализа. Проекции узко и с порога нацеленных догадок таковым не являются.
(обратно)45
Эта библиография не отражает обширной литературы о загадке, но лишь уточняет ссылки в тексте данной книги.
(обратно)


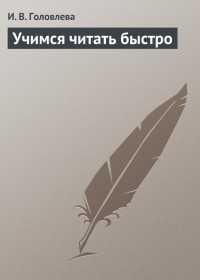




Комментарии к книге «Морфология загадки», Савелий Яковлевич Сендерович
Всего 0 комментариев