Предисловие
Эта книга – попытка рассказать о никем ранее не описанном пласте языка, который – в то же время – столетиями отмечали и видели, но старались не замечать или квалифицировать его единицы по-разному.
Почему?
Гораздо более глубоким, чем кажется, причинам этого, коренящимся не столько в языке, сколько, пожалуй, в языкознании, посвящена первая глава этой книги. «Неявный» (или все-таки явный?) смысл этой главы – обратить внимание лингвистов на асимметрические и во всяком случае не изоморфные отношения языка и языкознания как науки о языке, на не достигнутую пока возможность лингвистики отображать адекватно все проявления языка, кстати, вполне доступные для носителей языка в их перцепции и речепорождении. У первой главы есть и другая задача – обратить внимание лингвистов на их странную нелюбовь к этим элементам, то есть ввести в языкознание некий аспект саморефлексии.
Единицами этого языкового пласта являются те мелкие элементы, из которых состоит весь наш «коммуникативный фонд». Их любят называть частицами. В диахронических исследованиях любят говорить о «дейктических» частицах, как бы прячась за квалифицирующее прилагательное. Их также любят приписывать к какому-либо уже известному классу, делая из них почему-то «застывшие» его осколки.
Но все-таки, скажем, ли + бо, состоящее из двух таких элементов, не частица, а союз. Из двух таких же элементов состоит и кь + то, а это уже не союз, а местоимение. Из двух «частиц» может также складываться новая частица, например, да + же.
Что такое дейксис в глубокой диахронии, мы по сути не знаем. Поэтому в настоящей книге о дейксисе будет говориться с осторожностью.
В англоязычной литературе частицы называются particles, и по-другому их назвать нельзя. Русский язык, которому мы за это благодарны, позволяет иметь два термина: и частицы, и партикулы. Но эти партикулы – не таксономическая категория привычной языковой системы. Такой класс лингвистами не описан.
Поэтому был выбран именно этот термин: партикулы.
Какими же они бывают, если обратиться к самой приблизительной их квалификации?
Они бывают примарными, то есть функционирующими изолированно, и присоединяющимися (присоединившимися). Например, партикула а функционирует как самостоятельный союз русского языка, или как частица, или как междометие. Партикула ли функционирует как вопросительная частица в том же языке. Однако они могут присоединяться к чему-либо, например, партикула то может присоединяться к другим элементам, создавая местоимения: как определенные – не + кь + то, о + нь + то, так и вопросительные – кь + то, чь + то, или неопределенные – чь + то + то, кь + то + то и под.
В третьей главе нашей книги я постараюсь показать, как разнообразны способы склеивания и присоединения партикул друг к другу в славянском пространстве и какие классы слов (части речи) при этом возникают. Можно, таким образом, говорить о способах возникновения партикульных кластеров. Кластеры партикул обычно не очень интересны для языковедов, так как они прозрачны, их модели тяготеют к агглютинации. Однако в дальнейшем я постараюсь продемонстрировать тягчайшие таксономические трудности, возникающие при идентификации первичных партикул, от чего, в свою очередь, зависит и трактовка их кластеров. Заранее, однако, можно сказать, что чем «многоэлементнее» кластер, тем легче верифицировать его составляющие, но и тем труднее менять возможные варианты в его составе. Так, при начальном этапе верификации можно считать та и да вариантами одной партикулы. Но, например, в сочетании от + ту + да уже очевидно, что да не заменяется на та.
В истории языков (в книге в основном речь идет о славянском материале) соединения партикул как возникают, так и распадаются, выходят из употребления, переходят из литературного языка в нелитературные субдиалекты, сохраняются только в диалектах и так далее. Например, а + по, чешское ’да’, сохранилось, а русский союз и + но, как будто бы сходный по структуре, из употребления вышел. Соединения партикул напоминают детскую игру – «конструктор», или, точнее, «калейдоскоп», когда при повороте игрушки мы видим все новые сочетания и новые фигуры. Исходное число партикул, как будет видно далее, совсем не так велико, скудость партикульного репертуара очевидно и пугает лингвистов, но – как мы знаем из школьной математики – число их комбинаций, включая перестановки, огромно. Поэтому, конечно, язык использует только крошечную часть таких кластерных структур.
Интересно, хотя и с трудом доступно для понимания то, что примерно к ХУІ веку славянский «конструктор» понемногу перестает работать, и происходит следующее: а) сходные функции начинают выполнять слова не из партикульного фонда; б) новые комбинации партикул не возникают.
Однако любовь партикул к «приклеиванию» создает не только кластеры различной таксономической ориентации, она создает и гораздо более интересную для языковеда вещь – парадигмы.
Возникновение парадигм и их эволюция суть факты, связанные с общими загадками антропоцентрической ориентации языка, точнее, его существования.
За формированием парадигм стоит формирование мысли, ее движение, поскольку выбор флексии (а флексии и есть те же партикулы; как правило, те же в буквальном смысле) закрепляет правильное «определение» словоформы в пространстве языка и пространстве действительности. Кроме того, в компаративистике уже давно известен тот факт, что парадигмы разных таксономических классов часто формируются одними и теми же партикулами-флексиями, но воплощающими при этом разные категориальные установки. Это также говорит о том, что число партикул (флексий) изначально ограничено. А новые почему-то не возникают. И это при гигантском расширяющемся словаре знаменательных лексем.
Почему же все-таки, если мы говорим о парадигмах, эта книга называется «Непарадигматическая лингвистика»? Потому, что при формировании парадигм, то есть создании основы, а за ней и присоединении флексий, имеет место неслучайность выбора этих партикул-флексий. То есть осуществляется то, что я называю в своей книге «минисинтаксисом». Мысль эта не совсем новая. Отдельные намеки на сходную идею высказывались, например, по поводу окончания -*s в латинском domu-s, где флексия номинатива могла быть показателем определенности; та же мысль высказывалась и по поводу флексии 3-го лица единственного числа русского глагола: дѣлае-тъ, то есть – это он делает, кто-то определенный. Значительное место в книге занимает и синтаксическая проблема появления / непоявления в речи русского я (при возможном его отсутствии), которое в течение столетий, как оказывается, «свернулось» из индоевропейской интродуктивной структуры со значением ’вот + он + я’. Разумеется, полностью реконструировать подобный «минисинтаксис» пока невозможно, но мне хотелось обратить внимание на его существование, доселе никем не описанное.
Лингвистика ХХ века, вплоть до последних его десятилетий, старалась отмахнуться и от существования партикул как отдельного класса, и от семантики «минисинтаксиса» при формировании парадигм. Почему? Этим причинам, как уже было сказано, посвящена в основном первая глава этой книги, где говорится и о тех причинах, которые обусловили именно такую эволюцию языкознания, и о некотором страхе перед двумя явлениями, которые, будучи признанными, могли бы многое изменить. Это неприятие диффузности первичных единиц языка, за которой неизбежно встает интерес к языковым первоэлементам, и, наконец, сложное отношение к вопросам о происхождении языка в целом.
Нелюбовь к этим проблемам в нашей отечественной науке вполне объяснима: они связываются почему-то обязательно с марризмом, навсегда ставшим (во многом справедливо) одиозным учением.
Таким образом, оказывается, что изучение языка в гораздо большей степени зависит от состояния и установок языкознания, и эволюция языка постепенно превращается в историю языкознания. Связь между историей языка и историей языкознания, в той или иной степени отражающей собственно языковую историю, как правило, не изучается.
Гораздо больше внимания уделяется тем проблемам, о которых я говорила выше, в языкознании зарубежном. В книге поэтому активно цитируются работы Фр. Адрадоса и особенно К. Шилдза младшего, с которым я во многом согласна и труды которого старалась достать где только возможно.
Очень радостной была для меня полная поддержка практически во всех намеченных пунктах исследования Владимира Николаевича Топорова, даже поместившего, к моему изумлению, сообщенный ему план этой моей книги в специальной статье обо мне в 2003 году. Особенно приятно и важно мне было его согласие по поводу того, что у партикул «нет и не может быть этимологии». И очень жаль, что этого текста он уже не увидит.
Однако отправным толчком для всей этой многолетней работы была статья Вяч. Вс. Иванова 1979 года о крито-микенской акцентуации, и его последующие описания начального комплекса частиц в анатолийских языках, приведенные в его книге 2004 года, были в этом отношении позднейшей поддержкой.
Поэтому декларируется существование «никем ранее не описанного в полном виде языкового пласта» и делается попытка объяснить те причины, которые, на наш взгляд, отвращали лингвистов ХХ века от этих языковых элементов, именно в первой, начальной, главе.
Там же делается попытка сравнения данных индоевропейских языков и партикульного фонда языков неиндоевропейских (в основном, финно-угорских, где партикулы – «служебные слова» и местоимения – были достаточно подробно описаны в книге К. Е. Майтинской).
Совсем иное отношение к партикулам, тогда еще так не именуемым, было в ХІХ веке и в начале ХХ века у классиков младограмматики и идеологически примыкающих к ним знаменитых лингвистов до-структуралистской поры. Так как пройти мимо их описаний было по этой причине невозможно, то глава вторая монографии, целиком посвященная таксономической функции партикул, иначе говоря, формированию парадигм с их помощью, неизбежно во многом носит обзорный характер. Анализируются подходы Фр. Боппа, К. Бругманна, Б. Дельбрюка, Я. Ваккернагеля, Фр. Шпехта, Х. Хирта и, конечно, взгляды более современных языковедов. Во всех возможных случаях читателю предлагаются сводные таблицы, демонстрирующие различие языковедческих подходов к одним и тем же явлениям. В этом своем обращении к «старым мастерам» я не одинока. См., например, у того же К. Шилдза: ««The new image» of Indo-European morphology – the theoretical viewpoint that the inflectional complexity associated with the traditional Brugmannian reconstruction of Indo-European should be ascribed only to developments within the period of accelerated dialectal differentiation)) [Shields 2001: 166]. Жаль только, что это большое и новое направление грамматической теории не нашло пока отклика в нашей отечественной лингвистике.
Неизбежно всякий, обращающийся к партикулам, должен, в свою очередь, обратиться к клитикам и постараться в меру сил разобраться в глубинной сущности этого промежуточного класса. Примечательно, что интерес к ним снова вспыхнул в последние десятилетия как в зарубежной лингвистике, так и у нас, породив увлекательные и доказуемые гипотезы А. А. Зализняка о важности этого языкового пласта для описания языка русского Средневековья и верификации через этот класс древних текстов, включая доказательства хронологической аутентичности многострадального «Слова о полку Игореве».
Таким образом, раздел «Клитики. Что это такое?» является центром второй главы – в той же мере, как и центральны по сути сами клитики. Я была также вынуждена обратиться к «закону Ваккернагеля», стремительно завоевывающему внимание языковедов последних десятилетий. Однако в связи с поставленной в данной книге задачей обращение к закону Ваккернагеля требовало экспериментального подхода. Поэтому в конце раздела «Клитики» представлено сравнение примыкания местоимений к глаголу и имени в русском и немецком языках (так как в современном немецком принято различать «слабые и сильные» формы полных местоимений, и важно было сопоставить эту бифуркацию с русскими данными) с примыканием клитик в болгарском, наиболее «клитичном» языке из описываемых лингвистами.
Вторым центром второй главы можно считать описание и трактовку взглядов на два партикульных элемента: *-s и *-t, представляющих, если взглянуть обобщенно, парадигматический центр генерирования индоевропейской грамматики. Этим двум элементам также посвящен специальный раздел. Как мне кажется, разгадка выбора этой консонантной пары в глубокой древности и ее позднейшей парадигматической дистрибуции ведет к каким-то глубоким открытиям в области языковых истоков и языковой коммуникации. И здесь я благодарна Вячеславу Всеволодовичу Иванову, прочитавшему этот раздел и сделавшему мне ряд очень важных замечаний и дополнений.
Эти две консонантные опоры также исследуются экспериментально-фонетически.
Таким образом, текст второй главы монографии включает в себя одновременно и обзорный компонент, и экспериментально-фонетические исследования.
Собственно грамматика партикул славянского пространства описывается в третьей главе нашей монографии.
Естественно, что эта грамматика охватывает только слова коммуникативного фонда – междометия, частицы, союзы, местоимения, местоименные наречия. Описывать же всю славянскую парадигматику означало бы дать заявку на демонстрацию грамматик всех славянских языков. А на это книга не претендует.
В третьей главе наиболее важным является выделение примарных общеславянских партикул. Согласно введенным мною правилам, такие партикулы должны удовлетворять трем требованиям: а) быть представленными во всех славянских языках; б) входить в качестве опоры в деривативные цепочки того же партикульного фонда; в) употребляться в качестве изолированной языковой единицы. В течение столетий раздельного языкового существования славянские языки во многих случаях утратили (стерли) следы былого парадигматического центра (уже упомянутой выше пары *-s/*-t), которые восстанавливаются – совместно или по отдельности – языковедами-историками. Поэтому славянские данные приходится описывать на уровне эмпирии сегодняшнего дня. Это во-первых.
Во-вторых, в пределах славянского грамматического пространства разбросано множество примарных партикул, которые удовлетворяют требованиям б) и в), но не удовлетворяют требованию а), то есть не являются общеславянскими. Такие примарные партикулы также описаны в третьей главе, но особо.
В третьей же главе анализируются партикульные кластеры, воплощающие в славянских языках таксономически разные категориальные классы. Показывается, как из партикул, комбинирующихся попарно, возникают местоимения: вопросительные, неопределенные, указательные, местоименные наречия, частицы и союзы. Очень явным при этом становится процесс грамматикализации: видно, как партикулы, изначально обладающие диффузной семантикой, или, скажем, семантикой неопределимой, будучи соединенными в пары, приобретают более отчетливое значение или даже значение категориального класса. Например, таково значение *-гпъ (о) в кластерах тамь/тамо, овамь/овамо, сямь/сямо и т. д. Это уже ясно очерченный в языке показатель направления, пространственный квантификатор. То же можно сказать о партикуле *-de, которая, правда, колеблется в славянском пространстве между пространством и временем, что само по себе достаточно интересно. Ср. русское гь + де ’где’ и чешское кь + de ’когда’. Естественно, что при увеличении числа партикул в кластере, грамматикализация их (обычно начиная от конца слова) постепенно увеличивается.
Однако при обращении к реальному словнику партикульного фонда славянских языков (а не на уровне общетеоретической программы) возникают столь же реальные трудности идентификации партикул, когда нужно решить вопрос о том, что необходимо считать в ряде случаев алловариантами, а что – принципиально разными партикулами. Вопрос этот относится как к обобщению / различению глухих и звонких консонантных исходов, так и к различению / неразличению партикул с разными вокальными исходами при одной и той же консонантной опоре. Этим, не всегда преодолимым для современной лингвистической теории, проблемам посвящен особый раздел третьей главы.
Заключают текст монографии краткие Выводы. В монографии имеется также пакет Приложений:
Приложение № 1 – перечень общеславянских примарных партикул;
Приложение № 2 – перечень не общеславянских (то есть распределяющихся по отдельным славянским языкам) примарных партикул;
Приложение № 3 – перечень славянских местоимений, состоящих из набора партикул;
Приложение № 4 – общий словник партикульного фонда славянских языков;
Приложение № 5 – набор партикульных кластеров из 10 русских партикул: возможное и реализовавшееся (компьютерная версия).
Глава первая Теоретические предпосылки
§ 1. Существует ли никем не описанный пласт языка?[1]
Всякий, кто имеет дело, например, со славянскими языками или даже просто с русским языком (родным языком исследователя), не может не заметить, что подавляющее большинство слов так называемого «коммуникативного фонда» состоит из мелких частичек, видимо, комбинирующихся в соответствии с некоей грамматикой порядка, представленных почти на всем пространстве Terra Slavica, имеющих одно (часто смутно) определимое значение в изолированном виде и совсем иное значение – в зависимости от типа их комбинаций. Это, например, ли, входящее в ряд: и + ли, ли + бо, а + ли, то + ли, у + же + ли и т. д. Это также и къ, входящее в ряд: къ + то, къ + jь, нѣ + къ + то и т. д. Примеры эти можно умножать, почти играя в какую-то игру. Так, и входит в ряд: и + же, и + ли, и + то, и + но (устар.), а а входит в ряд: а + же, а + по, а + ж + но и т. д. Создается впечатление чего-то близкого к детским играм вроде кубиков, конструктора или даже калейдоскопа, о чем уже мы писали в Предисловии.
Если обратиться к пространству славянского континуума, то легко увидеть, что большинство таких частичек и/или их комплексов совпадает в славянских языках либо полностью, либо легко пересчитывается по правилам фонетики. Но при этом – от языка к языку – они могут различаться функционально. Они могут различаться по степени принадлежности к языку литературному, к диалекту, к языку жаргонному, то есть быть фактом литературного языка, фактом того или иного диалекта, фактом просторечия. Они могут быть графически контактными в одном языке и дистантными – в другом. Однако несомненно то, что внутри славянского языкового континуума (как я постараюсь показать далее, с возможным выходом в более глубокие индоевропейские общности) существует практически единый набор таких простейших частичек и довольно единообразно работающий «порождающий конструктор», создающий комплексы из них. Несомненно и то, что отрицать существование этого фонда уже невозможно.
Нельзя отрицать также, что лингвистика по неким глубинным причинам, о которых я буду говорить подробнее в следующем параграфе, не описывает перечень этих частичек (их «словник»), правила их комбинации, их ареальные преференции. Однажды мне довелось делать доклад о таких частичках, и самый важный вопрос из заданных мне был таким: «А к какой части речи они относятся, в какой уровень языка они входят?» Честным был только один ответ: «Ни к какой и ни в какой». И на это я услышала ответ лингвиста: «Так не бывает». За этим моим ответом стоит многое. Прежде всего – сам по себе достаточно пугающий намек на то, что лингвистика не умеет описывать все; что в языке есть недоступные для современной лингвистической теории пласты, однако вполне доступные и понятные для носителя языка. Тем самым ставится вопрос о неадекватности (а не только о недостаточности) соотношения метаотображения и восприятия.
Особенностью описываемых элементов (частичек) является то, что многие из них вполне известны языковедам как в единичном виде, так и в комбинации и входят в каноны Академических грамматик. Это, например, союзы: а, и, но, да, или, либо и др.; это частицы: то, же, даже, уже, ти, это, вонъ, вотъ; это местоимения: къто, кътото, иже, нѣкъто; это наречия: тамъ, тутъ, здесь < сь + де + сь и т. д. Однако приписать их к какому-то одному классу или к одной части речи не оказывается возможным. Возможным оказывается только более или менее обширное их пересечение с уже известным классом слов.
Например, таксономически их обычно связывают с так называемыми «дискурсивными словами»; однако отнюдь не все дискурсивные слова соотносятся с этим набором. Так, в частности, авторы статей в сборнике «Дискурсивные слова русского языка» [Дискурсивные 1998] включают в их число такие слова, как по меньшей мере, наоборот, еще раз, впрочем и др., которые не состоят из подобных частиц; но все-таки в этом же списке находим и упомянутые частицы вроде: только < то +ли + ко, дай < да + и, не + у + же + ли, не + бо + сь и под.
Их предлагают также отнести к общей категории «незнаменательных слов», но и тут область незнаменательных слов пересекается с областью этого фонда лишь частично, поскольку в класс незнаменательных слов входят, например, предлоги, на подобные частички не разлагающиеся и имеющие иную языковую историю.
Значительное число этих единиц вводят в классы местоимений и частиц. И здесь, однако, мы можем найти исключения. В частности, не из таких частиц состоят [кто]-нибудь, пусть, пускай, нехай.
Например, в составе «Словника частиц», представленного в «Словаре русских частиц» Э. Шимчук и М. Щур [Шимчук, Щур 1999: 24], мы находим частицы, не восходящие к этому фонду: буквально, вправду, впрямь, вообще, исключительно, попросту и т. д.
Наконец, некоторые первичные частички часто выступают в роли союзов. Но исключений достаточно и тут. Возьмем хотя бы союз хотя. И класс междометий тоже включает в себя значительное число таких частиц. И тоже не совпадает с ними полностью, например: Ах!, Ох!, Увы! и т. д.
Предельно простая фонетическая структура многих таких элементов – а они состоят либо из одного гласного (V), либо из комплекса: консонант + вокал (CV)[2] – может привести к мысли о их таксономическом соответствии слогам языка. Но и это неверно, так как существуют слоги, не имеющие аналога среди фонда таких частичек, однако знаменательные слова распадаются на них легко, например: хо-ро-шо.
Традиционно подобные «частички» относили к частицам. Однако, как мы уже показывали, в разряд частиц языка входят слова совсем другого происхождения. Англоязычная традиция, например, называет частицами (particles) и глагольные «расширения» типа off, up, over и т. д. Например:
a. John picked up the book
b. John picked the book up [Gries 1999].
Эпиграфом к специальной статье, посвященной частицам и их «грамматике», Г. Дункель [Дункель 1992] поставил удачные слова К. Бругмана: «Праиндоевропейские частицы с точки зрения их этимологии, формальных признаков и исходного значения в массе своей остаются в большей или меньшей степени неясными». Далее Г. Дункель пишет о назревшей необходимости реинтерпретировать многие частицы – «не только морфологически, но и семантически». Однако и он включает класс частиц в уже существующий набор индоевропейских классов морфем: корни (К), суффиксы (С) и окончания (О). К частицам он относит также превербы и предлоги. На ряде важных положений Г. Дункеля, в частности о позиционном распределении частиц и о правилах их комбинирования, я остановлюсь в дальнейшем. Важно сейчас отметить, что он находит «совершенно не поддающиеся анализу формы (*r, *gho, *no/ne)» [Дункель 1992: 17] и что «именно здесь мы доходим до наиболее раннего пласта» [Там же]. Понимая, что частицы представляют собой некий, по сути, неясный для таксономии класс (см. об этом ниже), Г. Дункель все же придерживается наиболее удобной теории – частицы есть нечто «застывшее», и осторожно называет «преувеличением» более крайние точки зрения на них – например, Г. Швицера: «Для развития древнейших частиц более поздние частицы, которые явно представляют собой окаменевшие падежные и глагольные формы, не могут служить аналогией», – а также считает преувеличением гипотезу об изначальной односложной структуре частиц (гипотеза излагается у Г. Дункеля без ссылки. – Т. Н.), которая привела бы «к необходимости признать, что все двусложные частицы являются фактически производными (т. е. представляют собой цепочку частиц)» [Дункель 1992: 23].
Наиболее откровенное неприятие частиц как самостоятельного слоя языка находим у Т. Ван Баара [Van Baar 1992]. Признавая, что частицы всегда были и остаются проблематичной и пренебрегаемой лингвистами сферой изучения, он все же предлагает для них некоторую дефиницию: «Particles are only negatively defined: grammatical elements are only particles if they do not belong to any of the other parts of speech» [Van Baar 1992: 260]. [«Частицы можно классифицировать только негативно, а именно – грамматические элементы только тогда являются частицами, если они не принадлежат ни к какой другой части речи».]
И все же Ван Баар предлагает для частиц в плане выражения два релевантных признака: 1) они всегда моносиллабичны; 2) они никогда не приобретают «нормального» ударения.
Определение статуса частиц А. Звики [Zwicky 1985], который наиболее подробно, по сравнению с многими другими лингвистами, занимался и частицами, и клитиками, немного напоминает известную ироническую формулу «Этого не может быть, так как этого не может быть никогда!». Частицы, по его мнению, не входят в «по-уровневую» грамматику, но и не составляют отдельного грамматического класса: «There is no grammatically significant category of particles <…> here is no particle level in the hierarchy of grammatical units» [Zwicky 1985: 292]. [«Не существует грамматически значимой категории частиц <…> в иерархии грамматических единиц такого уровня, как уровень частиц, нет».] Таким образом, напрашивается признание того факта, что частицы не принадлежат ни к какой синтаксической категории («that they are acategorical»). Но такого ведь, по его мнению, быть не может («there are no acategorical words»), поэтому А. Звики придумывает для них особое название «дискурсивные маркеры» и тем самым не оставляет их лингвистически беспризорными.
Общее же впечатление от работ, посвященных «частицам», состоит в том, что в языкознании существует некое внутреннее (глубинное?) неприятие тех явлений языка, которые стоят за ними как за обобщенным классом, нисколько не противоречащее, однако, лексикографическому удовольствию от анализа отдельных «частиц». В конечном итоге интерес иногда вызывают и вопросы их происхождения: частицы ли произошли из местоимений, местоимениями из частиц? что такое флексии – застывшие местоимения? активные частицы-энклитики? что значат «темы», «расширители» и т. д.?
Частицы, восходящие к древности, принято называть «дейктическими». Сама теория указания как особого коммуникативного поля достаточно давно представлена еще К. Бюлером [Бюлер 1993]. Он считает, что «в языке есть лишь одно-единственное указательное поле, семантическое наполнение указательных слов привязано к воспринимаемым указательным средствам и не обходится без них или их эквивалентов». Всего К. Бюлер видит три способа употребления указательных слов: применение непосредственно, ad oculos, анафорически и как «дейксис к воображаемому» [Бюлер 1993: 75]. К. Бюлер четко различает слова указательные и слова назывные. В помощь первым может привлекаться как зрительный момент (например, длительный взгляд, устремленный на собеседника), так и звуковой (например, один слепой знакомый К. Бюлера никогда не ошибался, если в беседе обращались именно к нему, даже не называя его по имени). Самое существенное, что К. Бюлер не описывает указательные слова, так сказать, лексикографически, а связывает их в некие пучки, например: ЗДЕСЬ – СЕЙЧАС – Я; Я – Ты и т. д. Замечательно и то, что К. Бюлер все время, по сути, взывает к тому, что не только назывные слова передают необходимую для человека коммуникативную информацию, а значительная часть сведений передается тем, что назывется ad oculos и ad aures.
Однако тенденция к секуляризации чисто указательных слов видна в современной лингвистике и в функциональном плане. Так, большая обобщающая статья К. Киселевой и Д. Пайяра [Киселева, Пайяр 2003] посвящена глубокому анализу сути функционирования дискурсивных слов, но только внутри этого пласта как такового, то есть без обращения к другим языковым уровням и без сравнения с ними.
Как будет видно из анализа славянского материала, представленного в третьей главе настоящей книги, в наибольшей степени функционально нагруженными являются частицы-партикулы с консонантной опорой[3](-*s) и (-*t). Они могут выражать неопределенность: русское къ + то + то, чь + то + то; с другой стороны, могут выражать определенность: определенный постпозитивный артикль в болгарском языке или постпозитивный член в севернорусских говорах. Ср. также русское се, сей (сего-дня) и польское ktoş (’какой-то’). Эта разошедшаяся по родственным языкам семантическая амбивалентность говорит о первичной энантиосемии частиц с указанной консонантной опорой и тем самым об их древности. Безусловно, они восходят к древнейшим элементам *so, *tod, по поводу которых существует большая специальная литература и о которых мы будем говорить в последнем параграфе главы второй.
То, что эти две основы являются ведущими для индоевропейской системы в целом, подтверждает и Фр. Адрадос [Adrados 2000], об идеях которого также будет говориться ниже. Он считает, что элементы -*so, – *to впоследствии эволюционировали во множество местоимений и союзов индоевропейского языкового пространства.
Происхождение и дистрибутивное функционирование этих двух индоевропейских «местоимений» трактуется по-разному, и целесообразно именно здесь также представить эти разные трактовки – не потому, что автор хоть в какой-либо степени претендует на окончательный вывод, а потому, что эти различия связаны с общим отношением к происхождению и деятельности «частиц». (Во второй главе будет представлен ряд экспериментально-фонетических доказательств.)
У «классиков» индоевропеистики, Б. Дельбрюка и К. Бругманна, *s и *t считались двумя воплощениями одного и того же элемента, с различием в парадигматической дистрибуции, а именно: в именительном падеже многие индоевропейские языки выбирают s-основу, а в косвенных падежах – основу на t-. Однако в литовском и славянском «nur dass im Nominativ der S-Stamm durch den T-Stamm verdrängt worden ist» [«только в этих языках S-основа была вытеснена T-основой»] [Delbrück 1893: 510][4].
Э. Стертевант в 1939 году[5] предположил, что оба эти «местоимения» восходят к «индо-хеттским» конгломератам союзов. При этом союз *so употреблялся в предложениях без замены субъекта, а *to – в предложениях с заменой субъекта. Союз *so был в дальнейшем реинтерпретирован как местоимение в именительном падеже. «Индо-хеттские» конгломераты в индоевропейских языках приобретали значение местоимений, тогда как в хеттском они сохраняли свое древнейшее значение. Эта гипотеза была отвергнута Х. Педерсеном на том основании, что указательные местоимения являются древнейшими элементами языка, тогда как сочинительные союзы типа хеттского nu , ta, su возникают значительно позднее[6]. Т. В. Гамкрелидзе также опровергает гипотезу Э. Стертеванта в целом [Гамкрелидзе 1957], оперируя фактами хеттского синтаксиса, где фактор замены или незамены субъекта не связывается с типом союза. Г. Дункель [Дункель 1992] в свою очередь обращается к анализу форм *só/su в среднеиндоевропейском языке, которые представлены в синтаксисе параллельно формам *to/te. При этом, по его мнению, существовало личное местоимение 3 лица единственного числа, начинавшееся на *s (форма *si при этом передавала женский род в отличие от неженского *so). Ортотонические формы (т. е. ударные) были связаны с консонантной опорой на *t, а энклитические – с консонантной опорой на *s.
Есть и другая трактовка этих форм, которую можно назвать фонетической [Schrijver 1997], а именно: дейктическое so синонимично формам sa (после непалатальных звуков) и se (после палатальных). П. Схрайвер считает оба местоимения членами единой парадигмы, сохраненной в большинстве индоевропейских языков, в которых все флективные формы, кроме номинатива, начинаются (начинались) с консонанта *t.
Эти элементы, по мнению некоторых исследователей, связывают местоимения и существительные. См. у О. Семереньи: «В последнее время вновь оживленно дискутируется другой вопрос, а именно: каким образом женский род выделился из класса одушевленных. При этом в большинстве случаев наблюдается возврат к старой точке зрения, которая состояла в том, что общее развитие -ā– и -і– как признаков женского рода восходит к местоимению (например, *sā и *si). В то же время сами местоимения были образованы по образцу некоторых существительных, которые имели подобные окончания случайно (например, *gwenā ’ женщина’» [Семереньи 1980: 168].
Есть и более откровенные и честные признания: «элемент -s стоит совершенно вне системы и его происхождение неясно» (Коугилл, цит. по: [Шмальштиг 1988: 283]).
К. Шилдз [Шилдз 1988] считает, что местоименная форма на *so использовалась по отношению к существительным, когда необходимо было передать функцию эргативности, а форма *tod привлекалась, когда необходимо было указание на абсолютный падеж. Он демонстрирует наглядно то, сколько ученых лингвистов бились, приписывая это *s то одному, то другому грамматическому классу. Говоря более точно, можно сказать, что это никуда не укладывающееся и мучительное для языковедов *s как бы скользило по нарождающейся грамматической системе, «приклеиваясь» то к одной, то к другой грамматической форме. Так, оно приобретает статус флексии имен одушевленного класса, заменив собой ноль. Полагая эту форму рефлексом более древнего
деривационного суффикса, обладавшего функцией индивидуализации, или выделения, К. Уоткинс считает, что *s вскоре стал использоваться в функции показателя 3-го лица глагола. По его мнению, происхождение *s следует искать в сочетании глагольного корня с конечным расширителем, это было просто «фонетическое добавление». К этому «расширителю» Уоткинс возводит суффикс аориста, но сначала «расширитель не имел значения». Это же *s используется как показатель 2-го лица во многих индоевропейских языках, а в тохарском – как показатель третьего лица. К. Шилдз описывает дальнейшую историю этого элемента так: *s был интерпретирован как неличный показатель в системе первичных глагольных форм, затем он был распространен на имя и превратился в показатель номинатива. В более поздний период показателем 3-го лица единственного числа стал формант *t и, таким образом, функции *s были ограничены 2-м лицом [Шилдз 1988: 241—245]. Все эти гипотетические построения показывают только одно: они демонстрируют зыбкость появления первых грамматических форм, неустойчивость ранних парадигм, когда одна и та же партикула могла в принципе переходить от одного формирующегося класса к другому и от одного члена парадигмы к другому члену той же парадигмы.
Именно поэтому моя монография и имеет вторую часть названия, точнее, подзаголовок: «История блуждающих частиц».
За всеми этими описанными выше построениями просматривается еще одна тенденция: сохранить для раннего этапа развития языка выведенные позднее частеречные таксономии. Для лингвистов современной традиции аморфные и диффузные по семантике элементы не могут априори присоединяться в виде флексии, поэтому флексии в лучшем случае могут быть хотя бы местоимениями. Частицы также обязаны быть классом слов, вписывающимся в общую частеречную таксономию. Однако стройность порождающего этот не описанный класс языковых единиц «конструктора», простота выделения его компонентов и их структурная связанность друг с другом очевидны.
Именно поэтому я не хочу в дальнейшем говорить о таком многолетнем и все же неприкаянном термине, как «частицы», и тем самым использовать этот термин в качестве базисного, по-скольку речь не пойдет о словах типа исключительно, просто и под., а о компонентах этого прозрачного и ни разу никем не собранного «конструктора». Эти компоненты-частички я буду в дальнейшем, как я уже говорила, называть партикулами, поскольку русский язык как будто специально для подобного описания позволяет различать партикулы и частицы (см. в Предисловии).
Итак, специально партикулами как отдельным и как будто бы легко – на поверхностном уровне – выделяющимся классом до сих пор никто не занимался: их или включали в класс частиц вообще, или рассматривали как факт глубокой индоевропейской древности, потом превратившийся в нечто другое. И тут таксономическая ориентация буксовала: то ли они сами являлись окаменелыми реликтами местоимений, то ли, напротив, именно они превращались в местоимения. В презумпцию обязательности входила также разновременность и разнофункциональность существования «частиц» и союзов.
Как представляется, метатеоретический выход был найден не сразу, но он оказался достаточно простым. Его можно найти в работах таких индоевропеистов, как Ф. Адрадос, У. Леман, У. Марки и, в особенности, К. Шилдз младший, чьи взгляды полностью совпадают с взглядами автора настоящей монографии[7].
Прежде всего нужно назвать широко цитируемую статью Ф. Адрадоса «The new Image of Indoeuropean. The History of a Revolution» [Adrados 1992]. В ней прямо говорится о том, что «типично» реконструируемый индоевропейский есть индоевропейский позднейшей праязыковой стадии, построенный с опорой на древние флективные языки. См. удачное определение «типичных» реконструкций праиндоевропейского, сделанное В. Пизани [Пизани 1956: 164]: «Большинство рассмотренных до сих пор исследований страдает одним пороком: они все исходят из такого восстановленного «индоевропейского языка», который по характеру представлений о нем напоминает латинский язык учебника для средней школы».
Ф. Адрадосом же выстраивается трехступенчатая модель эволюции «индоевропейского»:
1) до-флективный индоевропейский (pre-inflexional). Стадия I;
2) хеттско-анатолийская стадия (язык при этом monothematic). Стадия II[8];
3) политематический язык «типичной» реконструкции. Стадия III.
Работа Ф. Адрадоса была очень «своевременной», хотя мысли о до-флективной стадии индоевропейского высказывались ранее и Вяч. Вс. Ивановым [Иванов 1965: 51], и В. Шмальштигом [Schmalstieg 1980].
Хотя в работе Ф. Адрадоса есть много важных для нашей темы наблюдений (например, прямо говорится о том, что вторичные индоевропейские глагольные окончания: *-mi, *-si, *-ti, *-nti отличаются от первичных: *-m, *-s, *-t, *-nt именно на дейктическую частицу *-i), все же в ней больше говорится об отличиях Стадии II от Стадии III, что для автора, очевидно, более важно. Однако существен сам прокламируемый факт – то, что Стадия I отражает язык до-флективный, до-парадигматический. Естественным выводом из положений Ф. Адрадоса является вывод о возможности до-флективного равенства всех членов индоевропейского высказывания эпохи «Стадия I». Тем самым отпадает необходимость обязательности выведения одной части речи из другой.
К. Шилдз, опираясь на еще более ранние статьи Ф. Адрадоса, повторяет вслед за ним, соглашаясь, идею о том, что до-флективный индоевропейский и протоиндоевропейский «состоял из номинально-вербальных либо прономинально-адвербиальных слов-корней, определявших друг друга и образовывавших синтагмы и предложения» [Шилдз 1990: 12][9]. «Грамматическими» средствами при этом являлись: порядок слов, расстановка ударения и некоторые расширители. К. Шилдз поддерживает и гипотезу В. Георгиева о моносиллабичности языка этой Стадии[10].
Итак, присматриваясь к этой гипотезе, мы видим язык по преимуществу моносиллабический, где есть только два класса: будущие слова «знаменательные» и будущие слова «дискурсивные». Именно этим последним и посвящена настоящая монография, цель которой – постараться если не доказать, то хотя бы убедить в том, что Стадия I в нас еще жива и проступает в виде «скрытой памяти».
В статье, посвященной типологии и ее роли в реконструкции, К. Шилдз идет дальше своих предшественников [Shields 1997] и снимает обязательность типологического присутствия в настоящем для реконструкции языка древнейшего периода: «Typology should never be the primary basis for a linguistic reconstruction» [Shields 1997: 372] [«Типология не должна быть отправной базой для лингвистической реконструкции»]. В более поздней статье [Shields 1998] К. Шилдз настаивает на медленности – в большей степени, чем обычно предполагается – процесса превращения «энклитических» частиц и их комбинаций в слова с той или иной грамматической функцией [Shields 1998: 48].
Однако нужно признать, что в настоящее время определить точно, что именно означали те или иные партикулы в языке Стадии I или в еще более раннее время, мы не можем. Или, говоря иначе, при любой попытке это сделать такое определение всегда будет некорректным. Во всех изученных мною исследованиях, как уже говорилось, партикулы подобного рода именовались «дейктическими частицами». Потом, как пишет тот же К. Шилдз [Шилдз 1990: 14], эти демонстративы постепенно теряют свою функциональную силу и вынуждены комбинироваться в цепочки (обо всем этом применительно к славянскому материалу будет говориться в книге далее).
И все же. Не следует забывать, что само понятие дейксиса – это понятие метатеоретически позднее. См. определение дейксиса в самом общем виде, данное Ю. Д. Апресяном [Апресян 1997: 285]: «… основное свойство всякого дейксиса. Этим свойством является либо совпадение (для Я-дейксиса), либо несовпадение пространственно-временных координат описываемого факта, как их мыслит говорящий, с теми пространственно-временными координатами, в которых говорящий мыслит себя».
Более глубокий анализ пространства партикул, как представляется, может вывести их исследователя не на дейксис, так сказать, в «чистом виде», а на некоторое общее и семантически диффузное свойство первичных частичек-партикул: на более общее указание о сообщаемом факте, предмете или действии (еще раз нужно сказать, что все они могли тогда и не различаться как таковые), а не только на их качество в виде древних демонстративов – дейктических элементов в современном нашем понимании. В этом смысле словосочетание «дейктические частицы» можно рассматривать как некое металингвистическое клише вроде «логического ударения».
Вяч. Вс. Иванов полагает, что в эволюционном процессе имена собственные опережают личные местоимения, он пишет о речевом поведении «маленьких детей, которые предпочитают не использовать эгоцентрические слова и испытывают большие трудности в связи с употреблением личных местоимений-шифтеров, по Якобсону, соотносящих сообщение с актом речи и кодом. Употребление собственных имен, согласно сказанному выше, соответствует более ранним эволюционным возможностям» [Иванов 2006: 356][11]. Может показаться, что дальше он противоречит сам себе, объявляя первичными жестовые зрительные сигналы: «Представляется возможным, что жесты у далеких предков человека сосуществовали с относительно небольшим числом звуковых сигналов, сходных с теми, которые обнаруживаются у высших млекопитающих. Но эти сигналы еще только находились на пути превращения в фонемы устного языка. Общее происхождение последнего и жестового общения, быть может, отражается в недавно установленных фактах, показывающих связи современного языка жестов с левым (доминантным) полушарием» [Иванов 2006: 361]. На самом деле эти два положения Вяч. Вс. Иванова блестящим образом демонстрируют принципиальную невозможность объявлять партикулы «застывшими местоимениями».
Нужно отметить, что идея о «дофлективном» существовании протоиндоевропейского высказывалась и классиками ХІХ века. Первым в этом отношении был, конечно, Франц Бопп, о котором все знают и учат его имя с юных лет, но мало ссылаются и, вероятно, мало читают. По сути Бопп высказывает те же идеи, которые Ф. Адрадос и К. Шилдз декларируют как «революции» в реконструкции индоевропейского. См. у Франца Боппа эти идеи, воспринимающиеся по принципу «новое – это хорошо забытое старое» [Bopp 1833: 14]: «Es gibt im Sanskrit und mit ihm verwandten Sprachen zwei Klassen von Wurzeln; aus der einen, bei weitem zahlreichsten, entspringen Verba und Nomina (Substantive und Adjective) welche mit Verben in br?derlichem, nicht in einem Abstammungs-Verh?ltnisse stehen, nicht von ihnen erzeugt, sondern mit ihnen aus demselben Schosse entsprungen sind. Wir nennen sie jedoch, der Unterschejdung wegen, und der herrschenden Gewohnheit nach, Verbal-Wurzeln (…) Aus der zweiten Klasse entspringen Pronomina, alle Urprüpositionen, Conjunctionen und Partikeln; wir nennen diese «Pronominalwurzeln», weil sie sämtlich einen Pronominalbegriff ausdrücken, der in den Präpositionen, Conjunctionen und Partikeln mehr oder weniger versteckt liegt». [«В санскрите и в родственных ему языках существует два класса корней; из одного, более распространенного, возникают глаголы и имена; последние находятся с глаголами в родственных, если даже не сказать обменных, отношениях, не возникая из них, но происходя из одной и той же основы. Мы называем их, ради различия и следуя традиции, глагольными корнями. (. ) Из другого класса выходят местоимения, все древние предлоги, союзы и частицы; мы называем этот класс «местоименные корни», поскольку они все в той или иной мере выражают некую местоименную семантику, которая спрятана в предлогах, союзах и частицах».]
Древнейшее состояние индоевропейского описывает также и К. Бругманн, но описывает его, так сказать, с прямо противоположных позиций, т. е. считает всю эволюцию протоэлементов шагом к знаменательным словам: «Wir haben für unsern Sprachstamm eine Periode vorauszusetzen, in der den Wörtern noch keine suffixalen und prefixalen Elemente fest anhafteten. Die Wortformen dieser Periode bezeichnet man als Wurzeln und spricht demgemäss von einer Wurzelperiode der idg. Sprachen. Sie lag weit zurück hinter dem Entwicklungsstadium, dessen Formen wir durch Vergleichung der einzelnen idg. Sprachzweige zunächst zu erschliessem vermögen, und das man die idg. Grundsprache schlechthin zu nennen pflegt» [Brugmann 1897: 33]. [«Для нашего языкового состояния мы восстанавливаем тот период, когда слова не присоединяли к себе «накрепко» суффиксальные или префиксальные элементы. Словоформы этого периода можно описать как корни и потому нужно говорить о периоде корней у индоевропейских языков. Это ведет нас к далекой исходной стадии, формы же сами восстанавливаются при сравнении языков индоевропейских ветвей, и такое именно состояние мы можем назвать индоевропейским языком-основой».]
Таким образом, мы можем видеть, что победа «по-уровневой» лингвистики и воцарение униформитарного принципа типологической верификации предали забвению догадки старых мастеров.
§ 2. Типы научной парадигмы и партикулы
Эти мелкие частички-партикулы, с одной стороны, и обобщенные рассуждения о типе науки, с другой, казалось бы, никак не могут быть связаны. Однако нужно вернуться к тому вопросу, который был мне задан и о котором я писала в начале: «А к какой части речи относятся эти частицы?», и к моему ответу: «Ни к какой!» и к следующей ответной реплике «Так быть не может». За этим вопросом явно следовало глубокое убеждение, что современная лингвистика все описала и все определила по классам и ничего «в индетерминированном остатке» быть не может. Именно такая наука называется «нормальной наукой», по Т. Куну [Кун 1975], и именно на этом хотелось бы сейчас остановиться.
Итак, по Т. Куну, «нормальная наука. основывается на допущении, что научное сообщество знает, каков окружающий нас мир» [Кун 1975: 21]. Тогда исследования – это «упорная и настойчивая попытка навязать природе те концептуальные рамки, которые дало профессиональное образование» [Там же].
Ранее мною была предложена классификация ученых [Николаева 1990], опирающаяся на следующие два признака: 1) метод и 2) материал. Каждый признак может быть представлен двумя манифестациями-признаками: старый / новый.
Таким образом, получилось четыре возможных типа ученых: 1) старое о старом; 2) старое о новом; 3) новое о старом; 4) новое о новом[12]. (Об этой моей классификации пишет математик В. А. Успенский [Успенский 2005].) Если эти типы совместить с типологией Т. Куна, то к «нормальной науке» должны принадлежать два средних типа: старое о новом и новое о старом.
Итак, по Т. Куну, цель нормальной науки «ни в коей мере не требует предсказания новых видов явлений» [Там же: 43]. Исследование в нормальной науке направлено на «разработку тех явлений и теорий, существование которых парадигма заведомо предполагает» [Кун 1975: 44].
Очень интересные наблюдения над эволюцией лингвистики во второй половине ХХ века, которые можно соотнести с концепцией Т. Куна, содержатся в статье Р. М. Фрумкиной [Фрумкина 1996]. См.: «Со временем «новая» лингвистика постепенно и закономерно тоже превратилась в нормализованную науку» [Фрумкина 1996: 57], и ранее: «Понятно, почему глубокая методологическая рефлексия и споры о «теориях среднего уровня» не типичны для нормализованной науки: в ней метанаучная проблематика перестает быть актуальной» [Там же].
Однако нормальная наука, как и любая наука, должна развиваться. Поэтому ученые начинают исследовать «некоторые фрагменты природы так формально и глубоко, как это было бы немыслимо при других обстоятельствах» [Кун 1975: 44]. Акме нормальной науки ощущается тогда, когда возникает жажда решения «новых задач-головоломок». Тогда нормальная наука становится решением головоломок и по сути своей мало ориентирована на крупные открытия. Нельзя не обратить внимание и на следующее положение Т. Куна: ученым-приверженцам нормальной науки предлагается «не сформулированная система правил, а согласованность исследовательской традиции» [Там же: 70]. Нормальная наука становится все более точной. Развивается эзотерический для непосвященных словарь и профессиональное мастерство. «Поскольку в науке реже, чем в других областях человеческой деятельности, есть несовместимые точки зрения», научное сообщество начинает объединять то, что Т. Кун называет «дисциплинарной матрицей» [Там же: 229]. Дисциплинарная матрица характеризуется: 1) общностью символических обозначений, 2) метафизической парадигмой, т. е. общепризнанными предписаниями, 3) ценностями. Последние должны быть более общего свойства. Например, установка на прикладную полезность науки – это одна из ценностей парадигмы. См. определение такой ценности в «новой лингвистике», становящейся постепенно нормальной наукой, как строгость, которая на определенном этапе противопоставлялась психологизму как «расплывчатым умозрениям» [Фрумкина 1996: 58].
Вскоре после появления публикаций Т. Куна раздались и голоса ученых, утверждавших, что к лингвистике его положения в принципе неприменимы. Так, например, В. К. Персиваль [Percival 1976] опирается на тот факт, что «научная революция», по Т. Куну, есть следствие появления какого-то одного научного гения (single scientific genious). Кроме того, понятие парадигмы в теории Т. Куна есть понятие социальное, а научная революция создается отдельной секуляризованной личностью, и тем самым в теории Т. Куна есть внутренние противоречия. Сама же лингвистика строится на том, что у всех новых теорий есть обязательно свои предшественники.
Однако история лингвистики второй половины ХХ века (и особенно – последней его трети), на наш взгляд, подтверждает прогностические положения Т. Куна.
А именно: нетрудно заметить, что «нормальная наука» лингвистика возникла (в отечественной теории, во всяком случае) в середине 50-х годов прошллого века и развивалась с тех пор, абсолютно следуя прогнозам Т. Куна.
Несомненно также, что мы можем обнаружить и предсказанный Т. Куном этап «головоломок». Это – начало 60-х, когда возникли (разумеется, как бы спонтанно) так называемые «лингвистические задачи». Унификация лингвистических подходов шла, также в полном соответствии с прогнозированием Т. Куна, из недр так называемого ОСИПЛ’а, т. е. Отделения структурной и прикладной лингвистики (позднее ставшего Отделением теоретической и прикладной лингвистики). Характерно, что одной из «ценностей» тех лет была объявлена прикладная полезность лингвистики, ее обязательная парадигматическая близость к точным наукам вроде математики.
Единообразная парадигма распространялась далее и на студентов Лингвистического факультета Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). «Лингвистические задачи» оказались необыкновенно удачным решением назревавшего этапа головоломок.
Естественно, что близкими к задачам головоломками должны быть занятия дешифровочного типа. И замечательно, что именно в этот период лингвисты обратились к дешифровке новгородских берестяных грамот, которые вдруг стали обнаруживаться в большом количестве, как будто по воле Судьбы, и языковеды стали делать множество мелких и крупных по значимости наблюдений, прочитывая новонайденные грамоты и перепрочитывая найденные ранее. Хочу сразу снять какую бы то ни было аксиологическую установку со своих выводов. Просто не могу согласиться с известным положением о том, что историк (в том числе и историк науки) является «пророком, предсказывающим назад». Безусловно, и история «не знает сослагательного наклонения». Но его должны знать ученые, задача которых – обнаруживать развилки эволюционных путей и вычерчивать возможные сценарии несостоявшихся событий.
Можно заметить, что многое из указанного выше появилось и появляется случайно. Однако прогнозы Т. Куна позволяют нам, хотя на небольшом научном пространстве – языкознания как науки, увидеть неизбежность эволюционной перспективы в науке вообще и, видимо, в истории в целом.
Можно заметить также, что все-таки мы имеем, как будто бы вопреки Т. Куну, по крайней мере два крупных открытия на фоне последних десятилетий. Это – ностратическая теория, предложенная В. М. Илличем-Свитычем, и находка так называемого «Новгородского кодекса XI в.» А. А. Зализняком. Но на это можно возразить, что, во-первых, открытие В. М. Илличем-Свитычем было совершено, так сказать, на пороге парадигмы «нормальной науки» и, строго говоря, к ней не относится. Во-вторых, напротив, открытие А. А. Зализняка и его фантастическое по результатам прочтение почти не прочитываемого текста могут – именно по своей поразительности – служить неким «звонком» кризиса господствующей парадигмы, поскольку само открытие относится также к тому, чего «не может быть, ибо этого не может быть ни-когда»[13].
Таким образом, на предпарадигмальной стадии развития науки (эта стадия, естественно, является одновременно и концом предыдущей парадигмы, и шагом к новой) еще возможны, по Т. Куну, сосуществующие прочтения одного и того же материала науки, парадигмы, находящиеся, пользуясь языком физики, в «отношениях дополнительности». Обращаясь к лингвистике ХХ века, можно предположить, что такая возможности была. Это был, по нашему мнению, межвоенный период, когда сосуществовали две лингвистики, однако в прямой форме это никак не формулировалось.
Как это ни покажется странным, как будто бы второстепенные явления языка – интонация и «мелкие» слова (то есть «незнаменательные», это термин Л. В. Щербы) – стали ключевым моментом при разделении этих двух подходов к языку[14].
Говоря о первом направлении, нужно в первую очередь вспомнить труды С. И. Карцевского. Его подход в целом можно назвать синтагматическим, ориентированным на реальную фразу, на высказывание. Фразу создает интонация. Она имеет свою грамматику, и он – практически первый – описал эту грамматику, перечислив интонацию межфразовых связей. Его предшественники обычно ограничивались одной фразой. Интонацию он понимал не только как мелодику, а как многопараметрическое единство ее акустических составляющих (мелодики, тембра, интенсивности и длительности). Соединяя фразы, интонация может выражать четыре категории: симметрию, асимметрию, тождество и градации. Язык, по С. Карцевскому, состоит из: 1) слов, 2) грамматики, 3) интонации. Самое важное в его теории было то, что слово не было для него основой основ, оно было лишь частицей фразы: «слово есть частица, выпавшая из фразы» [Карцевский 2000: 44]. Обращаясь же к «мелким» словам, Карцевский видел в начале существования естественного языка синтаксис, рождающийся из междометий, экспрессивных восклицаний. Впоследствии они превращались во «внешние союзы», инициирующие высказывание-фразу, затем они интериоризировались, становясь нашими современными «внутренними» союзами. А привычное таксономическое начало – фонетику и фонологию – Карцевский считал уже последним этапом освоения языковой структуры. Таким образом, синтаксис был для него первичным.
Однако синтаксис был первичным и для сторонников «нового учения о языке», он был краеугольным камнем и отправной точкой для диахронических разработок марристов. Архаический синтаксис был для них некоей диффузной зоной, в пространстве которой функционировали почти асемантичные звуковые комплексы. Предполагалось, что эта диффузность и нерасчлененность высказывания вполне соответствовала мышлению первобытного общества. Как пишет С. Д. Кацнельсон [Кацнельсон 1949: 36], «Таким образом, первично грамматический строй отличался, по Н Я. Марру, нерасчлененностью техники и идеологии, непосредственным и прямым соответствием между синтаксической формой и ее содержанием». См. там же: «Главным и решающим в грамматике является целостное предложение, а не искусственно вырванное из контекста слово» [Там же: 16]. В известной степени схожие идеи можно найти и у Л. В. Щербы. Говоря о грамматиках и словарях языков, создаваемых в разное время, Л. В. Щерба пишет: «Однако при этом прежде всего забывали то, что вообще все языковые величины, с которыми мы оперируем в словаре и грамматике, будучи концептами, в непосредственном (выделено Л. В. Щербой. – Т. Н.) опыте (…) нам вовсе не даны» [Щерба 1974: 25].
Необходимо заметить, что сходные теоретические позиции и искания можно найти не только в отечественном языкознании. Приведем в качестве примера одно мало известное движение в Германии, как-то увядшее в течение периода между войнами: так называемых «лингвистов-телеологов»[15]. Это Э. Херманн, В. Хаверс, В. Хорн, печатавшиеся в Вене, Геттингене, Страсбурге и др.
Центром внимания, ядром языкового происхождения и ареной эволюции это направление также считало синтаксис (ср. с этим внимание к морфологии, парадигмам, частям речи у компаративистов и структуралистов). Именно из «синтаксического дыма», по их мнению, рождались звуковые комплексы, затем – слова, затем – фонемы.
Очевидно – по всем ссылкам и по принципиальной значимости самой работы, – что у «телеологов» основополагающими трудами были прежде всего следующие: книга В. Хаверса «Основы объясняющего синтаксиса» 1931 [Havers 1931] и монография Э. Херманна «Звуковой закон и принцип аналогии» того же 1931 года [Hermann 1931]. Более поздние их труды принципиально новой теории уже не содержали. Первичными для телеологов были мелкие словечки не больше слога, которые вначале были вопросительными, затем указательными, далее превращались (с распространителями) в неопределенные слова. По мнению В. Хаверса [Havers 1931], эти мелкие слова были частотными в нарождающейся звуковой речи, так как из-за своей краткости и фонетической простоты они были удобопроизносимыми и хорошо воспринимались перцептивно. Неясным остается, однако, их взгляд на происхождение знаменательных слов, вообще – на происхождение морфологии. По мнению телеологов, эти мелкие словечки разным образом комбинировались в линейном потоке речи, именно поэтому главным источником знания о языке древности и понимания языка современности и является синтаксис.
Итак, синтаксис par excellence является в этой теории центром лингвистических изменений и ареной их реализации. Таким образом, очевидно, что «парадигматическое мышление», ставшее центральным в лингвистике в последующие десятилетия, еще считалось для них второстепенным. Необходимо заметить, что «телеологи», в свою очередь, стояли на плечах двух знаменитых предшественников: Б. Дельбрюка, завершителя младограмматического синтаксиса, которому его ученик, Э. Херманн, посвятил целую книгу после его смерти [Hermann 1923], и Я. Ваккернагеля, известные положения которого о втором, ослабленном, месте в высказывании тогда усиленно обсуждались: второе слово или второй член предложения? Члены предложения, в рамках немецкой теории, как уже говорилось, стягивались из диффузных частиц, становясь оформленными частями речи.
Близким к российской лингвистике было у них и понимание сути языковой эволюции. См. у Л. В. Щербы: «Мы имеем полное право сказать, что вообще все формы слов и все сочетания слов нормально создаются нами в процессе речи в результате весьма сложной игры сложного речевого механизма человека» [Щерба 1974: 25]. Именно такая же отчетливая установка на то, что эволюция языка в реальности есть сложное переплетение условий и движущих сил, и это для каждого языка индивидуально благодаря внешним воздействиям, и заставила Э. Херманна написать очень большую книгу [Hermann 1931] против «безысключитель-ности» звуковых законов (тезис Лескина), в которой на каждом шагу не только демонстрируются, но и интерпретируются «исключения» из фонетических законов и нерегулярность действия законов аналогии. По мнению Э. Херманна, компаративисты просто ловко лавируют между запутанными Lautgesetzten («языковыми фонетическими законами»), а на самом деле их методы нуждаются в улучшении [Hermann 1931: 6]. В отличие от классических индоевропеистов, «телеологи» интересуются не методами реконструкции морфологии и фонологии, а требуют тщательного построения идущей в пра-историю линии синтаксических изменений и затем – выведения универсальной эволюционной диахронической структуры. Именно эта установка на поиск универсалий вынудила Э. Херманна [Hermann 1942] обратиться также к детальному обследованию фактов фразовой интонации в самых разных языках, в том числе и даже самых экзотических.
И все же лингвистика концептов, т. е. валоризованных обобщений языковой данности, в это время развивалась и практически победила. И победила неслучайно. Такое описание начинается с фонемы и идет далее «по уровням», складывающимся по принципу: из мелких кирпичиков – в большие здания.
В подобном, бесконечно более удобном для описания и преподавания, построении языка никак не могло найтись места не только «партикулам», но и просто незнаменательным словам и интонации. Неслучайно, что именно в эту межвоенную эпоху появились и стали регулярными созываемые специальные Фонетические конгрессы (первый конгресс состоялся в 1932 г. в Амстердаме под руководством Й. Ван Гиннекена), в то время как для других языковых «уровней» таких регулярных и секуляризованных конгрессов не существует.
Таким образом, в «по-уровневой» системе интонации и партикулам места не нашлось, а в первой, побежденной, системе метаописания, низшие и первичные единицы языка тонули в тумане высказывания-фразы; т. е., иначе говоря, побежденному метаописанию трудно было перейти от интуитивно мерцающей реальности к абстрагированному метаотображению. Любопытно, что только на уровне словаря лексем, т. е. минимальных единиц, все-таки оказалось возможным приписывать слову его интонационные характеристики[16], но в общей системе «по-уровневого» описания интонации и партикулам места не нашлось.
Формулируя более четко, скажем, что описание, начинающееся с фонологии, не сосуществует с интонацией и частицами в той же системе и сосуществовать не может. Важно, что приверженцы-создатели новой теории – Н. С. Трубецкой и Р. Якобсон – постепенно охладели к просодическим заданиям. Р. Якобсон занимался только ударением и стихом (почему – мы скажем в следующем параграфе), а Н. С. Трубецкой нашел выход в полной секуляризации просодии, выделяя ее в «Основах фонологии» в особый, весьма эклектичный раздел.
Итак, говоря проще, оба представленных описания языка находятся в отношении «дополнительности». Подобные отношения «дополнительности» вполне известны в таких науках, как, например, физика или биология, и почему-то оказываются совершенно нетерпимыми в лингвистике, видимо, еще не подошедшей к самым первым кризисам «нормальной науки», по Т. Куну.
Нетрудно заметить, что некоторым тормозом для смежных наук вообще является обычай? привычка? брать исследователями области А из соседней науки Б нечто, искренне полагающееся незыблемым, тогда как для ученых самой Б эта незыблемость может ставиться под сомнение. Так, выше мы говорили о том, что многие лингвисты считали, что язык (речь) человека начинается с высказываний, т. е. синтаксиса. И только «нормальная наука» сделала синтаксис уровнем высшего класса. И вот мы читаем у биологов [Зорина, Смирнова 2006: 165]: «Эта способность комбинировать символы не случайным образом, а в порядке, который передает вполне определенный смысл, заставляет предполагать, что антропоидам доступно наиболее важное свойство языка человека, то, что в лингвистике считается его вершиной, – синтаксис».
А если «в лингвистике» попытаться перевернуть пирамиду уровней?
§ 3. Возможности метаотображения и реальность эмпирии[17]
К вопросу о том, к какой части речи принадлежат партикулы, и к тому, почему же так долго и так неохотно лингвистика как «нормальная наука» не принимала ни «дискурсивных слов», ни интонации и все время стремилась отбросить их на особые эволюционные рельсы, необходимо еще раз вернуться и рассмотреть это с несколько другой точки зрения. Несмотря на их вполне законный статус в пределах языковых систем, дискурсивные слова есть, скорее, факт устного общения или (как это мы покажем далее) были ранее фактом исключительно устного общения. Как уже говорилось в параграфе 1, эти частички-партикулы уводят нас к чему-то очень древнему, к самым ранним пластам языковой эволюции; значения их (если можно говорить вообще об их «значениях») диффузны, размыты (как будет показано также в главе третьей на славянском материале), но, рассмотренные с общеславянской точки зрения, они воссоздают какую-то общедоступную для носителей славянских языков семантику.
Итак, лингвистика как «нормальная наука» настоящего времени не любит ни устного, ни диффузного, ни – в целом – чего-то, не имеющего таксономического статуса. Но – почему?
Корни этого, как представляется, восходят к глубокой древности и соотносятся с неким парадоксом описания языкового существования. Парадокс этот можно описать следующим образом. Все как будто бы знают, что в начале человеческая речь была устной, а письмо, запись речи, появилось гораздо позднее. Но в человеческом осознавании этого письменный текст был (и остается) примарным.
Нам уже приходилось по этому поводу цитировать Мишеля Фуко [Фуко 1994: 75], который пишет о самой ранней «эпистеме» отношения мира и вещей: «переплетение мира и вещей в общем для них пространстве предполагает полное превосходство письменности. (…) Отныне первоприрода языка – письменность. Звуки голоса создают лишь его промежуточный и ненадежный перевод. Бог вложил в мир именно писанные слова; Адам, когда он впервые наделял животных именами, лишь читал эти немые, зримые знаки; Закон был доверен Скрижалям, а не памяти людской; Слово истины нужно было находить в книге. (…) Ибо вполне возможно, что еще до Библии и до всемирного потопа существовала составленная из знаков природы письменность».
Именно поэтому, подчиняясь некоему общему закону, приверженцы «нормальной науки» Н. С. Трубецкой и Р. Якобсон и занимались в основном следующими проблемами: ударениями – они имеют (имели) графическое воплощение, или стихом, который легко поддается разметке.
Интересное наблюдение о человеческой ориентации на текст находим у такого многостороннего лингвиста, как И. А. Бодуэн де Куртене: «Усвоение письма ослабляет память на акустически воспринимаемые и акустически передаваемые явления. (. ) Память грамотного человека регрессирует и уже не может обойтись без помощи чтения и письма. (. ) Я, например, принадлежу к числу грамотных и когда хочу представить себе что-либо, мыслимое с помощью языка, то как бы вижу перед глазами написанные слова и фразы. Как я представлял себе то же в детстве, до того, как обучился грамоте, – я уже не могу вспомнить. По всей вероятности, я вообще не делал попыток в этом направлении» [Бодуэн де Куртене 1963: 331].
Можно предположить, что эта концептуальная презумпция отображения мира, в том числе и слышимого, только в графическом пространстве изначальна[18]. Во всяком случае, интересно заметить некоторую эволюцию верификационных установок у литературоведов. В принципе, ранее, если стоял вопрос о влиянии одного автора на другого или – уже – о влиянии произведения одного автора на произведение другого автора, метод верификации состоял в обнаружении (попытках обнаружить) книги (книгу) автора А у автора Б и, желательно, еще с пометками автора Б «на полях». Между тем, каждый человек, в том числе и филолог, понимает, какую огромную часть получаемой им информации вообще он получает именно из устного и нигде не зафиксированного общения. Упомянутая эволюция, или методический сдвиг, состоит сейчас в том, что гораздо большее внимание уделяется дневникам, письмам, путевым заметкам писателей – с надеждой найти там следы все той же полученной им информации.
Можно предположить, однако, что за этой установкой на письменную оболочку языка стоит желание (или надежда?) видеть в ней некую опору, уверенность в том, что мы видим мир и язык таковыми, каковы они суть. На самом деле метаотображение языка не всегда столь всеобъемлюще, как наше же его понимание. Известно, в частности, что интонационный поток многоканален и передает сразу самую разнообразную информацию, тогда как самые совершенные средства современной экспериментальной фонетики отобразить могут только три его измерения или же – разбить этот поток в виде нескольких информационных лент.
Эти идеи подводят нас к общим положениям соотношения метаотображения, эмпирической реальности и интуиции.
И «мелкие словечки», и интонация снабжают высказывание таким большим дополнительным к лексико-грамматическому составу количеством информации, что современная лингвистика как «нормальная наука» передать это практически не может. Мне уже приходилось писать о том, как в эпоху советской цензуры [Николаева 2002] слушатели «бардовских» песен и даже вполне серьезной музыки находили в мелодиях некие «закодированные», но всем понятные политические намеки. При этом «этого же» у других исполнителей той же музыки или тех же песен не было. Точно также иногда люди, входя в комнату, ощущают нечто: приятное? странное? опасное?, чего объяснить на основе правил не могут. Если вернуться опять к книге Т. Куна [Кун 1975: 241], то в заключительных главах (Дополнение 1969 года) он пишет о «неявном знании» и интуиции как о проверенных и «находящихся в общем владении научной группы принципах, которые она успешно использует, а новички приобщаются к ним благодаря тренировке, представляющей неотъемлемую часть их подготовки к участию в работе научной группы». Приведу некоторые примеры из исследований лингвистов-коллег.
Владимира Николаевича Топорова как ученого отличала интуиция, доходящая почти до визионерства. Он был Мастером в старинном средневековом смысле (недаром и писал о Мастере Экхардте). Его работа об античных Музах, которых он доводит, реконструируя, до полевых мышей Малой Азии, кажется несколько неожиданной [Топоров 1977]. Однако два взрослых русских поэта пишут: «Музы, рыдать перестаньте» (Н. Гумилев) и «Я так боюсь рыданья аонид» (О. Мандельштам). Откуда этот страх? Как кажется, это элементарная человеческая реакция отталкивания от неприятного писка мышей. Другой пример. А. Б. Пеньковский пишет о «Нине», роковой, страстной, ломающей жизнь героине русской литературы первой трети XIX века, но – почти не существующей [Пеньковский 2003]. Но спустя полтораста лет мы слышим в «блатной песне»: «Сегодня Нинка соглашается, / Сегодня жизнь моя решается… А если Нинка не капризная, / Распоряжусь своею жизнью я!» Полувиртуальная Нина сохранила свою сущность.
Итак, мы считаем, что эмпирическая реальность и ее мета-отображение суть явления разной природы. Наука ХХ века сумела отделить образы, существующие в нашем сознании, и впечатления от непосредственно данных нам в восприятии феноменов. То есть в ХХ веке пошел активный процесс преобразования бессознательного в сознательное («трансцендентная функция»), и именно это породило в конце концов ту лингвистику – «нормальную науку», которая сейчас является господствующей. Неслучайно И. А. Бодуэн де Куртене, как кажется, понял это один из первых, и его термин «психический» нужно понимать как образ сознания, так же, как «логический», который сейчас связывается не с логикой, а просто со смыслом. Повторяя слова К. Г. Юнга, можно сказать, что «Психическое существование – это единственная категория существования, о котором мы имеем непосредственное знание, так как ни о чем невозможно узнать, если это сначала не появится как психический образ. Только психическое существование непосредственно поддается проверке. В той степени, в какой мир не принимает форму психического образа, он фактически не существует» [Юнг 1997: 507].
Таким образом, наше метаотображение фиксирует воспринимаемое, в том числе и смысл слышимого, лишь частично, в той мере, в какой это структурировано в нашем сознании. Как подробно описала Н. Д. Арутюнова в своей книге [Арутюнова 1988], только сенсорика реагирует на актуальные события, знания же и факты располагаются в нашем сознании.
Основной идеей, проводимой в моей книге «От звука к тексту» [Николаева 2000], была идея принципиального различения валоризованной системы и эмпирической реальности, которые связаны одна с другой через когнитивный порог перцепции: феномен эмпирии, перейдя через некий квантитативный порог, может войти в валоризованную систему, увеличив ее или даже несколько перестроив. То есть, это несколько другая интерпретация положения о «переходе количества в качество».
Несомненно, что обсуждаемые здесь партикулы, называемые обычно «дейктическими» (на этом мы остановимся далее), включены в ситуацию сиюминутности или выросли из нее. Именно поэтому их первоначальную общность и нежелательно восстановить для лингвистики как «нормальной науки». Именно поэтому многие партикулы, бывшие позиционно и исторически свободными и примарными, лингвисты стремились объявить застывшими или окаменелыми формами уже сложившихся парадигм.
На самом деле валоризованная лингвистика с фактами того же языка в эмпирии пересекается. В работе [Николаева 2002] я приводила в связи с возможностями отражения интонации положения Э. Бенвениста из его доклада на Лингвистическом конгрессе 1963 года. Считаем нужным повторить их и здесь. Э. Бенвенист понимал, что существуют два разных языковых мира, хотя они охватывают одну и ту же реальность; им соответствуют две разных лингвистики, пути которых, однако, пересекаются. «С одной стороны, существует язык как совокупность формальных знаков, выделяемых посредством точных и строгих процедур, распределенных по иерархическим классам, комбинирующимся в структуры и системы; с другой – проявление языка в живом общении» [Бенвенист 1974: 139]. См. у него далее: «С предложением мы покидаем область языка как системы знаков и вступаем в другой мир, в мир языка как средства общения, выражением которого является речь (le discours)» [Там же].
Можно считать, что эмпирическая реальность языка – это речь, и отражает ее лингвистика речи. Однако и в данном случае наблюдения языковедов о речевых структурах или спорадичны, или переходят в область лингвистического употребления, то есть становятся правилами выбора «из оси селекции на ось комбинации», но не подлинным отражением, рецепцией того, что воспринимается и ощущается носителем языка в каждый момент.
§ 4. Лингвистика парадигматическая и непарадигматическая
Общепринято деление на парадигматику и синтагматику и тем самым на лингвистику парадигматическую и синтагматическую. Эта последняя изучает правила соединения словоформ в синтагмы (словосочетания) и в предложения (высказывания). Тогда что же такое лингвистика «непарадигматическая»? Как с этим связаны минимальные единицы – партикулы?
Собственно говоря, «непарадигматическая» лингвистика – это то, о чем говорится в данной книге, и, как представляется ее автору, это и есть некая «дополнительная» система лингвистического метаописания.
В параграфе первом приводятся мысли Ф. Адрадоса и К. Шилдза о том, что протоиндоевропейский язык на первой стадии состоял «из номинально-вербальных либо прономинально-адвербиальных слов-корней, определявших друг друга и образовывавших синтагмы и предложения». То есть, иначе говоря, существовали два класса языковых единиц – те, которые составили впоследствии так называемые «знаменательные слова», и слова «коммуникативного фонда», часто называемые дейктическими, или дискурсивными. Они присоединялись друг к другу (как именно присоединялись, будет говориться во второй главе). В настоящей же книге речь идет о единицах второго класса (в терминологии К. Шилдза – «прономинально-адвербиальных»), которые легко раскладываются на минимальные единицы – партикулы.
Приведем простой пример. Откуда произошло окончание дательного падежа слова жена – жене? Историческое языкознание объясняет это так. GENA + I > GENAI > GENѢ, так как A + I > AI > Ѣ. Подобные объяснения знают студенты еще на младших курсах. Но при этом не ставится и не решается простой вопрос – что же это за i, присоединяемое к основе, тождественно ли оно i, лежащему в основе флексии номинатива множественного числа, и другим i, например, в глагольных флексиях, или это разные по функции и семантике i? Наконец, небезразличен для истории языка и такой вопрос: какова была в предыстории позиция этого знаменательного корня *gen– и какова была его функция в высказывании, при которой это i присоединялось именно справа. То есть, иначе говоря, речь идет о том, как функционально дистрибуировались эти два типа единиц, описанных Ф. Адрадосом и К. Шилдзом, выбирая ту или иную последовательность представителей этих классов в зависимости от коммуникативного задания говорящего в ту эпоху. Можно – сначала упрощенно – сказать, что таким способом выявляется мотивация того, как «из вчерашнего синтаксиса возникает сегодняшняя морфология» (афоризм Т. Гивона). Почему было сказано: «упрощенно»? Потому, что слова «вчерашний синтаксис» предполагают синтаксис в нашем современном его понимании, упорядоченные сочетания уже сложившихся форм словоизменения. Каков же был на самом деле «до-флективный» и «до-частеречный» синтаксис? Его мы, по моему мнению, должны реконструировать методами «непарадигматической» лингвистики, которая пока еще только возникает. Конечно, некоторые отдельные попытки воссоздать этот «минисинтаксис» словоформы уже делались, и давно: например, Ф. Шпехт трактовал форму множественного числа от греческого «человек» – áνéρeς как «один человек и один здесь, а один там», то есть это как бы тройственное число[19].
Уже говорилось о том, что «нормальная» лингвистика этот вопрос практически не ставила. И можно понять – почему. Это – страх перед первоначальной диффузностью элементов, при которой современные семантические методы явно не работают. Это страх перед новой таксономией, который уже не толкает к тому, чтобы объявить приклеившиеся партикулы «застывшими» или «окаменелыми» формами в прошлом состоявшихся членов все тех же частей речи.
Это нежелание подумать о том, что наступает время новой парадигмы, которая, возможно, потребует расстаться с удобной идеей униформитарности, прочно укрепившейся в последние десятилетия. С идеей униформитарности связана и установка на невозможность – в эволюции – существования типологических тупиков. Дискуссии вокруг теории униформитарности относятся в основном к 80-м годам прошлого века, когда появились две книги, ставшие сразу цитируемыми. Это монографии Р. Лэсса [Lass 1980] и Дж. Айтчисон [Aitchison 1981]. Принцип униформитарности, провозглашенный Р. Лэссом, означал следующее: «Не существует ничего (т. е. никаких событий, последовательностей событий, комбинаций явлений, общих законов), что по каким-либо разумным причинам не могло бы существовать для настоящего, но было бы истинным для прошлого» [Lass 1980: 55]. В более поздних работах Р. Лэсс повторяет этот тезис, а также тезис о том, что изменения в языке не принадлежат области рационального изменения: «Я не думаю, что языки – это «системы» в собственно-техническом (т. е. системно-теоретическом) смысле, и что, таким образом, их можно удачно диахронически рассмотреть, даже если бы они и были таковыми»; он считает, что изменения в языке вообще не подлежат никакому объяснению [Lass 1987: 151]. Аналогичные идеи развивает и Дж. Айтчисон: см. характерное название ее книги «Языковое изменение – прогресс или упадок?».
Естественно, что идеи униформитарности в свою очередь неотделимы от типологических изысканий, так как допустить что-либо неизвестное ранее в древности, по этой теории, можно лишь в том случае, если хоть где-нибудь найдется язык, обладающий искомым свойством. Таким образом, язык отделяется от других антропоцентрических проявлений, за которыми все-таки оставляют право иметь тупиковые и даже нам совсем неизвестные ответвления.
Напоминаю, что в нашей работе будет говориться именно о не описанных таксономически частичках языка, партикулах, которые могут выступать сейчас как лингвистические единицы – тогда они становятся либо союзами, либо так называемыми клитиками[20], либо частицами в грамматическом смысле; они могут склеиваться друг с другом, создавая новую лингвистическую единицу; они могут «приклеиваться» к глагольной или именной основе в виде аугментов, будущих флексий, будущих расширителей[21].
Таким образом, «непарадигматическая» лингвистика, в нашем понимании, это некая (практически новая) лингвистическая дисциплина, пытающаяся приблизиться к описаниям протоязыка Стадии I и проследить механизм возникновения словоформ, имеющих флексию, через описание еще не введенного в лингвистику, но явно единого по происхождению класса – класса партикул.
То есть «непарадигматическая» лингвистика может быть определена как новая дисциплина, стоящая между синтаксисом и морфологией[22]. Однако одновременно она обращена и к синхронии, и к глубокой диахронии, так как не представляет собой историю тех слов, или словоформ, которые мы видим в языке и речи в настоящее время.
Этой дисциплины пока еще не существует – так же, как не существует такой части речи, как партикулы. Не существует пока и исследовательских методов, которые могли бы дать желанную историю партикул с не менее желанной мотивацией их преображения[23].
Как представляется, одним из подходов к этой истории может быть обнаружение «скрытой памяти» языка, о которой будет говориться в следующем параграфе.
§ 5. « Скрытая память» языка и возможности ее выявления[24]. Партикулы и знаменательные слова
В этом параграфе демонстрируются сразу две теоретические позиции, одна из которых предполагает другую. Проще говоря, на дискуссию выставляется такое общее понятие, как «скрытая память» языка. По нашему мнению, скрытая память языка распространяется не только на партикулы, не только на слова коммуникативного фонда, но и на слова так называемые «знаменательные». С другой стороны, концепция «скрытой памяти» может служить одним из способов реконструкции «партикульной» диахронии.
Итак, что же такое «скрытая память» языка? Прежде всего, ясно, что речь не идет о фактах обыденного научного знания, т. е. о тех фактах, которые известны историкам языка и специалистам компаративистам. И не о тех фактах, которые сообщаются студентам. Так, например, описание диалектной дистрибуции праславянского Ѣ – это не скрытая память. Объяснение того, почему в одних случаях в языке имеет место «беглая гласная» (лоб – лба), а в других нет (дом – дома), также не является «скрытой памятью», так как это тоже факты обыденного научного знания, об этом знают и пишут в нормативных учебниках.
Говоря обобщенно, можно сформулировать понятие «скрытой памяти» языка как ту ситуацию (или те случаи), когда в рече-употреблении сосуществуют два как будто бы свободно заменяющихся в коммуникации варианта (лексемы, грамматические формы, синтаксические модели и под.); при этом на вопрос, чем их употребление различается, носитель языка ответить не может. Не может, как правило, ответить на этот вопрос и кодификатор-лингвист (т. е. при этом для вариантов иногда даются пометы вроде «разг.», «книжн.», «вариант» и т. д.). И только пристальное исследование большого массива данных дает возможность выявить некоторую «тенденцию», позволяющую интерпретировать это различие; именно тенденцию, а не грамматикализованную модель. Иногда помогает выявить эти различия какой-нибудь формант, который не воспринимается и не описывается традиционно как релевантный фактор различения «вариантов».
Почти обязательным для «скрытой памяти» феноменом является «наивная» (в буквальном смысле) реакция носителя языка, и даже филолога, на вопрос об этих вариантах – в том смысле, что ответом будет сообщение о том, что ведь можно сказать и так, и так, и все равно будет правильно. Иными словами, разработка «скрытой памяти» не относится к той строгой лингвистике как нормальной науке, в которой описание строится по принципу: можно – нельзя.
Разумеется, я понимаю, что предлагаемая теория только нарождается. Все сказанное далее будет относиться к сфере партикул, которые, на мой взгляд, во многом помогают вычислить эту «скрытую память» языка. Именно они, по-моему, являются теми подводными межевыми столбами, которые помогают нам проследить путь языковой эволюции. Допускаю, что моя точка зрения пристрастна. Допускаю также, что и знаменательные слова, не перешедшие в разряд дискурсивных слов, тоже могут как-то определять «скрытую память» языка. Приведем некоторые примеры.
Нам уже приходилось писать об употреблении / неупотреблении в речи русского местоимения первого лица я[25].
Что же представляет собой это я в индоевропейской предыстории? Естественно, оно соотносится с такими же односложными формами славянских и балтийских языков. Но переход к индоевропейским языкам ведет я к греч. ἔγω, латинскому egō, др. – инд. ahām, авест. azəm и др. [ЭССЯ. 1974. Вып. 1: 100—103]. Таким образом, оно предстает как трехчленное партикульное сочетание: e (как в э + то) + g/h/z/ + m. В ЭССЯ оно реконструируется как *egom (’It is me’). Неясными остаются: идентификация чередования e/a и объяснение того, почему в одних языках есть в этой форме j, а в других – нет. О. Н. Трубачев интерпретировал начальный j как необходимую вставку, для того чтобы избежать частых зияний, поскольку для Я частотна конструкция а + я, тогда было бы а..а. Возможна и другая концепция, по которой *j-восходит к релятивному форманту, соединяющему части высказывания. Так, о более древнем чисто разделительном характере относительного местоимения *jo писал еще Я. Гонда [Gonda 1954—55: 1]. См. также у К. Красухина: «Частица o/jo, стоявшая в начале предложения (колона) в крито-микенских текстах, обладала сильным фразовым ударением. Это не морфема генитива, а частица, подобная *de, т. е. выражающая противопоставление предшествующей конструкции и направленность на последнее сообщение» [Красухин 2001: 129]. Тогда русское я может раскрываться в предыстории как четырехчленный катафорический комплекс, состоящий из четырех (возможно, в других языках – трех) партикул: *j + e + gh’ + om. Что же этот комплекс означает, если его перевести на современный язык русских частиц-партикул? Это: ’а + вот + он + я’. Интересно, что именно так часто отвечают русские, имея в виду самого себя, на вопрос: А где такой-то? Таким образом, «скрытая память» языка сохранила семантическое тождество этого древнего четырехчленного катафорического комплекса, только переодев древние партикулы в новые одежды из того же мешка партикул, а старый комплекс свернула до неузнаваемого неспециалистами моносиллаба.
Но с этим словом, местоимением первого лица, связаны и другие интересные вещи. Те, кто признает изначальную композитность этого местоимения, расчленяют его по-разному. Так, например, О. Семереньи [Семереньи 1980: 231] пришел к выводу, что *-m было более ранним, и именно оно было личным окончанием глагола в первом лице: «Следовательно, значащим элементом в номинативе является не *eg(h), а -om; *eg(h) – это элемент, который в качестве префикса присоединялся к местоимению *em». То, что позднее (т. е. современное) первое лицо восходит к комплексу частиц, а собственно показателем первого лица является m-основа (см. м-ой, м-не, mein, my, moi и т. д.), признает также В. Н. Топоров ([Топоров 1992] и др. его статьи). Эту форму он реконструирует как *eg’hom и пишет о ней: «и. – е. *eg’hom, как бы его ни членить, …состоит более чем из одного элемента, из двух по крайней мере» [Топоров 1992: 131]. Первым элементом он считает дейктический элемент: *e-, *H’e-, *H’ei-? *H’I и т. д. Вторым элементом – усилительную частицу: *-g’h-, *-gh-. Но основное внимание он уделяет последнему элементу, с опорой на -m-, развивая идею совместного существования этой формы и той, которая выступает в родительном падеже и обычно трактуется как супплетивное образование для косвенных падежей у местоимения первого лица – т. е. *men. По мнению В. Н. Топорова, это *men связано с корнем «общементального значения» (см. mens/mentis), «тонкой духовной субстанции», противопоставляемой субстанции более грубой, связываемой со вторым лицом. То есть, по концепции В. Н. Топорова, в виде интродукции сначала вводится «Вот моя здешнесть», то есть я, после чего это я поясняется через *men-, атрибуируется.
Выводы В. Н. Топорова интересным образом соотносятся с выводами Г. А. Золотовой о существовании местоимения первого лица, точнее, русского субъекта, которое выражает «инволютивную маркированность» [Золотова 2000]. Имеется в виду в данном случае Мне хочется, рассматриваемое ею в противопоставлении с Хочется. Положения Г. А. Золотовой интересно сравнить с исследованием о двух формах субъекта в среднеанглийском языке и в раннем современном английском: I think – Methinks [PalanderColin 1998]. Автор приходит к выводу о том, что I think употребляли представители «элитарных слоев» и более авторитарно выражающиеся англичане, а форма Methinks была представлена в речи купцов и более низких слоев, скорее, колеблющихся в своих выражениях. Эти выводы вполне коррелируют с выводами Г. А. Золотовой о сути категории инволютивной / волютивной маркированности. Некоторое сходство с высказанными выше идеями можно найти в известной работе И. М. Тронского о дономинативном прошлом индоевропейских языков [Тронский 1967]. Хотя статья в целом посвящена реликтам дономинативного строя и в ней утверждается мысль о том, что в функции субъекта употребляется иногда винительный в безъобъектном значении, его примеры вроде латинского (Heu) Me miserum ’О, я несчастный’ [Тронский 1967: 94] также важны тем, что демонстрируют возможность введения первого лица без интродуктивного построения ’ вот + он + я’, к которому на самом деле восходит индоевропейское «Я».
Достаточно сложное построение, однако близкое к указанным выше, предлагает для форм первого лица В. М. Иллич-Свитыч [Иллич-Свитыч 1971]. Он перечисляет (и, действительно, очень убедительно) те языки, где m– основа связывается с первым лицом. Однако у автора явно возникают колебания в вопросе о том, что же считать исходной формой местоимения, а что – показателем косвенной основы. Он формулирует вывод следующим образом: «Наличие форманта косв. пад. – n– в форме gen. предполагает, по-видимому, что первоначальная форма me– выполняла функцию прямого падежа (основа косв. пад. me-n); введение специфического и. – е. новообразования – формы *hegHom в nom. (первоначально эмфатическая форма?) вызвало изменение функций основы *me-. В и-е., по-видимому, наличествовал вариант с предшествующим he-/ho– (восходящим к указат. мест.)» [Иллич-Свитыч 1971: 397]. Таким образом, вводящая конструкция у В. М. Иллича-Свитыча была элементом словоформы, вытеснившим в косвенные падежи исходное начало me-, которое в других языках ностратического пространства могло быть вытеснено формантом n-, также ставшим в свою очередь инициалью.
Однако для первого лица единственного числа в индоевропейском реконструируется еще одна форма. См. хеттское uk-, продолженное в германских местоименных формах, сохранивших много реликтовых элементов. К. Шилдз [Shields 1998] объясняет эту форму как контаминацию уже «ослабленного» первоначального дейксиса *u и дейктической частицы *k(e/o), обладающей семантикой ’here and now’. То есть и эта форма местоимения первого лица также есть первоначальный композит, а именно – комбинация дейктических элементов, очевидно, с тем же катафорическим значением вроде ’ вот я’.
Все это можно было бы считать просто историей личных местоимений первого лица и не относить к явлениям «скрытой памяти», если бы это не имело отношения к одной скрытой тенденции различения двух конструкций, которую как раз демонстрирует именно русский язык. Дело в том, что в русском языке равно допустимы в речи и формы с представленным местоимением первого лица единственного числа: Я люблю хорошо заваренный чай, и формы без местоимения: Люблю хорошо заваренный чай. См. также в поэзии: Люблю тебя, Петра творенье (Пушкин) и Я люблю этот город вязевый (Есенин). То есть русский язык оказался интересным лингвисту для возможных новых выводов, находясь как бы в некоей середине, где по одну сторону помещаются языки с обязательным местоимением (например, английский, французский, немецкий), и языки, где местоимение в речи практически почти всегда опускается (итальянский, польский и др.). На эту особенность русского языка лингвисты не обращали пристального внимания, однако в последние годы появилась серия работ, начатых Ж. Брейяром и И. Фужерон [Брейяр, Фужерон 2001; Breuillard, Fougeron 2001; Брейяр, Николаева, Фужерон 2003], в которых демонстрируется, что за этим внешне не систематичным варьированием форм с местоимением и без него можно увидеть определенную тенденцию.
Эта тенденция такова[26]: во-первых, местоимение возникает тогда, когда имеет место противопоставление – как контактное (Гости давно ушли, а я все продолжал обдумывать происшедшее), так и дистантное (Посмотрите, как прекрасно выглядит Маша: такая подтянутая, спортивная. А я не люблю спортивных женщин).
Интересно то, что связь местоимения с противопоставлением отмечалась для древних языков [Елизаренкова 1982: 241 и др.] и отмечается для тех языков, где местоимение как правило отсутствует (например, см. о польском: [Nilsson 1982: 54]; об испанском: [Васильева-Шведе 1948: 530]). То есть это, очевидно, одна из древнейших синтаксических реализаций сочинения при противопоставленности[27].
Далее. Во-вторых, местоимение первого лица появляется в русском языке при наличии в этом же высказывании других местоимений, часто контактных по отношению к нему, например: Он знает, что я ему этого не говорила; Честное слово, я их не видела и т. д. Интересно, что в старославянском, где употребление местоимения при противопоставлении обязательно, указанная выше ситуация я не требует [Ефимова 2002].
Существует и ряд речевых штампов, когда, напротив, практически не употребляется я: Прошу слова; Слушаю Вас; Стреляю и т. д.
Однако основной вывод, который сделали Ж. Брейяр и И. Фужерон на материале современного русского языка, очень важен для объяснения контекстно-семантических отношений. А именно: я не употребляется тогда, когда говорящий полностью присоединяется к точке зрения Другого, я употребляется при несовпадении точки зрения говорящего и точки зрения Другого.
Отсюда следуют два важных вывода. Во-первых, в семантику не-присоединения к точке зрения Другого как подвид органически входит и сообщение о Новом: новом событии, новой точке зрения, собственной новой акции[28]. Во-вторых, существенно понять, что этим Другим может быть и сам говорящий. Люблю хорошо заваренный чай! может утверждать человек, говоривший это много раз и еще раз в этой своей любви убедившийся. Поэтому А. Пушкин убежден в своей любви к Петербургу и повторяет это не раз: Люблю твой строгий, стройный вид… С. Есенин же понимает, что его любовь к дряхлой Москве может быть оспорена: хоть обрюзг он и одряб.., но, споря с этим, он утверждает: Я люблю этот город вязевый.
Эта тенденция хорошо прослеживается и на самом простом бытовом уровне. – Ну, ты идешь? – Иду, иду, – подтверждает жена. Ср.: Ну, ты идешь? – Я иду (’То есть, ты думаешь, что я копаюсь, но нет: я иду’).
Теперь можно снова обратиться и к партикулам, и к «скрытой памяти», эффектно подтверждающейся именно этой сохранившей архаику русской особенностью. Итак, я – это катафорическая комбинация партикул (см. выше). Естественно, что эта объ-явленность себя, своей точки зрения (ср.: «вот моя здешнесть») и должна связываться с противопоставлением, с объявлением нового, началом текста, с несогласием. Легко представить себе, что официант говорил: Слушаю-с, а начальник: Я слушаю. Гораздо труднее ответить на вопрос о том, почему одни языки грамматикализовали обязательность местоимений при финитных глаголах, другие – грамматикализовали практическое отсутствие местоимений, а русский язык почему-то сохранил в неявном виде это тонкое семантическое различие.
На связь «скрытой памяти» и партикул можно привести еще несколько примеров (они приводятся в [Николаева 2002]). Так, в частности, А. И. Рыко [Рыко 2000] исследовала дистрибуцию окончаний 3-го лица настоящего времени глагола в северозападных русских говорах. В работе приводятся данные о том, что в 3-м лице глагола может быть на конце флексия t или t’ или этой флексии нет. На первый взгляд, здесь представлена именно свобода выбора варианта: у одних информантов чаще один вариант, а у других – другой. Количественные показатели, по ее данным, меняются даже от деревни к деревне. Однако, в соответствии с выдвинутым нами выше положением о статусе «скрытой памяти», намечается некая тенденция, которая все же пробивает дорогу к исследователю. Что же это за тенденция? Как пишет А. И. Рыко [Рыко 2000: 129], «применительно ко всем этим системам можно говорить о противопоставлении актуальных и неактуальных значений презенса, причем актуальные значения характеризуются преимущественным употреблением флексии -t, а неактуальные – преимущественным употреблением флексии -ø».
Более подробно о «прилипании» партикул к знаменательным корнесловам и создании глагольных и именных парадигм с партикульной помощью будет говориться в главе второй настоящей книги, но сейчас можно только сказать по этому поводу, что эти северо-западные говоры «помнят» о том, что добавление партикулы с опорным консонантом -t, то есть с сильной семой определенности «здесь и сейчас», создает именно значение актуальности, а нулевая флексия не создает этой дейктической привязки. В других говорах и в литературном языке прошла грамматикализация окончаний с обязательным добавлением консонанта или с «не-добавлением», а анализируемые северо-западные говоры остались в архаической середине.
Как будет говориться в главе второй, партикулы могли и могут «прилипать» не только справа от знаменательной основы, но и слева. Так, в работе [Николаева 2002] приводится пример того, что в формах греческого глагола (аориста и имперфекта) инициальным компонентом является аугмент -ἐ, который в настоящее время преподается студентам как чисто грамматический формант-показатель категории. Однако Вяч. Вс. Иванов [Иванов 1979], вслед за К. Уоткинсом, предлагает отождествить этот формант с начальной частицей *e/o (в палайском и других языках отраженной как *a). Вяч. Вс. Иванов разбирает подобные начальные комплексы в индоевропейских языках и, широко привлекая славянский материал, показывает соответствие этого «аугмента» начальному э– в русском э-тот, э-та. Таким образом, партикула э в данном случае «помнит» свое инициальное ударение (инициальное ударение для лексемы это сохраняется), но и аорист как действие яркое, мгновенное и, скорее, сиюминутное, «помнит» именно эту актуальную «здешнесть».
Представляя нашу концепцию «скрытой памяти», мы обращались к идее В. Н. Топорова [Топоров 1992] о том, что *men– в косвенных формах местоимения первого лица соотносится со знаменательным корнем *men-, обозначающим некую тонкую духовную субстанцию. Это подводит нас, в свою очередь, к самой трудной проблеме: связи партикул и знаменательных слов, к проблеме того, могут ли они «перетекать» из одного класса в другой. Некоторые современные решения при этом довольно просты. Например, наречие здесь легко разлагается на исходный комплекс партикул: сь + де+ сь. Но это наречие есть также дейктическое слово.
Возможны и такие случаи, когда и имя собственное на самом деле реконструируется как дейктико-анафорический комплекс. Интересный пример подобной ситуации приводит Т. А. Михайлова [Михайлова 2001]. Так, в древнеирландской нарративной традиции часто фигурирует женский персонаж, обозначенный в тексте как Этайн и обычно исполняющий функции супруги правителя, наделенной рядом признаков, демонстрирующих связь с потусторонним миром. Однако, даже если рассматривать этот персонаж как чисто мифологический, становится очевидно, что составить «биографию» женщины-Этайн невозможно, т. к. в разных текстах она может фигурировать с разными патронимами и выступать в роли жены разных королей, кроме того, зачав, она обычно производит на свет девочку, с которой они «похожи как две капли воды» и которую тоже зовут Этайн. Принципиальная размытость «биографической парадигмы» этого образа не дает также возможности предположить существование нескольких персонажей, носящих одно и то же имя. Аналогичная картина наблюдается с персонажами по имени Этне, которые очень многочисленны.
Т. А. Михайлова, подробно анализируя разные тексты с этими «странными» именами, приходит к выводу, что они развились из сложения двух дейктических основ с семантикой ’этот, оный’ и проч. Именование Этне/Этайн, таким образом, означает буквально «та-вот-та», «вот-та».
Исследование подобных ситуаций только начинается.
§ 6. партикулы и происхождение языка[29]
Естественно было бы задать простой вопрос, как и зачем в работу, посвященную партикулам, вводится раздел о современных теориях происхождения языка?
А между тем эти вопросы тесно связаны. Глубочайшая древность партикул совершенно очевидна, но были ли именно они языковыми первоэлементами или они развивались параллельно с появлением классов знаменательных слов – трудно ответить и еще труднее – доказать. Поэтому хотя бы в обзорном виде я считаю нужным эти теории, как будет видно, весьма актуальные, представить в этой главе.
1
Прежде всего необходимо заметить, что именно в последние десятилетия вопрос о происхождении языка вдруг стал одним из актуальнейших направлений языкознания. Достаточно сказать, что в 1866 году (по другим источникам, в 1876 году) парижское лингвистическое общество прекратило принимать к серьезному рассмотрению какие бы то ни было исследования о происхождении языка и об истоках его развития. В основе этого запрета лежит конфликт между дарвинистской теорией и взглядами известного тогда лингвиста М. Мюллера, который отрицал эволюцию и назвал дарвинизм «бау-вау» и «пух-пух» теорией.
Правда, нужно сказать, что еще Гердер писал о происхождении языка в 1770 году. В 1836 г. о языке как о «внутренней потребности души» писал В. фон Гумбольдт. Можно вспомнить и опыт фараона Псамметиха, описанный Геродотом. Псамметих изолировал двух детей и ждал, на каком языке они заговорят. Будто бы они сказали «бекос», что по-фригийски значит «хлеб». Сходный эксперимент, но уже практически с нулевым результатом, был проделан в XIII веке Фридрихом II Гогенштауфеном.
Однако в 1975 г. вышло из печати уже 15 000 публикаций по этому вопросу. Возникло международное общество LOS (Language Origins Society), которое к 1992 году насчитывало примерно 200 официальных членов. Оно было основано в Ванкувере (Канада) в августе 1983 года. Это общество проводит регулярные встречи. Активными участниками LOS являются не только лингвисты, но и антропологи, философы, физиологи, палеоисторики и т. д. Однако вопрос о происхождении языка, как будет видно далее, до сих пор несколько пугает исследователей, и они, возможно подсознательно, стремятся «привязать» возникновение языка к чему-то, уже ранее признанному «нормальной» наукой.
Таким образом, как естественно предположить, «креационистская» теория не очень популярна, как и другие идеи о происхождении языка «извне».
Однако интересно отметить, что, строго говоря, хотя о «креационистской теории» и говорится немало, нигде в Писании не сказано, что Бог сотворил язык. См. в Первой книге Моисея Бытие:
«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй… И увидел Бог, что это хорошо».
В принципе в Писании могло быть сказано, что Бог решил, принял решение, подумал (пришел к выводу) и т. д. Но он говорит и называет. Но и человек уже владеет языком (или, по крайней мере, не сказано, что он ему дается). См. Быт. 2.19—20:
«Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.
И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым… »
Говоря строго, «креационистскими» являются и теории происхождения языка посредством «обучения» представителями внеземных цивилизаций, антропоидами или не-антропоидами. Но теории подобного рода мы сознательно обсуждать не будем.
Общепризнанным фактом является то, что человек был как будто готов к речи в период более 150 000 лет назад, но сделал это примерно 100 000 лет спустя, в эпоху Верхнего Палеолита. В большинстве работ это так и называется: «Upper Paleolit revolution». Возраст письменности – около 6 000 лет, а признаки знаковых изображений насчитывают примерно 13 000 лет. В настоящее время многие называют прародиной происхождения современного человека Центральную Африку, родину «черной Евы» (black Eve)[30].
Примерную картину (в буквальном смысле) хронологии развития артикуляторного аппарата и речи удобно представить по иллюстрации Констанции Холден [Holden 1998: 2] (см. илл. на с. 62).
Но, как замечает К. Холден [Holden 1998: 282], «thereby hangs a mystery». А именно: в Центральной Азии люди десятки тысяч лет сосуществовали с более «архаичными» неандертальцами. Возможно, что настало время «объединения культур» («socially shared meaning»), которое потребовало создания языка. Известно, что группы первых людей насчитывали примерно 150 человек.
Поэтому естественно, при таком разнообразии взглядов, что теории происхождения языка часто являются либо ничего не объясняющими (часто кажущимися «странными»), либо эволюционистскими, но, как будет показано далее, всегда стремящимися объяснить происхождение языка через некий параллельный (в принципе меняющийся от теории к теории) фактор Х.
Какие же теории можно перечислить (см.: [Boeree 2003])?
1) Теория «Мама». То есть потребность в контакте с близкими.
2) Теория «Та-та». Это потребность вокализировать движения тела. Так, предполагается, что бипедализм (примерно 5– 6 миллионов лет назад) привел к увеличению занятости рук, а протоязык повторял движения рук и начал комбинироваться с вокализацией.
3) Теория «Бау-вау». Язык имитирует звуки внешнего мира.
4) Теория «Пух-пух». Язык начинается с междометий, инстинктивных эмоциональных выкриков.
5) Теория «Yo-heave-ho». Язык восходит к ритмическому пению, производимому во время тяжелой работы.
6) Теория «Динг-донг». Язык возникает тогда, когда человек находит связь между обликом вещей и набором звуков.
7) Теория «Синг-сонг». Язык рожден игрой, смехом, ухаживанием.
8) Теория «Хей, вы!». Люди нуждались в контакте и потому заявляли «Вот я. Я с вами».
9) Теория «Хокус-покус». Язык восходит к магическим звукам, магии контакта с животным миром.
10) Теория «Эврика». Язык был внезапно открыт. Некие предки осознали, что можно через звуки обозначать вещи. См.: «Humanity does not construct language, it finds it’» [Tassot, 1988: 3].
Но и в этом случае автор кончает самыми простыми вопросами, а именно: когда же язык возник? В начале существования человека, то есть 4—5 миллионов лет тому назад? Или с появления современного человека, кроманьонца, – примерно 125 000 лет назад? Говорил ли неандерталец, который имел мозг больше нашего, но голосовую полость выше – как у обезьян?
Но все эти перечисленные выше теории довольно давние.
Наиболее современные подходы к раннему состоянию и эволюции языка отражены у четырех авторов, на которых больше всего ссылаются. Это Дж. Айтчинсон (J. Aitchinson), А. Кэрстэйрс-МкКарти (A. Carstairs-McCarthy), М. Таллерман (M. Taller-man) и Т. Дикон (T. W. Deacon)[31].
Дж. Айтчисон [Aitchison 2000], рассматривая эволюцию языка параллельно с развитием психологии и антропологическими изысканиями, соглашаясь с африканским происхождением протогуманоидов, стоит твердо на эволюционистских позициях. Но начало коммуникации она видит в чем-то, что можно назвать внутренним «ясновидением» (mind-reading; ’naming insight’). Отражают воспринимаемые концепции некие «mirror neurons» («зеркально отражающие нейроны»). Таким образом, по ее мнению, протоязык, предшествующий языку человека-потомка, был чем-то принципиально отличным от позднего языка. Но, как считает Дж. Айтчисон, некоторые черты прежнего протоязыка мы можем видеть в языке современном. И это последнее ее утверждение очень для нас важно.
А. Кэрстэйрс-МкКарти [Carstairs-McCarthy 1999—2000] – автор книги «Истоки языка во всей его сложности» («Origins of complex language»). Занимаясь ранее формальным описанием языковой морфологии, он пришел к выводу, что семантика возникает для того, чтобы реализовать звучание: «Yet my work on inflectional morphology led me to wonder whether, in some real sense, things may be other way round: meanings exist in order to provide something for spoken words to express» [«И вcе-таки мои занятия морфологией заставили меня прийти к мысли о том, не совершается ли, на самом деле, нечто обратное тому, к чему мы привыкли: смыслы существуют для того, чтобы произнесенные слова могли нечто выразить»]. А. Кэрстэйрс-МкКарти видит в языке три определяющих его особенности: 1) объем словаря; 2) бинарную организацию моделей; 3) отличие высказывания как такового от группы NPs. Сам же он (глава пятая его книги) приходит к выводу, что синтаксис мотивирован фонологией, которая, в свою очередь, вызвана к жизни опущением ларинкса у наших предков-гоминидов. А опущение ларинкса также есть факт, обусловленный началом бипедализма, то есть прямохождения. Таким образом, по мнению автора, истоки синтаксиса лежат в слоговой организации[32]. Книга А. Кэрстэйрс-МкКарти вызвала много откликов и много рецензий. Наиболее критичным был отзыв известного исследователя языковой эволюции Д. Бикертона, само название которого уже достаточно красноречиво: «Calls aren’t words, syllables aren’t syntax» [«Выкрики – это еще не слова, слоги – это еще не синтаксис»].
Очень обстоятельная работа Т. Дикона [Deacon 2003] направлена на демонстрацию сложности и комплексности языковой эволюции, которая никак не может объясняться одной какой-либо причиной. Т. Дикон выступает против нативистской теории Н. Хомского и его последователей, по которой язык дан человеку изначально. Неслучайно, пишет Т. Дикон, по отношению к языку употребляются термины change и drift, то есть язык изменяется и движется. Он и сам по себе – эволюционирующая сущность. Но он эволюционирует вместе с эволюцией мозга. (См. єго более раннюю работу: Brain-language coevolution, 1992.)
Широко цитируемый сборник, подготовленный Мэгги Таллерман [Tallerman 2005], собрал вокруг себя самых известных исследователей, занимающихся вопросами происхождения языка и его ранней эволюцией. Правда, его цельности несколько мешает «по-уровневая» в современном лингвистическом смысле постановка вопроса, а именно: ставится вопрос, как возникла морфология, как возник синтаксис, хотя наиболее важными были статьи, освещающие проблемы возникновения дискретности как основного фактора языкового существования (P. – Y. Oudeyer, M. Studdert-Kennedy et al.). Сама М. Таллерман опубликовала статьи, исследующие синтаксис современный в сопоставлении с протосинтакисом. В этом же сборнике опубликована статья уже упомянутого А. Кэрстэйрс-МкКарти и ответ на тот же вопрос самой М. Таллерман.
В отечественной науке последних лет в этом отношении выделяется интересная работа А. Г. Козинцева [Козинцев 2004], где, кстати, содержится внимательный обзор последних исследований о происхождении языка. Существенны выводы этой статьи:
• Произвольная вокализация у человека такая же, как и у производящих звуки животных, эволюции особой она не подлежала и не может быть базой для развития языковой структуры.
• «Никакого языкового органа в человеческом мозгу не обнаружено» [Козинцев 2004: 41].
• «Язык возник не на базе коммуникации приматов, а на базе их интеллекта» [Козинцев 2004: 42].
• «Функциональная карта мозга размыта, диффузна» [Козинцев 2004: 43].
• «Остается предположить, что произвольное связывание звуков и/или жестов (в первом случае нужна дополнительная преадаптация мозга) со значениями и комбинированиями символов были некогда кем-то изобретены (sic! – Т. Н.) (об одномоментности возникновения языка писал еще В. Гуммбольдт), а затем распространились подобно любому полезному навыку» [Козинцев 2004: 47].
Некоторое оригинальное обобщение теорий происхождения языка и его эволюции представлено в книге [Bichakjian 2003].
Б. Бичакжян говорит о трех системах подхода к этому вопросу: Часы (a watch), Колесо (a wheel), Вектор (a vector). «Концепция Часов» предполагает Часовщика, который завел мир по определенной программе (т. е. это креационистский подход). «Теория Колеса» основывается на идее циклов: циклы эти могут по времени различаться, но тоже предполагают конечную неизменность Универсума. «Теория Вектора» вписывает историю языка в общую систему эволюции Универсума.
Особенно популярны, как мы постараемся показать далее, те концепции, которые объясняют возникновение языка через эволюцию какой-либо иной антропоцентрической системы. То есть происхождение языка объявляется как бы побочным продуктом какого-либо иного развития.
В теориях происхождения языка и в соответствующих конференциях, с этим связанных, объединяются три по сути разные ветви исследований: происхождение языка, эволюция его раннего периода и то, каким именно этот язык был, каковы были его первичные единицы и первичная система. Остановимся, по возможности кратко, на всех этих концепциях, хотя в рамках нашей монографии интересует нас прежде всего последняя ветвь исследований, та, где ученые пытаются обсуждать тип первоединиц и первоструктуры.
Заранее можно сказать, что в пределы наших интересов не входит ни предполагаемое место происхождения языка, то есть локализация его прародины, ни время происхождения языка, ни какие бы то ни было вопросы, связанные с языковым родством[33].
Среди «странных» теорий происхождения языка можно назвать «теорию красного мрамора» (red marble theory), см. наиболее подробное изложение этой теории: [Key 1989]. Согласно этому взгляду, первичные частички обслуживают некую семантическую систему первоязыка; со временем они распространяются в разных дозах на производные языки. «Все это напоминает большую сумку с разноцветными кусками мрамора, которая первоначально принадлежит только одному языку. Основной цвет мрамора – красный, и таких кусочков больше половины, остальные же – разных цветов. Куски мрамора смешиваются, а потом пригоршнями разбрасываются по разным направлениям. Каждый новый язык получает свою порцию. Поскольку именно красного цвета было много, то он есть у всех языков. Но если, например, в первосумке было мало бирюзового цвета, то, естественно, в ряде языков бирюзового не будет» [Key 1989: 68—70][34].
Другая теория – теория «невидимой руки» (invisible hand) принадлежит Р. Келлеру [Keller 1985]. Она широко обсуждалась (см.: [L?dtke 1989; Nerlich 1989] etc.). Эта теория видит языковую эволюцию в виде ненатуральных процессов, то есть процессов, не имеющих реальной цели и не зависящих от человеческой интенции. Но они все же определяются третьей серией явлений, которые диктуются именно человеческой деятельностью. Иначе говоря, язык – это обобщенный результат индивидуальных человеческих актов, не зависящий от общих усилий. Языковая эволюция, таким образом, ни спонтанна, ни телеологична. Человеческая активность, ее порождающая, не имеет дальней стратегии. Но все-таки с биологической эволюцией она не сопоставима: изменения в природе абсолютно случайны, а в языке – нет, потому что они продуцируются по уже существующим моделям, случайные взаимодействия которых возможны (simple random interaction).
Третьей активно обсуждавшейся в последние десятилетия теорией языковой эволюции была теория «педоморфозиса, или ноотении» (paedomorphosis theory; nooteny theory), автором которой является Б. Бичакжян. Она строится на том, что существуют эволюционные потенции, согласно которым отбрасывается все приобретенное сложное и более позднее. Язык, таким образом, движется в сторону детских первоначальных моделей [Бичакжян 1992; Bichakjian 1988; 1989]. Процитируем некоторые его положения: «Разумным будет допущение, что эволюция языка есть, таким образом, результат движения назад, заложенного в наших генах» [Bichakjian 1988: 133]. «Наблюдая за развитием языков с тысячелетней историей, я пришел к выводу, что человеческие языки последовательно заменяют те черты, которые детьми усваиваются позднее, на те, которые возникают в речи ребенка раньше» [Bichakjian 1993: 5]. Анализируя его достаточно убедительные примеры, как будто бы видишь его полную правоту. Однако в приведенных цитатах важно одно слово: тысячелетней. Таким образом, он рассматривает только языки, послужившие для реконструкции и. – е. Стадии III, по Ф. Адрадосу и К. Шилдзу: древнегреческий, санскрит. То есть отбрасывается то действительно усложненное, что было в индоевропейских языках классической древности. Эта теория вызвала наибольшее количество возражений. Так, Ф. Либерман заявил, что язык не может отличаться от других компонентов человеческой эволюции, а все антропоцентрические данные теорию ноотении отрицают [Lie-berman 1984: VII]. С критикой идеи педоморфозиса выступил в ряде статей один из ведущих деятелей LOS Я. Винд [Wind 1988; Wind 1992].
Но наиболее распространенными и наиболее общепринятыми концепциями происхождения языка являются прежде всего идеи дарвинизма[35]. См., например, тему пленарного доклада в одном из последних по времени коллоквиумов LOS: Bill Croft. The Dar-winization of linguistics (University of Manchester). См. также название последней по времени книги того же Б. Бичакжяна: Bichakjian B. N. Language in a Darwinian perspective. Frankfurt-am-Main; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien, 2002. См. высказывание о взглядах Дарвина на язык, цитируемое М. Новаком [Nowak 2000: 23]: «Для Дарвина не было сомнений в том, что человеческий язык возник из коммуникации животных. Он был просто потрясен аналогией развития биологических видов и языков человека. Так, в своей книге «The Descent of Man» (1871) он пишет: «Образование различных языков и развитие биологических особей, а также доказательства того, что оба они развиваются градуальным путем, по сути те же самые. ‹...› Доминирующие языки и диалекты распространяются широко и ведут к постепенному вытеснению других языков. ‹...› Как и биологический вид, язык, будучи вытесненным, никогда не возникает снова»».
Не оспаривая ради единства композиции последних положений Дарвина, считаю нужным включить во вторую часть данного раздела следующие концепции. Они относятся к той параллельной линии развития человека, которая, по мнению многих, способствовала возникновению языка. Интересно, что разные ученые считают этим «параллельно» развившимся стимулом разные феномены. Я думаю, что за этим стремлением искать первопричину языкового развития не в нем самом стоит все то же опасливое желание не принять и не признать автономность языкового существования. Кроме того, поиск «параллельной» первопричины снимает ответственность с гуманитарного исследователя и передает ее «кому-то другому».
Итак, эти линии могут:
1) сосуществовать и влиять опосредованно;
2) быть причиной постепенного развития языковых функций;
3) объяснять тот пока никак не интерпретируемый «скачок» от полуязыка к языку собственно человеческому.
В заключение данного параграфа постараемся сообщить мысли лингвистов, наиболее для нас важные, но и наиболее трудно выискиваемые (постараемся также и объяснить, почему), а именно: гипотезы о том, каковы же были единицы протоязыка и могли ли они как-то между собой различаться.
Итак, теории параллельного эволюционирования!
• Появление языка совпадает с латерализацией мозга гоминидов [Chiarelli 1989].
• Оно совпадает с началом изготовления каменных орудий [Ragir 1993].
• Развитие языка – это результат развития эхолокации и акустической сенсорики.
«Вполне можно считать верифицированным положение о том, что на ранних эволюционных этапах преимущество было за неоптической сенсорикой, именно она помогала выжить» [Fründt 1993: 15].
• Возникновение языка требовало нескольких этапов развития символики: 1) осознавание гоминидами самой возможности символа как такового; 2) коллективное принятие этих символов; 3) понимание условности символов и – как следствие – развитие мысли, люди стали «думать»; 4) эволюция моторики, миметическая имитация [Donald 1993]. Так, анатомия человеческих останков 40 000-летней давности говорит о том, что были две стадии эволюции фаринкса, а полное развитие фаринкса осуществилось только на второй стадии. Гоминиды должны были преодолеть «gap» между представлением символическим и несимволическим [Donald 1993].
• Скачком было появление поэтического ритма, который связался в сознании с иконическим отображением мира [de Roder 2003].
• Скачком было появившееся искусство подражать, эхолокация [Fründt1993].
• Скачком было соединение двух биоспособностей, которые в неантропоидной среде раздельны: это коммуникация и познавание (когниция). Человеческая способность к познанию становилась символической. Значение символов при этом было двояким: 1) оно позволило человеку получить знания о той реальности, которая не подлежала непосредственному восприятию. Одним из основных свойств человеческого языка является «несоотнесенная» (displaced) референция, способность сообщать о вещах и событиях, которые отдалены от говорящего в пространстве и во времени; 2) оно дало человеку способность конструировать реальность, причем в различных воплощениях [Gyori 1993: 19].
• Язык появился как иконическое отражение. «В Начале был знак. Иконический знак» [Voronin 1993: 44]. Иконизм был присущ и жестовому знаку. Жестовые знаки наблюдаются у горилл, шимпанзе и др.
Итак, во всех этих кратко перечисленных концепциях прощупывается следующее: язык начинается при переходе от иконического представления к символическому.
Примерно десятилетие тому назад в вопросе о происхождении языка господствовали в основном эволюционистские теории. Так, наиболее цитируемой и популярной стала за это время книга J. Aitchison. The seeds of speech [Aitchison 2000, переиздание]. В этой книге она связывает развитие языка с развитием ряда других обстоятельств антропоцентрической эволюции (это именно то, о чем говорилось выше, и то, что можно назвать теорией параллельного фактора). Этим параллельным фактором для Айтчисон является «оскудение» физического окружения: «Physically, a deprived physical environment led to more meateating and, as a result, a bigger brain. ‹...› An upright stance altered the shape of the mouth and vocal tract, allowing a range of coherent sounds to be uttered» [Aitchison 1996 : X]. [«В физическом смысле оскудение природного окружения приводило к увеличению потребления мяса и, как результат, к мозгу большего объема. ‹...› Прямохождение изменило форму ротовой полости и вокального тракта, позволяя произнести несколько звуков подряд».]
Другой сторонник эволюционной теории, Дж. МакКрон [McCrone 1991], пишет, что с появлением ледников (ice ages) го-миниды стали искать пищу, которую уже требовало развитие их мозга. И тут возникновение языка стало необходимым: «Suddenly, a whole new mental landscape opened up. Man became self-aware and self-possessed» [McCrone 1991: 9]. [«Внезапно открылся новый ментальный ландшафт. Человек стал самодостаточным и самопознаваемым».] К. Циммер считает, что возникновение языка есть некий эволюционистский фактор, оставивший мало следов на человеческом скелете, и артикуляторный аппарат – это просто оказавшийся с течением времени ненужный хрящ [Zimmer 2001: 291]. М. Корбалис опирается на несколько «параллельных факторов»: увеличение мозга, смешение жестовой и вокальной коммуникации, при котором жестовая постепенно отходила на задний план [Corbalis 2002: 183].
Число таких концепций, различающихся от автора к автору, легко умножить (повторяю, что наиболее популярна книга Джин Айтчисон). Но, однако, они не отвечают на самые простые вопросы, о которых будет сказано ниже.
Какие же это вопросы, которые пока не удалось разрешить, не перейдя от «необъясняемого к необъяснимому»? Они ставятся в специальном обзоре «The origin of language and communication» [Harrub, Thompson, Miller 2004]. В общем виде их можно перечислить так (авторы изъясняются довольно пространно):
• Почему, если не-человеческие существа и начинают понимать речь человека или просто произносить человеческие единицы речи, они никогда не делают это сами, а только после обращения к ним человека? То есть эта способность предстает как дар (gift), идущий человека же.
• Почему, если речь – это продукт эволюции, никто не отметил (не обнаружил) существа (not human beings) с промежуточной фазой развития?
• Что же было в начале: один язык (или почти один) или сразу возникло множество языков?
• Почему до сих пор нет ясного представления о том, как маленькие дети с такой быстротой постигают человеческий язык? Так, например, по некоторым данным (английский язык: [Dunbar 1996]), шестилетний ребенок в среднем понимает около 13 000 слов, в восемнадцать он владеет словарем в 60 000 слов.
Какой же предлагается ответ? Авторы выдвигают теорию уникальной человеческой способности порождать и понимать речь (не уходя от «В начале было Слово»). Широко привлекаются как свидетельства библейские тексты, из которых как будто становится ясно, что Адам и Ева говорили с самого начала. Эту концепцию – врожденной человеческой уникальной речевой способности – начинают поддерживать такие известные ученые-исследователи речи, как Филипп Либерман [Lieberman 1998]. В более ранней работе [Lieberman 1997] он пишет: «For with speech came capacity for thought that never existed before, and that transformed the world. In the beginning was the word» [Lieberman 1997: 27]. [«Вместе с речью пришла способность к мышлению, чего раньше не было, и это перевернуло весь мир. Итак, в начале было слово».]
На последний вопрос (проблема «Вавилонской башни») авторы обзора несколько затрудняются дать свой собственный ответ и примыкают, скорее, к точке зрения Н. Хомского (развитой в его многочисленных работах) о том, что в истоках речевой деятельности лежали изначальные языковые концепты, что и позволяет ребенку в любой стране столь молниеносно осваивать mother language. Как пишут сторонники Н. Хомского, «The conceptual system is not really constructed in the child’s mind as if out of nothing, but must be, in an important sense, known before the fact. The whole system must be in place before it can be employed to interpret experience» [«Система концептов не конструируется в мозгу ребенка, возникая из ничего, но она должна была, и это важно, быть знакомой заранее. Эта система должна быть помещена заранее, пока опыт ее не востребует»] [Oller, Omdahl 1992]. См. также мнение такого известного лингвиста, как Т. Дикон, о том, что уникальность речи у человека и отсутствие явного аналога у других земных видов «is the real mystery» [Deacon 1997: 41]. Разумеется, многие реконструкции прежде всего восходят к понижению ларинкса и тем самым открывшейся возможности манипулировать артикуляторным аппаратом. Итак, хотя есть много очень «умных» животных, авторы обзора заканчивают идеей уникальности человеческой речи, способность к которой является изначальной[36].
Некоторым «прорывом» в отечественном языкознании явилась опубликованная в 2006 г. книга «О чем рассказали «говорящие» обезьяны?» [Зорина, Смирнова 2006]. Разумеется, в книге много говорится о возможностях приматов, их умении порождать и воспринимать сигналы. О возможностях подобных обезьян я читала лет шестьдесят пять тому назад (к сожалению, точную библиографическую справку мне сейчас дать трудно) в книге Владимира Дурова о шимпанзе Мимусе, который понимал практически все, жил у него дома, сидел с ним за столом и был поистине членом его семьи. Более того, я принадлежу к тем раскритикованным в книге людям, которые верят, что и собаки «все понимают». По крайней мере так казалось при общении с любимой собакой. Однако более значительным для интересующей нас темы являются послесловия Вяч. Вс. Иванова («О сравнительном изучении систем знаков антропоидов и людей» [Иванов 2006]) и А. Д. Кошелева («О языке человека (в сопоставлении с языком «говорящих» антропоидов)» [Кошелев 2006]). Говоря более ясно, оба автора прямо показывают принципиальное отличие человеческого языка от языка самых умных антропоидов. Так, Вяч. Вс. Иванов пишет: «Для эволюции человека и его интеллекта важнее всего было одновременное использование нескольких знаковых систем» [Иванов 2006: 362]. А. Д. Кошелев вносит некую принципиально важную ноту в это обсуждение. По его мнению, человеческий язык отличается от языка не-человека не количественно и не структурно, а качественно. А именно: у человека существует (возникает? дано?) системное представление о мире и о языковом его воплощении, которого нет у антропоидов. См.: «Можно предположить, что развитый системный уровень представления окружающего мира является особенностью человеческого мышления, специфическим продуктом его интеллекта» [Кошелев 2006: 412]. И далее: «Человеческий язык возник для экспликации содержания системного представления человека, отражающего наряду с общезначимыми и его персональные, личностно-значимые интерпретации элементов окружающего мира» [Кошелев 2006: 417]. Нечто близкое к этому было изложено в моей книге «От звука к тексту» [Николаева 2000: 11], где говорится об «убеждении в существовании в сознании человека, по крайней мере, двух систем». Одна – эмпирическая, вторая – «валоризованная». «Новой, как мне кажется, является установка на то, что сосуществование этих двух систем (по крайней мере, двух!) пронизывает всю ментальную структуру homo sapiens» [Николаева 2000: 13].
Очень интересно то, что книга о «говорящих обезьянах» тут же получила отклик и у нас [Бурлак, Фридман (в печати)]. Однако авторы этого обзора пошли по несколько иному пути. «Могут ли животные, подобно людям, коммуницировать при помощи знаков?» [Бурлак, Фридман: 1]. И далее приводится множество примеров «животной» коммуникации. Но, строго говоря, это не знаки – это сигналы. Безусловно, животные сообщают, они коммуницируют. Но язык ли это? И здесь мы вступаем в уводящую нас далеко область: язык ли знаки светофора? Что такое «колокол бедствия» и под. Возможно, и наши партикулы когда-то были сигналами, но это уже вне компетенции автора.
2
Какими же были, по представлениям лингвистов, первичные единицы первоязыка?
Прежде всего нужно заметить, что в настоящее время уже многие исследователи говорят о двух формах первичного языка: жестовом и звучащем. «Вокальное интонирование было параллельно жестикулированию» [Burling 2000]. Однако человек имел по сути две коммуникативные системы: жестовую-подзывную, которую он разделял с другими биологическими видами, и собственно языковую, которая была им неизвестна [Kendon 1993: 24]. См. об этом и в работе: [Иванов 2006], о которой говорилось выше.
Язык состоял из корней или «слов» без синтаксиса [Green 1993: 18]. Эпоха «до-грамматическая» была очень долгой.
И все же на вопрос, какими же именно были языковые единицы протоязыка, единообразного ответа не получается. Напомним, что этот вопрос довольно смело решали марристы, предлагая в качестве первоэлементов таинственные: сал, бер, рош, йон. Однако само провозглашение именно этих четырех элементов по сути было чем-то, скажем мягко, не совсем научным.
Таким образом, первоэлементы марристов так и остались в положении неких betes noires. Однако обратиться теперь к ним и посмотреть на них с позиций сегодняшнего дня, как мне кажется, стоит.
Поэтому в этой работе я предлагаю рассматривать первоэлементы марристов на фоне других, очень важных для их интерпретации, оппозиций:
1) Эти их элементы абстрактны или конкретны?
2) Это корнесловы или нечто вроде дейксисов?
3) В какую лингвистическую парадигму они вписываются – начинающуюся с высказываний и кончающуюся звуком или, напротив, в лингвистику «по-уровневую», танцующую «от фонологии»?
Здесь можно продемонстрировать некую неожиданность ответа.
Для самого верного и известного последователя Н Я. Марра И. И. Мещанинова эти четыре элемента были вполне реальны и конкретны. Первичный звуковой комплекс, по его мнению, не имел значения, он сопровождал кинетическую речь. Затем далее появилась звуковая речь, разлагавшаяся не на звуки и уж никак не на фонемы, а «на отдельные звуковые комплексы. Этими цельными комплексами еще нерасчленившихся звуков и пользовалось первоначально человечество как цельными словами» [Мещанинов 1929: 181]. Ставши потом членораздельными, эти комплексы выделили четыре первичных элемента. Эти легендарные четыре элемента сначала считались тотемными именованиями, и даже показатели флексионного типа возводились к ним же, то есть к тотемам, Однако потом теория марристов пересмотрела этот тотемный подход и выявила, что они «были изначала не племенными названиями, а терминами иного порядка, приближающимися к основным выкрикам человека» [Мещанинов 1926: 6]. Ранее в этой же книге он говорит о том, что «определенные народы рошат, салят, берят, ионят в различных значениях говорения и действия» [Там же]. Более внимательно глядя, мы видим, что эти акциональные предикаты И. И. Мещанинова лишь характеризуют действия «определенных народов», но не являются собственно словами. Несомненно, что эти четыре элемента, представленные как конкретная явленная данность смущали и самого Мещанинова. Очень характерны в этом смысле следующие его слова, когда на естественный вопрос, откуда взялись именно такие четыре элемента, И. Мещанинов дал очень характерный для этого направления ответ: «Спрашивается, как возникли эти четыре элемента и какое объяснение им дается?
Категорически полный ответ дать пока трудно, так как мы вынуждены углубляться в состояние человечества, о котором сейчас человек уже забыл» [Мещанинов 1929: 175][37].
Другой последователь Марра – С. Д. Кацнельсон, напротив, говорил о первоэлементах обобщенно, избегая их называть прямо. См.: «Этап первобытного синкретизма. Имена-предложения. Нерасчлененность субъекта и объекта. Крайне бедный состав имен» [Кацнельсон 2001: 237]; «Слова на начальной ступени развития выступают в виде синкретов, то есть слов, в которых момент предметности еще не отграничен от чувственных признаков предмета» [Там же: 293]; «Первые крики-слова – это силлабофонемы, состоящие из отрывистого включения речевого механизма и его вокалического продолжения. ‹...› В содержательном плане им соответствуют первые слова – синкреты» [Там же: 295]; «Можно предположить, что в данной области ранними проявлениями зарождающейся речи были крики, обращающие внимание на наличие в поле восприятия особых предметов, представляющих интерес в плане питания, защиты и т. п. Такие крики также нельзя еще назвать именами. Это, скорее, высказывания, сообщающие информацию об определенных событиях и, в принципе, напоминающие в большей мере позднейшие однословные предложения. ‹...› В плане звуковом они на первых порах представляют собой не сочетания фонем, а, скорее, неразложимые силлабофонемы» [Там же: 341].
Но как же считал сам Н. Я. Марр: его четыре элемента – реальность или условность?
В работе 1927 г. «Язык» он пишет: «Элементов всего-навсего четыре. Объяснение их числа приходится искать в среде возникновения, технике входившего в состав коллективного магического действа пения. Первичное диффузное произношение каждого из четырех элементов, как единого цельного диффузного звука, пока не выяснено. Нам эти четыре элемента доступны в многочисленных закономерных разновидностях, из которых для четырех элементов выбраны как условное наименование (выделено мною. – Т. Н.) четыре их формы, по одной для каждого элемента: сал, бер, ион, рош, что указывается латинскими буквами в порядке их перечисления: А = сал, В = бер, С = ион, D = рош. Выбор сделан по созвучию с известными племенными названиями, в состав которых они входят без изменения или с позднейшим частичным перерождением, именно «сар-мат» – «сал» (А), «ибер» – «бер» (В), «ион-яне» – «ион» (С), «эт-руск» – «рош» (D)» [Марр 2001: 181].
Очевидно, что эклектика верификационных выводов перед нами налицо.
Во-первых, мы узнаем из этого текста, что эти четыре элемента возникают из магического пения. Во-вторых, их произношение на самом деле неясно. В-третьих, все же, несмотря на это, имеются их закономерные разновидности (выделено мною. – Т. Н.), т. е. закономерные разновидности неясного инварианта. Наконец, они просто условны и могут в принципе перекодироваться через четыре первых буквы латинского алфавита. И в самом конце мы узнаем, что выбор элементов вовсе не условен, а соотносится с названием племен: сарматы, иберы, ионяне, этруски. Однако и при этом остается непонятным, почему от сармата > сал, а не сар или мат, поскольку от и-бер взята финаль; почему ионяне даны во множественном числе, а сармат – в единственном и как от руск получается рош (о том, почему выбраны именно эти племена, мы уже не спрашиваем).
Конечно, половинчатость Марра, колебания его между конкретностью и условностью вполне объяснимы его филологическим генезисом и стоящей за ним школой XIX века, когда за плечами лингвистов начала ХХ века стояли две традиции: психологическое объяснение языковой способности, восходящее к В. Гумбольдту, Штейнталю и Вундту, и предельная конкретизация реконструируемых языковых элементов, восходящая к младограмматикам, а позднее, более точно, к К. Бругманну и Б. Дельбрюку.
Однако для нас интересно, что марристы все же опирались на первичную огромную роль неких «местоименных» элементов, образующих потом глагольные и именные флексии. Существенно и такое утверждение, что этот «пассивный местоименный элемент вначале не был ни глагольным, ни именным, а позже мог быть использован и для образования глаголов, и для образования имен. Тем более, что эти частицы обнаруживаются в индоевропейских языках в былом значении притяжательных частиц неотчуждаемой принадлежности» [Кацнельсон 1936: 97]. Именно эта идея нам кажется близкой к признанию того класса, который мы называем партикулами.
Близкие идеи находим у другого «межвоенного» направления, уже ранее нами упоминавшегося. Это телеологи. Так, Э. Херманн видит начало звукового языка в определенных междометных вскриках неопределенной семантики. Древность, по его мнению, должна существовать в виде неопределенных и неоформленных W?rtern такого уровня, который понимают и дети. Но каждое из этих «междометий» имело консонантную опору (Stammlaut, термин, кажущийся нам исключительно удачным и обсуждавшийся нами выше. – Т. Н.), которая в дальнейшем модифицировала сопровождающий вокал, становясь формой CV. Этих модификаций становилось все больше, и они приобретали функциональное значение, как правило, связанное с указательностью [Hermann 1943: 15].
Таким образом, для телеологов первичными были мелкие словечки не больше слога, которые вначале были вопросительными, затем указательными, далее превращались (с распространителями) в неопределенные слова. По мнению В. Хаверса [Havers 1931], эти мелкие слова были частотными в нарождающейся звуковой речи, так как из-за своей краткости и фонетической простоты они были удобопроизносимыми и хорошо воспринимались перцептивно. По мнению телеологов же, такие мелкие словечки разным образом комбинировались в линейном потоке речи, поэтому главным источником знания о языке древности и понимания языка современности является синтаксис.
Небезынтересно для нас то, что была и такая теория, по которой само происхождение языка связывается именно с указательными словами. «Сейчас то и дело приходится встречаться с неким новым мифом о происхождении языка, который, явно или скрыто опираясь на представления Бругмана и других исследователей, приходит к такой трактовке указательных слов, в соответствии с которой они оказываются некими прасловами (Urw?rter) человеческого языка» [Бюлер 1993: 80][38].
Какие же первичные формы языка представлены в исследованиях последнего времени? Такие первичные формы в теориях демонстрируются четырьмя типами единиц.
По одной точке зрения, протоязык реализовался в виде слогов, но эти слоги четко делились на два класса: ударные и безударные. В ударных слогах заключалось важнейшее семантическое содержание (memorable speech), это своеобразные «капсулы речи» [Payson Creed 1989: 44]. Слог, таким образом, по мнению Пэйсона Крида, значительно важнее звука, и гоминиды стали людьми, именно изобретя слог.
По другой точке зрения, первичные единицы – это фонесте-мы, т. е. комбинации фонов, как правило консонантных, обладающих некоей диффузной семантикой [Rolfe 1993]. Например, некая фонестема присутствует в приводимом ниже ряду английских слов: damp / swamp / dump / plump / dimple [Rolfe 1993: 37].
По третьей точке зрения, первичные единицы – это фонемы, возникшие из уже функционирующих частиц, утративших полностью или частично свою семантику. «Фонемы не были, таким образом, изобретены; они уже повсюду присутствовали как фонетические частички, с неким глобальным значением, чаще всего синтаксическим, но потом они стали выполнять двойную нагрузку. Базовые корни, как это показывает ряд реконструкций, были, как правило, консонантными» [Studies 1989: 32].
Новая точка зрения высказана недавно Ф. А. Елоевой и Е. В. Перехвальской [Елоева, Перехвальская 2004]. Несомненно, по их рассуждениям, что эпоха доминантности «слова» в лингвистике проходит, и она вновь возвращается к диффузному высказыванию, в котором сказано «все». Референция этого высказывания, по мнению авторов, всегда конкретна. И если ранее высказывались мысли о том, что язык начинался именно с метафорического суждения, то концепция Елоевой и Перехвальской – противоположная. Первичный этап языкового развития – преметафорический.
И действительно, приверженцы метафорического начала на самом деле часто смешивают метафору со сравнением, когда «все сравнивается со всем». Однако собственно метафора предполагает глубинные абстрактные связи, которых не могло быть еще на заре языкового развития.
Итак, сквозь эту обзорную толщу концепций мерцает нечто, что кажется нам близким (или это желаемое принимается за действительное?). Очень многим представителям современной «нормальной науки» трудно признать тот факт, что в языке (в протоязыке) как бы вращались две шестеренки: словечки указательного (точнее, диффузного) значения и корнесловы иконические, переходящие в символы. Именно это, по сути, и провозглашает К. Шилдз (см. выше), говоря о двух типах единиц: вербально-именных и адвербиально-прономинальных.
Этому последнему классу, как уже не раз говорилось, и посвящена настоящая книга.
§ 7. Партикулы: индоевропейский пласт[39]
Красивая прозрачность славянского «конструктора», состоящего из партикул и порождающих их комбинаций, не может все-таки вести к гипотезе, что все это явление – продукт только славянского порождающего пространства. Выше уже говорилось об элементах *so и *to(d), которые явно доминируют во всех реконструкциях индоевропейского состояния, а для общеславянской системы также являются ведущими по своей функциональной нагруженности.
Однако обращение к индоевропейскому состоянию связано само по себе с рядом дескриптивных и теоретических сложностей. Прежде всего, очевидно, что исследователям имеет смысл обращаться к Стадии реконструкции II, по Адрадосу и Шилдзу, то есть периоду анатолийскому, поскольку в языках эпохи древнегреческого, латинского, древнеиндийского и т. д. уже существовали свои «частицы», то есть комбинации партикул, а также частицы в современном смысле. Попытка обзорного описания-перечня партикул периода Стадии II, выявленных по работам известных индоевропеистов, может, в случае удачи, помочь обратиться к партикулам Стадии I, о которой говорится всегда в общем виде.
Кроме того, обращение к классическим языкам древности, строго говоря, как будто бы должно иметь продолжение, поскольку это обращение к более поздним и известным языкам Европы. Но тогда сама наша работа потеряет свою композиционную установку и превратится в собрание эскизов и этюдов.
Наконец, даже это принятое решение влечет за собой ряд проблем. Их можно назвать «проблемами Разбиения», «проблемами Отождествления в плане выражения» и «проблемами Отождествления в функциональном плане». Примыкает к ним и «проблема Таксономии», ибо система языка находится всегда в становлении, а потому одни элементы партикульного происхождения уже стали союзами, другие – превербами разного значения, третьи – аффиксами[40]. Кроме того, необходимо все время помнить о том, что факты языкознания и факты языка суть разные системы, причем не только в метатеоретическом плане, но и потому, что на самом деле языковед, по сути, сам волен считать элементы языка принадлежащими к тому или иному классу. См. выше о том, что частицами считают и английские up, over, и немецкие auf, ab и т. д. Очевидно также, что все исследователи Стадии II стремятся выделить некий набор-минимум и потому важно просто эти наборы сравнить, чтобы среди них найти некое ядро, на которое можно будет потом опереться, обращаясь к славянскому материалу.
Наиболее полный перечень партикульных единиц предложен в настоящее время для раннего протоиндоевропейского К. Шилдзом (например, его можно найти в книге об истории индоевропейского глагола [Shelds 1992]).
Он выделяет следующий набор партикул, из которых в дальнейшем возникают «demonstratives, personal pronouns, possessive suffixes, and subject agreement markers in verbs» [Shileds 1992: 24] [демонстративы, личные местоимения, притяжательные суффиксы и показатели субъектного согласования у глаголов]: *i; *e/o; *yo; *a; *u; *k; *(e/o)s; *(e/o)m/n; *(e/o)l; *(e/o)t; *(e/o)th. То есть 11 элементов.
И здесь легко заметить, что часть выделяемых К. Шилдзом партикул является как бы промежуточным шагом на пути к тому, что мы называем аффиксом, то есть к элементу Стадии III. Например, это элементы *(e/o)t; *(e/o)l etc. Более того, во второй главе нашей монографии мы увидим, что переход между тем, что можно считать корнем (а К. Бругманн называет эти элементы основами – Stamm), и аффиксом весьма зыбкий.
Обращаясь к более конкретным примерам, можно заметить, например, что образцом «проблемы Разбиения» может служить трактовка хеттского -(a)šta, который одни считают цельной частицей, другие – комбинацией двух элементов, а третьи – комбинацией трех элементов.
Наиболее сложным метатеоретически является вопрос об отождествлении консонантных и вокалических групп, вопрос, который по сути никто не поставил прямо и не предложил решить тем или иным способом. В первую очередь это относится к отождествлению глухих и звонких. И здесь на первый план, конечно, выходит отождествление звуков t/d, с которым придется иметь дело в третьей главе настоящей монографии при анализе и разбиении комбинации партикул вроде otkϙd (откуда). Таким образом, в принципе возможны два решения: tod = to + t или = to + d. К. Шилдз [Shields 1997], анализируя в этой связи хеттское -za, осторожно говорит об «архифонеме» (в том понимании, которое принято у нас в отечественной науке), то есть выделяет «non-singular marker T (= t or d), which possessed a secondary collective function». Сложным теоретически является и отождествление партикул по вокализму (эта проблема также встает достаточно серьезно и при анализе славянского материала). То есть, например, проблемой является, считать ли *so/su, *no/nu, *do/de и т. д. формами одной и той же языковой единицы или разными партикулами, хотя, забегая несколько вперед, хочу заметить, что консонантная опора (Stammlaut) при всех подходах остается ведущей и определяющей.
Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 356 и далее] различают «реляционные элементы», являющиеся послелогами по отношению к именной составляющей и превербами по отношению к глагольной составляющей, и собственно частицы. Первая группа в этом случае составляет правую часть (компоненту) простого предложения. Частицы же, уже обладающие заданными функциями, составляют левую компоненту. Среди них выделяются частицы инициальные: *nu//*no, *tho, *so, *e/o. Функциональными эквивалентами, находящимися в дополнительном распределении с *no//nu, то есть также занимающими инициальную позицию, являются частицы *tho и *so//su. Инициальной, вводящей, была также и частица *e/*o (в лувийском выступающая как *a)[41]. Второе позиционное место (то есть середину левой части) занимают местоименные элементы субъектно-объектного характера. Так, для 3-го лица единственного числа именительный падеж представлен через *-os, именительный-винительный среднего рода через *-oth, дательный падеж через *-se//*si, винительный – через *-om. Наконец, крайнюю правую позицию левой компоненты занимают частицы, имеющие видовое или локальное значение. Авторы делают вывод: «Таким образом, левая компонента индоевропейского простого предложения состоит из последовательности ячеек, заполняемых соответствующими частицами в строго определенном порядке. Крайне левая ячейка представлена вводящими частицами, крайне правая – частицами с видовой и локально-эмфатической семантикой. Между ними располагаются элементы, передающие субъектно-объектные отношения, в нормальной последовательности: субъектная частица {s}, косвенно-объектная частица {о}, объектная аккузативная частица {o}» [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 361– 362]. Итак, в этом очень ясном описании, рассмотренном с позиций, занимающих автора настоящей книги, остается все же неопределенным вопрос о том, можно ли считать партикулами все элементы, в дальнейшем начинающие выполнять роль превербов или предлогов? Существенно отметить также, что звонкой консонантной опоры, в соответствии с общим фонологическим решением авторов состава протоиндоевропейского и анатолийского, в составе этих частиц мы не находим.
Еще более определенная позиция относительно членения индоевропейского предложения выражена Вяч. Вс. Ивановым в его книге 2004 года: «Более вероятным для хеттского и индоевропейского праязыка была бы модель, предполагающая функционирование начального комплекса энклитик как отдельной части предложения наряду с глаголом» [Иванов 2004: 48]. См. далее: «Наибольший интерес представляет разнообразие семантики частиц, входящих в такие комплексы в анатолийском. В них выражено все существенное, как бы сокращенный сгусток грамматической информации о предложении, выносимый в его начало как резюме статьи. ‹...› В полисинтетических языках соответствующие по смыслу морфы инкорпорируются в глагольную форму. ‹...› В языках второго типа можно принять двучленную схему предложения, включив множество обозначений субъектно-объектных отношений в глагольную фразу. В языках типа анатолийских это невозможно, и предложение не менее чем трехчастно. Те группы частиц, с которых начинается в них предложение, включают и первое слово, которое вводит предложение и может быть проклитическим» [Иванов 2004: 48].
Общую попытку реконструкции системы индоевропейских частиц (партикул?) находим также и у Г. Дункеля [Дункель 1992][42].
Эта его система, если ее анализировать, осложняется тем, что, как видно, автор не решает для себя вопроса о том, являются ли всякие приращения к знаменательным основам остатками «застывших» компонентов былых парадигм, то есть морфемами, или же контаминациями самих частиц. Но определенная диагностическая теория в работе все же предлагается. По мнению Г. Дункеля, частицы: 1) как семантически, так и функционально образуют независимый класс морфем; 2) между частицами и другими классами морфем невозможна взаимозаменяемость; 3) феномен супплетивации на *-i и *-u возможен только в классе частиц (включая и местоименные корни); 4) лишь частицы, в отличие от других морфемных классов, могут образовывать самостоятельные слова [Дункель 1992: 14]. Наиболее ранним пластом (совершенно не поддающимся анализу по формам!) Г. Дункель считает элементы *г, *gho, *n?/ne. Некоторые формы, по его мнению, являются результатом стяжения: *ti < *e + ti; *epi < *ep + i. Обсуждавшуюся выше проблему отождествления партикул при различии вокализма при идентичной консонантной опоре он решает, объявив такие наборы реализацией супплетивных элементов, например:
*ápo/apu; *nò/nu; *so/su;
*do/de; *kuo/kue; *só/se; *su/se. Все частицеобразные элементы разделяются Г. Дункелем на укрупненные семантические группы. Так, им выделяются следующие группы:
местоименно-указательные: *ke/ki; *e/i; *gho/ghi;
конъюнктивные, дизъюнктивные, адверсативные: *kue; *ho/u; *ue; *at;
модальные: *kue; *ken;
мелиоративные, пейоративные: *dus;
негативные: *né; *mé;
эмфатические: *ómi/em;
побудительные: *héi;
утвердительные: *m?n;
пространственно-временные: *nú; *so; *pró; *ápo; *duis. Очень большое и все увеличивающееся число исследований связано с описанием хеттско-анатолийских частиц, хотя совсем
недавно К. Шилдзом было сделано замечание о том, что «numer-ous etymological mysteries remain in the analysis of the Hittite particle system» [Shields 1997: 224] [«в анализе хеттских частиц исследователями видишь множество этимологических мистерий»].
Так, в классической хеттской грамматике И. Фридриха [Фридрих 1952] частицы описываются отдельно от союзов, однако мы считаем нужным их все-таки объединить. И. Фридрих начинает с частицы, вводящей речь: Uar (Ua). Затем идут две частицы «неясного значения» (как будет видно далее, ставшие предметом внимания многих лингвистов): – (a)sta, – (a)pa. Следующая в списке – это столь же популярная в хеттологии частица -za; далее идут классы частице-союзов:
a (-ja) – в значении «и, же»;
nu – со значением «ну, теперь, и»;
ta – также со значением «и»;
šu – с тем же значением;
ma – в значении «но, же»;
našma – соответственно комбинация двух частиц, создавшая семантику «или»;
naššu – комбинация с тем же значением;
– pit/pe/pat – частицы, как бы выбивающиеся из общей единообразной фоники, представляют значение «именно, как раз».
Ф. Йозефсон [Josephson 1997: 49] считает позднехеттские частицы сохранившимися – отчасти по форме, отчасти по функции – в валлийском и раннеирландском. Уже упомянутую хеттскую частицу -(a)šta он описывает как комбинацию двух «дейктических» элементов: a– (именительный единственного числа от анафорического местоимения) + некая частица, соответствующая в лувийском языке частице -tta. Эта же частица, по происхождению – дейктическое наречие, представлена, например, в латинском iste < is (местоимение) + te. Te описывается как исконно индоевропейский дейксис.
Ней [Neu 1997] также обращается к хеттской частице -ašta, но в основном исследует ее позиционные комбинации в связи с указанием на локализацию действия в хеттском высказывании. Так, – asta способна занимать только вторую позицию наряду с частицами: – an (редко употребляемой), – apa, – kan, – šan. Наиболее типичные комбинации частиц: – ašta + šan; – ašta + kan; – šan + kan; – kan + kan; – šan + šan; – ašta + ašta.
Выше уже говорилось о статье Т. Г. Гамкрелидзе [Гамкрелидзе 1957] в связи с обсуждением элементов *so и *tod. Как уже было сказано ранее, Т. Г. Гамкрелидзе оспаривает гипотезу Стертеванта о исконной сущности частиц и союзов как конгломератов партикул (гипотеза Стертеванта 1939 года!) и считает элементы ta, su, so, to, nu союзами, входящими в комбинации с личными местоимениями.
Статья К. Шилдза и огромная, практически монографическая, работа Й. Арбейтсмана [Arbeitsman 1992] целиком посвящены хеттско-анатолийской рефлексивной частице -za.
К. Шилдз, описывая эту частицу как показатель рефлексивизации (вовлеченности в дискурс) первого или второго лица, предполагает, что в протоязыке было единство (то есть неразличение) второго и третьего лиц. Саму же эту форму он выводит из форм на *ti, однако в z отражена и ассибилированная форма старого дейктического показателя первого лица *k(i).
Исследование Й. Арбейтсмана с эпатирующим подзаголовком «How I have changed my mind» [«Как и почему я стал мыслить иначе»] начинается с подробного описания его предыдущих исследований, где гетероклитические формы на *r/n связываются с показателем *t. Отсюда, например, возникают парадигматические отношения типа греч. ὄνομα – ὀνόματος и аналогичные формы. Относительно частицы -za он высказывает мнение, что эта частица заняла в макролувийском то место, которое в праиндоевропейском занимало дейктическое *-to (?), то есть показатель ближнего дейксиса. Греческий и древнеиндийский сделали этот показатель окончанием, присоединившимся к *t.
Однако впоследствии автор приходит к выводу о существовании двух разных по происхождению индоевропейских показателей со сходными функциями: 1) с консонантной опорой на *-k и 2) с консонантной опорой на *-t(od). Таким образом, обе консонантные опоры для него «are different morphemes and not allo-phones» [«не являются аллофонами, но только различными морфемами»].
О грамматике порядка частиц в крито-микенском существует уже достаточно большая литература. Связи микенского синтаксиса и славянского (через ряд переходных этапов) посвящена много раз цитируемая работа Вяч. Вс. Иванова [Иванов 1979]. Обращаясь в основном к микенским данным, Иванов считает сам принцип нанизывания энклитических элементов на начальное опорное слово[43] (речь идет в основном о местоименных элементах) общим индоевропейским принципом. Очень важно для нашей работы его положение о том, что «Сам по себе вводящий элемент при этом может не иметь точно фиксированного значения, поэтому он может характеризоваться тем пучком разных функций (от междометной и дейктической до союзной), которые устанавливаются и для начальных элементов славянского предложения» [Иванов 1979: 42]. Так, он, в свете этих идей, сопоставляет славянское *to– (ср. русское то-же и хетское ta). Особое внимание в этой работе уделено катализатору *-e (ср. русское э-то, э-во и т. д.). Этот катализатор Вяч. Вс. Иванов отождествляет этимологически с аналогичной частицей *e/o, вводящей предложение в анатолийских языках. Именно эту частицу К. Уоткинс видит «прилепившейся» к греческому имперфекту и аористу уже в качестве аугмента.
Сходным проблемам посвящен также ряд работ Н. Н. Казанского. В статье [Казанский 1999] он обращается к повествовательным структурам типа VOS. В этом случае инициальный глагол предваряется начальным комплексом частиц, в особенности o-da-a, o-de-qa-a2, o-de и под. Как пишет Н. Н. Казанский, «в языке микенских писцов они не застыли, не слились в единую форму, а ощущались как самостоятельные единицы, обладающие каждая своим значением» [Казанский 1999: 511]. Естественно, что исходные o или jo соответствуют, согласно законам апофонии, общему индоевропейскому е (как мне кажется, ту модель, согласно которой могут описываться синтаксические структуры только через знаменательные слова, можно пересмотреть, и потому в тех примерах, которые приводит Н. Н. Казанский, мы имеем не VOS, а, скорее, PVOS, где P – это комплекс частиц; см. выше о трехчастности анатолийского предложения у Вяч. Вс. Иванова, где вводятся три части высказывания, это: комплекс частиц, глагольная фраза и именная фраза. Столь существенный для традиционных классификаций объект (О) в принципе здесь оказывается неважным).
Значения многих этих партикульных комплексов можно условно передать (см. выше об истории русского я) как ’вот таким образом’, ’вот таким образом это’ и ’таким образом это’ и под. То есть это по функции интродуктивные комплексы, связывающие событие с темпорально-спациальной структурой передаваемой действительности. Особое место в исследовании Н. Н. Казанского занимают структуры типа а-а2, где имеет место редупликация (редупликация – частое явление в древних языках), но, возможно, это два разных по происхождению а.
В другой своей работе [Казанский 2000] Н. Н. Казанский анализирует застывшую формулу ὥς φáτο; эта формула «является показателем перехода от прямой речи персонажа к авторскому повествованию». Сопоставляя эту формулу с микенскими ее аналогами, Н. Н. Казанский говорит об акцентуированности частицы, располагающейся перед «атонным» глаголом. «Для гомеровского шд фато возможна микенская реконструкция *hō phato. Поскольку речь идет о явлении, известном из других индоевропейских языков, возможна и более глубинная реконструкция *sō bhH2/*yō bhH2-to» [Казанский 2000: 38].
Итак, говоря откровенно, можно резюмировать, что мы все не знаем, что представляла собой просодия фразы в индоевропейском языке даже позднего периода[44]. У автора настоящей монографии есть выношенное десятилетиями занятий экспериментальной фонетикой свое мнение по этому поводу, однако верифицировать его трудно. Трудно здесь понять самое простое: где курица, а где яйцо. А именно:
Вариант 1. Фразовой интонации еще не было, а ударными / неударными были слова. Существенными были также позиции этих слов.
Вариант 2. Слова вообще не имели ударения, но располагались на определенных местах интонации фразы, поэтому они были слышны (воспринимались) по-разному, так как интенсивность и частота основного тона менялись в зависимости от позиции. Так их и помечал писец, поскольку интонационную транскрипцию по сути мы и сейчас делать не умеем.
Вариант 3. Слова не имели ударения, но фраза обладала интонацией не в нашем современном смысле, а некими пиками акцентирования, функционирующими в зависимости от позиции[45]. По-видимому, именно к этому варианту склоняется Вяч. Вс. Иванов: «Но то, что в индоевропейском было правилом синтаксической акцентуации, в славянском переосмысливается как особенность интонации определенного слова» [Иванов 1979: 53].
Из этого беглого обращения к литературе нетрудно заметить, что реконструировать общую систему партикул по ней довольно сложно. И трудно это сделать по ряду причин.
Прежде всего, мешает этому установка авторов на современную частеречную таксономию, согласно которой обязательно нужно различать союзы, частицы, наречия и т. д. При этом установка на этот таксономический набор у разных авторов разная и потому, естественно, одни и те же элементы попадают у авторов в не совпадающие классы.
Далее, во-вторых, первичные партикулы и их комбинации рассматриваются часто как члены одного и того же класса, хотя ранговый показатель грамматики порядка у них различен.
В-третьих, основной интерес исследователей направлен на функции «частиц», их комбинации и их позиции, но не на их идентификацию.
Однако все же ряд частиц-лидеров можно отметить по всей литературе. А именно, это:
частицы с опорой на s;
частицы с опорой на t;
частицы с опорой на d (но, по некоторым концепциям, как указывалось выше, это все-таки алломорф или аллофон t);
частицы с опорой на k;
частицы с опорой на n.
Наконец, выявляется чисто вокальный партикульный элемент *e/o[46].
§ 8. Между индоевропейским и неиндоевропейским
Разумеется, было бы слишком самонадеянно думать, что интересующие нас партикулы были известны всем языкам, или хотя бы попытаться доказать это для части языков. Поэтому – в пределах первой главы – мы ограничились только тремя группами сведений: 1) некоторыми данными о индоевропейском Стадии II (см. об этом выше), 2) данными о так называемых ностратических языках, 3) теми сведениями о языках Евразии, которые оказались для нас доступны и показались достоверными.
Итак, можно считать, что между индоевропейским и неиндоевропейским находится свод ностратических данных, который, как двуликий Янус, относится и к тем, и к другим. И здесь в качестве исходного фактического материала мною был использован словарь Вл. М. Иллича-Свитыча [Иллич-Свитыч 1971].
Естественно, что для целей этой нашей книги наиболее важной частью этого Словаря оказалась та часть, которая относилась не к знаменательным корнесловам, а к «реляционным элементам языка». Это были следующие таблицы: 1) Местоимения и местоименные аффиксы; 2) Именные аффиксы падежа и числа; 3) Аффиксы глагольных залогов; 4) Словообразовательные аффиксы; 5) Показатели относительных конструкций; 6) Частицы [ИлличСвитыч 1971: 6—18].
Количество заслуженных восторгов перед юным и безвременно погибшим первооткрывателем за эти годы стало столь велико и, конечно, объективно, что можно сейчас уже высказать некоторые соображения, пожалуй, не столько критического свойства, сколько относящиеся к возникающей в настоящее время метатеоретической рефлексии по отношению к идентификации языковых единиц.
В книге Иллича-Свитыча некоторые мучительные проблемы (в основном это именно проблемы отождествления единиц партикульного фонда, о которых говорилось выше) решаются довольно просто и, вероятно, верно. Так, он отождествляет b– и m-, t– и d-, хотя на d– заводится и отдельная строка. Так же не составляют для него серьезных проблем определения различия в вокальном наполнении состава CV, хотя еще К. Бругман, впервые серьезно обратившийся к индоевропейским частицам, полагал, что в их основе лежит структура CV, где С относится к денотату, а гласный передает тип дейксиса: Jener-, Ich-, Der– Deixis. То есть в одной строке Словаря В. М. Иллича-Свитыча идентифицируются, например, mä – me, m-, mo-, mi и т. д.
Современные трудности в использовании его Словаря, при абсолютном доверии к данным, состоят совсем в другом. А именно: реконструируя данные языковой общности, отстоящей от нас, видимо, на многие и многие тысячелетия (или даже десятки тысячелетий), он классифицирует обобщаемые единицы по современным грамматическим описаниям. Выше говорилось о том, какая сложная структура стоит за современным русским я и как сложно отражается она в «скрытой памяти» нашего русского языка. Совмещая реконструируемые формы и современные грамматические описания, В. М. Иллич-Свитыч соединяет в одной таблице квалификации чисто семантические, чисто «фонетические» и чисто грамматические. Например, об n-овой конструкции мы узнаем, что это: 1) указательное местоимение (дравидийский язык), 2) показатель субъекта 3-го лица единственного числа (картвельский), 3) суффикс косвенных форм имен и местоимений (алтайский), 4) суффикс косвенных форм имен (индоевропейский), 5) локативный формант в местоименных наречиях (алтайский, уральский и картвельский), 6) суффикс множественного числа имен одушевленного класса (семито-хамитский), 7) препозитивная и постпозитивная локативная частица (индоевропейский) и т. д.
А между тем это может быть по существу одна единственная реконструируемая единица, скажем, со значением «отдаленного дейксиса», но в одних языках уже претворившаяся в грамматический формант, а в других сохранившая свое автономное существование. Таким образом, и в случае работы абсолютно пионерской, мы сталкиваемся все с той же боязнью признать недостаточность современного нам таксономического состояния языка, данного нам в языковой теории.
В левой части своих таблиц В. М. Иллич-Свитыч выделяет некие обобщенные для шести языковых групп значения описываемых формантов. Эти таблицы можно рассматривать как список, представляющий и значения, и то, что сейчас мы бы назвали функцией. В нем 41 единица. Но семантическая пестрота единиц-номинаций этого списка мешает (и, несомненно, мешала самому ученому) сделать дальнейшие обобщения. Так, в его таксономии мы видим: 1-е лицо единственного числа; Указательное местоимение одушевленного класса; Указательное местоимение широкого значения; Суффиксальные формы маркированного прямого объекта; Каузатив-рефлексив; Локативную частицу и т. д.
Поэтому для задач, поставленных в настоящей книге, все данные, извлеченные из таблиц В. М. Иллича-Свитыча, были переписаны мною, исходя из иной точки зрения. А именно: мною был составлен некий другой словарь, в основе своей имеющий консонантную опору, и для каждой единицы словаря были сопоставлены все возможные – как семантические, так и грамматические – ее соответствия, предлагаемые в Словаре В. М. Иллича-Свитыча.
Итак, по данным В. М. Иллича-Свитыча, выделяется 10 основных примарных единиц, классифицируемых по их консонантным основам.
Это:
• b /m (V);
• t/s (V);
• n (V);
• d (V);
• l (V);
• k (V) ;
• s (V);
• ku (V);
• i/e (jV);
• a/o.
Интересно, что В. М. Иллич-Свитыч находит нужным выделять два разных s: одно автономное и другое, чередующееся с t (на этом мы остановимся ниже), два к: одно задненебное и другое – увулярное. Кроме того, он объединяет два губных согласных: b и m. (Напоминаем, что в реконструируемой звуковой системе праиндоевропейского у Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова [Гамкрелидзе, Иванов 1984] чистого, непридыхательного звонкого b нет.)
В этой системе, составленной по данным В. М. Иллича-Свитыча, как можно обнаружить, легко выделяется некий фонетический центр – с сонантным ядром в виде m. С одной стороны, к нему примыкает n, а к n в свою очередь – d и t. С другой стороны, к тому же m примыкает губногубное b, а с третьей стороны – латеральный сонант l.
Получается фигура:
Таким образом, центр составляют сонанты и переднеязычные.
Партикулы вокалического происхождения, выделяемые В. М. Илличем-Свитычем, легко объединить в цепочку, а именно: a – o – e – i. Недаром про каждую из этих гласных можно прочесть в литературе, что именно она может быть той самой первогласной для древнего реконструируемого вокализма (выбор определяется исследователем). В системе, по В. М. Илличу-Свитычу, остаются не вписанными в общую схему фонетических связей s (обоих видов) и k (также обоих видов).
Обсуждавшиеся выше противопоставления дейксиса на -s и дейксиса на -t решаются у В. М. Иллича-Свитыча следующим образом: 1) дейксис на s – соответствует указательному местоимению одушевленного класса, дейксис на t – указательному местоимению неодушевленного класса; 2) s-единицы – это суффиксы каузатива и дезидератива, t-единицы – это суффиксы рефлексива и каузатива [Иллич-Свитыч 1971: 13]. Наконец, чередующиеся t/s описываются им как варьирующиеся показатели формы 2-го лица единственного числа, то есть ’ты’.
Попытка еще раз переписать грамматические построения В. М. Иллича-Свитыча, основываясь лишь на консонантных опорах, для нас оказалась довольно трудной, так как выявлять сложный исторический путь каждого из показателей в шести декларируемых им группах было невозможно. Поэтому предлагаемое ниже наше описание может быть только приблизительным.
1. Так, ведущее место в его таблицах занимали показатели с опорой на m– (то есть на самый простой губной звук).
В Словаре представлены для этой партикулы:
– местоименные показатели 1-го лица (как единственного, так и множественного);
– дейктические соответствия как с указательным, так и с вопросительным значением;
– аккузатив имен одушевленных и суффикс маркированного объекта (по нашему мнению, эти показатели можно приравнять друг к другу);
– запретительная и отрицательная частица.
2. Количественно (то есть по представленности форм в Словаре) к вышеуказанному показателю близки показатели с консонантной опорой на n-, которые демонстрируют следующую функциональную семантику:
– они соотносятся с 1-м лицом множественного числа;
– выступают в функции указательного местоимения;
– являются локативным формантом при именах и местоимениях;
– являются показателем косвенного падежа имен одушевленного класса;
– являются суффиксами отглагольных имен, причастий и прилагательных;
– показателями медиума и пассива в глаголах;
– выступают как отрицательная и/или запретительная частица[47].
3. Значительно меньшее число значений можно перечислить по Словарю В. М. Иллича-Свитыча для единиц с показателем консонантной опорой на t-:
– это прежде всего показатели 2-го лица, как в единственном, так и во множественном числе;
– это показатели 3-го лица с семантикой указательности, причем они могут обозначать и ’этот’, и ’тот’;
– это показатели косвенных падежей имени;
– наконец, в рамках глагольных категорий они могут служить показателями каузатива и рефлексива.
4. Выделяемый В. М. Илличем-Свитычем отдельно от t-ового показателя показатель на d– имеет в его Словаре два типа значений, как будто бы не сводящихся друг к другу в единое поле:
– это, во-первых, значение соединения (объединения), то есть ’ тоже, и, же’;
– во-вторых, это значение локативной семантики, направительности, показатель, трактуемый то как формант локативных падежей, то как суффикс аблатива с местоимениями и основой на -о. В данном случае интересно проследить, как распределяются эти два типа значений по шести языковым группам, описанным В. М. Илличем-Свитычем. Удивительным образом оказывается, что обе семантические группы присутствуют во всех шести языковых семьях[48].
5. Согласно В. М. Илличу-Свитычу, показатель с консонантной опорой на s-, не смешивающийся с консонантной опорой на t-, имеет следующие значения:
– указательности, дейксиса, с указанием на 3-е лицо;
– притяжательности;
– для глаголов служит как «аффикс каузатива и дезитератива».
6. Несколько неожиданными со славянской точки зрения (и даже с индоевропейской) являются значения показателя с l-овой опорой. Если для славянского континуума здесь выделяются, скорее, вопросительно-разделительные значения, то есть не-идентифицирующие, то здесь мы имеем дело, по В. М. Илличу-Свитычу, со следующей функциональной семантикой:
– значение локативности;
– значение собирательности (для имен);
– функция (значение) отглагольности (для имен);
– показатель отрицания (как собственно отрицательная частица, так и отрицательный компонент) внутри глагольных форм.
Таким образом, пытаясь обобщить, сразу же можно сказать, что отрицательно-запретительное значение имеют все три показателя с консонантной опорой сонорного характера: m-, n-, l– [49].
7. Последняя группа показателей с консонантной опорой – это элементы с Stammlaut на k-. Семантико-функциональный разброс здесь настолько велик, что заставляет думать об особости исторического развития показателей на задненебный (напомним, что В. М. Иллич-Свитыч разделяет опоры на k– и опоры на ku-).
Перечислим эти значения, обобщая их по мере таксономической допустимости:
– разумеется, это прежде всего и во всех языковых семьях представленное значение вопросительности;
– это значение направительности;
– связывается с этим в известной степени и значение побудительности, императивности;
– это хорошо известное для индоевропейских языков значение соединительности вроде латинского que ’и’;
– одновременно с этим присущее многим языкам значение уменьшительности.
8. Напротив, довольно единообразную семантику являет группа показателей с глайдовым переходом (средненебным) j-. Если не объединять его с i, как это делает В. М. Иллич-Свитыч, то семантика у этих показателей простая:
– быть реляционным показателем, проще говоря, выступать в функции относительного местоимения со значением ’ который, какой, что’;
– быть показателем уменьшительного или ласкательного суффикса (для имен).
Оба этих значения представлены во всех шести группах, или языковых семьях.
Как и для чередований с i (которое в индоевропейском, как пишет автор таблиц, первоначально передавало множественное число местоимений), В. М. Иллич-Свитыч предлагает для j в уральском и aj в семито-хамитском в обоих случаях значения выразителя форм косвенного падежа множественного числа.
Последние две группы – чисто вокального состава, без консонантной опоры.
9. Первая из них – это чередующиеся (по В. М. Илличу-Свитычу) гласные i/e.
Значение их прежде всего дейктическое – с той только разницей, что в одной группе языков этот элемент может указывать на ближайший предмет, а в другой – быть показателем отдаленного дейксиса.
Другой тип значения – запретительная или отрицательная частица, часть отрицательного глагола или даже форма отрицательного глагола.
Третье значение, выделяемое В. М. Илличем-Свитычем, это свойство быть суффиксом отглагольных и отыменных имен, суффиксом прилагательных. Судя по примерам, здесь выступает именно i, а не e, тогда как в значении отрицательном и запретительном выступает именно e. Так как из материала, приведенного в таблицах, остаются неясными ни позиция этого элемента в слове, ни хронология появления этой функции, то мы можем предположить, что третья функция есть по сути первая – так как именно этот показатель создал так называемые «полные», то есть определенные, формы славянских прилагательных.
10. Вторая вокалическая группа – это чередующиеся a/o. Здесь мы видим редкий случай полного функционального единства всех шести языковых семей: эти компоненты выполняют дейктическую и только дейктическую функцию: быть словом (или элементом слова) указательного значения.
Делать какие-либо обобщения по приведенным данным очень сложно. Прежде всего потому, что, как указывалось выше, поздние грамматикализованные формы и поздние функции сопоставляются с более ранними по относительной хронологии «на равных», а диахрония грамматикализованных форм в книге не представлена. Во-вторых, мы все-таки не знаем, чем обусловлены вокалические чередования и потому не можем оценить их важность. И, наконец, мы не можем иметь – как бы ни старались – представления о том, как членилось семантическое поле дейксиса в столь отдаленную эпоху.
И все-таки мы можем сказать следующее:
1. Несомненно, что число таких дейктических единиц невелико – в данном случае их примерно десяток.
2. Несомненно также, что внутри этого класса выделяется фонетическое ядро, компоненты которого близки друг к другу артикуляторно.
3. Несомненно и то, что наиболее активными функционально оказались элементы с опорой на сонорные звуки.
4. Отрицательно-запретительное значение связано в первую очередь с сонорными или просто вокалическими элементами.
§ 9. Неиндоевропейский пласт партикул
Наиболее интересными для сопоставления с индоевропейскими данными – как в плане контактном, так и с точки зрения позиций отдаленного родства – показались нам сведения о данных финно-угорских и енисейских языков. Однако почти вся существующая по этому поводу литература практически посвящена вопросам заимствования дейктических показателей из русского языка. (В дальнейшем мы подробнее остановимся в этом плане на работах М. Лейнонен.) Считается, – как это описано в литературе, – что только венгерский язык избежал в этом плане славянского влияния. На самом деле уже сама постановка вопроса о том, почему в одних языках частицы легко заимствуются, а в других эта сфера мало проницаема, заслуживает очень серьезного внимания. Например, не совсем ясно, почему славянские языки Балкан заимствовали многие компоненты коммуникативного фонда из турецкого и греческого, а чешский язык в этом отношении противостоял «частицеобильному» немецкому. Но это уже серьезные и иные вопросы контактологии.
Интересующий нас финно-угорский материал был извлечен в основном из монографии К. Е. Майтинской «Служебные слова в финно-угорских языках» [Майтинская 1982].
Эта насыщенная материалом книга, с одной стороны, демонстрирует со всей наглядностью глубинное, многолетнее и выношенное влечение автора к неким первичным единицам дейктического характера и искреннее желание выявить все эти единицы и их перечислить. С другой стороны, видно, что автор, как и многие лингвисты, о которых писалось выше, боится признать и принять существование этих первообразных элементов и хочет придерживаться традиционной точки зрения, что эти элементы откуда-то «произошли». Например, мы читаем в книге: «В финно-угорских языках первообразные частицы происходят: 1) от местоименных слов, 2) от словообразовательных суффиксов, 3) от звукосочетаний междометного характера, 4) от имен» [Майтинская 1982: 143]; «Вопросительные частицы возводятся к уральской указательно-местоименной основе Y» [Там же: 148]; «Усилительные частицы возводятся к уральскому *к-овому местоименному суффиксу» [Там же: 149].
Так, финская частица s– возводится автором к указательному местоимению se, марийская частица at – к указательному t-ово-му местоимению, удмуртская частица но появилась на базе n-ово-го указательного местоимения и под.
Но, с другой стороны, мы можем прочесть в этой же книге, почти на тех же страницах: «Эта общность указательных местоимений и указательных частиц отражает то древнейшее первичное состояние дейктических слов, когда указательные местоимения и указательные частицы еще не были разделены, т. е. одна и та же единица совмещала в себе обе функции» [Майтинская 1982: 146]. И даже прочесть такое «крайнее» высказывание: «Приведенные данные свидетельствуют о том, что праформы перечисленных частиц уже в обско-угорском языке-основе были частицами» [Там же: 151].
Однако несомненно, что удачной стороной книги К. Е. Майтинской является установка автора на расчленение (разбиение) поздних языковых дейктических и прономинальных комплексов на первичные минимальные единицы, которые приближаются по статусу (и даже облику) к нашим славянским партикулам. Так, например, расчленяется ею финская диалектная частица josko ’неужели’ < jo + s + ko. Соответственно расчленяется и финское joko ’неужели’ < jo + ko. В обоих случаях конечным элементом является вопросительная частица ko. Финское jopa ’даже’ тоже складывается из двух элементов: jo ’уже’ + pa. При этом многие финно-угорские компоненты коммуникативного комплекса получаются путем редупликации, удвоения. Таково, например, мансийское titti (здесь утроена первичная частица ti). Ср. с этим русские модели вроде то + тъ, къ + то + то и под.
В книге К. Е. Майтинской воспроизводятся списки частиц (партикул), которые она считает первообразными (правда, эти списки приводятся каждый раз все-таки с легкими изменениями). Это – основы на консонант с-, k-, j-, n-, t– и вокалическая первообразная частица Е. Поразительно, насколько этот приведенный список вполне согласуется с вычленяемыми индоевропейскими данными. Однако К. Е. Майтинская демонстрирует в своей работе и отличия финно-угорской системы. Во-первых, синтаксическая позиция указательного элемента в этих языках была (и есть) постпозитивной. Об этом будет сказано ниже в связи с частицей дак, о которой сейчас в литературе много споров. Во-вторых, она выделяет три вопросительных основы: ки, ки (при указании на человека) и гпэ (с фонетическими вариантами). Последняя партикула в индоевропейском не представлена. Наконец, к прафинно-угорскому состоянию К. Е. Майтинская относит и частицу ra (ее интересно сравнить с партикулой ro, приведенной выше в качестве первичной у Дункеля).
В этой же книге К. Е. Майтинской высказана интересная гипотеза о более позднем появлении семантики отрицания у так называемых n-овых частиц. Она пишет: «По-видимому, первоначально соответствующее n-овое слово использовалось для подчеркивания и выделения других слов. Особенно часто – при отрицании. Оно специализировалось, стало отрицательной частицей и утратило местоименную (а позднее – выделительную) функцию» [Майтинская 1982: 146]. Эта гипотеза позволяет объединить с отрицанием и славянский «дальний дейксис», приняв единое происхождение этих партикул[50].
Специально вопросом о контактологических причинах столь активного заимствования русских частиц в финно-угорских языках занималась в последние годы М. Лейнонен [Leinonen 1997; 2000; 2002]. Этому вопросу посвящено уже несколько специальных ее исследований. Среди бесспорных заимствовований из русского языка вроде копулятивных da, i и других особое место занимает частица dak, располагающаяся позиционно в финальной части предложения, употребляемая и в русском, и в финно-угорских языках. Значение ее можно передать как ’раз уж, если, когда’, например: Иди, пошел дак. Специальный доклад об этой частице, вызвавший оживленную дискуссию, был сделан нидерландской фонетисткой М. Пост на Фонетической конференции в Поречье в 2003 году. Дело в том, что эту частицу можно считать: 1) русской частицей так с озвончившимся началом, превратившуюся в дак; 2) комбинацией русских да + къ; 3) комбинацией русских та + къ; 4) общим для двух языковых семей сочетанием ностратического t/d + k. Некоторые частицы, как пишет М. Лейнонен, в этом плане вообще трудны для определения их происхождения. Например, партикула ka [Leinonen 2002: 319], означающая ’ вот так’, может являться русской побудительной частицей, изменившей свою семантику (Иди-ка сюда), или исконно финно-угорской (в крайнем случае, ностратической), восходящей к консонантной опоре k.
На иных позициях, чем те, что изложены выше в книге К. Е. Майтинской, стоят авторы исследований об енисейско-индоевропейских параллелях [Живова 1984; Ильяшенко 1984; Ильяшенко, Максимова 1984]. Г. П. Живова прямо соотносит указательные и вопросительные местоимения в енисейских языках с первообразными частицами ностратического характера[51], см.: «Вопросительные, указательные и личные местоимения восходят к первичным дейктическим частицам» [Живова 1984: 20]; «Вопросительные местоимения восходят к первичным основам с широким значением местоимений, частиц, наречий» [Живова 1984: 27].
Какие же именно первообразные элементы восстанавливаются в этих работах для енисейских языков? Прежде всего, это элемент а, который присущ всем местоимениям. Поэтому частица общего вопроса ана реконструируется как а + на, где на – дейксис широкого значения. Енисейское а] ’что?’ предстает как комбинация a + j, восходящая к ностратическому io – релятивизатору. Akus ’что?’ реконструируется как a + ku + s. Примечательно, что в этом кластере оба вторых члена известны как дейктические показатели.
Итак, в енисейских вопросительных местоимениях Г. П. Живовой выделяются следующие первообразные элементы: a-, na-, bi/be < и. – e: *m, ku-, s-.
В неопределенных местоимениях в енисейских языках обязательно присутствует ta, восходящее к древнему t-дейксису, также ностратического характера, а также m < b/m.
Отрицательной частицей является n’i, тоже находящая параллели в индоевропейских языках.
Падежные формы формируются из первоначальной дейктической частицы d-, которая, в свою очередь, распространяется вокалическим показателем -a – для женского рода и -i – для мужского. (В енисейских языках существует различие в падежной системе для мужского и женского рода.)
О присутствии ностратического ko/ku в селькупских вопросительных местоимениях пишет и И. А. Ильяшенко [Ильяшенко 1984]. В совместной статье Ильяшенко и Максимовой [Ильяшенко, Максимова 1984], посвященной склонению местоимений в селькупском языке, говорится о цепочечном «нанизывании» в элементах падежной системы. Так, в северносамодийских языках в генитиве обнаруживается комбинация *j (V) + t (V) или *J + I. Авторы показывают, что те же системы нанизывания находим и в генитиве прибалтийско-финских языков.
Итак, в енисейских языках исследователи выделяют уже ранее описанный для других языков состав первообразных элементов: a-, na-, ni-, bi/be < и. – e. m, ku-, s-, t-, d-, j-.
Глава вторая Партикулы и языковая таксономия
§ 1. Проблема идентификации
Если в первой главе основное внимание уделялось партикулам, с одной стороны, и лингвистической теории, не принимавшей (или даже отвергавшей) этот класс языковых элементов – с другой, и объяснялись, по возможности подробно, те причины, по которым лингвистика как «нормальная наука», по Т. Куну, не желала и не желает иметь дело с не укладывающимися в общую схему субъектами, то во второй главе партикулы будут рассматриваться на фоне «канонической» языковой «по-уровневой» системы, той, которая уже давно принята в «нормальной лингвистике». Можно предположить, что этот новый угол зрения позволит вскрыть и некоторые недостатки существующей таксономии.
Итак, что же произошло и происходит с языковыми партикулами за их долгую языковую историю?
Во-первых, они могут вполне удачно вписываться в языковую систему, не соединяясь в кластеры, так сказать, в «примарном» виде, употребляться изолированно. Чем же они тогда становятся?
Они становятся союзами, они становятся артиклями (в широком смысле – детерминативами), они становятся частицами.
При этом значения единиц у этих классов часто совпадают или пересекаются. Приведем, например, высказывание из латинской грамматики Шмальца-Штольца (цит. по: [Бюлер 1993: 107]): «Связующие слова (союзы) можно подразделить на изначально указательные и чисто соединительные, сообщения добавочных сведений или противопоставление.
Существенной разницы между этими двумя группами нет – уже потому, что из указательной основы при размывании ее дейктического значения произошло множество чисто соединительных союзов».
Однако, как это было показано в главе первой, партикулы любят «прилипать», в том числе прилипать и друг к другу. Тогда они становятся местоимениями, например къ + то, къ + то + то; они становятся частицами, например да + же, не + же + ли; они становятся союзами, например и + ли, и + но, а + по и т. д.
В течение долгой языковой истории происходит «стирание» одних кластеров партикул и, напротив, наращение, увеличение других. Так, например, романский артикль определенности восходит к латинскому местоимению ille, более сложному. Пока мы не можем проследить и объяснить судьбу каждой партикулы в каждом языке и в каждую историческую эпоху. Например, трудно объяснить, почему в русском языке комбинация а + то дистантна графически (Надень плащ, а то простудишься!), а в других славянских языках слитна, почему исчезла партикула-релятив jo и т. д. Мы не знаем также, все ли они использованы языком. Так, в частности, О. А. Осипова, анализируя редкую и никуда не вписывающуюся партикулу из кельтских языков, предположила, не опасаясь нарушить «принцип униформитарности», что из далекого для нас по времени «мешка» диффузных партикул использовано было далеко не все [Осипова 1997].
Но, как заметил (но только не сформулировал в современных терминах) еще Ф. Бопп, партикулы прилипают и к знаменательным словам: к глаголу, к имени. Именно тут мы можем догадываться о существовании некоторого скрытого «минисинтаксиса», о котором говорилось в первой главе, так как по-настоящему не знаем того синтаксического контекста, в который в далекие времена вписывалась та или иная форма имени или глагола, не знаем точно ни функций, ни позиций.
И в древности люди не говорили и не мыслили парадигмами: парадигмы есть просто факт метаописания, факты языкознания, которое «нашло» их в языке. Поэтому и наша монография называется, как уже говорилось, «Непарадигматическая лингвистика».
Итак, и имя, и глагол как минимум двучастны: знаменательная основа + партикула, падежная флексия. Современная наука определила не замечавшееся ранее совпадение ряда партикул у глагола и имени. Вяч. Вс. Иванов назвал их «субморфами» [Иванов 2004: 30]. См.: «Выделение субморфов может оказаться полезным для установления связей между морфами, позднее разошедшимися, но восходящими к одному источнику. В то же время нелегко избежать опасности ошибочного объединения морфов, исторически друг с другом не связанных» [Иванов 2004: 31]. Какой «минисинтаксис» стоит за этими совпадениями – пока неизвестно.
Совершенно особую роль в этом плане среди частей речи играют местоимения. Их структура другая. Они (пока мы исключаем из рассмотрения формы 1 и 2 лица) в большинстве своем полностью состоят из партикул. Как было видно на примере русского я (глава первая, § 5), даже за этим однобуквенным элементом стоит в истории целое интродуктивное высказывание «вот он я». Возможно, такое высказывание, то есть тоже «минисинтаксис», стоит и за каждой падежной формой «полных местоимений». Как всегда, интересную гипотезу, относящуюся и к «непарадигматической лингвистике», и к «скрытой памяти», высказал Р. Якобсон [Jakobson 1962: 21]. Анализируя сочетания его сын / сын старика, он считает, что местоимение его состоит из двух частей: *je + *go. О первой частице (партикуле) мы уже говорили в связи с русским э + то и аугментом в греческом аористе и имперфекте. Якобсон считает, что она сохраняет свою интродуктивность, а вторая же партикула, *go, располагается за ней по «закону Ваккернагеля», о котором уже говорилось.
Делались попытки построить дистрибуцию «прилипания». Так, в частности, Ф. Адрадос [Adrados 2000] распределяет партикулы на классы следующим образом: дейктические и анафорические партикулы. Так, *-so, *-to соединялись с местоимениями и союзами; существовавшие два гиперкласса – номинально-вербальный и прономинально-адвербиальный – расщеплялись; становился важным порядок слов. Ударение стало возможным только на Стадии II и III, но для партикул «accent was central: it was related to word order and emphasis, and also to the possibility of their becoming suffixes or endings» [Adrados 2000: 65] [«ударение было центральным фактором: оно соотносилось с порядком слов и эмфазой и с возможностью партикул становиться суффиксами или окончаниями»].
Таксономически партикулы обычно связаны с так называемыми «дискурсивными словами»; однако, как уже говорилось, отнюдь не все дискурсивные слова соотносятся с набором партикул. Так, например, авторы статей в сборнике «Дискурсивные слова русского языка» [Дискурсивные 1998] включают в их число такие слова, как по меньшей мере, наоборот, еще раз, впрочем и др., которые не состоят из партикул; но в этом же списке находятся и слова из партикульного фонда: только < то + ли + ко, дай < да + и, не + у + же + ли, не + бо + сь и под.
Так же партикулы в грамматиках предлагают отнести к категории «незнаменательных слов», но и тут область незнаменательных слов пересекается с областью партикулярного фонда лишь частично, поскольку в этот класс вводят и предлоги. Предваряя дальнейшие рассуждения, скажем заранее, что объединять партикулы и предлоги, как это часто делают, теоретически нерационально и информационно бессмысленно, так как партикулы относятся, как было сказано, к «коммуникативному фонду», а предлоги – к денотативной стороне сообщения. Предлог помогает описывать конкретный кусочек действительности, а партикулы, как и дискурсивные слова, «не имеют денотата в общепринятом смысле; их значения непредметны, поэтому их можно изучать только через их употребление» [Дискурсивные 1998: 8].
Значительное число партикулярных образований входит в разряды местоимений и частиц. И здесь, однако, мы можем найти исключения в довольно большом числе. В частности, не из партикул состоят [кто]-нибудь, пусть, пускай, нехай, ведь.
Наконец, предельно простая фонетическая структура таких примарных партикул, а они состоят, как правило, либо из одного гласного (V), либо из комплекса консонант + вокал (CV), может привести к мысли о их соответствии слогам языка. Именно моносиллабичность подобных элементов считает их основным признаком М. Фрид [Fried 1999: 43]. Но и это неверно, так как существуют слоги, не имеющие аналога среди фонда партикул, однако знаменательные слова распадаются на них легко.
Ясно, что вопрос о возникновении таких партикул и их первичной семантике связан с еще недавно запретной темой о происхождении языка вообще и о его эволюции (см. главу первую, § 5). Поэтому примарные (некомплексные партикулы) в течение долгого времени было принято возводить к каким-нибудь «застывшим» формам – как правило, падежным формам местоимений.
Во многих работах, в той или иной степени посвященных тем компонентам языка, которые мы здесь называем партикулами, эти языковые элементы являются предметом разного типа таксономических затруднений. В этом отношении мы должны быть благодарны русскому языку, который, как уже говорилось, позволяет различать терминологически «частицы» и «партикулы» (particles в англоязычной литературе). Так, например, А. Звики в специальной работе [Zwicky 1985] подчеркивает тот факт, что «particle в своем обычном очень широком употреблении – это понятие дотеоретическое, не имеющее переводного эквивалента на язык лингвистических конструктов, и в угоду этим конструктам оно должно быть элиминировано» [Zwicky 1985: 284]. Описывая разные таксономические подходы (так, например, пишут о «mystery particles»), Звики, твердо уверенный в том, что такой именно синтаксической категории, как particles, нет (а «вне-категориальных слов нет, и каждое слово принадлежит к какой-нибудь синтаксической категории, выведенной универсальной грамматической теорией» [Zwicky 1985: 294]), предлагает искать выход в именовании – назвать весь этот класс «дискурсивными показателями» (discourse markers). Как мы старались показать выше, дело в самой теории, а не в таксономическом ярлыке.
Как же именно эти партикулы, любящие «слипаться» друг с другом или «прилипать» к другим словам, связаны с анализом функциональной семантики сочинительных союзов?
Исторические разыскания, как оказывается, дают возможность найти «промежуточный» этап распределения местоименных партикульных показателей. Так, А. А. Зализняк [Зализняк 1995: 161] пишет, что «для 1 и 2 лиц в берестяных грамотах соблюдается следующий основной принцип: в нормальных случаях употребляется либо модель далъ есмь (виноватъ есмь), либо модель я далъ (я виноватъ), но не трехчленная модель я есмь далъ (я есмь виноватъ)». Действительно, функциональное сходство показателей «справа и слева» для 1-го лица на этом периоде русского языка ощущалось живо и потому достаточно было только одного из них.
При восстановлении происхождения и эволюции парадигм имени и глагола в лингвистике представлены две точки зрения (и, соответственно, две научные школы). Согласно одной из них, парадигматические словоизменительные показатели именуются «расширителями», «формантами», «аугментами» и т. д. И вопрос о наличии у них первичного автономного значения не то чтобы отрицается, но просто не ставится. Например, И. М. Тронский категорически осуждал в Предисловии к книге А. Эрну [Эрну 1950] идею «местоименности» глагольных и именных флексий[52], и в своей собственной книге [Тронский 2001] говорит о флексиях только как о «личных окончаниях».
По другой концепции, словоизменительные флексии – как глагольные, так и именные – возникли из неких добавок, которые называют по-разному. И это различие в именовании и статусной характеристике этих добавок теперь становится все более значимым. Одни полагают, что флексии – это, как правило, застывшие местоименные элементы. Так, В. Шмальштиг, обсуждая далеко ведущую идею П. Кречмера о том, что и. – е. не-презентные глагольные форманты -s-, – t-, – v-, – k– были первоначальными показателями глагольного объекта, высказывает такую мысль, что форма медия на *-to «есть в действительности дейктическое местоимение *-to, присоединенное к корню, как правило, в нулевой ступени» [Шмальштиг 1988: 267]; см. у него далее: «я остановлюсь на различных формах местоимений и на том, как они постепенно превращались в глагольные окончания» [Там же: 275].
Подробно эта идея уже давно излагалась А Н. Савченко в специальной монографии [Савченко 1960]. Как он считает, первое лицо глагола связано через окончание с личным местоимением, а второе и третье – с местоимениями указательными: – *so/*to.
Комплекс: основа + флексия обычно бинарен, но в действительности, как предполагается, местоименный компонент может пронизывать более протяженные отрезки. Важно, что в этом случае речь идет о соединении двух значащих, то есть имеющих свою семантику, компонентов. Например, уже К. Уленбек в 1901 г. отметил, что показатель субъекта -s-, по-видимому, является постпозитивным артиклем, восходящим к местоимению -*so. А. Эрну [Эрну 1950] прямо возводит окончания именительного и родительного множественного числа второго и первого склонений латинского имени к указательным местоимениям [Эрну 1950: 49].
Но есть и другие подходы, согласно которым флексии – это не «приклеившиеся» местоимения, а некие первообразные частицы-партикулы с диффузным значением дейктического характера, распределенным по высказыванию в целом. Так, Ю. С. Степанов, автор важной теории «длинного компонента», пишет: «В современных индоевропейских языках повторяющимся элементом обычно служат разнородные члены синонимического ряда. (…) В древних индоевропейских языках повторяющимся элементом часто является какая-либо специальная дейктическая частица… *1. – v– //-т.; *2. – t-; *3. – n– дейксисы трех лиц – участников акта речи» [Степанов 1989: 73].
Таким образом, положение о «местоименности» глагольных флексий есть в этой теории чистая условность описательности: более точно, удобнее говорить о том, что и местоимения, и глагольные флексии восходят к общему для них протоэлементу, являющемуся, как правило, дейктическим показателем (см. такую точку зрения: [Shields 1997]). Подобный взгляд восходит к точке зрения на реконструируемый и. – е. язык (the new image of I. – E. morphology), согласно которой первый этап развития и. – е. языка не был флективным, а в протоиндоевропейском на синтаксическом уровне соединялись компоненты диффузной семантики и диффузной частеречной принадлежности (см. об этом подробнее в главе первой).
Так, в 1992 г. вышла уже упоминавшаяся статья Ф. Адрадоса «О новом облике индоевропейского: история одной революции» [Adrados 1992]. Суть «нового облика» Фр. Адрадос излагает следующим образом (как кажется, повторить эти положения допустимо и в этой главе).
Индоевропейский язык прошел три реконструируемые стадии:
1) Протоиндоевропейский. Он не был флективным и не имел парадигм.
2) Тот этап индоевропейского языка, который засвидетельствован анатолийскими данными.
3) Поздний индоевропейский язык, который до сих пор и принято было считать древнейшим состоянием и который уже обладал парадигматическим устройством» [Adrados 1992: 1; Shields 1997: 106].
В предыдущие периоды лингвистической реконструкции протоиндоевропейского, как считает Ф. Адрадос, было лишь два направления: «унитарное», «плоское» (plain), по которому реконструировался некий единый язык, близкий к более поздним состояниям, и язык с реконструируемой «глубиной», то есть тот язык, в котором принципиально выявляются лингвистами возможные иные состояния, но в общем виде они никогда ими не формулируются.
Многое в этой теории «нового облика» связано с идеей постепенной эволюции в развитии компонентов парадигм глагола и имени, но для нас важно то, что именно эти дейктические час-тички-партикулы, а отнюдь не местоимения, которые появляются – пусть из них же, но позже, – по мнению приверженцев «новой теории», лежат в основе первоначальной индоевропейской грамматики. Значение их, как уже говорилось, было достаточно диффузным, и это объясняет, по мнению К. Шилдза, автономность развитий глаголов, имен и местоимений как особых – семантически и функционально – частей речи.
Частицеообразные партикулы при этом всегда объединялись (и объединяются и сейчас!) в ансамбли разных функциональных оттенков, разумеется, не реализуя в языках всех своих комбинаторных возможностей[53].
Эти ансамбли могут состоять только из самих партикул. Так, нами были выбраны (по принципу случайной выборки) 10 русских партикул: не, къ, то, ли, и, у, же, да, а, но. Они дают 726 сочетаний по 2 и по 3 элемента с возможными перестановками[54], однако лишь около 50 комбинаций из них могут быть признаны реализовавшимися и функционирующими в русском языке реально.
Приведем также для иллюстрации фрагмент цепочки двукомпонентных партикульных комплексов, порожденных компьютерной программой из 9 русских партикул: и, а, не, но, да, же, ли, къ, то, и посмотрим, что из этого взял язык: и + а, и + но, и + да, и + же, и + ли, и + то, и + къ, и + не, … но + а, но + да, но + же, но + ли, но + то, но-къ, но-не, да-а, да-и, да-но, да-же, да-ли, да-то, да-къ, да-не, же-а, же-и, же-но, же-да, же-ли, же-то, же-къ, же-не, ли-а, ли-и, ли-у, ли-но, ли-да, ли-же, ли-то, ли-къ, ли-не, то-а, то-и, то-у, то-но, то-да, то-же, то-ли, то-къ, то-не, къ-а, къ-и, къ-у, къ-но, къ-да, къ-же, къ-ли, къ-то, къ-не, не-а, не-и, не-но, не-да, не-же, не-ли, не-то, не-къ, а-и, а-но, а-да, а-же, а-ли, ато, а-къ, а-не.
Мы видим здесь 84 сочетания.
Что же находится среди них? Какие частеречные элементы, относящиеся к системе языка, можно здесь выделить?
Во-первых, это привычные для нас современные «цельные» слова: или, даже, тоже, к(ъ)то.
Во-вторых, это слова, ставшие сейчас архаичными, но засвидетельствованные в истории языка: ино, неже, нели, къда, аже, али.
В-третьих, это графически дистантные компоненты, часто требующие контекстного продолжения, однако вполне для нас привычные: и + да, и + то, и + не, но + а, но + не, не + то, да + и, да + ли, да + но, да + не, то + и, то + ли, то + не, а + то, а + не. На каждое такое сочетание легко привести соответствующие текстовые верификации[55].
В-четвертых, мы видим здесь не собственно русские, но славянские нормативные сочетания: ano («да» – чешское и словацкое), дали (болгарское вопросительное слово).
В-пятых, комплекс становится привычным, если первый элемент квалифицировать в качестве междометия: да-а…, не + а…, а, да.
В-шестых, представлены двучленные партикульные сочетания, явно требующие третьего партикульного члена для завершения комплекса: и + къ, но + къ, да + къ, то + къ, къ + а, къ + и, а + къ и т. д., а в двучленном комплексе в языке не существующие.
Итак, мы видели, что комбинации + перестановки неких исходных элементов структуры CV порождают разные части речи уже привычной для лингвиста языковой структуры.
Но, однако, в лингвистике существует и некая «свальная куча», суть которой еще требует детального разбора и подлинного экспериментального исследования. Это клитики. В соответствии со всем сказанным определяется и план второй главы монографии.
§ 2. Партикулы и союзы
Итак, обращаясь к партикулам как таковым, мы можем говорить о трех видах их существования. А именно:
A) они существуют как примарные единицы;
B) они «слипаются» между собой, образуя комплексы партикул;
C) они «прилипают» к знаменательному слову справа от него или слева.
В настоящей главе мы не предполагаем проанализировать все, что можно сказать об этих частях речи и о тех, что будут анализироваться в следующих параграфах: наша монография не является ни грамматикой отдельных языков, ни претензией на универсальную грамматику, но только попыткой представить грамматику партикул.
Однако все, что будет сказано далее в этой главе о партикулах как о примарных единицах, будет только метатеоретическим приближением к объекту. «На самом деле», становясь союзами, частицами, артиклями, партикулы никогда не оставляют всей своей былой семантики, хотя бы в виде некоторого шлейфа «скрытой памяти». Это очень хорошо понял А. В. Исаченко в своей работе над древнерусскими сочинительными сюзами а, и, то, ти [Isacenko 1970]. Исследование это написано задолго до появления открытий А. А. Зализняка, переосмыслившего тексты новгородских берестяных грамот, поэтому А. В. Исаченко пользовался в основном трудами В. И. Борковского. Но имевшихся данных оказалось вполне достаточно для окончательного вывода о том, что партикулы не покидают своих былых значений окончательно, грамматикализуясь в виде той или иной лексической единицы. Могу добавить, что они и не покидают свое полевое пространство, перекликаясь своими отдельными значениями. Выводы Исаченко были смелыми для того времени, да и сейчас они кажутся свежими. Он спорит с советской наукой, говорившей, например, об а как только о союзе, но спорит и с Ф. Копечным, считавшим, что совпадение в плане выражения частиц и дейктических местоимений «kaum ein blosser Zufall ist» [«по всей вероятности только случайно»]. Итак, каков же вывод А. В. Исаченко [Isačenko 1970: 203]: «Für eine Sprache wie das Ostslavische (11 bis 14. Jh.) ist es natürlich schwierig, die einzelnen Kategorien der “particulae orationis” streng voneinander zu unterscheiden und gegeneinander abzugrenzen. Die “syntaktische Perspective” war im Ostslavischen noch recht diffus, die syntaktischen Mittel noch nicht ausgebildet. ‹...› Bei vielen “grammatischen Wörtern” haben wir im Ostslavischen noch mit einem Synkretismus zu tun, wo Elemente wie a, i, to, ti etc. eben weder Konjunktionen, noch Interjektionen, noch Modalpartikeln, noch deiktische Pronomina, sondern sowohl Interjektionen, als auch Konjunktionen usw. waren»
[«Естественно, что для такого языка, как восточнославянский – XI по XIV в., – затруднительно различать некоторые классы «particulae orationis» и проводить границы между ними… Для многих «грамматических слов» восточнославянского мы имеем дело с неким синкретизмом, когда элементы вроде а, то, ти и под. не являются ни союзами, ни междометиями, ни модальными частицами, ни дейктическими местоимениями, но – и междометиями, и союзами»].
Но, как уже говорилось в главе первой, лингвистика как «нормальная наука» не терпит таксономической диффузности. Однако и она имеет периоды своих преференций. Таким был период истории лингвистики, условно называемый нами «морфологическим». Он выступает в работах В. М. Иллича-Свитыча, см. ниже также в книге В. С. Воробьева-Десятовского о местоимениях и т. д.
На смену ему пришел период, также условно говоря, «лексикографический». Именно он лежит в основе многочисленных сборников о «дискурсивных словах», в которых несколько партикул рассматриваются по отдельности и в изоляции от общих положений.
Несомненно, что примарными партикулами являются в своих истоках, в частности, три сочинительных союза а, и, но, получившие в русском языке самостоятельный частеречный статус и отработавшие свои собственные функциональные модели в общей системе языкового синтаксиса.
Однако их примарность в качестве первичных партикул признается (и признавалась) далеко не всеми исследователями.
Говоря более упрощенно, по вопросу об «этимологии» союзов а и и существуют две разные точки зрения: 1) они развились из «первичных» языковых единиц диффузного значения: междометий, частиц и под.; 2) они являются грамматикализованными коннекторами, восходящими к «застывшим» формам элементов парадигмы, скорее всего, это формы местоимений. Союз но, как будет видно далее, этимологически анализируется иначе.
Сводка взглядов на этот предмет дана в «Этимологическом словаре славянских языков. Слова грамматические и местоимения», 1980 (далее – Etim. slov.).
Авторы этого словаря считают, что славянское а восходит к междометию а или а-а, в случае эмфатического усиления (Френкель, Зубатый, Копечный, Бауэр и др.).
При более раннем подходе (Миклошич, Бернекер, Траутман и Славский; см. такую же точку зрения в словаре Садник-Айцетмюллер) а восходит либо к наречию, либо к «застывшей» падежной форме местоимения со значением ’отсюда’ («von diesem her»). Однако этот подход закрывает для союза а связи с междометием, частицами и под.
Дискуссионным остается и сопоставление славянского а с древнеиндийскими a, āt (Бирнбаум). Есть и теория (Гуйер), согласно которой а связано со славянским предлогом от, в свою очередь родственным латинскому et и литовскому at-.
В «Этимологическом словаре славянских языков» под руководством О. Н. Трубачева (далее – ЭССЯ) союз а (*a) возводится к падежной форме местоименной основы индоевропейского местоимения *e/o, а именно – к аблативу единственного числа. То есть: *a < *ed/*6d [ЭССЯ 1974, вып. 1: 34].
Этимологическую историю союза и авторы соответствующей статьи в Etim. slov. видят – как и для а – в переходе от междометия к частице, а затем – к союзу. Они категорически не согласны с той позицией (Фасмер, Славский), по которой этот союз восходит к «застывшей» местоименной форме от e/ei. Само это местоимение, по их мнению, также местоименного происхождения.
Не согласны они также и со сближением славянского и с литовским ir и греческим ίδέ.
Авторы предлагают в заключение концепцию Я. Бауэра, по которой и как союз является более древним, чем а в этом же качестве; однако и тот, и другой союзы восходят к междометиям.
В словаре ЭССЯ [ЭССЯ 1981, вып. 8: 167] славянский союз и (*i) восходит к «застывшей» форме того же и. – е. указательного местоимения *e-, но уже не к форме аблатива, а к форме местного падежа *ei.
Итак, в соответствии с существованием двух лингвистик, о котором говорилось выше, оба союза объявляются либо первичными единицами, в широком смысле междометного происхождения, либо вторичными флективными формами.
Естественно, что Ф. Адрадос, о котором упоминалось выше, считает некое i (неясно только, как с ним связывается славянское и), образующее так называемые «вторичные» окончания индоевропейского глагола – -mi, – si, – ti, – nti – именно «дейктической частицей» [Adrados 1992: 16]. Естественно также, что принадлежащий к противоположной школе Э. Хэмп [Hamp 1984], анализируя славянское и и балтийское ir, не сомневается в том, что и славянское – «местоименного происхождения» [Hamp 1984: 174]. Именно *i он считает точной реконструируемой формой Loc. sing., а *ei, реконструируемое обычно как архаичная форма союза i, формой некорректной. В его работе интересно то, что ir балтийское он рассматривает как комплекс: I + R. Этот последний компонент (то есть сонант) он видит в индоевропейском медиальном залоге, в греческих союзах и частицах: άρ, ρά, ἄρα, в древнеирландской приставке ro– и т. д. Все это, по его мнению, есть отражение индоевропейской «частицы» *г. Таким образом, по несколько странной логике, и не имеет права быть первичным элементом, а r – имеет.
Противоречивость и сложность квалификации двух самых простых сочинительных союзов, как кажется, объясняется именно этим принципиальным различием двух лингвистик. Но приверженцы обеих не могут не чувствовать дейктическую природу этих частиц – первичных или вторичных. Именно поэтому ими «предлагаются» для частиц близкие к дейксису падежные формы: локатив (местный) или аблатив.
Особняком от этих двух союзов, которые могут считаться либо грамматикализованными исходными междометиями, либо «застывшими» падежными формами от индоевропейского местоимения *e (примечательно, что им все же приписываются формы аблатива и локатива, то есть периферийных падежей, по Р. Якобсону, однако описываются они в любом случае единообразно), представляется в словарях история союза но. В Etim. slov интересующий нас союз разнесен, по сути, по трем словарным статьям: no – междометие, которое, по мнению авторов, новейшего происхождения, nu/no – междометие, частица и союз (в русском языке – побудительная частица) и пъ, собственно противопоставительный сочинительный союз (в русском языке – это но). Авторы словаря считают, что в основе и nu, и пъ лежит детский лепет (patři k lalickému podhoubi). Однако именно для этого союза (последний алловариант) приводятся параллели: греч. νύ, νύν, древнеинд. nu/nū, литовское nūnai, палайское n(a), хеттское nu, тохарское no, латинское num. Къ рассматривается также и в качестве первого компонента частиц: nego, neže, nebo. Связывают его также и с местоимением он + ъ/а/о.
Таким образом, в случае но авторы Etim. slov. близки к более общей концепции о существовании «пучка» частиц (междометий, союзов) с общим консонантным началом – опорой (Stammlaut, в немецкой традиции), то есть n-овых партикул. В случае же а и и о подобных сближениях, по мнению авторов Словаря, говорить затруднительно.
В фундаментальном труде Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова «Индоевропейский язык и индоевропейцы» [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 359] союз no сопоставляется с древнеирл. no, литовским nu-, общеславянским *nŭ, старославянским пь. Существенно то, что он (и его функциональная семантика) входят в современные начинательные (для высказывания в целом) сентенциальные наречия. Он, таким образом, близок и русскому ныне, и английскому now.
Это связано, в свою очередь, с реконструируемыми двумя формулами соединения предложения в древних индоевропейских языках. Обе они выводятся из первоначального бессоюзия, а соединяющие частицеобразные дискурсивные элементы впоследствии грамматикализуются.
1) Согласно первой модели, в абсолютном начале высказывания располагается комплекс клитик, отражающий дальнейшее развитие синтаксической цепочки из полнозначных слов. Комплекс этот как бы «навешивается» на первую, абсолютно инициальную, единицу: *nu/*no; *tho; *so; e/o [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 359][56].
Nu– являлось в этом смысле начинательным элементом. Приведем пример хеттского текста из книги Гамкрелидзе—Иванов [Там же: 356][57]:
nu -uš -ša-an A.N.A. Ma-ad-du-Ua-at-ta še-er za-a¢-¢i-ir («И они сражались за Мадуватту»); nu9 -uš-ma-aš-kán LÚIGI.NU.GÁL. LÚU.¡UB pí-ra-an ar-¢a [pé]-¢u-da-an-zi («И они ведут слепого и глухого перед собой»).
2) Вторая модель соединения предложений в индоевропейских языках оформлялась так, что из начального, так же бессоюзного, примыкания, на базе «частиц», в первоначальной своей функции подчеркивающих и выделяющих одно какое-то полнозначное слово, возникал синтаксически полноценный тип соединения высказываний в одно целое. Таковы, например, греческие частицы и сходные с ними по функции [Мейе 1938: 375]. Ср. сходное по функции русское же: Я уговаривал его попросить прощения. Он же никак не соглашался.
Итак, но возводится без особых разногласий к *nu-, коннектору-актуализатору, передающему нечто актуальное и существенное сию минуту (то есть это семантика: ’вот-здесь-сейчас’).
Необходимо еще раз подчеркнуть, что в нашей работе говорится только о тех союзах, которые восходят к партикулам и/или являются партикулами. Между тем, конечно, огромное число союзов не состоит из партикул и не восходит к ним. В этом отношении их можно рассматривать с более широкой точки зрения, как, например, это делают Фавар и Пассеро [Favart, Passerault 1999]. Они разделяют всю семантику союзов на укрупненные семантические зоны и для каждой зоны дают список входящих в нее союзов (коннекторов). Затем выявляется возникновение союзов – по группам и зонам – в детской речи: сначала устной, а затем устной и письменной.
Возможно и совсем иное расчленение союзов (коннекторов): деление их на внутренние и внешние. То есть на те, которые соединяют члены одного предложения, и на те, которые соединяют сами эти предложения. Подобное разделение было сделано нами с И. Фужерон [Николаева 2004], союзы при этом назывались внешними и внутренними. Представим хотя бы часть полученных в этом плане результатов. Это:
• Отношение в тексте числа внешних союзов к внутренним.
• Возможность опустить союз без значительного ущерба для смысла.
• Наличие негации (явной или имплицитной) в соединяемых предложениях.
• Согласование соединяемых предложений по виду.
• Согласование соединяемых предложений по времени. Материалом исследования послужил сборник рассказов русских писателей «Мои собачьи мысли» (М., 1994).
Приводим полученные результаты (в процентах):
Таким образом, можно сразу увидеть, что внешние союзы соединяют высказывания, где меньше согласования по виду, меньше согласования по времени, редко выражается уступительность. Зато внутренние союзы скрепляют высказывания, в которых и другие способы соединения выражены достаточно явно. Интересно, однако, что при различении этих двух типов связи негация практически не играет роли.
В достаточной степени «объясняющей» некоторые процессы, связанные с союзами и превращениями партикул в союзы, можно считать статью [Eroms 1996] об «эрозии» коннекторов и о выдвижении на первый план «связующих элементов» (ligateurs). Материалом исследования служил немецкий язык. Связующие элементы, по определению автора, являются «внутренними» компонентами высказывания, а коннекторы – внешними.
У ligateurs, таким образом, существуют три возможности:
1) интегрироваться во фразовую структуру;
2) занять начальную позицию;
3) занять позицию, «противостоящую» коннектору.
За исключением союза und, все позиции могут быть заняты в разнообразных комбинациях. Например, [Eroms 1996: 344]:
• Aber Fouque hat die Romantik trivialisiert.
• Fouque aber hat die Romantik trivialisiert.
• Fouque hat aber die Romantik trivialisiert.
• Fouque hat die Romantik aber trivialisiert.
Но современный язык, как пишет Эромс, усиленно развивает адверсативы. Поэтому у aber становится все больше конкурентов.
Хочется подчеркнуть мысль этого автора о том, что по мере эволюции языка возникает потребность в новых и более глубоко связывающих текст коннекторах, обеспечивая его кореферентность. Может быть, именно поэтому в славянских языках к
XVI веку партикульный «конструктор» исчерпал себя и начали возникать союзы и частицы, действительно восходящие к знаменательным словам.
Сходные мысли можно найти и в другой статье [Favart, Passerault 1999], в которой сравнивается семантическое толкование французских союзов и коннекторов и эволюция их употребления во французских текстах, с одной стороны, а также их частотность в речи современных детей, с другой. Оказывается, что у детей с годами употребление такого простого союза, как et, уменьшается.
Подобных работ о союзах можно было бы привести много, но все они, расширяясь, уводят нас от главного – эволюции исходных минимальных партикул.
§ 3. Детерминативы
Выше говорилось о том, что партикулы могут быть частью знаменательного слова, но могут быть и самостоятельными (примарными) единицами. В предыдущем параграфе в качестве таких примарных единиц были представлены сочинительные союзы индоевропейских языков; в русском это а, и, но. Упоминалось, что примарными партикулами можно считать и артикли в артиклевых европейских языках (разумеется, не только европейских).
Очередной проблемой, стоящей перед исследователем партикул, – а, по сути, все здесь можно считать проблемами, тем они и интереснее, – является вопрос о том, почему в одних языках артикль занимает препозитивную позицию по отношению к имени, а в других языках он постпозитивен? Судя по многим исследованиям, препозитивный артикль более грамматикализован, то есть обязателен. В постпозиции он ближе к клитике. Однако и для артикля бывает ситуация амбивалентная, например в румынском: он должен быть постпозитивным как артикль балканского языка и обязательным как артикль романского языка.
Но обсуждать все функции артикля в этих языках в книге, где основной упор делается на славянский материал, не представляется целесообразным, поэтому мы остановимся на особом явлении, которое можно считать чем-то промежуточным между артиклем, то есть примарной партикулой, и флексией знаменательного слова.
Речь пойдет о так называемых полных и кратких формах славянских (и балтийских) прилагательных. Студенты, знакомящиеся со славистикой, сразу узнают, что краткая и более древняя форма прилагательного это, например, красен, а полная форма – это краснъ + jь, то есть красный. Существует множество исследований, посвященных функциональному различию этих форм, которые в некоторых лингвистических конструкциях нейтрализуются, хотя различие все равно ощущается носителями языка. Например: Жена у него хитра / Жена у него хитрая. «Непарадигматическая лингвистика» помогла бы понять, что же все-таки стоит за этим присоединяемым – ь: коммуникативное намерение продолжить фразу, то есть ’та, которая.’, или же здесь присоединяется партикула jь, которая, как и многие другие с ней сходные, выполняет чисто артиклеобразную функцию.
Интересно поэтому обратиться к исследованиям, посвященным происхождению подобных славянских и балтийских форм прилагательного. Так, Х. Виссеманн [Wissemann 1957], приступая к подробному обзору этой проблематики, присоединяется к мнению Ван Вейка о том, что партикула jь прежде всего имеет относительное значение, то есть это не просто чистый детерминатив. Поэтому эта партикула «im Grunde ein anaphorischen oder deiktisches Pronomen ist» [«В основном имеет значение анафорического или дейктического местоимения»]. Ван Вейк выдвигает гипотезу о том, что эта партикула субстантивировала прилагательное, выделяя его.
Несколько отличался подход к этому явлению в других исследованиях славянских и балтийских языков. Так, балтисты, как пишет тот же Виссеманн, считали эту форму эмфатической [Wissemann 1957: 66].
Новую интерпретацию предложил Гамильшег, назвав это явление ’Gelenkpartikel’, то есть это как бы оторванная от артикля и редуплицированная часть (Gelenk – ’ сустав, член’). Например, в греческом выражении ὁ Θεός ὁ τῶν Ελλήνων второе ὁ выполняет функцию Gelenk, объединяя номинатив и генитив. Х. Виссеманн склоняется к анафорической функции этой формы, например, находя подобное употребление в старославянском тексте (Марк 11: 22) при вторичном употреблении: вино новое, а не вина нова. В литовском же, по его мнению, аналогичная форма выступает, напротив, в значении неопределенного артикля. Х. Виссеманн находит в старославянских текстах и много других случаев употребления этой формы именно в анафорической функции.
Итак, спрашивает Х. Виссеманн, поскольку формы обеих языковых ветвей расходятся функционально, то какая ситуация употребления древнее, во-первых, и как и когда это возникло, во-вторых?
Он обращает внимание на то, что определенная (полная) форма более экспрессивна и часто связана с вокативом. В евангельских текстах определенная форма адъектива иногда подкрепляется и постпозитивным ТЪ, то есть партикулой в той же артиклеобразной функции.
Окончательный вывод Х. Виссеманна можно считать в целом интересным. Он полагает, что вторичное место «оторванного члена» после имени было первоначальным, но партикула -jь относится к синтагме в целом, так как в старославянских текстах не встречается *чловѣкъ-jь– добръ, *вино -jе ново и под. Со временем артиклеобразная функция этой партикулы усиливается, и порядок компонентов синтагмы изменяется, как, по его мнению, он менялся не однажды на протяжении балто-славянского развития.
К гораздо более древнему периоду возводит подобное расширение адъектива за счет артиклеобразной партикулы Б. Розенкранц [Rosenkranz 1958]. Он прослеживает сходную линию адъективного расширения от хеттского языка (в исследовании приводится много примеров) к иранскому материалу, что было отмечено еще Е. Френкелем, а от иранского – к славянскому и балтийскому[58]. Нечто подобное мы увидим ниже в разделе «Клитики», то есть и там, и здесь речь идет о «замыкании» через партикулу не слова, а целой синтагмы. Наконец, можно предположить, что «промежуточное» место партикулы между адъективом и именем в ряде случаев объясняется подчиненностью закону Я. Ваккернагеля, который, таким образом, распространяется не только на высказывание, но и на синтагму.
§ 4. Клитики. Что это такое?
В начале этой главы говорилось об основной тенденции партикул, а именно – «прилипать»: как к знаменательным словам, так и друг к другу. В § 1 и § 2 главы второй говорилось о тех партикулах, которые стали самостоятельными словами, вписались в таксономическую классификацию и остаются этими самостоятельными словами, выступая в высказывании как поодиночке, так и в сочетаниях – кластерах.
Как я писала в первой главе, партикулы, теряя позиционную самостоятельность, то есть «прилипая» окончательно, создают парадигмы.
Но существует ли некий промежуточный класс между самостоятельными словами и флексиями (аффиксами)? Да, существует.
И класс этот традиционно называется клитиками. (Само это слово восходит к греческому κλίνω ’приклоняться’.) Таким образом, клитики как класс являются центром оси эволюции парадигматики: это уже не диффузные семантически автономные единицы, но еще и не компоненты словоформ.
Таким образом, это – полный и абсолютный центр. И именно поэтому они оказываются, как это станет очевидным далее, связанными с многими соседями по таксономии.
4.1. Как клитики определяют?[59]
Как и во многих других случаях, пионерскими работами в области изучения клитик явились работы Р. Якобсона, в особенности его статья 1933 года [Jakobson 1933]. Р. Якобсон исходит из того положения, что в славянских языках существует два вида клитик: частицы и изменяемые словечки (les particules / les mots enclitiques flechis). Они подчиняются (или должны подчиняться) закону порядка слов Якоба Ваккернагеля[60]. Именно этот закон, по мнению Р. Якобсона, определяет инициальное положение императива. Однако восточно-славянские языки и болгарский не подчиняются закону Ваккернагеля. Р. Якобсон объясняет это свободным местом ударения, что сказывается также и в русском, и в болгарском стихе, в отличие от сербского стиха, в котором ударение синтагматическое, а не пословное. Многие положения великого ученого сейчас можно оспорить, но важно то, что он попытался объяснить неодинаковость положения с клитиками у славян, чего другие делать не пытались. Итак, он связывает неподвластность закону Ваккернагеля с положением ударения в слове.
Но с чем же он связывает отсутствие прономинальных клитик в русском языке? Отсутствие клитик, по его мнению, компенсируется в русском тремя способами: 1) превращением клитики в аффикс (например, такую судьбу имело приглагольное ся), 2) превращением изменяемых клитик в частицы (например, форма аориста бы)[61], 3) исчезновением глагольной связки в настоящем времени. Это последнее Р. Якобсон полагает просто революционным явлением русского синтаксиса. Наконец, рефлекс закона Ваккернагеля Р. Якобсон видит в порядке элементов словосочетания: jego syn – syn starika, где партикула *go находится на «ваккернагелевском» втором месте[62]. И все-таки можно заметить, что Р. Якобсон не объясняет отсутствие клитик (прономинальных, как правило) в русском языке, а говорит об их компенсации другими средствами, что не одно и то же.
Изучая литературу о клитиках последних лет (а о них стали писать много, достаточно назвать хотя бы две из опубликованных на эту тему больших коллективных монографии: Clitics, pronouns and movement / Ed. by J. R. Black. Amsterdam; Philadelphija: Benjamins, 1997; Clilics in the languages of Europe / Ed. by H. Van Riemsdijk. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1999), легко прийти к выводу, что нигде в «нормальной» лингвистике не наблюдается такого таксономического разнобоя, как в работах, посвященных клитикам. В этих работах, как правило, сообщаются не сведения о клитиках как таковых, но советы по поводу того, как отличить клитики от не-клитик.
Достаточно сказать, что в очень полном и очень продуманном Лингвистическом энциклопедическом словаре 1990 г. [Лингвистический … 1990] вообще нет ни слова ни о клитиках, ни о про-клитиках, ни об энклитиках. То есть таких статей в словаре не существует. В недавно выпущенном издательством «Русский язык» Кратком словаре лингвистических терминов решения предлагаются явно слишком простые:
«КЛИТИКИ. Слова, не имеющие ударения и примыкающие к другим словам, образуя вместе с ними одно фонетическое слово. В русском языке клитиками является большая часть служебных слов» [Краткий словарь 2003: 60].
«ПРОКЛИТИКА. Вид клитики; безударное слово, примыкающее к ударному спереди и образующее вместе с ним одно фонетическое слово (ср. ЭНКЛИТИКА).
В русском языке к проклитикам относятся односложные предлоги, союзы, отдельные частицы, напр.: на окне, под столом, он и она, не хочу» [Краткий словарь: 111].
«ЭНКЛИТИКА. Вид клитики; безударное слово, примыкающее к другому сзади и образующее вместе с ним одно фонетическое слово (ср. ПРОКЛИТИКА).
В русском языке к энклитикам относятся односложные частицы, напр.: пусти-ка, Петя-то, будет ли. Энклитикой может оказаться слово, следующее за ударным предлогом или частицей: без году [неделя], на руки, на фиг, не был.
ЭНКЛИТИЧЕСКИЙ. ЭНКЛИТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ» [Краткий словарь: 175].
Слишком тривиальные вещи сообщаются о клитиках и в «Словаре американской лингвистической терминологии» Э. Хэмпа [Хэмп 1964]: «Морфемы, называемые клитики, занимают промежуточное положение между словами и аффиксами; эти морфемы легко сочетаются грамматически, но фонологически тесно связаны со свободным словом, к которому они примыкают».
Также достаточно осторожное определение клитикам дает Г. А. Цыхун, автор единственной отечественной монографии о клитиках [Цыхун 1968: 27]: «Всем славянским языкам известны клитики (которые выступают как энклитики или проклитики), т. е. безударные слова, которые во фразе примыкают к предшествующему или последующему слову. Обычно это различного рода служебные слова – частицы, предлоги, союзы и др.)». Но, однако, сам Г. А. Цыхун занимается все-таки тем, что у него называется «и др.», то есть прономинальными клитиками.
В многочисленных определениях клитик в зарубежной лингвистической литературе к клитикам относятся с определенной серьезностью, в большей степени понимая стоящие за ними статусные проблемы. Вопросы в квалифицирующих клитики определениях ставятся в основном следующие:
1) Как можно сформулировать для клитик набор определяющих их признаков?
2) Каковы критерии их выделения?[63]
3) Как их номинировать, то есть куда их определить в рамках существующей таксономии «нормальной лингвистики»?
Обратимся к Энциклопедиям электронной версии.
MSDN library прежде всего указывает на таксономическую сложность определения клитики («Clitics cannot be easily classified as phonological, syntactical or morphological») [«Клитики не поддаются классификации как факт фонологии, синтаксиса или морфологии»] и на акцентную несамостоятельность клитики и ее привязанность к ударному слову. Энциклопедия обращает внимание на то, что одна и та же клитика может быть как проклитикой, так и энклитикой в зависимости от вхождения в высказывания разной структуры, например, такова французская les-клитика: Il me les a donne / Donnezles moi.
Согласно определениям, данным в этой энциклопедии, свойства клитик следующие:
а) они не могут обладать самостоятельным ударением;
б) они не поддаются морфологическим правилам знаменательной лексики;
в) они каузируют перенос ударения;
г) они не могут соединяться через сочинение, например: Je connais Jean et Marie / *Je le et la connais;
д) они имеют свои собственные позиции в высказывании: Il a lu tous les articles / *Il a lu les > Il les a lu.
В издании втором Oxford International Encyclopedia of Linguistics помещена относительно большая статья, посвященная клитикам, написанная пером двух известных лингвистов Стивена Андерсона и Арнольда Звики (последний из них завоевал наибольший авторитет в сфере «клитиковедения»). Оба автора согласны с тем, что клитики прежде всего промежуточны, а именно: они находятся где-то между аффиксами и самостоятельными словами.
Вообще можно выделить две ведущие исследовательские линии по отношению к клитикам: по одной из них, главный критерий их распознавания – это акцентная недостаточность, по другой – способность к особенному синтаксису, которым обычные «слова» не обладают. В статье указанных двух авторов различаются простые (simple) и специальные (special) клитики. Это различие введено в лингвистику А. Звики в 1977 г. [Zwicky 1977]. Простые клитики – это сокращенные морфологические компоненты, например ’s (Lady’s first; My father’s hat и под.) или ’ll (I’ll go home) и т. д. «Специальные» же клитики представляют собой некий неясный по исходной квалификации класс: вспомогательные глаголы, частицы, краткие формы местоимений, артикли и т. д. Утверждается, что клитики могут также выступать в более полном сегментном составе, тогда они вводятся в своей «логической» (LF) форме (При этом, однако, не обсуждается естественный вопрос, остается ли эта логическая форма по-прежнему клитикой или это уже самостоятельное слово. – Т. Н.).
Итак, согласно большинству квалифицирующих утверждений, клитики несамостоятельны, но, однако, имеют свой автономный синтаксис. Они обычно примыкают к своему «хозяину» – самостоятельному слову, но могут примыкать к нему как справа, так и слева. Они, как правило, односложны, но, однако, односложными бывают и не-клитики. Они лишены ударения – на этом настаивают многие их исследователи, но при этом вопрос о лишенности ударения, как будет видно далее, также весьма сложен. Говорится об отличии клитик от «слабых» местоимений (в связи с немецким языком).
В целом, клитики детерминируются по-разному, а именно как:
• Лексические прономинальные аффиксы (lexical pronominal affixes) [Miller, Sag 1997].
• Синтаксические аффиксы [Anderson, Zwicky 2003].
• Фразовые аффиксы [Riemsdijk 1999; Klavans 1985].
И все же за всеми этими разнообразными формулировками по сути стоит все то же многократно упомянутое нами желание привязать клитики к какому-нибудь уже ранее описанному уровню языка. Так как, исходя из этих же предложенных критериев, можно сказать, что вопрос об ударении достаточно спорен, хотя именно это всегда приводится в качестве основного критерия для выделения клитик, поскольку безударными на уровне фонетического слова бывают также и флексии, и суффиксы, и префиксы, а на уровне «ударения» в высказывании эта проблема осложняется еще больше.
Особость синтаксиса – второй основной критерий, предлагаемый для выделения клитик, – в еще большей степени бывает отмечена для предлогов и союзов (см. выше дефиниции в [Краткий словарь 2003], который и предлоги, и союзы также считает клитиками).
Поэтому несомненно, что клитики должны описываться через набор критериев значительно большего состава.
Именно такой набор был предложен в 1975 году Р. Кейн [Kayne 1975][64].
Он включает в себя следующие характеристики:
• Специфичность позиции, например: Il a lu tous les articles / *Il a lu les / Il les a lu.
• Обязательность употребления.
• Тяготение к глаголу: Elle va les apprecier beaucoup / *Elle va les beaucoup apprecier / Elle va beaucoup les apprecier.
• Обязательность глагола в окружении клитики: Jean a pris le couteau et Marie a pris la fourchette / *Jean l’a pris et Marie la.
• Невозможность модификаций.
• Невозможность ударения.
• Невозможность вхождения в сочинительную связь между собой: Je connais Jean et Marie / *Je le et la connais.
• Фиксированность позиции во фразе[65]: Jean donnera le livre a moi seul / *Jean donnera a moi le livre / *Jean le me donnera / Jean me le donnera.
Но все же большинство лингвистов традиционно ориентируется на «фонологический принцип». Против него, то есть против теории обязательности вхождения клитики в «фонетическое слово», выступила Дж. Клэванс, предложившая определять клитики в рамках сформулированных ею трех критериев [Klavans 1985]. Основная мысль теории Клэванс состоит в том, что клитики – это аффиксы фразового уровня: «Clitization is actually affixation at the phrasal level» [Klavans 1985: 17] [«В действительности, клитизация – это производство аффиксов на уровне фраз»][66]. Например, the queen of England’s hat – здесь «simple», то есть «простая», клитика ’s, привязана к словосочетанию в целом. Таким образом, «what is clear is that clitics seem to attach to entire phrases, not just to words» [Clavans 1985: 99] [«Итак, очевидно, что клитики привязаны к комбинациям слов, но не к отдельным словам»].
Основные параметры отождествления клитик, по Клэванс, это:
• Параметр 1. Доминантность. INITIAL / FINAL. Этот параметр относится к положению во фразе «хозяина».
• Параметр 2. Прецедентность BEFORE / AFTER по отношению к «хозяину».
• Параметр 3. Фонолого-фонетические связи. PROCLITIC / ENCLITIC. Это параметр, определяющий тип силы примыкания к фразе в целом или к «хозяину».
Таким образом, всего оказывается возможным 8 типов клитик. Например, возьмем греческий артикль: когда его «хозяин» начинает фразу, клитика стоит перед ним и тогда фонетически она является проклитикой. Другой пример – это глагольная приставка в санскрите: когда «хозяин» занимает финальное положение, то клитика также стоит перед ним и фонетически также определяется как проклитика. Наиболее интересными, по мнению Клэванс, являются типы 1, 4, 5, 8, при реализации которых возникает напряжение между тяготением клитики по принципу близости синтаксической либо по близости фонетической.
4.2. Клитики и их таксономические соседи
Как уже говорилось, если вновь обратиться к партикулам и эксплицировать для себя набор тех партикул, которые прочно «приклеились» к своему «хозяину», с одной стороны, и тех партикул, которые самостоятельны в употреблении и приобрели свой таксономический статус, с другой, то собственно клитики на этой оси займут центральное место. Таким образом, у них есть примыкающие в языковом описании «соседи», от которых их необходимо отделить для прояснения их таксономического статуса. Но – и это самое главное – лингвистика так же стремится уйти от главного вопроса и понять, каково соотношение клитик и партикул. Как мы постараемся показать далее, партикулы и клитики суть пересекающиеся множества. То есть не всякая партикула – клитика и не всякая клитика – партикула.
Но каковы все-таки эти «соседи» клитик?
Прежде всего, это самостоятельные слова, или, говоря просто, – знаменательные слова. Это также и местоимения, союзы, частицы, артикли.
С другой стороны, напротив, их нужно отделить от аффиксов, уже совсем потерявших самостоятельность и создавших то, что часто называется основой знаменательного слова. Это – приставки, суффиксы. Наконец, их нужно отделить от элементов, также потерявших независимость и являющихся парадигматическими показателями. То есть это флексии – имени, глагола, местоимения.
По всем этим вопросам существует много публикаций, иногда противоречащих друг другу, как говорилось выше, еще и потому, что само понятие клитики у лингвистов различается.
Обратимся к предлагавшимся разнообразным критериям «отличения» клитик от того или иного таксономического класса.
4.2.А. Клитики vs. Самостоятельные слова
Наиболее широко цитируемые критерии «отделения» клитик от всего остального принадлежат классику «клитиковедения» А. Звики [Zwicky 1985]. Как уже говорилось в главе первой, он признает за клитиками некоторую аграмматичность, нежелание вписываться в таксономические правила; более того, он понимает, что аграмматичные явления в языке, в сущности, есть повсюду, но, в то же время, твердо верит, что их не должно быть. Первым пунктом его исследования, точнее, предписания было обращение к частицам, которые, по его мнению, бывают аффиксами, бывают клитиками, а бывают и самостоятельными словами. Таким образом, по мнению Звики, для того, чтобы отделить клитики от частиц, нужно сначала понять, что же такое частицы (particles). Выходы из очевидной аграмматичности частиц он ищет прежде всего в терминологии. Их нужно переименовать. «The moral (so far as I can see) is that ’particle’ in its customary broad usage, is a pretheoretical notion that has no translation into a theoretical construct of linguistics, and must be eliminated in favor of such constructs» [Zwicky 1985: 284] [«Мораль, насколько я это понимаю, такова, что само понятие «частица» в его распространенной трактовке является понятием пред-теоретическим, не переводимым на язык лингвистических конструктов и поэтому – ради этих конструктов – может быть элиминировано»]. Он предлагает назвать их иначе – «дискурсивными маркерами». Итак, первая попытка уйти от проблемы – терминологическая. Вторая попытка – выбросить частицы из языковой таксономии – может быть названа «эстетико-импрессионистической». А именно – партикли (частицы) просто неинтересны. «I noted above that the whole set of ’particles’ in a language do not hang together in any grammatically interesting way; this is equivalent to saying that acategorical words form no grammatically interesting class» [Zwicky 1985: 293] [«Выше мною было отмечено, что множество «частиц» не могут быть интерпретированы более или менее интересным способом; это значит, что слова вне-категориальные не образуют грамматически интересный класс»]. Но так или иначе эти «неинтересные» частицы он считает словами.
Для отличия клитик от слов он предлагает следующие критерии:
• они стремятся соединиться с независимым словом в единое фонологическое слово;
• они не имеют акцента – ни словесного, ни фразового;
• у них другое синтаксическое расположение;
• у них иные, чем у независимых слов, правила просодических и сегментных сандхи.
Однако, пользуясь его критериями, трудно получить ответ на такой, например, простой вопрос: артикль – это клитика или нет.
Несколько иные критерии отличия клитик от слов предлагает М. Фрид [Fried 1999]. Прежде всего она связывает свойство быть клитикой с моносиллабичностью (вспомним, что, по многим теориям, первичные элементы языка должны быть и были моносиллабичными), и это свойство, которым обладают и другие классы слов, зарождает в них тягу к клитичности: «any monosyllabic nonclitic is disposed to occasional clitic-like behavior» [«всякая моносиллабичная не-клитика расположена вести себя подобно клитикам»] [Fried 1999: 63]. Запрет на инициальность, свойство не начинать высказывание, М. Фрид приписывает моносиллабичным словам вообще, например, ср. чешские nas / hned / Tom / psal etc. Поэтому чешское предложение с таких слов обычно и не начинается[67]. Из класса клитик М. Фрид выбирает, как и многие «клитиковеды», более таксономически удобные для теории так называемые «прономинальные» клитики, то есть краткие формы местоимений. Она приводит пары примеров возможности / невозможности употребления клитик:
*No = mu poslal dopis,
No = jemu poslal dopis.
*Ale = mu nic nedávej,
Ale = jemu nic nedávej.
Однако:
Vždyt’ = mu poslal dopis,
Nebo = mu poslal dopis.
Таким образом, получается, что no = / vždyt’, ale = / nebo [Fried 1999: 46].
Этот факт, декларируемый автором в качестве одного из примеров неразрешимой языковой сложности, на самом деле вполне предсказуем и прогнозируем. А именно: в первой группе представлены противопоставительные союзы, которые всегда требуют полной формы местоимений. Это отмечено и для языков индоевропейской древности, и для языков новейших; на причинах этого мы сейчас останавливаться не будем (см. об этом подробно в главе первой в связи с историей русского я). Еще раз повторяем: противопоставление требует полных форм!
Итак, согласно критериям М. Фрид, не-клитики отличаются следующими свойствами:
• они способны приобретать ударение (это касается и предлогов),
• они могут сами быть «хозяевами» для клитик,
• они взаимодействуют с правилами языковой ритмики: RCR (Rhythmic Clash Reduction, по Р. Якобсону).
Интерес к прономинальным клитикам в свою очередь вызвал интерес и к «полным» формам местоимений. Последние выводы современной таксономической теории сводятся к внутреннему различению, то есть разделению полных форм местоимений, которые функционально делятся на слабые и сильные формы. Различающим фактором служит фактор просодический, то есть сильное или слабое просодическое оформление (см. об этом далее в связи с немецкими местоимениями и обсуждением закона
Ваккернагеля). Слабые местоимения связываются в теории с клитиками. Так, Лэнцлингер и Шлонский [Laenzlinger, Shlonsky 1997] считают слабые местоимения логической, то есть полной, формой клитик (LF clitics). Критерии различия слабых местоимений (то есть клитик в полной форме LF) и сильных следующие:
• слабые местоимения должны примыкать к «хозяину»,
• они могут образовывать кластеры,
• их синтаксическая позиция отличается от позиции сильных местоимений.
4.2.Б. Клитики vs. Несамостоятельные слова ( аффиксы)
Хотя везде, где говорится о клитиках, говорится также и о просодии слова или даже высказывания, в литературе нигде не встречались в этой связи упоминания о свежих данных по поводу отличия в речи знаменательных и функциональных (служебных) слов по отношению к чтению или к «канонической» модели, полученных в экспериментальной фонетике последних лет. А между тем именно на последних фонетических конгрессах появилось много докладов, посвященных этому отличию. Говоря точнее, элементы, в спонтанной речи вводящие высказывание или протяженное словосочетание (чаще всего союзы, но также и предлоги), ярко выделяются просодически. Этим спонтанная речь отличается от той звуковой формы, которая воплощается при чтении. Более подробно отличия спонтанной речи от просодии при чтении и в лабораторных исследованиях см. в обзорах: [Вельмезова, Завьялова, Николаева 2006; 2006а].
Возможно, это является библиографическим пробелом моей работы, но, несмотря на активную декларированность фонетического принципа отличия клитик от не-клитик, при чтении научной литературы создавалось впечатление, что реальное внимание к просодическому оформлению союзов и предлогов среди исследователей клитик было минимальным, а факт объединения в одно фонетическое слово относился к области виртуальных филологических мифологем. Приведем простой пример: русское Он пришел. Здесь местоимение не редуцируется, и явно присутствуют два слова. Она пришла. Слияние двух слов здесь более очевидно,
и предударный гласный редуцируется. Так что же: в одном примере мы имеем дело с клитикой, а в другом – нет?
Отличие клитик от аффиксов было предложено тем же Звики [Zwicky 1985], и оно повторяется в других, более поздних, работах. Критерии отличия клитик от аффиксов (точнее нужно было бы сказать, что речь идет не об отличиях, но о свойствах именно аффиксов) следующие:
• некоторые аффиксы только могут замыкать слово, а клитики могут примыкать свободно;
• аффиксы имеют строго заданное место в слове;
• аффиксы, как правило, обладают таксономически заданной дистрибуцией. Так, например, английское -ness сочетается с прилагательными, а -ing – с глаголами;
• слова обычно бывают многоморфемными (? – Т. Н.), а клитики – нет;
• у клитик есть свой синтаксис, чего аффиксы не имеют;
• клитики могут быть стерты (deletion), а аффиксы – нет.
В самой последней электронной версии Оксфордской энциклопедии Звики и Андерсон [Anderson, Zwicky 2004] несколько уходят от проблемы, сообщая то свойства независимых слов, то свойства аффиксов. Тем самым пользователь Энциклопедии должен, по сути, сам решать, является интересующий его феномен клитикой или нет.
Строго говоря, нет определенного мнения и у автора настоящей книги. Вернее, некий критерий выявления клитик у меня выстраивается, но с противоположной позиции по отношению к позициям, проработанным по определениям других. Эта позиция связана с общей концепцией данной монографии. Как уже говорилось, клитики центральны и промежуточны.
Окончательное мнение может быть сформулировано следующим образом.
• Безусловно, клитики являются промежуточным языковым феноменом, располагающимся где-то между аффиксами и самостоятельными словами.
• Но они не соотносятся ни с каким языковым уровнем, а только пересекаются с привычными языковыми таксономическими единицами. Это – особое языковое явление, состав входящих в него единиц пока не установлен и, возможно, на уровне современной лингвистической теории и не может быть установлен, так как требует некоего иного подхода.
Не являются клитиками флексии, так как они создают парадигму, а клитики – нет. Не являются суффиксы и префиксы, так как они входят в лексическую единицу – слово, а не в фонологическое слово.
Таким образом, может быть предложен иной критерий, однако охватывающий только класс прономинальных клитик: клитикой может быть назван элемент, не входящий в известные таксономические классы, когда ему может быть сопоставлен «полноценный» элемент с той же или почти той же функцией. Например, – му или -го могут быть сопоставлены с е-му или е-го и т. д.
То есть у прономинальной клитики должен быть «хозяин» не только на синтаксической, но и на парадигматической оси.
Часто привлекаемый просодический фактор иногда вызывает сомнения в его точности, так как просодия фразы многослойна, и акцентные выделения могут располагаться на протяженности высказывания самым сложным образом. От этого, например, русские местоимения могут то попадать в безударную зону, то в выделенную, ударную. Нужно ли их в этом случае считать клитиками? Более точно, как кажется, говорить, вслед за Н. Н. Розановой, о «динамически неустойчивых словах» [Розанова 1983; 1996]. В этом случае мы предлагаем дополнительный критерий, однако, недостаточный для абсолютной таксономии: клитики никогда не могут быть выделены ударением (кроме специальных случаев, несущих особую прагматическую нагрузку). Этим клитики отличаются от «динамически неустойчивых слов».
Поэтому мы сочли необходимым прибегнуть к самому простому, но почему-то никогда не привлекавшемуся критерию – к экспериментально-фонетической процедуре.
А именно.
Необходимо посмотреть интонационную структуру высказываний: а) с клитиками и с полными знаменательными словами в этой же позиции и в этой же функции; б) посмотреть интонационную структуру высказываний на русском языке с местоимениями в «ваккернагелевской» и «не-ваккернагелевской» позиции; в) посмотреть интонационную структуру такого «клитичного» языка, как болгарский; г) посмотреть интонационную структуру немецких высказываний со «слабыми» местоимениями, сравнив ее с интонацией русских высказываний с местоимениями в той же функции и той же позиции. Для этого использовалась система «Speech analyzer». Эксперимент проводился в 2005 году.
Итак, как же реально соотносятся в европейских (индоевропейских?) языках клитики и интересующие нас партикулы?
Об этом будет говориться в конце этой главы.
4.3. Клитика и ее «хозяин»
Выше уже говорилось о том, что статусная промежуточность языкового положения клитики создает трудности ее отождествления и трудности описания. Я говорила о «центральности» клитик в эволюции языковой системы, переходящей от диффузности к «клитичности», то есть не-парадигматическому состоянию, а далее – к парадигматическому. Однако за понятием «центр» все же стоит нечто точечное и определенное, системное. Между тем сами клитики располагаются на некоей градуальной оси, состояние свободы в которой бывает большим или меньшим. Эта свобода определяется типом языка: в одном клитик мало, так как они уже создали парадигму, в другом они четко определились по отношению к «хозяину» – справа или слева, в третьем они тяготеют к определенному члену предложения, в четвертом они относительно свободны и зависят уже не от позиции «хозяина», а от строевой структуры высказывания (см. следующий раздел). Все это определяет и языковую типологию клитик. (См. предложенное недавно деление языков по этому принципу: [Циммерлинг 2002].) Наконец, внутри системы одного и того же языка сами клитики могут быть неоднородны: одни уже «приклеились», а другие – нет. Далее, все, что говорится о клитиках, как можно было уже заметить, связано и с решением самого лингвиста-кодификатора: хочет ли он считать данный элемент языка клитикой или нет. Например, являются ли клитиками отделяемые приставки в немецком языке? русское бы в сослагательном наклонении? английские частицы вроде off, up и т. д. Обычно такие вопросы решаются самими лингвистами – носителями описываемого языка. Как уже говорилось, ненкоторое единодушие царит лишь по отношению к сфере кратких форм местоимений, так называемых «прономинальных» клитик, которые традиционно считаются клитиками – для тех языков, где местоимения различают полные и краткие формы.
Итак, какой же в принципе может быть позиция клитики по отношению к «хозяину»? Как представляется, здесь возможны следующие ситуации:
• клитика примыкает к «хозяину» всегда справа, независимо от статуса «хозяина»,
• клитика примыкает к «хозяину» слева – так же независимо от таксономического статуса «хозяина»,
• клитика тяготеет к определенному члену предложения (или к определенной части речи),
• клитика свободно передвигается по высказыванию,
• клитика примыкает к одному элементу высказывания, а ее «хозяином» является другой его элемент.
В Оксфордской энциклопедии [Oxford International Encyclopedia of linguistics 2004] приводятся интересные, хотя и не верифицируемые для обычного лингвиста примеры неконтактного примыкания клитик. Так, в языке Kwakwoala показатели определенности имени примыкают к своему соседу слева, и это является показателем определенности / неопределенности для последующего за клитикой имени.
Так называемые «специальные клитики», то есть сокращенные формы вроде: He’s, My mother’s work и под., как правило, примыкают к «хозяину» слева. Ср. французский пример из Интернет-энциклопедии (MSDN-library): l’orange. Как пишут авторы, в этом примере апостроф отделяет клитику от имени. Это значит, что клитикой они считают артикль, располагающийся слева.
Интересной в просодическом плане представляется ситуация с греческими клитиками, располагающимися справа, то есть эн-клитиками ^м.: [Janse 1997]). В греческом языке при добавлении энклитики у слова-хозяина появляется дополнительное ударение
о baaxakoq ?ov и т. д. Авторитеты в области современной греческой просодии слова [Arvaniti 1992; Mussies 1971] считают, что именно этот акцент, перенесенный с энклитики, является наиболее сильным и именно он слышен в разговорной речи, тогда как первичный лексический акцент ослабляется. Особенности ударения позволяют выявить также, что в современном греческом каппадокийском диалекте относящиеся к глаголу превербальные клитики являются на самом деле просодически энклитиками по отношению к предыдущему слову, а не проклитиками по отношению к «хозяину» – глаголу, как это можно было предположить.
Наиболее подробно славянские клитики (болгарский и македонский язык) разобраны в специальной монографии Г. А. Цыхуна [Цыхун 1968], к сожалению, оставшейся, видимо, неизвестной западноевропейскому читателю. Дело в том, что болгарский язык обладает тремя рядами форм местоимений:
1) слабыми, т. е. краткими формами типа ме, те, го, му и т. п.;
2) сильными, т. е. полными, типа мене, тебе, него, нему, на него и т. п.;
3) усиленными, состоящими из сочетания первых двух форм: мене ме, тебе те, мене ми, нему му, на мене ми и т. п. [Цыхун 1968: 22].
М. Димитрова-Вулчанова также имеет ряд работ по болгарским и македонским клитикам, и она также считает, что южнославянские клитики тяготеют к глаголу. Об этом она пишет в уже упоминавшейся коллективной монографии «Клитики» [Dimitrova-Vulchanova 1999]. По ее мнению, болгарский и македонский языки в принципе отличаются от сербо-хорватского и чешского, которые являются простыми «ваккернагелевскими» языками (об этом см. в следующем разделе). В болгарском и македонском же языках клитики тяготеют не к позиции в высказывании, а к положению глагола-сказуемого[68]:
Той я видя вчера;
Видя я вчера.
Хотя на самом деле определить «хозяина» в этих языках сложно:
Той го купи;
Купи го;
Книгата му беше дадена
[Dimitrova-Vulchanova 1999: 89—90][69].
Естественно, что из славянских языков наиболее подходящими для «клитиковедов» были болгарский и македонский языки, как правило (до работы Г. А. Цыхуна), не различавшиеся исследователями в типологическом плане. Однако, применяя некую операционную процедуру (возможность / невозможность замены конструкции с клитиками, например: виждам го – него виж-дам – виждам го него – эта структура отмечена, а няма го – него няма – няма него – не отмечена в современной болгарской прозе), он приходит к выводу, что у болгарского и македонского языков существует ряд типологических различий между собой[70]. Прежде всего отмечается некий вид «классности» в македонском языке при постановке клитики при имени, а именно: существование клитики дательного падежа, которая употребляется при именах «терминах родства, названиях частей тела, абстрактных понятий типа ум, душа и др.» [Цыхун 1969: 87]. То есть в македонском литературном языке возможны такие модели конструкций с именами родства: ма]ка му, ма]ка му негова, неговата ма]ка, ма]-ката негова. Болгарский язык в этом отношении более толеран-тен к лексическому «хозяину», см.: Взех балтона му; Той посрами името му; Взех му балтона, но и там «местоименная клитика дат. падежа сочетается только с членной формой имен существительных (или прилагательных, если конструкция развернута: кни-гата ми, хубавата ми книга), исключение составляют имена существительные – термины родства, ср.: майка ми, но старата ми майка» [Цыхун 1969: 81]. Как видно, абсолютно иную модель представляет собой конструкция с русским «посессивным дательным»: Я им сосед; Слуга царю, отец солдатам. В этом случае дательный является чем-то вроде сентенциального дополнения, а не только приименным дополнением-посессивом, поскольку нельзя сказать, например, Им сосед пришел. Однако все-таки сходную ситуацию для балканских славянских языков отмечает и Г. А. Цыхун: «Возможна своеобразная нейтрализация функций местоименной клитики дат. падежа, ср. Писмата му взех, где краткая форма в равной степени может рассматриваться как входящая в именную (писмата му) и глагольную (му взех) конструкцию» [Цыхун 1969: 88]. Как и в других языках, о которых говорится в настоящем разделе, определенность имени (в частности, объекта) оказывается мощным фактором, определяющим дистрибуцию клитик. В частности, многократно описываемая южнобалканская местоименная реприза в македонском и болгарском языках встречается тогда, когда прямое дополнение имеет показатель определенности [Цыхун 1968: 111]. См. у него: «Обычно не получают репризы имена существительные, имеющие согласованное определение, выраженное неопределенным местоимением типа болг. един, някой, и т. п., мак. еден, некой, хотя в македонском литературном языке нередки примеры типа Еден бран го истргна еден морнар» [Цыхун 1968: 112]. И тут, однако, можно видеть типологические различия: в македонском языке реприза является универсальным средством, демонстрирующим объект, а в болгарском при имени с предлогом на она факультативна.
Напротив, относительно свободное положение клитик можно видеть на примере болгарского си, которое, несомненно, является клитикой [Rå Hauge 1999]. По своему значению и своей функции в высказывании эта клитика близка к русскому себе в предложениях типа: Обедать пора, а он себе читает; Страшная сцена разыгрывается, а я себе улыбаюсь; Шумно, а ты все себе играешь, однако абсолютного семантического совпадения здесь нет. См. приведенные болгарские примеры:
Това си е моя работа;
Дискусията си беше интересна;
Нашата селска река е малка. И пак си я обичам;
Те и досега си живеят в Добрич;
Аз пък си мислях че нямаш чувство за хумор;
Но то и без това си ясно, че си немяш срам и т. д.
Ограничением здесь часто является требование одушевленности субъекта при глаголе в высказываниях с си. И именно это требование – наличие анимированного субъекта – мы наблюдаем и в русских примерах с себе (см. выше).
Об относительной свободе положения болгарских клитик пишет И. Петкова-Шик [Петкова-Шик 1997: 50]: «Дателното клитично местоимение заема различни позиции не само в границите на именната фраза, към която се отнася, но и вън от нея». По ее мнению, клитичные местоимения имеют статус сентенциального топика, именно поэтому они не встречаются в объектной позиции (справа) при финитном глаголе:
Иво видя мене/*ме,
Иво помага на мене/*ми.
Однако особенностью болгарского и македонского языков является проклитическое положение клитик при глаголе: см. примеры Г. А. Цыхуна (болг.): Мене ми мъчи жажда; На него всички му правят път и под. Замечательно, что, согласно последним наблюдениям А. А. Зализняка [Зализняк 2004: 50—51], клитика ся в древнерусский период тяготела к препозиции по отношению к глаголу, то есть по современной южнославянской модели; в дальнейшем она становится в постпозицию и переходит в аффиксы глагола, как это имеет место в современном русском языке. В грамотах (как берестяных, так и пергаменных) наблюдается двойное ся. В «Слове о полку Игореве» оно представлено дважды: Вежи ся Половецкии подвизашася; А древо с(я) тугою къ земли преклонилос(я) [Зализняк 2004: 53]. Таким образом, позиция клитик по отношению к «хозяину» может на протяжении языковой эволюции меняться, с одной стороны, и различаться в языках близко родственных, с другой.
В уже упоминавшейся работе Дж. Клэвэнс [Klavans 1985] автор предлагает избегать термина «хозяин», а заменять его несколькими характеристиками, а именно – «сфера клитизации» (domain of clitization) и фонетическое примыкание (liaison). Непосредственная связь с «хозяином» ею обозначается как precedence (before / after). Таким образом, сфера клитизации, например, для романских клитик – это глагол, для английской специальной клитики, показателя генитива, сфера клитизации – это именная фраза, а фонетическое примыкание может от сферы клитизации отличаться и т. д.
В тех случаях, когда представлены «слабые» (то есть полные, но слабо ударные) местоимения, являющиеся логической формой (LF) клитик (см. выше эту концепцию: [Laenzlinger, Shlonsky 1997]), они всегда примыкают к своему «хозяину», которым часто бывает и местоимение: Je les ai conduits.
Однако вопрос о проблеме «хозяина» при выяснении позиции клитик неотделим по сути от выяснения позиции данного словосочетания в высказывании в целом, то есть словосочетания: «хозяин» + клитика (см. следующий раздел). Он неотделим и от проблем диахронической типологии или даже просто типологии. Между тем в зарубежной лингвистике распространены две дескриптивные презумпции, на самом деле затрудняющие какое бы то ни было ясное решение проблемы:
1) Предлагаемая классификация, как это принято считать, должна быть универсальной. Это как будто бы позитивная презумпция, но это значит, что для иллюстрации развиваемых положений привлекаются «на равных» языки малоизвестные и потому примеры из них широкому читателю-лингвисту, как правило, непонятны. Можно даже подозревать, что малоизвестные языки в известной степени «спасают» такосономические затруднения, которые в данном случае слишком очевидны.
2) Авторы ограничиваются рамками только одного высказывания. Между тем влияние текстовой нагрузки и контекста охватывает также и языки с «жестким» порядком слов[71]. Так, например, известно, что в романских языках клитики тяготеют к глаголу, но не понятно, почему один из приведенных в статье примеров [Riemsdijk 1999] оказывается невозможным (вероятно, модальный глагол в качестве глагола не идентифицируется):
Lo voglio fare;
*Voglio lo fare;
Voglio far lo.
Подробное исследование клитик в германских и романских языках предложено А. Кардиналетти [Cardinaletti 1999]. Замечая, что проклитики примыкают к «хозяину» менее тесно, чем энклитики, А. Кардиналетти строит различие между романскими и славянскими языками через отношение к глаголу-сказуемому как хозяину-опоре. Так, в романских языках клитики теснятся к глаголу, а в славянских они более свободны:
Иван гаjе често читао; Често гаjе Иван читао;
Читао гаjе Иван често [Cardinaletti 1999: 36].
Внутри самих романских языках, по наблюдениям Кардиналетти, французский отличается от итальянского тем, что клитика во французском языке может быть отделена от инфинитива.
Саму идею введения клитик А. Кардиналетти связывает в романских языках с семантикой референта. Так, в итальянском языке в 3-м л. єд. ч. клитики могут относиться к не-человеческому референту, а местоимения в полных формах этого не могут. Во французском языке клитика также связывается с неодушевленностью референта. Например, глагол acheter не сочетается с полной формой местоимения, но только с клитикой, так как субъект здесь одушевлен, а объект – нет.
Все это наводит на мысль, что так называемые полные формы местоимений на самом деле состоят из нескольких частей (партикул?), из которых одна относится собственно к местоимениям (это и есть клитика?), а другие служат для выражения неких других семантических категорий.
К подобной мысли приближается и Кардиналетти, предполагая, что клитики выражают некую «пустую» категорию (empty category) пока еще неясной семантики и потому, собственно, они и сами могут быть основанием синтаксического узла – быть heads [Cardinaletti 1999: 49].
Однако попытка понять, что же выражает на самом деле «фраза» полного неклитичного местоимения (см. раскрытие тайны «Я»), насколько можно судить, еще не предпринималась. (См. выше, однако, соображения Р. Якобсона о разложимости je + go, je + mu [Jakobson 1933].)
Обнаружение в германских языках двух классов местоимений – слабых и сильных, различающихся ударностью, А. Кардиналетти считает большим достижением лингвистики последних лет. И в германских языках, как и в романских, сильные (полные) местоимения относятся только к человеческому (human) референту. Правда, особенность немецкого языка в том, что местоимения с индексом + human могут занимать любую позицию, а местоимения с индексом – human могут занимать только позицию внутри предложения и не могут быть в изоляции, в начале высказывания, в сочинительной конструкции и следовать за сентенциальным наречием. Немецкому языку как особому языку Европы А. Кардиналетти уделяет большое внимание. А именно: традиционно принято считать, что в немецком языке нет оснований для постулирования двух классов местоимений. Их позиции совпадают с существительным:
a. Ich glaube, dass Maria ihn gestern gesehen hat;
b. Ich glaube, dass Maria den Hans gesehen hat [Cardinaletti 1999: 49].
Но, однако, по этому поводу существует ряд возражений. Во-первых, такое местоимение, как es «displays clitic-like behavior». Во-вторых, положение за субъектом обязательно для безударных местоимений, но факультативно для именных групп и «полноударных» местоимений:
a. *dass Maria gestern ihn gesehen hat;
b. dass Maria den Hans gesehen hat;
c. dass Maria IHN gesehen hat [Cardinaletti 1999: 49].
Далее. Если во французском и нидерландском сильные местоимения соотносятся с человеческими существами, а слабые —
и с теми, и с другими, то интерпретация местоименных различий в немецком другая: +human могут занимать любую синтаксическую позицию, в то время как -human может занимать только специфическую позицию внутри clause: они недопустимы в позиции вправо от сентенциального наречия, в инициальной позиции, они не могут выступать в качестве союза, а также в изолированном виде. Например:
a. Er hat gestern wohl eingeladen;
b. Er hat wohl SIE eingeladen;
c. SIE hat er gestern eingeladen;
d. Er hat sie und ihre Freunde eingeladen;
e. Wen hat er eingeladen? SIE [Cardinaletti 1999: 54].
В этой связи можно сказать нечто сходное и о русском языке. Во-первых, ударность (то есть, проще говоря, выделенность через громкость) бывает трех типов:
• ударение в слове (см. греческие данные);
• ударение в словосочетании;
• ударение во фразе в целом.
Несомненно, что разные авторы, занимавшиеся клитиками, оперировали этими разными степенями акцентной выделенности, так сказать, на равных правах, что метатеоретически недопустимо. Считается общеизвестным, что русский язык не знает клитик, кроме бы, хотя А. А. Зализняк [Зализняк 2004] вводит в оборот достаточно большое число клитик, деля их по рангам; при этом ранг с числом Х + 1 всегда стоит правее клитики с рангом Х. Вводится следующий перечень клитик, встречающихся, в частности, в «Слове о полку Игореве» (в скобках указывается их ранг): же (1), ли (2), бо (3), ти (4), бы (5), ми, ти, ны (6), мя, ся (7), еси, есвѣ, еста (8).
Однако ясно, что во фразах:
Послушай, дай ему эту книгу!
Кому ты дала эту книгу? – Ему
местоимение ему будет различаться акустически по степени выделенности: она более слабая в первом примере и более сильная во втором. Тогда, с позиций А. Кардиналетти, первое местоимение будет считаться клитикой или чем-то близким к этому. В рамках же отечественной интонологической теории (и не только отечественной) обе ситуации различаются рисунком фразовой интонации, но местоимение здесь представлено одно и то же.
Однако, хотя таксономически мы считаем ему в двух высказываниях идентичной единицей, семантика высказываний с неидентичной позицией местоимения тоже может различаться. Например, предположим, родители встречают дочь, вернувшуюся из поездки: у выхода из аэропорта, у причала, на перроне и т. д. Предположим, кто-то спрашивает, видят ли они ее. Возможны два ответа:
Да-да! Я ее вижу!;
Да-да! Я вижу ее!
Чем же они различаются? Как кажется, в первом случае человек хочет сообщить, что встречаемые начали выходить, и он уже видит свою дочь. Во втором случае препозиция глагола является ответом на некоторые сомнения спрашивавшего по поводу того, действительно ли можно что-то видеть или действительно ли родители увидели дочь. Но различия эти тонкие и, насколько мне известно, выход за пределы одного высказывания и/или попытка объяснить меняющуюся позицию клитики с точки зрения прагмасемантической практически не делалась, а для древних языков это почти и невозможно.
Итак, сложности в разрешении вопроса о позиции клитики по отношению к «хозяину» объясняются и тем, что статус клитик неясен: элемент является клитикой и будет ею всегда или он становится клитикой при построении высказывания?
4.4. Клитики и их позиция в высказывании
Неотвратимым образом исследование клитик не проходит без обращения к знаменитому «закону Ваккернагеля 1892 года», хотя, строго говоря, этот закон относится, скорее, к порядку слов и к фразовой интонации, о которой тогда имели представление весьма смутное.
Естественно, что в этом разделе обратиться к «закону Ваккернагеля», к одному из немногих «законов» лингвистики, и широко известных, не потерявших свою актуальность и злободневную дискуссионность[72], необходимо. К подробному рассмотрениию этого закона мы еще вернемся, а пока нужно сказать только, что основные проблемы при обращении к нему возникают по поводу того, является ли этот закон универсалией или существуют «не-ваккернагелевские» языки, является ли он законом «в диахронии», то есть двигаются ли языки (с разной скоростью) от «ваккернагелевского» состояния к «не-ваккернагелевскому», как сочетается для клитик закон об обязательности второго места в высказывании и стремление следовать за своим «хозяином» повсюду, где бы он ни был.
Но к этому можно добавить и другие исследовательские проблемы.
В частности, позиция каждой клитики в высказывании неотделима от позиций других клитик, если они представлены. Клитики, в соответствии со своей этимологией, «прилипают» друг к другу, образуя так называемые кластеры клитик, или, как удачно выразилась болгарская исследовательница, «клитични вериги» [Петкова-Шик 1997]. Они также имеют свою внутреннюю позиционную структуру: как бы «государство в государстве» внутри высказывания.
Наконец, во времена Ваккернагеля о существовании многоярусно устроенной фразовой интонации практически не подозревали или подозревали смутно, оперируя лишь понятиями «тон» для мелодики вообще и «интонация» для того, что мы сейчас называем «тональными акцентами» (об эволюции метатеоретического обращения к интонационным проблемам см.: [Николаева 2002]). Смутно это подозревал и сам Я. Ваккернагель[73]. Так, в одном месте своей статьи он пишет, что безударные слова тянутся на второе место (или, как поистине в духе времени, им сказано: an zweiter oder so gut wie zweiter [«на второе или на что-нибудь вроде второго»]). То есть свойство ударность-безударность он приписывает слову, а не фразе. См. у него о тенденции древних языков: Hinter das erste Wort des Satzes ein betontes zu setzen [«располагать ударное слово за первым словом предложения»], то есть, по его мнению, начало всегда ударно? Но далее он говорит о тенденции индоевропейского ставить глагол придаточного предложения (обычно предшествующего главному) в конец – wo das Verbum den Ton trug [«туда, где глагол приобретает тональное повышение»]. То есть тут уже говорится о фразе, а не о слове. Поэтому из его закона могут следовать две совершенно различные трактовки:
1) сами слова онтологически ударны или безударны, позиции сами по себе не имеют просодического наполнения, важна лишь последовательность «позиций», однако безударные слова «тянутся» именно к второй позиции;
2) интонация высказывания, более значимая (а сами слова не бывают ударными или безударными), устроена так, что после активного начала (то есть более громкого) наступает интонационный спад и потому слова во второй позиции слышатся более слабыми, то есть безударными, а сами они так квалифицироваться не могут.
Итак, можно суммировать противоречия, связанные с «законом Ваккернагеля» и потому затемняющие, на наш взгляд, картину в целом.
1. Клитики тяготеют к «хозяину». Если это так, тогда интонация фразы не имела бы «безударных позиций», а состояла бы только из полнозвучных фонетических слов. Например, А. Вейль, говоря о порядке слов в древних языках, считал, что основное свойство частиц – безударность: le seul effet du repos d’accent [«единственный эффект от них – это возможность для «акцента» отдохнуть»] [Weil 1879: 93].
2. Являются ли клитиками на самом деле «мелкие» безударные слова вроде бы, вот, еще и т. д.? Предположим, мы будем считать так? Считать их клитиками. Тогда, проще говоря, имеем ли мы право объединять клитики и частицы, трактуя «закон Ваккернагеля»? В таком случае эта проблема должна пониматься шире: в языковом лексиконе есть слова безударные и ударные.
3. Но ведь одни и те же частицы, как известно, могут быть и ударными, и безударными в зависимости от позиции в высказывании. Например, сравним два вот: Вот что случилось у нас вчера и Иду вот я по улице… В первом случае вот явно «ударное», а во втором – «безударное». Тогда, значит, на самом деле подобные слова расщепляются на две лексемы (см. подобную точку зрения: [Остроумов 1954]).
4. Однако существуют инициальные частицы, и в разговорной речи ударение падает на них. Они тоже могут быть «хозяевами». Значит, есть два рода частиц: внутренние и внешние (см. cходные мысли в: [Иванов 2004]).
5. Вообще, «закон Ваккернагеля» относится только к кластерам мелких слов или распространяется и на одно слово тоже? То есть какова его минимальная / максимальная протяженность воздействия?
6. Как относиться к достаточно важному тезису Р. Якобсона о том, что в восточнославянских языках «закон Ваккернагеля» не «работает» для изменяемых (fléchis) клитик из-за того, что в этих языках «свободное» ударение? См.: «Dans les langues slaves à accent d’intensité libre, la règle de Wackernagel ne s’étend pas aux mots enclitiques fléchis» [Jakobson 1962: 18] [«В тех славянских языках, где имеется свободное ударение, правило Ваккернагеля не распространяется на изменяемые энклитики»].
7. Наконец, в интонации фразы, например повествовательной, всегда ли «второе место» слабоударно или оно является таковым только в том случае, если имеются подходящие для этого «мелкие слова». Ведь существует же известное интонологам положение (указывать верифицирующую литературу здесь не имеет смысла: она слишком велика), что интонация повествовательного предложения в европейских языках напоминает «шляпу» – трапецию: a hat.
8. И в конце возникает самый простой вопрос – а что же такое это пресловутое «второе место»? Какова его линейная протяженность: сколько – слов? слогов? – оно захватывает?
Наконец, в зарубежном языкознании утвердилась также идея «движения» клитик (movement). Но и тут, как представляется, эта идея предполагает некий строго установленный строй из некли-тичных элементов, которые клитики нарушают, двигаясь в разных направлениях. Мы считаем эту заданность строя просто условностью метатеории и потому не пользуемся термином movement, полагая синтаксические структуры исходно равноправными.
Внутренняя структура кластеров клитик традиционно определяется последовательностью для прономинальных клитик, их отношением к предложным словосочетаниям и позицией по отношению к непрономинальным клитикам. Приведем примеры из болгарского языка:
Книгите му на Иво. Это: клитика в дательном падеже + предложная группа, имеет место редупликация; при этом референт должен быть не-генеричным:
Ана му помогна на съседа / на един съсед / *на съсед;
Новата му книга на поета / на един поетъ / *на поет.
Таким образом, в болгарском языке прономинальная клитика ви, му (дательный падеж) всегда является первой в цепочке, даже если далее представлена не предложная группа, а клитика винительного падежа:
Анна ви му го даде [Петкова-Шик 1997].
Кластерная комбинация Дат. + Акк. отмечается и для английского языка [Cardinaletti 1999]: *Mary gave John it / Mary gave me it.
В итальянском языке такой комплекс примыкает к глаголу, тогда в постпозиции клитики сливаются и имеют место кластерные сандхи: например, gli + lo = glielo.
a. Voleva darmelo.
b. Me lo voleva dare.
c. * Mi voleva darlo.
d. *Lo voleva darmi.
Во французском языке ситуация несколько иная. А именно: клитика 3-го л. в дат. пад. может следовать за клитикой в винительном, а клитика в 1-м и 2-м лицах – нет [Cardinaletti 1999:
69]:
a. Jean me / te / nous / vous / l’a donné;
b. Jean le lui / leur a donné.
Порядок цепи клитик в немецком языке обратный: винительный предшествует дательному падежу:
a. Ich habe es ihm gegeben;
b. Ich habe ihn ihm vorgestellt[74].
Анализируя славянские языки, М. Димитрова-Вулчанова [Dimitrova-Vulchanova 1999] вводит термин FRONT, о котором мы скажем далее, разбирая позиции клитик в высказывании. Этот термин кажется ей очень удачным, и он действительно удачен из-за некоторой своей туманности, благодаря которой исследователь избавляется от мучительного определения того, что такое первая позиция, по Ваккернагелю, равна ли она слову, интонационной единице, словосочетанию и т. д. Поскольку Димитрова-Вулчано-ва считает клитикой и вспомогательный глагол съм (в болгарском), и вопросительную частицу ли, то она выстраивает для болгарского клитичный кластер максимальной протяженности:
Li + CL + Aux + CL – Arg. Например:
а. Детето не си ли го виждал днес?
б. Чел ли си я тази книга?
В болгарском языке так же, как и в английском и отчасти французском языках, сохраняется порядок Дат. + Акк.:
На Иван книгата аз му я дадох.
Эта последовательность сохраняется с учетом сказанного нами выше о необходимости для объекта, редуплицируемого через клитику, быть определенным или специфическим; см.:
а. Чел съм я книгата;
б*. Чел съмя книга.
Спецификой сербского языка являются две характеристики, отличающие его от болгарского и македонского: во-первых, в сербском языке есть прономинальная клитика генитива, во-вторых, клитика аккузатива может входить также и в предложную конструкцию:
Маjка jе ово за те спремила.
И в сербском языке также представлена последовательность Дат. + Акк.:
Желим му га дати;
За му га желим дати.
Желим да му га дам;
Желим да му га да дам.
Как уже говорилось, порядок кластеров клитик неотделим от той позиции, согласно которой автор нечто считает или не считает клитикой, то есть ясно нужно понять, что во многом факты языкознания не отражают факты языка или не совпадают с ними. Так, наиболее подробный анализ клитик в румынском языке представлен Т. Н. Свешниковой [Свешникова 2003]. В целом Т. Н. Свешникова понимает класс клитик довольно широко, а именно: она вводит в него предлоги, союзы, местоимения, частицы. Но собственное ее исследование посвящено порядковой грамматике клитик с центральным показателем инфинитива – a и коньюнктива să: de a nu se mai; să u i le mai. Т. Н. Свешникова располагает все клитики по «порядкам» и, что важно, подчеркивает, что этот порядок не должен нарушаться [Свешникова 2003: 82—88]. Так, клитикой первого порядка является отрицание nu. Второй порядок – это личные безударные местоимения в дативе, подпорядком второго порядка являются возвратные местоимения в том же дательном падеже. На два подпорядка распадается и порядок три, в который входят личные безударные местоимения в аккузативе. Его подпорядком также является клитика – возвратное местоимение. Например, Refuză cu respect a se supune. Клитиками четвертого порядка Т. Н. Свешникова считает наречия: cam, mai, prea, tot и др.[75] Особенностью классификации Т. Н. Свешниковой являются классы с отрицательным показателем, то есть с минусовым порядком. В качестве показателей со знаком минус один (-1) выступают предлоги: de, în, la, pentru, pînă, prin, spre. Ранг (-2) имеет только один предлог fără. Клитика минус 3 ранга – это отрицание nu, не совпадающее с отрицанием в ранге +1 и находящееся с ним в дополнительном распределении: оно сочетается с предлогом в отличие от первого, которое является отрицанием при глаголе. Но и в этом случае комплекс Датив + Аккузатив остается неизменным.
По нашему мнению, наиболее четко и строго теория «незнаменательных слов» (правда, без ориентации на точную дефиницию класса) разработана в монографии Т. В. Цивьян о синтаксической структуре балканского языкового союза [Цивьян 1979]. Ею вводится в метаописание некий класс Z («слова, принадлежащие к неполнозначным классам и изофункциональные им: артикли, предлоги, союзы, частицы, междометия, местоименные и глагольные клитики, некоторые группы наречий» [Цивьян 1979: 228]). Именно эти классы слов, по мнению Т. В. Цивьян, занимают фиксированное место в высказывании у языков Балкан, тогда как позиции знаменательных слов (в терминологии Т. В. Цивьян – это класс С) управляются иными законами, о которых мы сейчас не говорим. Существенно, что Т. В. Цивьян различает три важных синтаксических позиции: абсолютное место, относительное место и иерархическое место [Цивьян 1979: 231]. Абсолютное место – это начало или конец высказывания. Существует списочная заданность тех элементов класса Z, которые могут или не могут занимать абсолютную позицию. «Относительное» место – это то, что выше определялось нами как позиция по отношению к «хозяину». Иерархическое место – это взаимное расположение элементов в цепи Z. При этом, по мнению Т. В. Цивьян, за центр иерархии целесообразно принимать глагол, «так как именно вокруг него группируется максимальное число элементов с фиксированным местом: приглагольные и фатические частицы, союзы, междометия, клитики» [Цивьян 1979: 231]. Интересующие нас клитики описываются Т. В. Цивьян следующим образом: прономинальные рефлексивные клитики стоят обычно в препозиции, иные местоименные клитики – в постпозиции. Однако языки Балкан вполне допускают различия: так, в болгарском местоименные клитики могут находиться и в пре– и в постпозиции к глаголу, в македонском и новогреческом – только в препозиции, за исключением клитик при герундии и императиве, в лабанском и новогреческом при императиве и конъюнктиве имеется особая клитичная форма и т. д.
Наиболее важным считаю общий вывод Т. В. Цивьян, который не встречается в гораздо более поздних работах, специально посвященных клитикам. По ее мнению, «количество Z и функционально тождественных им лексем прямо пропорционально степени жесткости порядка слов. (…) Чем меньше в предложении элементов класса Z и больше элементов класса С, тем свободнее порядок слов и тем больше он определяется лексическими, семантическими и под. (а не формально-грамматическими требованиями)» [Цивьян 1979: 233].
Как кажется, этот вывод позволяет отличить немецкий язык (с фиксированным порядком слов) от русского, хотя прономинальных клитик, несмотря на все новейшие старания, нет в обоих языках. Немецкий язык, как известно, переполняет высказывание именно словами класса Z, но это сложные классы частиц, кластеры частиц, но не клитики (то есть релевантна именно Z-принад-лежность), что предопределяет, по Т. В. Цивьян, жесткость немецкого порядка слов.
Как уже говорилось выше, наиболее подробно описывает грамматики клитик Г. А. Цыхун [Цыхун 1968]. Естественно, что и он затрагивает вопрос о «правиле Ваккернагеля», как он его называет. По его мнению, из южнославянских языков в наибольшей степени подчиняются этому правилу языки сербский и хорватский. Восточная ветвь южнославянских языков отошла от этого правила. Г. А. Цыхун рассматривает эволюцию клитик по следующей шкале: лексикализованные и неграмматикализованные > делексикализованные и неграмматикализованные > делексикализованные и грамматикализованные. Однако он считает, что «правило Ваккернагеля» соблюдается и в именных группах, не включенных в высказывание, то есть лишенных фразовой интонации. Например, болгарские словосочетания майка ми; старата ми майка; старата ми мила майка сохраняют для клитики ми «ваккернагелевскую» позицию [Цыхун 1968: 123]. Это – неграмматикализованные болгарские энклитики. «Позиция «полуграмматикализованных» клитик, которые выступают в болгарском литературном языке в приглагольном употреблении то как проклитики, то как энклитики, является компромиссной с точки зрения двух тенденций, оказывающих влияние на расположение клитик в предложении: тенденции к закреплению местоименной клитики в препозиции непосредственно при глаголе (что связано с ее грамматикализацией) и тенденции к постановке клитики на второе место в предложении (что связано с ее неполной делексикализацией). В результате действие правила Ваккернагеля проявляется лишь в том случае, когда глагол, к которому примыкает клитика, выносится в начало предложения» [Цыхун 1968: 124].
По этому поводу можно лишь заметить, что абсолютное инициальное положение глагола также и в русском языке перетягивает на себя усиление фразово-интонационных параметров. В этом случае после глагола наступает интонационный спад и нечто, занимающее таинственное «второе место», произносится слабее. Например, Купи ему эту штуку, наконец!. Что же здесь, по «науке», оказывается «ваккернагелевским» кластером? ему эту штуку? Или другой пример: Любила очи я голубые, / Теперь люблю я черные. А где же именно в этих двух предложениях выявляется «ваккернагелевский» компонент: очи я? я? люблю я? Или за всем этим стоит некая совсем другая модель?
Г. А. Цыхун считает клитики в македонском языке грамматикализованными (делексикализованными) полностью. Их особенности: 1) возможность занимать инициальное место и 2) препозиция по отношению к глаголу. Что касается тесной именной группы в македонском, то здесь, по мнению Г. А. Цыхуна, ««нейтрализовались» две тенденции: тенденция к закреплению клитики при имени, что связано с ее грамматикализацией, и тенденция к постановке энклитики на второе место при именной группе (в соответстветствии с правилом Ваккернагеля)» [Цыхун 1968: 124]. И далее: «Итак, правило Ваккернагеля является актуальным для болгарского языка только в случае сохранения местоименными клитиками их энклитического характера. (…) В македонском литературном языке правило Ваккернагеля неприменимо к местоименным клитикам в приглагольном употреблении, так как здесь господствует проклиза. Оно неприменимо также и к энклитикам в приименном употреблении в связи с тем, что их позиция в именной группе зависит от позиции имени, с которым они жестко связаны» [Цыхун 1968: 125].
В диссертации А. Б. Борисовой [Борисова 2005] клитики рассматриваются на фоне общего анализа местоименной репризы как явления языкового употребления в целом. Материалом в ее работе служит новогреческий язык: представлены данные, так сказать, двойного характера: мариупольский диалект, изученный автором лично, и тексты греческих авторов Нового времени, в основном написанные на димотике. Автор различает три вида местоименного повтора: а) повтор прямого или косвенного дополнения, б) репризы – в той ситуации, когда дополнение стоит в препозиции к глаголу-сказуемому, а клитика располагается между ними, в) антиципации, когда дополнение стоит в постпозиции к глаголу-сказуемому, а клитика – в препозиции. Как и Г. А. Цыхун, А. Б. Борисова рассматривает свой материал на фоне других языков контакта, в частности балканских. Центр ее внимания – это недалеко еще пока зашедшая грамматикализация повтора на Балканах: «в болгарском и румынском языках прагматика доминирует над грамматикализацией, в албанском грамматикализация начинает доминировать над прагматикой, а в македонском грамматикализация полностью одержала верх над прагматикой» [Борисова 2005: 8]. Для нашей работы интересны ее выводы (хотя также достаточно важна и хорошо проделанная статистика употребления). Итак, как пишет А. Г. Борисова, не все может дублироваться через местоименный повтор. Или – что же может дублироваться через местоименный повтор, а что не может:
• не может дублироваться дополнение-рема;
• запрещено дублирование предложных групп;
• регулярна реприза прямого дополнения, являющегося темой предложения (но это зависит и от стилистического фактора);
• антиципация определенных именных групп, являющихся темой, не регулярна: ее функция – возвращение в дискурс «старой» темы или подчеркнутое введение новой;
• иногда возможен повтор неопределенных именных групп;
• повтор самих личных местоимений довольно нерегулярен;
• намечается тенденция к грамматикализации глагольных клитик, но пока еще сильное влияние на это оказывают стилистические и прагматические параметры [Борисова 2005: 30].
По нашему мнению, здесь было бы более интересно обратиться к другому общебалканскому процессу. А именно – к тем причинам, по которым в языках Балкан существует постпозитивный артикль. Поэтому клитика в приименной группе (необходимо напомнить, что во всех указанных выше языках речь идет о существительном определенном), особенно когда клитика при именах родства, может заменять (или дублировать) постпозитивный артикль. К сожалению, причины развития этой структуры находятся пока вне нашей компетенции, однако здесь также можно вспомнить членные формы русских прилагательных, где старъ + jь > старый в принципе следует той же тенденции, что и старата ми майка. Что касается «приглагольных» клитик, то в русском языке также царит некий хаос, например: Хотелось бы сегодня все-таки отдохнуть!, Пошел бы ты в магазин! и Я бы, пожалуй, выбрал для себя математику[76]. Принцип дистрибуции клитики (?) бы по синтаксической позиции здесь неясен.
Разумеется, в том многом, что связано с клитиками, остается неприкосновенным вопрос почему?
В частности, на самом деле остается неясной проблема, почему в одних языках клитика-дательный опережает по синтаксической позиции винительный, а в других – наоборот? Почему в русском и немецком языках не представлены клитики в том виде, в каком они существуют в романских и южнославянских языках? Существуют ли на самом деле «слабые» местоимения или это все те же «полные» формы местоимений, но помещенные в слабую фразовую интонационную позицию? Почему в немецком языке добавляется da к отделяемой приставке в конечной позиции и клитики ли эти darauf, dahin etc.?
Говоря более точно, ставятся четыре нерешенных вопроса:
1. Клитики. Что это такое? Это то, что не несет на себе ярко выраженного ударения[77], то есть феномен просодического плана, или это факт лексикографического плана: нечто сокращенное? или нечто незнаменательное? это то, что можно задать в словаре? или то, что возникает в тексте/речи?
То есть, иначе говоря, клитики – факт синтагматики или парадигматики ?
2. Что считать, обсуждая закон Ваккернагеля, вторым местом в высказывании? Например, Утомленное Солнце клонилось к закату. Где здесь второе место? И ослаблено ли оно?
То есть, существует ли закон второго, ослабленного интонологически, места в высказывании, состоящем из полнозначных знаменательных слов?
3. Почему все-таки говорят Je le vois, но Je vois Marie? Об особости синтаксиса клитик написано повсюду, но причины этой особости не раскрыты. По всей вероятности, это связано с тенденцией анафорики уменьшить по возможности расстояние анафоры и антецедента. Однако, проводя исследование в пределах одного высказывания, эту проблему решить нельзя.
4. Закон Ваккернагеля является справедливым для языков древних и постепенно прекращает свое действие? или это универсалия? Например, говоря по-русски Да я ему это сто раз объясняла, мы следует закону Ваккернагеля?
Говорить обо всей литературе, посвященной закону Ваккернагеля, просто невозможно. Этот обзор представлен в обстоятельной статье К. Г. Красухина [Красухин 1997], а также отчасти в его книге [Красухин 2004]. Наиболее простое и ясное на сегодняшнем этапе изложение закона Ваккернагеля можно найти в учебнике того же Красухина «Введение в индоевропейское языкознание» [Красухин 2004а]. Кратко его положения можно изложить следующим образом [Там же: 265]:
i. Закон Ваккернагеля относится к позднему периоду индоевропейского, так как он не приводит к редукции гласных в атонической позиции.
ii. Частицы второго места имели свой внутренний порядок. Из цепочек частиц возникали местоимения, а также некоторые именные формы.
iii. Но некоторые частицы могли занимать «плавающую» позицию.
iv. То есть частицы можно разделить на два класса: способные и не способные занимать тоническую позицию (то есть стоять на «ударном месте». – Т. Н.).
Типологии «ваккернагелевских» и «не-ваккернагелевских» языков посвящена докторская диссертация и монография А. В. Циммерлинга [Циммерлинг 2002]. Пересказывать подробно концепцию А. В. Циммерлинга – это значит подробно пересказывать монографию, насчитывающую около девятисот страниц. Привлекая огромное количество языков, А. В. Циммерлинг делит их на языки, точно укладывающиеся в «закон Ваккернагеля», и языки, имеющие свои особенности. Достоинством этой огромной работы, помимо прочего, является специальное выделение автором сентенциальных клитик, отличаемых им от клитик глагольных. Кроме того, важно, что автор не пользуется малопонятным термином «второе место», разъясняя закон Ваккернагеля, а формулирует его так: «все слабоударные слова в «ваккернагелевском языке» имеют тенденцию размещаться в спаде предложения» [Циммерлинг 2002: 68]. Существенно также и другое его определение: «Def 2: Язык считается «ваккернагелевским», если в нем нет более грамматикализованного механизма расстановки слов, нежели механизм размещения сентенциальных энклитик после первой ударной составляющей» [Циммерлинг 2002: 72]. Именно этот период – период действия и развития закона Ваккернагеля – К. Г. Красухин считает периодом развития сложных местоименных форм из клитических цепочек. В этот же период (или далее) одни элементы примыкали к знаменательному слову справа и становились постфиксами, а другие – слева и становились префиксами. В начале цепочки находился некий «барьер», например показатель негации, через который не могли переступить другие клитики.
Занимаясь в течение сорока пяти лет фразовой интонацией, я, к сожалению, не могу переступить через экспериментальные интонологические данные последних десятилетий и начать мыслить категориями эпохи Ваккернагеля. Поэтому обычно приводящиеся в статьях на эту тему сведения о том, что, например, греческое rig, будучи ударным, является вопросительным местоимением, а будучи неударным – неопределенным, воспринимаются мною так же, как ситуация с русским кто в высказывании Кто к нам пришел?, в котором осуществляется модель фразовой интонации с сильным подъемом в начале и потому Кто кажется нам «ударным», а во фразе (простореч.): Посмотри, не пришел ли кто, то же самое кто располагается на конце императивной (повествовательной) фразы с соответствующим интонационным понижением и потому воспринимается как неударное слово. То же самое можно сказать о так называемой «ударности-безударности» глагола-сказуемого в индоевропейском сложном предложении. Естественно, что располагающийся в конце clause глагол подпадал под действие восходящей интонации при незавершенности и воспринимался (а более правильно будет сказать, что он описывался лингвистами как «ударный», поскольку модель перцепции тех давних лет мы квалифицировать не можем). В это же время глагол, располагающийся в конце главного, то есть в абсолютном конце, также, естественно, подпадал под сильное интонационное понижение и потому воспринимался как «неударный». Вероятно, это понимал и сам Ваккернагель, писавший о конце придаточного «wo der Satz den Ton trug» [«то место, где осуществляется повышение тона у высказывания»], но в то же время говоривший о «безударных» словах.
И все-таки закон Ваккернагеля безусловно существует. Так, интересные подсчеты приводятся в диссертации М. Л. Кисилиера [Кисилиер 2003]. Сформулировав закон Ваккернагеля несколько по-своему, но удачно: «Полноударные синтаксические элементы в функции дополнения расставляются относительно глагола-референта исходя из других критериев, чем местоименные клитики» [Там же: 7]. М. Кисилиер исследует византийский памятник VII в. («Луг духовный» Иоанна Мосха), пользуясь понятием «колон» как операционной единицей для действия закона Ваккернагеля (так же колон выделяет и К. Г. Красухин). Автор очень детально рассматривает совокупность параметров, обусловливающих действие закона Ваккернагеля, и выдвигает как бы «обратную» точку зрения: этот закон действует при немаркированности элементов высказывания. Поэтому постпозицию полного местоименного дополнения он считает базовым порядком слов, а «препозиция местоименной клитики» обусловлена маркированностью. Далее местоименные клитики постепенно превращаются в глагольные.
Закон Ваккернагеля связывается и с правилами актуального членения высказывания на тему и рему [Dunn 1989]. По мнению Дж. Данна, позиция клитик (точнее, их функция) состоит в отделении темы (топика), которая с развитием языка становится все протяженнее, и тем самым закон Ваккернагеля постепенно теряет силу. Вслед за Б. Комри, Дж. Данн считает, что в высказывании существует некая «основная интонационная пауза». В древнегреческом языке сентенциальное ударение, по его мнению, было в начале предложения. Так, Дж. Данн изучил движение безударных клитик в греческом языке в диахронии: от Гомера до Евангелия от Матфея. При этом выяснилось, что этот сентенциальный акцент постепенно передвигался к концу предложения и в конце концов разместился на глаголе-сказуемом. Дж. Данн считает эту тенденцию неизменной и пишет, что «учитывая сложность истории древней Греции, множество миграций, войн и завоеваний, регулярность этого процесса поражает и кажется запрограммированной заранее. Неизбежен поэтому вывод, что причины лежат в самом языке. Поскольку греческий – это индоевропейский язык, подобной эволюции можно ожидать и в других языках индоевропейской группы» [Dunn 1989: 17]. Тогда, если принять позицию Дж. Данна, вопрос о «ваккернагелевских» и «не-ваккернагелевских» языках переходит из плоскости типологии в плоскость эволюции.
К этому примыкают и положения Вяч. Вс. Иванова о том, что в древних языках (он приводит примеры прежде всего из анатолийских языков, затем из австралийских, египетского языка и др.) предложение не двучленно, а трехчастно и «Те группы частиц, с которых начинается в них предложение, включают и первое слово, которое вводит предложение и может быть проклитическим» [Иванов 2004: 48—49].
Придерживаясь той кажущейся «странной» точки зрения, что многое в языках древнейшей структуры может быть обнаружено в современном русском, особенно в разговорном его варианте (просто «нормальная наука» изучает современные языки отдельно и древние отдельно, никогда их не сопоставляя), я выявила и описала такое же явление в русской устной речи [Николаева 1982/2004: 80—81]. См.: «Первой особенностью УНР (Устной Научной Речи. – Т. Н.) является акцентное выделение инициальных служебных слов». Например: Итак /значит / вот учитывая опыт или Но зато / ведь вы не можете себе позволить не прочесть и т. д.
Закон Ваккернагеля обычно связывается с таинственным «вторым» местом в высказывании. Между тем гораздо интереснее понять, что может быть первым в высказывании или, говоря точнее, что может быть перед так называемым «вторым». Таким образом, нужно различать феномен начала и феномен барьера. М. Димитрова-Вулчанова заменяет первую позицию не совсем ясным понятием FRONT. Он может быть заполнен негацией, может быть заполнен союзом, вводящим придаточное или главное. Если этого нет, он обязательно должен быть заполнен лексическими средствами. См. примеры из болгарского, для которого она выделяет четыре типа клитик:
1) прономинальные клитики в вин. и дат.;
2) рефлексивные клитики в вин. (се) и дат. (си);
3) вспомогательный глагол быть в презентных формах;
4) вопросительная клитика ли.
По мнению Димитровой-Вулчановой, именно отношение к FRONT отличает болгарский язык от итальянского, клитики которого тяготеют к финитному глаголу. Например, см. позицию FRONT в следующей фразе:
На Иван книгата съм му я върнал.
Или
Книгата даде ли му я?
Иначе говоря, клитики опережаются негацией, съм не-клитикой (то есть, формой вспомогательного глагола) и клитикой тоже, ште и под. Поэтому:
а. Аз съм му я бил дал книгата;
б. * Аз съм бил му я дал книгата.
Таким образом, для болгарского ею выводится общее правило [Dimitrova-Vulchanova 1999: 100]: «Enclisis arises only between a verb in FRONT and the Argument clitic(s) which occur right-adjacent to FRONT. FRONT allows only for non-finite verbs in coordination» [«Энклитики возникают только между глаголом, находящимся в позиции FRONT, и дополнением-клитикой, примыкающим к глаголу. Положение FRONT допустимо только для объединенных не-финитных глаголов»].
Македонский, по мнению того же автора, отличается от болгарского наличием еще одной клитики (условной семантики) би, а также клитикой – вспомогательной формой при будущем: к’е. Однако основной особенностью македонского, отличающей его от других славянских языков, является отсутствие обязательного лексического заполнения FRONT, что дает возможность клитикам выдвигаться вперед.
Сербский язык рассматривается как чистый «ваккернагелевский», несмотря на перифрастическую форму инфинитива:
Желим да му га дам,
Желим му га да дам,
а также возможностью для клитики в аккузативе помещаться в предложную конструкцию: Ма]каjе ово за те спремила.
Необязательность категории FRONT утверждается М. Димитровой-Вулчановой и для чешского.
Итак, подводя итоги, можно сказать о проблемах, которые не решены и будут не решены до тех пор, пока из пестрого ковра под названием «Клитики» не будут выдернуты и разложены по цветам отдельные нитки. А именно:
• Неясно вообще, что такое клитики и чем они отличаются от не-клитик? Поэтому неясно, как определить инвентарь клитик в данном языке? Например, почему славянское вопросительное ли объявляется клитикой, а же – нет?
• Неясно, чем различаются в принципе первое место и FRONT? И потому неясно, чем «ваккернагелевские» языки отличаются от «не-ваккернагелевских».
• Неясно, как соотносятся клитики между собой и как они описываются: как факт языкового словаря и просто как неударные слова в высказывании, которые могут управляться уже законами интонационного синтаксиса. В сущности, неударными и на втором месте могут быть слова самых разных классов.
• Неясно, как соотносится «ваккернагелевский» закон и теория актуального членения высказывания, особенно в тех случаях, когда предложение предстает цельным?
Все эти проблемы представляются не собственно языковыми, но кажутся возникшими последствиями явной таксономической неразберихи в сфере клитик, которая в свою очередь может объясняться робостью «нормальной науки», о чем говорилось в главе первой настоящей книги.
Что же касается остального, то можно говорить здесь о более или менее ясном и о неясном, но интересном.
Что ясно (хотя бы относительно)?
• Клитики являются центром вертикали, на одном конце которой находятся самостоятельные слова, а на другом – аффиксы и флексии.
• Ясны (более или менее) и всеми признаваемые так называемые прономинальные клитики и их статус.
• Ясно, что при определенной прагмасинтаксической нагрузке, а именно – противопоставление, выделение, подчеркивание по смыслу и под., могут употребляться только полные формы местоимений[78].
• Ясно, что синтаксис клитик и их позиции отличаются от синтаксического расположения знаменательных слов, выполняющих те же функции.
• Ясно, что клитики и их цепочки не могут передвигаться к началу предложения, минуя определенные «барьеры».
• Ясно, что типология клитических кластеров может (по языкам) различаться, хотя большинство языков тяготеет к последовательности (правда, прономинальных) клитик: Дат. + Акк.
Что же, на наш взгляд, является неясным, но интересным?
• Вопрос о том, почему в ряде языков употребляются только «полные» формы местоимений, например в русском, немецком, а в других языках той же семьи представлены и клитики?
• Вопрос о том, почему синтаксис клитик отличается от синтаксиса полнозначных слов? Возможно, что здесь работает «второй» закон Ваккернагеля, о котором обычно забывают, а именно: короткие слова во фразах и словосочетаниях обычно стремятся опережать длинные.
Итак, после всего вышесказанного, можно ли нам в свою очередь предложить некие критерии отличия клитик от не-клитик? На обсуждение предлагаются следующие три критерия.
1) Клитики не должны быть обязательны. Например, можно сказать Майка му беше и Майка беше. Поэтому не-клитика – артикли, предлоги.
2) Клитики не должны входить в слово, а только примыкать к нему. Поэтому не-клитики суффиксы и префиксы.
3) Клитики не должны употребляться самостоятельно. Например, нельзя ответить: му, или же, или ли. Но можно: да, даже, но и т. д. То есть я предлагаю отделить клитики от частиц. По нашей классификации партикул, частицы (состоящие из одной партикулы или нескольких) могут употребляться самостоятельно. Они могут быть ударными и безударными в зависимости от интонационной установки и фразовой позиции.
В заключение, исходя из предложенного рядом авторов детального анализа материала (особенно, южнославянского), позволю себе высказать некую гипотезу, отчасти полемизирующую с объяснением Р. Якобсона о том, почему в русском языке употребляются полные формы местоимений. На мой взгляд, дело здесь коренится не в наличии свободного ударения, а в выражении категории определенности / неопределенности. Вероятно, эта ктаегория охватывала словосочетание в целом. Поэтому неслучайно прономинальная клитика появлялась в болгарском после определенного референта, то есть там, где определенность уже была выражена. Употребление клитики при именах родства также связано с этой категорией, как ее составная часть. Естественно, что при цельном, то есть нечленимом высказывании необходимость в клитике отпадает. В русском же языке, где нет артикля, но определенность выражается более сложными способами, определенность именного сочетания «прячется» внутри него, входя в полное местоимение. Например, сочетание мать е + го или е + го мать выражает определенность через все ту же индоевропейскую частицу е. Неясным остается только, почему произошел переход русского языка от общеславянской клитичности к указанному особому состоянию. В настоящее время это явление, конечно, грамматикализовалось.
Уже после написания настоящего раздела вышла в свет книга А. А. Зализняка, посвященная анализу текста «Слова о полку Игореве», решающая многие поставленные здесь вопросы или, во всяком случае, их проясняющая [Зализняк 2004]. В этой книге А. А. Зализняк прежде всего делит клитики по рангам, а именно: ранг с числом Х + 1 всегда стоит правее клитики с рангом Х. Вводится следующий перечень клитик, встречающихся в «Слове» (в скобках указывается их ранг): же (1), ли (2), бо (3), ти (4), бы (5), ми, ти, ны (6), мя, ся (7), еси, есвѣ, еста (8). Существенным достоинством и свежестью концепции А. А. Зализняка является ясное понимание о преобладании закона Ваккернагеля относительно клитик в живом языке и минимизации его действия в письменных памятниках, особенно старославянских и ранних церковнославянских. В берестяных грамотах (а задача А. А. Зализняка в этой книге – сравнить язык «Слова» с живым языком XII века, что до его исследований ранее было невозможно) представлена препозиция ся в 50 % примеров. (В настоящее время ся естественным образом считается «приклеенным» к глаголу справа.) Но для нашей работы замечательным является не столько доказанный А. А. Зализняком факт соответствия «Слова» ваккернагелевским законам своего времени, сколько ясное определение той линейной речевой единицы, в рамках которой этот закон осуществляется или не осуществляется. А. А. Зализняк вводит понятие тактовой группы [Зализняк 2004: 54], эта группа содержит основное слово (базис), к которому могут примыкать проклитики (слева) и энклитики (справа). В особых частных случаях базисом может стать и проклитика (см. выше подобные мысли и у других авторов). Таким образом, проклитики двуфункциональны. Важным в концепции А. А. Зализняка является понятие ритмико-синтаксического барьера, через который клитики переступать не могут (например, таким барьером является обращение). Далее А. А. Зализняк вводит алгоритмизированную систему правил, опирающуюся на перебор возможностей позиций ся по отношению к разрядам (их 8) ситуаций, которые так или иначе связаны с препозицией или постпозицией ся.
Существенно для нас то, что А. А. Зализняк прямо показывает эволюцию позиционных возможностей клитик, тогда как большинство авторов, указанных выше, не касаются вопроса об историчности закона Ваккернагеля и представляют его действие «как бы» в синхронии.
Принципиально новая по методам работа А. А. Зализняка, вероятно, объяснит ряд непрозрачностей в позиции клитик и в других языках и текстах.
* * *
Пожалуй, самое интересное в столь активном обращении и к клитикам, и к закону Ваккернагеля, которое характеризует вторую половину ХХ века, это то, что никто из исследователей не попытался взять и проверить действенность тех положений, которые связаны с этими явлениями. А между тем экспериментально-фонетические методы все время совершенствуются и предоставляют теперь возможность верифицировать два основных выдвигавшихся постулата:
• Действительно ли «второе место» в высказывании несет на себе интонационный спад независимо от лексического наполнения фразы? Или этот спад, если он имеет место, обусловлен «мелкими» коммуникативными словечками?
• Действительно ли клитики примыкают к слову – «хозяину» более близко, чем определяющее «хозяина» полнозначное слово, и действительно ли, напротив, отличается чем-либо их «примыкание» от примыкания аффиксального?
С целью проверки этих положений мною был подготовлен следующий языковой материал. Исследовались факты русского, болгарского и немецкого языков:
Ответы на чисто экспериментальные вопросы предлагаются в конце этого раздела.
Русский язык. Примеры:
1. Послушай, дай ты ему с ней эту кассету!
2. Послушай, дай ты Пете с Машей эту кассету!
3. Сегодня на улицах Москвы образовались большие пробки.
4. На улицах Москвы образовались большие пробки.
5. Принеси Пете книжку как можно скорее.
6. Принеси ему это как можно скорее.
7. Я ее вижу!
8. Я Машу вижу!
9. Я вижу Машу!
10. Мать его работала продавщицей.
11. Его мать работала продавщицей.
12. Полковник наш рожден был хватом…
13. Наш уголок нам никогда не тесен.
Примеры были прочитаны 5 дикторами – носителями литературного русского языка, имеющими высшее университетское образование (филологи; гендерный состав дикторов: три женщины и двое мужчин). Возраст дикторов – от 20 до 75 лет. Материал обрабатывался в системе Speech Analyser.
Примеры были прочитаны относительно единообразным для всех дикторов образом.
Полученные данные:
1. Наиболее идентичным было чтение примеров 3 и 4: Сегодня на улицах Москвы образовались большие пробки и На улицах Москвы образовались большие пробки. Эти
примеры читались по всем правилам разбиения высказывания на тему (кончавшуюся словом Москвы) и рему (остальная часть высказывания). Различие в чтении заключалось только в выборе диктором интонационной концовки последнего слова темы: могло быть представлено или абсолютное повышение (то есть ИК-4, в парадигме Е. А. Брызгуновой) или понижение в абсолютном конце гласной (то есть ИК-3, в парадигме Е. А. Брызгуновой). См. рисунки № 1 и 2.
2. Наименее ясным и идентичным было чтение примеров № 12 и 13: Полковник наш рожден был хватом; Наш уголок нам никогда не тесен. Этот результат был вполне предсказуем, так как несомненно, что чтение стиха подвержено иным закономерностям, чем чтение «сухой» прозы (см. об этом подробно [Невзглядова 2005]).
3. Примеры с инициальным императивом:
№ 1. Послушай, дай ты ему с ней эту кассету!
№ 2. Послушай, дай ты Пете с Машей эту кассету!
№ 5. Принеси ему это как можно скорее читались следующим образом: осуществлялось сильное повышение на начальном глаголе с последующим относительно ровным понижением. При этом особого различия между сочетаниями местоимений и знаменательных слов не было. См. рисунки № 3, 4, 5, где видно, как глагол «перетягивает на себя» всю яркость мелодического контура.
4. Примеры с «логическим выделением» – № 6, 7, 8 (Я ее вижу! Я Машу вижу! Я вижу Машу!) читались с выделением соответствующего слова,; различия определялись тем способом, каким каждый диктор это осуществлял: у одних выделение осуществлялось через интенсивность, у других – мелодическими характеристиками. См. рисунки № 7 и 8.
5. Самым интересным оказалось чтение примеров № 10 и 11: Мать его работала продавщицей. Его мать работала продавщицей. В этом случае Его мать / Мать его, мать (топик) во втором примере находится на одном уровне с его в первом примере и местоимение в первом примере вовсе не расположено в нижнем регистре, так как нужно было мелодически выразить топик, т. е. группу со словом мать (см. рисунки 9 и 10).
Рис. 1. Сегодня на улицах Москвы образовались большие пробки
Рис. 2. На улицах Москвы образовались большие пробки
Рис. 3. Послушай, дай ты ему с ней эту кассету!
Рис. 4. Послушай, дай ты Пете с Машей эту кассету!
Рис. 5. Принеси ему это как можно скорее
Рис. 6. Я ее вижу!
Рис. 7. Я вижу Машу!
Рис. 8. Я вижу Машу!
Рис. 9. Мать его работала продавщицей
Рис. 10. Его мать работала продавщицей
Болгарский язык:
1. Детето не си ли го виждал днес?
2. Чел ли си я тази книга?
3. Взех балтона му.
4. Той посрами името му.
5. Взех му балтона.
6. На Иван книгата аз му я дадох.
7. Анна ви му го даде.
8. Това си е моя работа.
9. Дискусията си беше интересна.
10. Нашата селскарека е малка. И пак си я обичам.
11. Те и досега си живеят в Добрич.
12. Аз пък си мислях че нямаш чувство за хумор.
13. Но то и без това си ясно, че си немяш срам.
14. На Иван книгата съм му я върнал.
15. Книгата даде ли му я?
16. Иво видя мене / *ме.
17. Иво помага на мене / *ми.
18. Мене ми мъчи жажда; На него всички му 1. правят път.
19. Иво помага на мене / *ми.
20. Той го купи.
21. Купи го.
22. Книгата му беше дадена.
23. Чел съм я книгата.
24. Аз съм му я бил дал книгата.
Чтение болгарских примеров выполнялось болгаркой-носительницей языка, уроженкой Софии, филологом с высшим образованием. Как видно по этим фразам, подобранные примеры представляли разные коммуникативные типы высказывания и различные позиции клитики и ее «хозяев». Так, например, в список были включены вопросительные предложения (Детето не си ли го виждал днес? Чел ли си я тази книга? На Иван книгата съм му я върнал? Книгата даде ли му я?); предложения с абсолютно конечным положением клитики, например, Взех балтона му; Той посрами името му (с центральным положением клитики, но после «хозяина» Дискусията си беше интересна; Книгата му беше дадена). Особый интерес представляло чтение кластеров-клитик (На Иван книгата аз му я дадох. Анна ви му го даде; Аз съм му я бил дал книгата).
Полученные результаты были довольно предсказуемыми и тривиальными с точки зрения интонологии. А именно:
• Фразовая интонация оказывалась, особенно при вопросе, сильнее словесной и синтагматической. Так, во фразе Де-тето не си ли го виждал днес? отмечено явное повышение (а не понижение!) в «ваккернагелевском» кластере не си ли. То же выявляется и в других вопросительных фразах.
• Конечное положение клитики во всех случаях отмечалось сильным и длительным понижением мелодики. Однако такое же длительное и сильное понижение отмечается во фразах, не оканчивающихся на клитики. Например, Дискусията си беше интересна (рис. 11).
Кластерные скопления клитик действительно показывали некое пониженное плато с соединением клитик (рис. 12) Аз съм му я бил дал книгата. Но по общей конфигурации данная интонационная структура в принципе не отличалась от русских высказываний типа Да я ему это дал специально и под.
• Если высказывания начинались с глагола, то глагольная часть обычно имела резко повышенную мелодику, после которой шло резкое понижение: Чел съм я книгата.
• Таким образом, чтение одного из самых, кажется, «клитичных» языков – болгарского продемонстрировало только одну особенность (если это считать особенностью) – понижение мелодики на местоименных словах. Однако именно такое понижение отмечается у структур с местоимениями в «неклитичных» языках.
• Привязанность клитики к фонологическому «хозяину», столь многократно отмечаемая исследователями, прослеживалась в прочитанных болгарских примерах слабо, так как звуковая интонационная цепь и в этих примерах, как и в примерах с «неклитичными» местоимениями, была непрерывной.
• Итак, для болгарского языка правильнее будет говорить о том, что в нем имеются два вида местоимений – краткие и полные. Определить их функциональную специфику должны исследования синтактико-семантического характера.
Рис. 11. Дискусията си беше интересна
Рис. 12. Аз съм му я бил дал книгата
На основании всего вышесказанного и результатов чтения русских и болгарских примеров можно сделать некоторые выводы.
Некоторые общие выводы к разделу « Клитики». 1.
1
a. Вероятно, по сути сама идея клитик некоторым образом противоречит закону Ваккернагеля. Почему? Ваккернагель предполагает одно место в высказывании для клитик. Назовем его вторым, и при этом будет не так важно, будет ли там одна клитика или кластер.
b. Но ведь клитики могут «прилипать» ко всем знаменательным словам а priori, тогда высказывание превратилось бы в цепь каких-то «бус» с сильным началом и чем-то полуприлипшим. Но этого нет.
c. Причин тут несколько. Во-первых, как уже говорилось, во времена Ваккернагеля о многосоставности интонации (то есть, что она состоит из нескольких самостоятельных, но связанных общим заданием «проводов» – параметров) и не подозревали. Только слово «тон» было единственным термином.
d. Во-вторых, развилась не только интонология и экспериментальная фонетика, но и сама интонация, что долго никому в голову не приходило. В предложенном мною материале представлены три вида интонации русских примеров:
i. «Шляпа» – это цельное предложение, состоящее в основном из знаменательных слов. В этой модели работают интонемы начала и конца, и она имеет вид трапеции.
ii. Высказывание, интонационно разделенное на тему и рему. Здесь подъем тона и усиление приходится на конец темы, после чего с деклинацией идет рема.
iii. Высказывания с мелкой клитической (?) анафорикой, «слабыми» местоимениями и под. Вот в них действительно место после глагола ослаблено.
iv. Таким образом «закон Ваккернагеля» относится только к определенному типу высказывания, то есть зависит от синтаксиса и от интонационной установки.
e. Теперь можно сказать, что второе место ослаблено при определенном задании, но язык стремится к парадигматичности, что показали, в частности, работы А. А. Зализняка. Я возвращаюсь к идее, что «ваккернагельность—не-ваккернагельность» – есть факт не столько типологии, сколько эволюции, то есть состояния данного языка на эволюционной оси.
2
Итак, фонетический принцип в определении сути клитик в целом не оправдывает себя. Но во всех работах упоминается и другой принцип, не менее важный, – синтаксический. А именно, то, что «клитичный» пласт обладает своим особым синтаксисом. И это, в общем, неоспоримо. В связи с этим встает достаточно новая для лингвистики проблема, а именно: проблема существования «сильных» и «слабых» местоимений в языках, не знающих прономинальных клитик, например в русском и немецком (см. обо всем этом выше).
В работе о немецких местоимениях выдвигалась легко оспариваемая концепция, согласно которой в случае противопоставления, подчеркивания, выделения и под. употребляются «сильные» местоимения. Это легко оспорить потому, что в подобных случаях уже можно будет говорить о «сильных» глаголах, существительных, прилагательных и т. д.
Уже упоминавшаяся выше А. Кардиналетти в соавторстве с Штарке [Cardinaletti, Starke 1999] пишет и о наличии в русском языке «сильных» и «слабых» местоимений. Аргументация здесь такая: важен тип антецедента. Если он одушевленный (human), то заменяющее его местоимение «сильное». Если же нет или возможно и то, и другое, – то местоимение будет «слабым». Таким образом, human/*nonhuman > strong; human/nonhuman > strong or weak.
В ответ на это появилась очень интересная и важная статья Я. Г. Тестельца (Testelets, ). Я. Тестелец приводит примеры возможной/невозможной координации, когда сочинение через местоимения действительно определяется одушевленностью/неодушевленностью антецедентов.
Например:
Я преподаю не физику (ее), а математику (*ее).
Я получил твои деньги (их) и еще 5000 рублей (*их).
Откройте дверцу (ее), наберите код (*его).
Откройте дверцу (ее), наберите код (*его) и включите сигнализацию (* ее).
Приведя множество таких и подобных им примеров, Я. Г. Тестелец приходит к выводу, что причина не-координации лежит не в местоимениях, а в том, что в русском языке допускается замена только левого из местоимений. Это наблюдение можно считать глубоко нетривиальным.
Действительно, русский язык просто избегает сочинительных конструкций даже при упомянутых антецедентах, если они относятся к неодушевленным референтам. Например, представим себе такие диалоги:
(а) – Что ты видишь в комнате?
– Мужчину и девушку.
– Убей его и ее.
(б) – Что ты видишь в кухне на столе?
– Тарелку и стакан.
*– Принеси ее и его.
Это невозможно в нормальном речеупотреблении. И, однако, стоит только добавить и, как ситуация меняется: Принеси и ее, и его. Возможно, здесь и также играет роль полуартикля (см. в: [Николаева 1985/ 2004] примеры вроде А ты пойди в бухгалтерию – Я и был там и под.) И все же русское словоупотребление избегает подобных выражений, заменяя синонимичными вроде Принеси и то, и другое или Принеси их и под.
Употребление первого местоимения при неодушевленных антецедентах предполагает именование его в предыдущем контексте. Например, Что, я должен вставить ключ? – Да, вставь его и включи сигнализацию. Таким образом, можно вполне согласиться с Я. Г. Тестельцом, что подобная анафорика диктуется не местоимениями, а прагмасинтактикой.
Некоторые общие выводы к разделу « Клитики». 2.
Эту цепочку результирующих положений мы считаем для нашей работы окончательным выводом для данного раздела:
1. Партикулы и те элементы, которые считают клитиками, пересекаются лишь частично. Клитичными могут быть не-партикулы, например, краткие формы местоимений вроде -му, предлоги, наречия и т. д. Напротив, партикульный кластер вроде даже может открывать высказывание и не быть клитичным. Это частичное пересечение с любыми таксономическими классами характерно для партикул в целом. Подтверждается оно и на этом языковом фрагменте. Все эти проблемы по сути связаны с объемом фонетического слова и ни с чем иным.
2. Так называемые «прономинальные клитики» составляют в этом отношении как бы «государство в государстве», хотя именно они обычно приводятся в качество примеров клитик.
3. Присоединение – неприсоединение прономинальных клитик связано в свою очередь с лексическими характеристиками «хозяина», а именно: с выраженной категорией определенности / неопределенности, которая может принимать разные формы – от полной грамматикализации до формы классной версии, то есть охватывать определенные семантические классы лексем.
4. Фонетический фактор объяснения существования клитик в настоящее время не проходит. Фонетическое слово может включать в себя разные классы и варьировать свой объем.
5. Отсюда следует первый вывод: некорректно говорить о «полноударных» и «неполноударных» словах: в зависимости от фразовой позиции и фразовой интонации выраженность словесного ударения может у элементов высказывания совпадать, а может и различаться.
6. Второй вывод: необходимо теоретически развести идеи, связанные с «Законом Ваккернагеля», и положения о месте клитик в языке. Первый комплекс идей относится к высказыванию, второй – к фонетическому слову.
7. Если фонетический принцип объяснения клитик не проходит, то проходит второй – синтаксический. Особенность синтаксиса у клитик бесспорна. Какие же это особенности?
8. Все клитики не могут употребляться самостоятельно, а «полные» формы (местоимений) могут. Почему? Они имеют интродуктивное прикрытие в виде указательной партикулы, как, например, в русском je-mu, о чем писал еще Р. Якобсон.
9. Клитики не могут входить в сочинительные отношения.
10. В высказывании при введении клитичного кластера употребляется (как правило) последовательность: dativus + akkusativus. Причины именно такой последовательности еще требуют осмысления.
11. Теория «сильных» и «слабых» местоимений в русском (и немецком) языках, которые как будто аналогичны прономинальным клитикам и полным местоимениям, подтверждается на примере анафорических замен и возможности их сочинительной связи (см. выше). Эти замены в свою очередь связаны и с категорией одушевленности, и с категорией неодушевленности. То есть в синтаксические процессы включаются лексические характеристики.
Итак, в целом проблема выделения клитик на эмпирическом уровне и определение их статуса на уровне метатеоретическом сложным образом переплетаются с загадками типологической эволюции, возможностями фразовой интонации в одном языке и ее типологическими предпочтениями, связываются с процессами универбации, также типологическими.
§ 5. Партикулы и «местоимения»
1
Как мы старались показать в предыдущем параграфе, таксономическая лингвистика оказалась беспомощной перед таким явлением, как клитики. В известном смысле в ряду языковедческих таксономий клитики как плохо определяемый сборный класс можно приравнять к частицам – тоже плохо определяемому сборному классу, да еще и частично с «клитиками» пересекающемуся. Характерно, что и в тот, и другой класс входят партикулы (см. § 1—3). Однако в реальных описаниях клитик наборы исследователей обычно не пересекаются. Так, Димитрова-Волчанова считает клитикой славянскую вопросительную частицу ли, но не славянскую частицу же, которая как будто бы по ряду причин больше подходит под разряд клитик: она и стоит обычно за своим «хозяином», и располагается на втором месте, то есть строго по Ваккернагелю, тогда как ли может отодвигаться от второй позиции: Да придешь ли ты наконец сюда? К частицам относят и английские «полу-приставки», поскольку в немецком языке их аналоги уже полностью превратились в отделяемые приставки, к частицам относят и изменившие синтаксические функции наречия вроде просто, исключительно и т. д.
Однако, как уже говорилось, общее единодушие лингвистов выявляется при квалификации в качестве клитик «кратких форм» местоимений (pronominalized clitics), а при квалификации в качестве частиц – партикул или партикульных кластеров. Значит, таким образом, рассуждая логически, именно партикулы составляют непризнанное, точнее, не признаваемое, ядро обоих классов. Иначе говоря, таксономическая пестрота объясняется не фактами языка, но фактами самой лингвистики в ее «нормальном» варианте.
Класс местоимений, как кажется, определен в языкознании неплохо. Определены и его состав, и его функции. Он хорошо соотносится с классами «знаменательных» слов: именами, наречиями, даже глаголами. Его синтаксические возможности описаны тонко и глубоко.
Самой известной и самой цитируемой, теоретической работой, «классикой» исследований, конечно, является статья Э. Бенвениста «Природа местоимений» [Бенвенист 1974]. Основной пафос Бенвениста состоит в принципиальном различении форм 1-го и 2-го лица местоимений и форм 3-го лица. Как пишет Э. Бенвенист, «Речевые акты употребления я не образуют единого класса референции, так как «объекта», определяемого в качестве я, с которым могли бы соотноситься эти акты, не существует» [Бенвенист 1974: 286]. То есть я и ты в принципе виртуальны, они возникают только в процессе речи. Эта идея сейчас кажется почти тривиальной, но в эпоху Э. Бенвениста она была прозрением. «В самом деле, – пишет он далее, – третье лицо представляет немаркированный член корреляции лица. Вот почему не будет тривиальным утверждение о том, что не-лицо есть единственно возможная форма выражения для таких актов речи, которые не должны указывать на самих себя, а представляют процесс, ориентированный на кого угодно или на что угодно, кроме самого акта речи, и эти кто или что угодно способны всегда иметь объективную референцию.
Таким образом, в формальном классе местоимений так называемые местоимения «третьего лица» по своей природе и функции совершенно отличны от я и ты» [Бенвенист 1974: 290]. И, действительно, как мы покажем ниже, местоимения 3-го лица формировались как правило на базе демонстративов, посессивов и т. д. В различных языках этот процесс проходил по-разному и потому реконструкция форм 3-го лица может представлять интерес лишь для самой поздней диахронии.
Однако в течение многих лет (десятилетий? столетий?) местоимения обычно воспринимались как некая второстепенная по значимости часть речи; в основном описывались три их функции: дейктическая, посессивная и анафорическая. Но в последние годы ХХ века появились труды, где местоимения по сути объявляются смысловым центром языковой системы. Прежде всего – это работы Н. Ю. Шведовой [Шведова 1998]. Считаю нужным здесь процитировать большой пассаж из ее книги «Местоимение и смысл»: «Системой местоимений охватываются самые общие понятия, которые далее получают разнообразные, иерархически организованные именования в лексике, формализуются в грамматике и морфемике, обозначаются словами связующими и квалифицирующими. В классе местоимений сосредоточены и абстрагированы понятия (смыслы, «идеи») живого и неживого, личности и неличности, движения, его начала и завершения, предельности и непредельности, частного и общего, количества, признака сущностного и приписываемого, собственности и несобственности, совокупности и раздельности, совместности и несовместности, элементарных и в то же время главных связей и зависимостей. Все эти понятия, означенные местоимениями как языковые смыслы, предстают лежащими в сфере познания и поэтому живыми, познанными и познаваемыми, открывающимися разными своими гранями.
Система местоимений, характеризуемая четкостью и глубиной своего строения, по своей природе самодостаточна, она обращена, в то же время, ко всем другим классам слов и с ними сложно взаимодействует. По уровню абстракции эта система стоит над всеми другими классами слов: она осмысляет их устройство и их взаимные связи. Класс местоимений – это арсенал смысловых абстракций, заключенных в языке в целом» [Шведова 1998: 8]. Более того, Н. Ю. Шведова описывает местоимения почти библейским языком, говоря об «исходах» – местоимениях, которые означают глобальные понятия «бытия». На ее подробной классификации местоимений мы пока останавливаться не будем.
Небезынтересной является и привычная для нас, практически примелькавшаяся, местоименная парадигма. Она представляется такой же привычной, как и, например, парадигма имени. Но это не так. Мы знаем, что последовательность падежей в языковых описаниях иногда меняется. Местоименная же парадигма иконична. Мною была высказана ранее гипотеза, что парадигматическая дистанцированность местоименной парадигмы является удобным металингвистическим устройством для описания личностной дистанцированности [Николаева 2001]. Рассмотрим элементарную графическую схему:
Видно, что на один шаг от Я удалены как Ты, так и Мы (очевидно, инклюзивное). Далее. 3ы удалено от Я на два шага и, действительно, социально дистанцировано в большей степени. Максимально же удаленным от Я является Они, отстоящее от него уже на три шага. И т. д. В работе [Николаева 2001] подробно демонстрируются социальные и языковые возможности преодоления и/или подтверждения этих выраженных в местоименной парадигме расстояний. (Еще более подробно описываются средства замены местоимений полнозначными словами для снятия / увеличения этой дистанцированности в языках разных ветвей в книге [Майтинская 1969].) Разумеется, местоимения входят в общую систему нормативного употребления форм содержательных языковых категорий, когда занимают там «правильные» места с традиционной категориальной семантикой. Когда же они занимают «неправильные» места, они приобретают еще дополнительную семантику, как бы «второй» ее ярус. Например, в русском языке неопределенные местоимения не употребляются при именах собственных, поэтому высказывание Ее муж – какой-то Петров приобретает некие пейоративные коннотации. Точно так же посессивные местоимения не употребляются при именах «неотчуждаемой принадлежности» и ряде других показателей, поэтому высказывание Он всегда в три часа ест свой суп означает, что речь идет о конкретном и, видимо, привычном супе. Об этом подробно написала в своей книге о местоимениях Е. М. Вольф [Вольф 1974]. Интересно при этом, что приводимые ею иберо-романские примеры легко «перекодируются» в русский (и, видимо, не только в русский) материал.
Несомненно, что местоименные клитики входят в класс местоимений, как и «слабые» местоимения, о которых писалось в параграфе третьем. На естественный вопрос, почему же о них говорилось в предыдущем разделе, а не в этом, хочу ответить, что мне было важно показать пестроту неясного метатеоретически класса клитик, как некоей не совсем приятной для языковедов, но все же существующей «свальной кучи», разобрать которую может только новая лингвистическая теория.
Посмотрим на местоимения[79] с точки зрения их партикульного состава. По крайней мере в славянских языках они являются либо единичной партикулой, вроде клитик го, му, ме и т. д., либо партикульным кластером, вроде то + тъ, э + то, та + ко + й(jь) и под.
В главе первой в разделе, посвященном «скрытой памяти» языка, было показано, какую сложную комбинацию партикул представляет собой русское я, восходящее к интродуктивной комбинации «вот + он + я». Именно «скрытая память» диктует, как оказалось, употребление / неупотребление этого местоимения в русской речи.
В лингвистической теории местоимения обычно изучают в их эволюции, привлекая при этом и общую прагмасемантику их употребления: то есть то, как развивались парадигмы местоимений – лица, числа, падежа. Во-вторых, очень много интересных работ посвящено семантике и функции отдельных классов местоимений и отдельным местоимениям, в частности.
Какие же вопросы встают при «партикульной» точке зрения на местоимения? Это вопросы совсем другого рода. А именно:
• Почему из одного и того же набора партикул в одних случаях порождаются местоимения, а в других – частицы? Иначе говоря, почему не + къ + то – местоимение, то + то – частица, а не + же + ли – частица-союз? Почему инъ – местоимение, ед + инъ – числительное, а ин + о – союз? Почему къ + то – местоимение, а та + къ – «местоименное» наречие? То есть можно сформулировать общую проблему следующим образом: что важнее при соединении частиц в кластеры, которые начинают относиться к разным частям речи: изначальная смысловая заданность каждой частицы-партикулы или ее позиция в кластере?
• Почему в языках типа русского или немецкого местоимения не представлены в форме клитик? Хотя, как говорилось, уже находят, исходя из общей теории, «слабыми» местоимения в немецком языке, но можно считать их таковыми и в русском высказывании вроде Да ему это уже сто раз говорили!, где как будто бы представлен прекрасный «ваккернагелевский» кластер ему это, несомненно не имеющий акцентной выделенности.
2
Многократно обсуждавшееся в настоящей работе положение о том, что основное свойство партикул, если им не удалось стать примарными единицами, это стремление «прилипать» к чему-либо, в традиционной теории декларировалось обычно на тех примерах, где партикулы приклеивались к знаменательным основам в виде аффиксов. В случае местоимений подобное склеивание становится особенно важным для метатеоретических дискуссий. А именно, принято считать, что само употребление местоимений маркировано и они имеют «дейктическую» природу. Тогда можно поставить вопрос: а почему же в таком случае к ним добавляются окончания, флексии, дублируя, таким образом, дейксис? Можно на этот вопрос ответить так, что здесь имеет место парадигматическая аналогия, связанная с изменением знаменательных слов. Можно ответить и в духе работ К. Шилдза, что семантика партикул-местоимений постепенно стирается и требует добавления в виде повторного дейксиса, и тогда вновь требуется для словоформы вводить «эмфатическое подчеркивание».
Традиционное описание индоевропейских местоимений обычно сводится к описанию создания, построения их словоизменительной системы (подобное описание мы также представим ниже) и эволюции самой прономинальной парадигмы. Между тем можно представить себе и такое описание местоимений, когда опорными точками, инициалями местоимений, являются партикулы, и дальнейшая классификация местоимений осуществляется именно по ним. Наше описание покажет, насколько различными представлялись парадигмы индоевропейских местоимений, реконструируемые даже в работах самых серьезных авторов. Причиной этого, как кажется, можно считать то, что, несмотря на общее согласие по поводу того, что прономинальные парадигмы формируются дейктическими частицами, авторы предлагавшихся реконструкций не всегда единообразно рассекают прономинальную форму на Часть 1 + Часть 2. По этому поводу см. высказывание К. Шилдза [Shields 1994: 308]: «What is especially curious about I. – E. scholarship is its silence regarding the original functions of these deictics which have been affixed to personal pronominal forms»[80] [«То, что действительно является курьезным в традиции индоевропейского языкознания, так это молчание индоевропеистики относительно первичных функций тех дейксисов, которые стали аффиксами прономинальных форм»].
У классиков прошлого – К. Бругманна и Б. Дельбрюка [Delbruck 1893; Brugmann 1892; 1897] находим отличное от современного подхода описание местоимений. В книге [Brugmann 1897] те языковые компоненты, которые мы теперь называем партикулами, а поздняя немецкая теория называет Stammlaut-типы (то есть элементы с ориентацией на «опорный» звук), называются «корнями» (Stämme).
Количество этих корней относительно невелико.
Так, для указательных местоимений выделяются «корни»:
• *so-, *sā-, / *to-, *tā-. При этом первый корень отмечает только именительный падеж единственного числа мужского рода, а для всех остальных падежей выбирается второй корень;
• *sio-, *siā, / *tio-, *tiā-. То есть, по мнению Бругманна, это тот же самый корень, что и выше, но с добавлением частицы *io,
• *o-, * ā-;
• *eno-, *enā, / *ono-, *onā;
• *akuo-, *akuā, пример: старославянское овъ;
• *~o-, *~jo-. Это, как пишет К. Бругманн – невопросительное местоимение, оно представлено в греческом sxsi ’dort’.
• *—to – соединение *къ + to;
• *ej (*jo-, *ej-o-). Neutrum – *i-d, Fem. *i.
Относительным местоимением К. Бругманн считает для позднего индоевропейского *io-, а для более раннего состояния – *qo-, *to-, которые в некоторых языках сохранились.
Местоимения вопросительные и неопределенные представлены корнем *qi-, *qo-, *qu-, *qā-.
Итак, выше были перечислены элементы первой части, то есть «корни».
Какие же окончания предлагают авторы Grundriss для указанных местоименных корней?
• Номинатив и аккузатив. Это окончания -oi, – ei, – ai для номинатива множественного числа, где партикула -i идентична окончанию локатива в единственном и множественном;
• -u, встречающееся в местном падеже множественного числа -sū;
• -d, представленное в именительном и винительном единственного числа среднего рода;
• -m, характерное для некоторых местоимений и имен на *o-;
• родительный единственного числа: *-sjo, – *so, для женского рода – *siā.
Как уже отмечалось, относительно единообразными по составу и структуре у всех авторов, привлекаемых нами для рассмотрения, являются местоимения не-личные, то есть демонстративы, посессивы, рефлексивы. Гораздо более разнообразной и потому гораздо более интересной является трактовка местоимений личных. Под трактовкой в данном случае понимаются следующие параметрические данные:
• Именительные падежи всех лиц, их состав. Считает ли исследователь их однокомпонентными или двукомпонентными.
• Косвенные падежи тех же местоимений, их состав, добавленные к их основе окончания[81].
Поскольку анализ всех существующих описаний реконструируемых индоевропейских местоимений не является в нашем случае необходимым и даже просто возможным, то мы в этом разделе постараемся представить для сопоставления реконструируемые местоименные системы только у следующих известных языковедов:
1) Бругманна и Дельбрюка [Delbruck 1893; Brugmann 1892; 1897];
2) Гамкрелидзе и Иванова (Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984);
3) Семереньи (Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980);
4) Воробьева-Десятовского (Воробьев-Десятовский В. С. Развитие личных местоимений в индоарийских языках. М.; Л., 1956);
5) Шилдза (Shields K. The role of deictic particles in the IE personal pronoun system. 1994; Idem. Comments on the evolution of the Indo-European personal pronoun system. 1998).
Разумеется, этот перечень авторов может быть дополнен и остается открытым.
Обратимся к классикам – Б. Дельбрюку и К. Бругманну [Delbruck 1893; Brugmann 1892; 1897]. Так, К. Бругманн выделяет следующие ряды «корней»:
Личные местоимения обсуждаются в Grundriss менее подробно, чем можно было предположить заранее.
1. Первое лицо единственного числа: *egh -, *-eg-.
2. Второе лицо единственного числа: *tū-. Форма рефлексива – *sū-.
3. Третье лицо единственного числа, как уже указывалось, формируется различными формами демонстративов.
1. Первое лицо множественного числа. Существуют два варианта основы:
• *ue-, *uo-,
• *ne-, *no-.
Показателем числа для обоих видов является добавляемое *-s.
2. Второе лицо множественного числа.
Варианты основы: *ju-, *ue-, *uo-, *ue. Также для выражения числа добавляется *-s.
К личным местоимениям может добавляться m-partikel: tuvām < tū + am [Brugmann 1897: 799—805].
Возможны инновационные процессы. А именно, как отмечается в Grundriss: «мы» движется в направлении «вы», а «вы» движется в направлении «ты».
Как именно выглядит система реконструируемых личных индоевропейских местоимений у О. Семереньи? [Семереньи 1980: 226—235].
Единственное число
1-е лицо:
Nom. Ego, eg(h)om Acc. (e)me, me, mem[82]
Gen. mene, encl. mei/moi Abl. med
Dat. mei/moi, mebhi
2-е лицо: Nom. tu, tu
Acc. twe/te, twe/te, twem/tem
Gen. tewe/tewo, encl. t(w)ei/t(w)oi
Abl. twed
Dat. t(w)ei, t(w)oi, tebhi
Множественное число
1– е лицо:
Nom. wei, nsmes
Acc. nes/nos, nes/nēs, nsme
Gen. nosom/nēsom
Abl. nsed/nsmed
Dat. n. smei
2– е лицо:
Nom. yūs, usmés (uswes?)
Acc. wes/wos, wēs/wōs, usme, uswes
Gen. wosom/wōsom
Abl. (used)?/usmed
Dat. usmei
Итак, мы можем теперь представить в эксплицитном виде то, какими предстают наборы частиц-окончаний у парадигмы личных местоимений, составленной О. Семереньи?
Acc. – e, – em, /-s,
Gen. – e/o, – ei, – oi/-om
Abl. – ed
Dat. – ei, – oi, – bhi[83]
Абсолютный перечень формантов (то есть без учета их падежной дистрибуции) оказывается у О. Семереньи еще меньше: – e/o, – e/om, – s, – ei/oi, – ed
При этом можно предположить еще и двусоставность окончаний на -m и на -d, то есть представить их как e + m или e + d.
Так же, путем специального ре-анализа, О. Семереньи представляет в более упрощенном виде не только окончания, но и инициали личных местоимений, см.:
1-е лицо единственного числа – *em (*eg(h)), – это присоединявшийся слева префикс (см. об этом в главе первой в связи с русским я); me, me(m);
1– е лицо множественного числа – *mes (то есть me + s. – Т. Н.), поскольку О. Семереньи считает *wei субститутом, а не исконной формой [Семереньи 1980: 232], а *nsmes считает результатом редупликации исходного *mes (он отказывается от соблазнительной интерпретации, предложенной Либертом, а именно: разложить nsme > n + s + me, то есть «того + его + меня», что, собственно, и значит «нас»). Вторая форма – это также форма *wes;
2– е лицо единственного числа – tu (*twe);
2-е лицо множественного числа – совпадает с формами первого лица множественного числа. Us в *yus Семереньи считает нулевой ступенью *wes, а *y-, по его мнению, это упрощение от *twes, которое таким образом является закономерной формой множественного числа от *tu-.
Таким образом, список инициалей можно представить как me, s, we, tu, где опорные s и m перекликаются со списком вторых элементов, то есть мы можем считать, что в парадигме есть элемент вторичной редупликации.
Позднейшие формы личных местоимений в индоевропейских языках О. Семереньи объясняет (многие случаи он считает абсолютно индивидуальными) либо фонетическим опрощением, либо вторичной редупликацией, либо влиянием форм существительных.
В окончательном варианте (то есть со всеми снятыми позднейшими наслоениями) система Семереньи предстает довольно стройной, различающей числа (два) и лица (тоже два), где неединственность показывает *s, а маркированной является форма второго лица единственного числа (через опорный согласный *t). Второе лицо множественного числа сочетает в себе в исходном виде показатель первого лица + показатель второго лица + показатель множественности: *t + *we + *s.
В книге В. С. Воробьева-Десятовского [Воробьев-Десятовский 1956] описываются реконструируемые личные местоимения в «индоарийских» языках. Для нашей работы интерес представляет в основном анализ первого этапа развития местоимений: это местоимения в ведических языках и санскрите (глава первая книги Воробьева-Десятовского). Обращая внимание на «своеобразные» формы словоизменения местоимений, Воробьев-Десятовский считает их парадигмы древнее парадигм имени. Предлагая принципиально иное решение, парадигмы личных местоимений, то есть наборы их падежных форм, можно в принципе считать не парадигмой словоизменения в том смысле, как это принято считать для парадигм имени, но каждый раз совокупностью партикул (комплексом), имеющих при этом особое, как правило диффузное, значение. То есть имеет смысл говорить для местоимений о партикульном словосложении, некоем мини-синтаксисе коммуникативного плана.
В. С. Воробьев-Десятовский [1956: 28] приводит составленную им таблицу окончаний личных местоимений, не имеющих аналогии в склонении имен и других частей речи[84]:
Какими же тогда выглядят реконструируемые им инициальные формы, если их представить в аналогичной таблице, «отрезав» их окончания?
Постараемся составить подобную таблицу.
Как уже говорилось выше в связи со Словарем В. М. Иллича-Свитыча, каждую эпоху развития языкознания можно – правда, с большой степенью условности – привязать к тому или иному языковому уровню, который (по разным причинам) в это время выходит на первый план исследовательского внимания. Книга Воробьева-Десятовского написана в 50-е годы прошлого века, когда господствовал, если так можно выразиться, «морфологический принцип» в языкознании. См., например, несколько странное логически заявление о том, что окончание -e в местном падеже «образовалось, как известно, из старого индоиранского дифтонга ai. …
Это окончание -i являлось в индоевропейскую эпоху окончанием «неопределенного падежа», совпадавшего с основой среднего рода» [Воробьев-Десятовский 1956: 27]. То есть, иначе говоря, автор предполагает за древними парадигмами существование еще более древних, а за ними – еще более древних. Именно здесь наглядно видна боязнь талантливого безвременно погибшего ученого отойти от общей «дисциплинарности нормальной науки», о которой говорилось в первой главе нашей книги, и придти к идее «непарадигматического» состояния реконструируемого древнего периода.
Обращаясь к вышеприведенным таблицам и глядя на них сегодня, можно заметить следующее:
• Автор считает показателем первого лица единственного числа именно тот элемент, который позднейшими исследователями определяется как префикс или как первичная интродуктивная партикула: ahā-, а собственно показатель лица – m– – у него стал считаться окончанием.
• Очевидно, что если сложить «основы» местоимений, оставшиеся после отсечения им же приведенных «окончаний», с этими же самыми окончаниями, то ведийской (санскритской) формы мы не получим. Это означает, что авторы грамматик в ряде случаев не знали, куда же именно причислить тот или иной элемент – к инициали или ко второй части.
• Сегодня лингвист бы задумался, не будет ли вводным элементом «дейктический» элемент a– в 1-м лице двойственного числа и as– в 1-м лице множественного, тем более что В. С. Воробьев-Десятовский пишет о квази-форме 1-го лица единственного числа asmi, – что она «представляет собой форму 1-го лица единственного числа настоящего времени глагола-связки as» [Воробьев-Десятовский 1956: 18].
Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов не ставят в своей фундаментальной монографии задачу реконструировать всю парадигму индоевропейских местоимений; они рассматривают местоименные структуры с точки зрения их общей концепции, а именно – представления праиндоевропейского как языка активной структуры. Языковая структура с установкой на противопоставление активности / инактивности предполагает, по их мнению, обязательное разграничение инклюзива и эксклюзива. Отражение этого они видят в двух формах индоевропейских местоимений, а именно: в 1-м лице множественного числа. Первая форма воплощается в двух видах: *Uej– (*ues). Это форма с инклюзивным значением. Вторая форма – это форма *mes, имеющая эксклюзивное значение [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 291—293]. Разумеется, впоследствии эти две формы разошлись по диалектам и там закрепились по-разному.
Последним автором из выбранных нами для пилотного обзора, чьи взгляды на состав и происхождение личных индоевропейских местоимений сопоставлялись с другими, был Кеннет Шилдз, уже много раз упоминавшийся в главе первой настоящей монографии (см.: [Shields 1994; 1998].
После достаточно большого обзора мнений предшествующих исследователей, демонстрирующего полный разнобой во всем, что касается первого и второго лица местоимений всех чисел (этот разнобой становится ясным и в нашем тексте), К. Шилдз сосредотачивается на самих «дейктических частицах», добавление которых к «основе» уже становится общим фактом. Уже ранее мы приводили цитату из его работы по поводу того, что «what is especially curious about Indo-European scholarship is it silence regarding the original function of these deictics which have been affixed to personal pronominal forms» [«то, что является особенно забавным в индоевропеистической научной школе, так это ее молчание по поводу первичной функции тех дейктик, которые потом становились аффиксами, присоединяемыми к формам личных местоимений»] [Shields 1994: 308]. Ссылаясь на работу Андерсона и Кинана 1985 года, Шилдз пишет, что они декларируют существование трех типов дейксиса: 1) указание на Личность (Person), 2) указание на Пространство (Spatial location), 3) указание на Время (Time reference). Он далее высказывает свою собственную точку зрения, состоящую в том, что эти «дейктические частицы» выражают не tense в современном понимании, а степень пространственной отдаленности от коммуникации, которая и выражается во времени, затем морфологизируется «в качестве флексий различных времен и наклонений» (as inflectional markers of various tenses and moods) [Shields, 1994: 309]. То есть основная функция дейктических частиц, по Шилдзу, скорее, спациальная, пространственная, чем временная[85].
Однако и это кажется ему слишком конкретным: «I believe that the most reasonable original function of the deictics enclitically attached to personal pronouns lay in their indication of person categories, without any direct connection to the marking of temporal or spatial proximity» [Shields, 1994: 311] [«Я полагаю, что наиболее правдоподобно считать исходной функцией дейктик, присоединенных как энклитки к личным местоимениям, их указания на лицо, безотносительно к прямым связям с темпоральной или спациальной близостью»]. Представляется, что именно невозможность для представителя «нормальной науки» иметь в виду нигде таксономически не обозначенный класс заставила даже такого смелого лингвиста, как Шилдз, назвать эти дейктические добавки «эмфатическими» и видеть их назначение в разделении местоимений на эмфатические и неэмфатические. Вместе с тем, он соглашается с предположением о ближнем дейксисе частицы *i и о дальнем дейксисе частицы *u.
Как и многие современные ученые, К. Шилдз считает эволюцию местоимений, приведшую к созданию местоименных парадигм, гораздо более ранней, чем эволюция парадигм имени. По этой причине, по его мнению, за долгий период языковой истории эмфатические частицы ослабили свою силу, грамматикализовались, привязавшись к конкретной основе и/или к конкретному падежу. В анализировавшихся нами работах К. Шилдз не обращается к составу местоимений в целом, но только к дейктическим добавленным частицам (в основном таковыми он считает -*g(h)e и -*om).
Этому составу партикул он посвящает и другие статьи, более поздние, например [Shields 1998] и др.
Реконструируемый облик индоевропейских местоимений он видит таким:
Работа К. Шилдза 1998 года посвящена в основном анатолийскому местоимению первого лица uk ’я’, которое он видит составным, партикульным кластером, возникшим благодаря сложению двух партикул: дейктического u– и относительного дейктического
Итак, хотя бы для примера, приведем облик 1-го лица множественного числа реконструируемых индоевропейских местоимений, согласно выводам обозначенных выше пяти авторов:
Некоторые интересные соображения по поводу индоевропейских местоимений высказывает в уже давно известной книге А. Н. Савченко [Савченко 1974/2003]. Прежде всего обратим внимание на его замечание о том, что «Падежные окончания личных местоимений в индоевропейских языках совершенно различны и не возводятся к архетипам» [Савченко 1974/2003: 237].
Относительно 1-го лица єд. ч. А. Н. Савченко предполагает, что основой его было *men-, проникшее из финно-угорских, тюркских и тунгусо-манчжурских языков, где основа *men/mon обозначает тоже 1-е лицо. В индоевропейском 1-е лицо имело, таким образом, основу из двух составляющих: *egho/*me.
Второе лицо єд. ч. демонстрировало, как описывает А. Н. Савченко, в номинативе формы *tu и *tū. Однако в индо-иранском, славянском, греческом, балтийском и армянском основа косвенных падежей и притяжательного местоимения представлена формами *toue, teue, tue, touo. Что же в этом случае, по мнению А. Н. Савченко, важно отметить? А. Н. Савченко считает, что поскольку существует также и основа *te-, то эти вышеуказанные основы – сложные и состоят из двух местоименных корней. То есть мы и у него также видим слабые намеки на то, что в нашей книге называется «непарадигматической лингвистикой». Основу второго лица – *ten – А. Н. Савченко также считает финноугорским заимствованием.
Номинатив множественного числа, по его мнению, представлен двумя формами (без указаний на их дистрибутивное или функциональное различие). Это: *ues и *mes.
По поводу формы второго лица множественного числа А. Н. Савченко высказывает гипотезу о ее структурной место именной сложности: «основа *iūs образовалась, вероятно, из той же *ues/uos на ступени редукции (us) в сочетании с местоимением *jo. Долгота й говорит о том, что в нем слились две лабиализованные формы» [Савченко 1974/2003: 246].
Пожалуй, наиболее типичной для своего времени частью книги А. Н. Савченко является раздел, посвященный все тем же многократно упоминаемым указательным местоимениям *so, *sā, *tod. Женский род представлен формой *sā, а появление гласной а обязано своим возникновением влиянию именных основ. То есть вопрос о первичности парадигмы именных основ существительных здесь как бы предрешен.
Таким образом, в анализировавшихся нами работах на равных выступают две концепции: а) первичной была именная парадигма; б) местоименная парадигма предшествовала именной.
3
Хотя вся наша книга в целом ориентирована на славянские языки, а затем – восходя к истокам – на индоевропейскую реконструкцию, мы все же считаем необходимым для нужд типологического сравнения добавить данные и других языковых ветвей. Так, здесь и далее, то есть в разделе «Партикулы и «глаголы»» (см. ниже), будут привлечены сведения об енисейском глаголе, а в этом разделе – сведения о финно-угорских местоимениях: как в их синхронном состоянии, так и в их формировании. Поскольку в основном эти сведения взяты из монографии К. Е. Майтинской [Майтинская 1969], в дальнейшем по каждому конкретному поводу мы ссылаться на эту монографию не будем.
Очень характерны для решения этой проблемы попытки дефиниции прономинальных парадигм у К. Е. Майтинской, обследовавшей самым добросовестным образом местоимения в 250 языках мира. Выше, в главе первой, уже говорилось, что К. Е. Майтинская явно не решается выйти за пределы «нормальной науки». См.: «Мы отдаем себе полный отчет, что вторгаемся в область языкознания, рассматриваемую многими лингвистами как запретная» [Майтинская 1969: 39]. На протяжении всей своей довольно большой книги К. Е. Майтинская колеблется, переходя от концепции, согласно которой местоимения происходят от «полнозначных слов», к концепции о происхождении местоимений от первичных указательных частиц и, наконец, к «согласительной» концепции, по которой местоимения происходят от указательных частиц, которые в свою очередь восходят к полнозначным знаменательным словам, но какого-то очень древнего, нами потерянного периода. См. [Там же: 54]: «Местоименные слова возникли не из жестов и не могут быть объяснены звуковой символикой. В конечном счете, местоименные слова произошли от полнозначных слов, выражавших в основном пространственную ориентацию». См. [Там же: 126]: «Своим происхождением артикли, союзы, слова-частицы чаще всего обязаны указательным или вопросительным местоимениям»; читаем далее [Там же: 196]: «пути оформления личных местоимений 1-го и 2-го лица мы себе представляем следующим образом. В процессе развития языка возникла необходимость дифференцировать указательные местоимения и личные местоимения 1-го и 2-го лица. Путем приобретения разного звукового оформления основы разных (местоименных, выделительных и других) формантов, дифференцированных моделей формообразования, первичные указательные частицы, с одной стороны, преврашались в указательные местоимения, с другой – в личные местоимения 1-го и 2-го лица. При этом указательные и личные местоимения могли развиться от разных или тождественных первичных указательных частиц». Но, однако, см. у нее же [Там же: 106]: «Мы уже высказали наше предположение о том, что первоначально указательные слова произошли от слов конкретного значения и формировались не как местоимения, а как частицы, выполнявшие как функции частиц и наречий, так и функции разных местоимений. Поскольку возникновение первичных дейктических частиц (указательных слов в широком смысле термина) относится к весьма отдаленным временам, далеко предшествующим образованию всех известных нам языков-основ, эти слова обычно не могут быть возведены к каким-либо полнозначным словам. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в таких языковых группах, как уральская или индоевропейская, местоименные корни кажутся совершенно обособленными от корней полнозначных слов». И вдруг неожиданно она переходит к еще более категоричному выводу (здесь К. Майтинская, по сути, опережает мысли Ф. Адрадоса и К. Шилдза): «Указательные слова в широком смысле слова первоначально не были местоимениями, а совмещали функции указательных частиц, местоимений и наречий, причем следы этого состояния обнаруживаются еще в ряде языков» [Там же: 133]. Наконец, она высказывает смелую по тем временам гипотезу: «По нашему мнению, вопрос о первичности указательных или личных местоимений, как и вопрос о путях их развития, можно решить только исходя из того факта, что личные местоимения и их роль в языке неоднородны» [Там же: 195]. То есть, по К. Е. Майтинской, возможен некий цикл: «Не следует забывать о том, что суффиксальные компоненты многих местоимений, по-видимому, своим происхождением обязаны также местоимениям» [Там же: 208].
Итак, как уже мы старались показать выше, К. Е. Майтинской свойственны мучительные колебания по поводу генетической истории местоименных корней. Они то восходят в ее работах к полнозначным словам, то, напротив, полнозначные слова происходят от них самих. Выход из этой ситуации, как мы демонстрировали выше, автор находит своеобразный[86]. А именно: она приходит к позиции, согласно которой древние «индоевропейские, уральские и тюркские местоименные слова возникали от полнозначных слов, но это происходило значительно раньше образования индоевропейского, уральского и тюркского (или алтайского) языков-основ» [Там же: 50].
Переходя к более конкретным сведениям о финно-угорских языках, прежде всего мы узнаем, что в финно-угорских языках широко используются послеложные местоимения: luokseni ’ко мне’, kuoksesi ’к тебе’. Выдвигались разнообразные гипотезы о происхождении этих местоимений. Так, венгерский языковед Д. Фокош высказал в свою очередь мысль о том, что указательные и личные местоимения происходят от первичных указательных частиц.
Заимствованных местоимений в финно-угорских языках очень мало – около 20, все они (что очень интересно в семантическом плане) относятся к местоимениям неопределенным.
В финно-угроведении также широко обсуждается тот факт, что восстановленные архетипы индоевропейских и уральских местоимений имеют один и тот же звуковой состав. Это m-овый «корень» личного местоимения 1-го лица, t-овый корень финно-угорского местоимения 2-го лица, s-овый корень финно-угорского местоимения 3-го лица. Это также и k-овый корень финно-угорского вопросительного местоимения, а также jo-огласовка относительного местоимения (исследования Б. Колиндера). Впервые вопрос о возможности генетического родства между индоевропейскими и финно-угорскими (уральскими) языками был поднят в 1878 г. Г. Андерсоном, и с тех пор число приверженцев этой гипотезы растет.
В современных финно-угорских языках наиболее распространена система структурирования местоименных слов по степени удаленности от говорящего. Это могут быть системы двучленные, трехчленные и четырехчленные. Ср. эстонские see ’этот’ и too ’ тот’. При этом в общую систему может входит и член нейтрального дейксиса, выражающий обе системы удаленности. Самое интересное для нас то, что наиболее общим и исторически засвидетельствованным, восходящим к финно-угорскому языку-основе архетипом является архетип s’e, se.
Вторым категориальным различением финно-угорских местоимений является различение их по указанию на видимый или на невидимый предмет.
Наконец, принято отличать от дейктических показателей показатели анафорические. Так, в прибалтийско-финских языках для анафорического употребления намечается тенденция использовать местоимения с s-овым корнем.
Довольно сложная картина наблюдается в финно-угорских языках для способа описания образования форм неединственного числа у местоимений. Аффиксальный способ, естественно, не требует ни объяснения, ни интерпретации. Но супплетивные формы образования в основном интерпретируются исследователями через диахронические процессы, а именно: через объединение в одну систему нескольких древних указательных местоименных корней. Так, например, в прибалтийско-финской и волжской ветвях финно-угорских языков местоимения с корнем n-(n’-) выступают в формах множественного числа, а в единственном числе им соответствуют местоимения с t-(t’-)-овыми или s’-(s’)-овыми корнями.
Способы образования форм падежей у имен существительных и указательных местоимений часто полностью совпадают.
Вообще в финно-угорском языке-основе имелись следующие указательные местоименные основы, из которых ни одна не может быть возведена к полнозначным словам: tU, iU ( ), s’– (*c-), n-, (Ü) гласный переднего ряда, (Ũ) огубленный гласный заднего ряда, i (Ū)-овый дифтонг, m ( ) – с заднерядной огласовкой. Возможно, была еще указательная основа[87] – s-овая твердая.
Как и в индоевропейских (славянских) языках, в финно-угорских языках активно используется редупликация местоимений (ср. с этим, например, славянское то-тъ). К. Е. Майтинская объясняет это тем, что корни знаменательных слов в финно-угорском языке-основе обычно были двусложными, в то время как корни местоименных слов были односложными[88]. «Путем всякого рода добавлений местоимения становились двусложными и таким образом приближались к общему типу древних слов, выражавших понятия» [Майтинская 1969: 110]. При редупликации возможны были два пути: полное повторение первого исхода или же второй формант при этом модифицировался и становился просто аффиксом. Например, см. эрзя еГе ’э-тот’ или, напротив, марийское sede < se + te.
В финно-угорских языках от «указательных местоимений»[89]образуются местоименные прилагательные, существительные, наречия и числительные. В соответствии с корневым элементом качественные местоименные прилагательные во многих финно-угорских языках сохраняют указания на дальний или ближний предмет; ср. венгерский ily ’ такой, как этот’, oly ’ такой, как тот’.
Очень разнообразны пути образования местоименных наречий, которые используют многие устаревшие или выпавшие падежные формы. При этом трудно иногда дать адекватный русский перевод для ряда форм, хотя К. Е. Майтинская его и приводит. Интересен, например, такой ее пример [Там же: 128]: финский союз ett? ’что’, происходящий от указательного местоимения e– (? – ) в форме партитива, первоначально означал ’так’, следовательно высказывание Он сказал, что… ранее выражало Он сказал так. Тогда следующее предложение было самостоятельным сообщением о сказанном, но потом оно постепенно превратилось в придаточное дополнительное. Этот путь синтаксического развития представляется универсальным.
К. Е. Майтинская перечисляет разные пути перехода указательных местоимений:
• переход в союз падежной формы указательного местоимения;
• переход в союз местоимения с послелогом;
• переход местоимения в новую форму с добавлением суффикса непадежного характера;
• переход местоимения в состав сложного слова. Так, например, в мордовском языке от местоименной основы e-образуется целая серия послелогов пространственного характера.
С позиций индоевропейского языкознания, где именно эти форманты обсуждались многократно и до сих пор являются предметом дискуссий, удивительно интересно и заманчиво, например, читать о финно-угорских языках, что в мордовских языках в номинативе добавляется постпозитивный артикль s’ (от указательного местоимения s’e ’этот, тот’) или артикль t’ в косвенных падежах, поскольку эти форманты принято считать флексиями.
Специфической особенностью финно-угорских языков является то, что в реальной речи в них практически отсутствуют личные местоимения, которые возникают только при подчеркивании, выделении (разумеется, это явление отмечено и для ряда европейских языков, на чем мы сейчас останавливаться не будем; напоминаем, что русский язык в этом плане как бы остановился на некоей середине, о чем говорилось в главе первой в связи с местоимением я).
Другой специфической особенностью финно-угорских языков является не супплетивный способ образования множественного числа от единственного (как это часто наблюдается в индоевропейских языках), а фонетическое преобразование основы. Например, морд. mon ’я’ > min ’мы’. Соблазнительное для индоевропеистики соотношение 2-го лица в финском языке, начинающееся с si, и 2-го лица множественного лица, начинающееся с te-, К. Е. Майтинская объясняет закономерным переходом в этом языке s > t (об отношении *s/t мы будем говорить в специальном завершающем параграфе этой главы).
Какой же представляется парадигма личных местоимений в финно-угорских языках?
• личные местоимения принимают падежные окончания;
• местоимения принимают лично-притяжательные окончания соответствующего лица;
• личные местоимения принимают лично-притяжательные окончания в комбинации с падежными.
Косвенные падежные формы образуются супплетивно. При этом сами падежные парадигмы у имен существительных и личных местоимений во многих финно-угорских языках различны. Например, у имен больше падежей, чем у местоимений. Различие может быть не только количественным, но и функциональным: по тому, как соотносятся сами падежи. То есть в парадигмы склонения могут входить разные падежи. Формально, большинство личных местоимений 1-го лица в любом числе начинаются с m-, 2-го лица – с t– или с n-. Все это основы указательных местоимений, с которыми связаны местоимения личные.
Таким образом, в финно-угорских языках наблюдается большее разнообразие, чем в индоевропейских языках.
В свете всего сказанного в первой главе об индоевропейском «я», интересна дискуссия, приведенная К. Е. Майтинской, о происхождении финно-угорского местоимения 1-го лица, а именно: среди финно-угроведов особенно много споров вызывало венгерское én и мансийское om/am/äm, отличающиеся от других финно-угорских местоимений. Наиболее вероятное предположение
финно-угроведов-лингвистов, что начало этой формы образует частица e– общего указательного характера. Вспомним интерпретацию формы я в предложенной в первой главе нашей монографии реконструкции: Вот он я! или Это я! Если это верно, то первое лицо местоимения в обеих языковых ветвях практически, при реконструкции, имело тождественную интродуктивную семантику.
Мучительный для нас вопрос об отождествлении глухих и звонких при идентификации общего списка партикул в книге К. Е. Майтинской решается как бы сам собой. Так, марийское tu8o (’тот’ и ’он’) объясняется как редупликация t-ового указательного корня, хотя при повторе выступает фонологически другой консонант, звонкий [Майтинская 1969: 202].
Как и в индоевропейских языках, в финно-угорских различаются вопросительные местоимения, обращенные к существам одушевленным или неодушевленным: ki? ’кто’, mi? ’что’. В целом же для финно-угорского языка-основы восстанавливаются три вопросительных местоимения: *k (U) со значением ’кто’ *k (U) со значением ’кто/что’, *m (U) со значением ’что’. (Собственно говоря, эту же картину мы наблюдаем и в индоевропейских языках, поскольку целесообразно считать, что k-овые партикулы относятся к первичным во времена языковой общности этих двух языковых ветвей[90].) Сложные вопросительные местоимения встречаются довольно часто.
Неопределенные местоимения являются в финно-угорских языках более поздним образованием, поэтому способы их построения весьма разнообразны, включая и привлечение заимствованных формантов. Как и в европейских артиклевых языках, большую роль играет слово со значением ’один’. При этом интересно, что слово со значением ’ другой’ в финно-угорских языках означает собственно дейксис, то есть указание на то, что есть кто-то дальний, отдаленный[91].
Отрицательные местоимения образуются, как и можно предположить, при помощи специциальной отрицательной частицы.
Возвратные и возвратно-определительные местоимения часто бывают связаны с существительными со значением ’ душа’, ’ тело’ и под.
Итак, заканчивая этот краткий очерк-обзор, мы можем лишь подчеркнуть сходство структур языков обеих ветвей, мнение же финно-угроведов о первичности указательных местоимений в сущности аналогично мнению западных лингвистов о первичности «дейктических частиц». Совершенно ясно, что за этим стоит нежелание признать некий никем еще не квалифицированный класс, и для сохранения таксономической теории в рамках «нормальной науки», по сути, оказывается все равно, что добавить к основному термину в качестве определения: дейктические, указательные или что-нибудь другое.
§ 6. Партикулы и « глаголы»
Следующий параграф будет посвящен не имени, как, следуя привычной логике грамматического описания, можно было бы себе представить, а глаголу, поскольку глагол в своей парадигме опирается на местоимения (см. 1-е лицо, 2-е лицо и т. д.), во-первых, и потому, что во многих работах о клитиках и партикулах в разных языках сообщается, что они привязаны к глаголу-сказуемому или «тяготеют» к нему, во-вторых.
Идея интерпретировать глагольные окончания как рефлексы местоимений была выдвинута еще Ф. Боппом. С тех пор она неоднократно обсуждалась. Вот что пишет Ф. Бопп по поводу этой своей концепции [Bopp 1833: 109][92]: «Wir müssen hier vorläufig daran erinnern, dass im Sanskrit und den mit ihm verwandten Sprachen die Personal-Endungen der Zeitwörter mindestens eben so grosse Ähnlichkeit mit isolirten Pronominen zeigen, als im Arabischen» [«Мы обязаны постоянно помнить о том, что в санскрите и в родственных с ним языках личные окончания глаголов очень близки к изолированным местоимениям, подобно тому, как это имеет место в арабском»]. Эта модификация местоимения в глагольную флексию объясняется, по мнению Ф. Боппа, тенденцией к уменьшению слогов в словосочетании.
Разумеется, необходимо представить более подробный анализ реконструкции глагольных парадигм, но непосредственные наши планы несколько иные – мне кажется необходимым для наглядности сравнить эволюцию индоевропейского глагола так, как она представлена в монографии К. Шилдза [Shields 1992], и эволюцию глагола в енисейских языках. Для этого была выбрана монография Г. Т. Поленовой о глаголе в енисейских языках [Поленова 2002]. Почему были избраны именно эти две модели, представленные в столь далеких друг от друга книгах? Именно потому, что в каждой из них отражено первичное состояние глагольной парадигмы, которое, с одной стороны, было реконструировано лингвистами для давней индоевропейской системы и, с другой стороны, возникло относительно недавно в языках енисейских, где, внимательно читая книгу Г. Т. Поленовой, можно наблюдать, как почти буквально из какого-то «первичного дыма» постепенно создаются достаточно сложные глагольные формы. Кроме того, книга Г. Т. Поленовой позволяет увидеть – для енисейских языков – те знаменитые «первоэлементы», которые так искали в межвоенный период и которые в индоевропеистике, скорее, виртуальны.
В концептуальных построениях К. Шилдза большое место занимает интерпретация через ре-анализ и контаминацию. Эти виды объяснений могут быть часто либо спорны, либо, напротив, слишком удобны.
В частности, он полагает, что множественное число было образованием парадигматически поздним, а исходной формой глагола было именно 1-е лицо единственного числа.
Как же именно создавались позднее 2-е и 3-е лица единственного числа: окончаниями? исходами? Он перечисляет форманты:
*-ø, *-s, *-t.Форма «флексии» *-st рассматривается им как контаминированная форма.
Глагольное время обозначалось путем наречий или частиц. В теории индоевропейской реконструкции давно принят термин «первичные» и «вторичные окончания», отличающиеся друг от друга частицей *i, то есть:
– *mi
–*si
– *ti – «первичные», характеризующие настоящее время,
– *m
– *s
– *t – «вторичные», характеризующие претерит и другие глагольные формы. Однако уже давно возникло предположение, что на самом деле все обстоит диаметрально противоположно и партикула *-i как раз передает сама по себе значение актуальности (’here and now’), и комбинация с ней возникла позднее. См. об этом, в частности, [Watkins 1962].
На заре индоевропейской вербализации, как полагает К. Шилдз, пространственно-временная система речи была бинарной и строилась на отношении «здесь и сейчас» и «не здесь и сейчас» (’now-here’ / ’not-now-here’).
Первичным экспонентом для персональности было присоединение *-m, а для не-персональности – *ø. Вся дальнейшая судьба индоевропейского глагола, по мнению К. Шилдза, определялась теми «дейктиками», которые к основе присоединялись[93]. См. его слова: «I-E utilized many deictics as spatio-temporal lexemes. But not all of these deictics became productive? And then disappeared as independent entities? While others continued to exist as independent elements over long period of time but displayed different degrees of productivity at different times» [Shields 1992: 25] [«Индоевропейский использовал много дейктик в качестве лексем спацио-темпоральной семантики. Но разве все они были продуктивны? И тогда они исчезали как самостоятельные языковые единицы, в то время как другие продолжали существовать в этом качестве очень долго, но в разные эпохи были продуктивными в различной степени»]. Поэтому К. Шилдз строит свое описание зарождения индоевропейской глагольной системы, исходя именно из конкретного типа дейктиков (партикул).
Такое описание, каким представляет его К. Шилдз, является, на наш взгляд, и оригинальным, и удачным, так как К. Шилдз демонстрирует полифункциональность партикул, выступающих и при глаголе, и при имени, и самостоятельно. То есть его описание строится по порядку «субморфов» (см. выше об этом: [Иванов 2004]).
Первой партикулой (дейктиком) в описании К. Шилдза является *i. Его (ее?) значение представляется как ’here and now’.
Она добавляет это значение к глагольной основе, и таким образом создаются формы настоящего времени, которые, как указывалось, обычно называются «первичными». Добавляемые к имени, они создают форму локатива, близкую в то же время к генитиву.
Дейктик *e/o – второй в списке К. Шилдза. В системе глагола – это аугмент, добавляемый, в частности, к древнегреческому аористу и имперфекту. Например, ἔπαϑων(см. о нем в главе первой в связи с гипотезой К. Уоткинса и Вяч. Вс. Иванова о том, что это та же самая частица, что и в русском э-то, с небезынтересным сохранением места ударения). С функциональной семантикой аориста это связано безусловно, так как аорист как бы эксплицирует действие, делает его точечным и внезапным. В то же время, по Шилдзу, этот дейктик создает, например, дательный падеж в постпозиции: клмене. Этот же дейктик Шилдз видит в греческом предлоге άπ-ο и в латинском предлоге pr-o.
Следующий дейктик – *yo. Имеет значение не презентного показателя и присутствует во многих индоевропейских частицах.
Ряд последующих дейктиков:
*a, *u, *k.
По мысли К. Шилдза, по мере создания глагольной парадигмы происходил активный процесс контаминации дейктиков, в результате чего появились такие «объединенные» дейктики, как:
• (e/o)S
• *(e/o)M/N
• *(e/o)L
• *(e/o)T
• *(e/o)TH
• *(e/o)DH.
Рассуждения автора по поводу трех последних дейктиков окажутся важны для третьей главы настоящей монографии, так как один из важнейших вопросов отождествления партикул – это объединение / не-объединение глухих и звонких инициалей и исходов. К. Шилдз [Shields 1992: 30] полагает, что исходная форма (basic variant) была здесь *(e/o)DH, а остальные были ее производными. Однако и *t развивался самостоятельно и легко контаминировался с другими частицами[94]. Изначальное значение этой партикулы с звонким исходом *-dh было ’not – here-now’. Отсюда: *me-dhi (’in the midst of) и предлог μέτα, то есть ’then and there’.
Это же значение К. Шилдз видит в сочетании вокалической партикулы с сигматическим формантом *(e/o)s. Сигматический показатель формирует аорист, будущее время, субъюнктив, дезитератив, претерит, отчасти презент и участвует в показателе 2-го и 3-го лиц. Каким же образом это *-s могло появиться в настоящем времени? Шилдз считает это результатом сложного ре-анализа и комбинации с *-t, который являлся показателем презенса.
Постепенно, по мнению К. Шилдза, на уровне диалектного разъединения происходит разделение значения ’not now’ на время прошедшее и время будущее. Это связано с ре-анализом партикулы (дейктика) *(e/o)T, имеющем исходную форму c *-dh. Разные преображения этого сложного дейктика лежат, по мнению К. Шилдза, в основе германского дентального претерита.
Также дейктического происхождения, по гипотезе К. Шилдза, является и индоевропейская копула *es, которую носители языка той поры из значения ’that’ функционально преобразовали в ’that is’.
Процесс формирования множественного числа шел, по мнению К. Шилдза, параллельно с образованием парадигмы имени и имел в качестве окончаний те же самые дейктики (суффиксы), то есть: *(e/o)N, *(e/o)S, Все остальные присоединяемые элементы вторичны и являются результатом ре-анализа или контаминации. Так, 3-е лицо множественного числа формировалось как *(e/o)N, потом же добавилось *-ti. Функциональное значение 3-го лица – это ’отдаленность’. (Тут нужно вспомнить указанные выше мои наблюдения о значимости и неслучайности самой структуры местоименной парадигмы, о которой упоминалось в § 4 [Николаева 2002].)
В результате сложения-разложения и снова сложения глагольных индоевропейских протоформ К. Шилдз выводит существование пяти этапов эволюции реконструируемого индоевропейского глагола.
1 этап. Личность-неличность. Личность маркируется энклитикой в 1-м лице местоимения. Остальные имеют нулевой показатель. Параллельно возникают парадигмы имени и глагола, прежде всего – с тематической гласной *-a. Классная основа с *-а дополняется дейктической частицей *-i [Shields1992: 97]. На этой стадии не было показателей залога, вида, наклонения и глагольное время «was indicated by means of enclitic deictic particles which signified ’now’ or various degrees of ’not now’» [«обозначалось посредством дейктических частиц энклитического характера, которые имели значение ’now’, а также различные степени значения ’not now’»] [Shields 1992: 121].
Итак, партикулы (дейктики), столь нелюбимые «по-уровне-вой» лингвистикой, были самыми активными языковыми элементами этой ранней поры развития языка индоевропейцев.
2 этап. Язык становится флективным. Разнообразные варианты и фонетические сандхи грамматикализируются и становятся суффиксами. Но язык еще тогда не разделился на диалекты. Эпоха кончается возникновением копулы *es, возникновением медия, среднего залога, и использованием энклитических квантитативных элементов для характеризации несингулярности.
3 этап. Начинают сосуществовать *-s, *-t, *0. Появляется *-k. В это время ^a-класс начинает процесс ассимиляции и расщепления на о-класс и класс атематический.
Эта стадия заканчивается развитием оппозиций первичных и вторичных окончаний и бифуркацией категории «не-сингуляр-ность» на двойственное число и множественное. Формальным средством начинает становиться аблаут. Анатолийская ветвь становится особой группой.
4 этап. Только на этом этапе возникает тот самый индоевропейский, который традиционное языкознание обычно реконструирует. Этот период заканчивается отделением германской группы. Возникают перфект и аорист. В конце периода появляются – как особые по своей семантике – модальные основы.
5 этап. Происходит стремительная дифференциация индоевропейских диалектов. В глагольной системе имеет место «the shift of the meaning of the aorist and perfect to past tense» [«переход семантики аориста и перфекта к значению прошедшего времени»] [Shields 1992: 123]. Начинает развиваться «алломорфизация». Модальные элементы расщепляются на категории субъюнктива и оптатива. Формируется имперфект, и начинают возникать различные и разнообразные формы футурума.
Вся книга К. Шилдза по сути строится на партикулах и их роли в формировании системы индоевропейского глагола. Однако, кроме партикул, в словоформах этого языка есть еще некие знаменательные основы (корни), которые в описании Шилдза не фигурируют. Есть еще и «тематические гласные», о которых знают все студенты первого курса и о которых на самом деле не знает никто. А именно – что это такое, эти тематические гласные: показатели чего-то, остатки былых показателей? (Об этом Шилдз пишет в специальной статье: [Шилдз 1990].)
Монография Г. Т. Поленовой [Поленова 2002] очень обстоятельна и демонстрирует искреннее желание автора понять, какие архаические универсалии стоят за формирующимся енисейским глаголом. Книга написана под влиянием идей А. П. Дульзона, видевшего много общего в строении урало-алтайских и индоевропейских языков [Дульзон 1968; 1969; 1971]. Эта книга, тем не менее, как будто бы далека от монографии К. Шилдза, но некоторые места в этих двух книгах просто поражают совпадениями.
Книга Г. Т. Поленовой понятна и неспециалисту по енисейским языкам (каковым, то есть неспециалистом, я и являюсь), поскольку «енисейские языки сохранили, по общему мнению кетологов, наиболее архаичные черты языка в целом» [Поленова 2002: 6]. Поэтому по этой книге можно судить о языковых истоках в их глубокой архаике. Как пишет Г. Т. Поленова, внутри енисейского глагола «заложена вся необходимая информация о предложении»[95]. В состав енисейской глагольной словоформы может входить семь и более морфем. Существенно, что имя и глагол в этих языках первично недифференцированы. Во многом имя и глагол различаются, как можно видеть по книге, только позициями формантов, что очень хорошо показано. Наглядно демонстрируется, что все падежные формы имени можно присоединить к любым личным и неличным формам глагола. Таким образом, как пишет Г. Т. Поленова, в енисейских языках до сих пор все слова лишены показателей соответствующих частей речи. Их частеречная принадлежность может быть определена лишь по окружающему их контексту, то есть не на морфологическом, а на синтаксическом уровне.
Каждому именному классу соответствует свое вопросительное предложение. В связи с этим положением можно вновь вернуться к идеям Н. Ю. Шведовой о местоимениях как «исходах бытия».
Большая часть имен – имена неодушевленные. Их 90 %. Специальные показатели этого класса в глаголе: b—v—m. Они сопоставляются с притяжательным местоимением bi.
В основе грамматической системы енисейских языков, по теории Г. Т. Поленовой, лежит идея классности, т. е. различается живой / неживой, одушевленный / неодушевленный, класс вещный и невещный и под.
Классный строй языка закончился, по ее мнению, с концом матриархата.
Как и в индоевропейских языках, местоимения состоят из частиц. Г. Т. Поленова предполагает, что в праенисейском было множество частиц с классно-локальным значением.
Как и К. Шилдз, Г. Т. Поленова считает, что временные показатели родились из первоначальных спациальных, пространственных.
Лингвистические факты при этом были такими:
а) локальными уточнителями были гласные: i/e – u – a/o;
б) показателями класса были согласные.
Итак, гласный уточнял местонахождение предмета по отношению к говорящему, а согласный указывал его класс.
Основная семантическая оппозиция классности была следующей: социально значимый, активный / социально малозначимый, пассивный. Конкретно это выражалось противопоставлением: b/m : t : d. Не правда ли, это напоминает *-m первого лица в индоевропейском, а также показатель определенности в 3-м лице индоевропейского? Напоминает и тяготение местоименных клитик к имени со значением определенности или той же «классности» (см. данные македонского языка). Строго говоря, мы и здесь имеем как выражение основной оппозиции противопоставление губного и дентального.
Таким образом, корневые указательные слова – дейксисы – имели структуру CV (вспомним славянские партикулы) или структуру VC – как метатезу. Частица могла быть выражена, как и в индоевропейских языках, чистым V. Так, существенно, что «ближность» выражается через *i (вспомним индоевропейское *i, выражающее пространственную близость; см. об этом выше).
Функциональным отличием енисейских языков по сравнению с индоевропейскими является коммуникативная установка на 2-е
лицо, а не на 1-е. Именно 2-му лицу приписывается высший ранг и первичность. Как и в индоевропейских языках, 3-е лицо формируется в самом конце активного периода развития глагольной системы. А именно: указательное местоимение *bu приобретает значение ’он, она’. Показатели объектов начинают редуплицироваться и сливаться с указательными частицами.
Первичная семантическая оппозиция в енисейских языках – это противопоставление состояния как процесса и состояния как факта. То есть это все та же активность в ее противопоставлении инактивности, о которой пишут Т. Г. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов.
В енисейских языках вокруг партикулы, точнее, Stammlaut’а *-n группируются категории: активность, действие, предельность, кратковременность. Вокруг консонанта *l группируются категории: инактивность, состояние, непредельность, длительность.
Более подробный перечень глагольных значений-форм, по книге Г. Т. Поленовой, это:
показатель -s– – он передавал идею длительности, действия, актуального для говорящего;
– l– передавал действие, длительное, неактуальное для говорящего;
– j – быстрое действие, актуальное для говорящего;
– n– – состояние как факт.
Таким образом, как считает Г. Т. Поленова, «настоящее состояние кетского языка отражает переход от выражения состояния как оппозиции действию через выражения состояния как результата действия к пассиву» [Поленова 2002: 151].
Уже упоминалось, что для енисейских языков существует основное противопоставление губного и дентального, проходящее через всю систему языка. Например, b – неотчуждаемая принадлежность; d – отчуждаемая принадлежность.
Опуская подробное изложение формирований глагольных категорий в енисейских языках, развернутое Г. Т. Поленовой, покажем только эволюцию форманта b. По версии Г. Т. Поленовой, это – классный показатель, восходящий к слову ’ тело, лицо’ (без различия пола) > показатель центростремительной версии > классный показатель женского пола > классный показатель вещей > уточнитель объектной версии [Поленова 2002: 129]. Другим уточнителем версии является показатель q.
Наиболее сложным в лингвистическом плане является то, что Г. Т. Поленова по сути не различает слова знаменательные и слова коммуникативного фонда, что для исследователя индоевропейских языков достаточно привычно. Она считает, что дейктические частицы также имели семантику, связанную с духовной жизнью социума.
Заключая этот эскиз-сравнение обеих книг, можно сказать, что общие выводы требуют еще большого обдумывания. А именно – что эти обе семьи родственны, но одна находится на более ранней ступени развития? Или они отражают разные ступени общей, универсальной языковой эволюции?
Верно ли положение А. П. Дульзона о том, что «индоевропейские языки возникли в результате переделки языка кетского типа» [Дульзон 1969: 138]?
* * *
Представленные выше два описания возникновения ранних категориальных элементов глагола считаю нужным дополнить описанием индоевропейского глагола у А. Н. Савченко – в книге, на которую часто ссылаются и которая также была написана именно в тот период, когда доминантой языкознания была морфема (то есть это, проще говоря, 60-е годы ХХ века).
В самом начале главы «Глагол» обращает на себя внимание фраза, которой нет у других исследователей и которая наводит на серьезные размышления. «В области глагола словообразование трудно отделить от формообразования» [Савченко 1974/2003: 261]. И действительно, нормативная наука стремилась строго распределить по полочкам аффиксы, флексии, тематические гласные, инфиксы и т. д., не стремясь в то же время понять их генезис и диахронические связи. А. Н. Савченко пытается это сделать и приводит в качестве примера партикулу *e/o, которая в именах служит словообразовательным средством, в глаголе же – это тематическая гласная, но вместе с тем и грамматический показатель (отличает презент и аорист от перфекта, имеющего нетематическую основу).
Каковы же эти «прилипшие» к основам партикулы?
Презент
1– е лицо ед. числа у нетематических глаголов, по А Н. Савченко, – *-mi.
У тематических глаголов – *ō.
Славянское 1-е лицо восходит к *-om и объясняется как результат присоединения к окончанию «вторичного окончания» *-m.
2– е лицо у нетематических и тематических глаголов – *si.
В славянских языках краткое i давало ь. Но нетематическое окончание было только в виде -si. Его возводят к окончанию ме-дия *-sai.
3– е лицо у глаголов обоих типов было -*ti. (Однако есть формы и без окончания.) Далее А. Н. Савченко, говоря именно об этой форме, сообщает, что окончание состоит из показателя лица t и показателя настоящего времени i [Савченко 1974/2003: 272]. Получается, таким образом, что этот «показатель» не относится к первым двум лицам.
1– е лицо множественного числа реконструируется им как *-mes/mos. Однако в хеттском представлено *-ues/uos. Остается неясным, сопоставляются ли эти окончания с местоименными формам и как эти формы связаны между собой.
2– е лицо имело по всем языкам *-te. Но конечное -s в латинском -tis имеет неясное происхождение.
3– е лицо по всем языкам также единообразно – *nti. Однако если сопоставить его с формами причастия, то встает вопрос все о том же i. Показателем чего оно в 3-м лице является?
Итак, как видно, в книге нет попыток самого простого – объяснения того, почему все это было так, а не иначе? Так, в конце раздела мы узнаем, что у тематических глаголов место ударения было постоянным (на корне или на тематическом гласном), а у нетематических глаголов место ударения менялось [Савченко 1974/2003: 273][96]. Ну, а все-таки – почему?
Аорист
В греческом и индо-иранском аорист имеет особый префикс *e, называемый аугментом, который перетягивает на себя ударение. Но этот аугмент, «как видно по другим языкам, является диалектным новообразованием». Как мы писали выше, в другом разделе, К. Уоткинс предложил гипотезу о том, что этот аористный аугмент идентичен партикуле *e, которую мы имеем в слове э-то. Вопрос в том, перетягивает ли этот элемент на себя ударение или не перетягивает. На самом деле ответ здесь очень затруднен, так как, возможно, это ударение прошло сквозь века, сохранившись и в русском э-то, и своей позиции не меняло?
Ряд глаголов имеет основу аориста с суффиксом *-s-. Этот тип аориста называется сигматическим, а остальные типы – простым. Естественно, что автор книги не сопоставляет это *-s– c окончаниями имени и местоимениями. Между тем само возникновение «сигматического» аориста, то есть хронологически второго показателя аориста в общей истории глагола, расшифровывается далеко не простым образом. Так, например, Ф. Бадер [Бадер 1988] связывает появление сигматического аориста с общей перестройкой индоевропейской глагольной системы. Процесс, по Ф. Бадер, шел так, что презенс перерастал в претерит, а в сигматическом аористе постепенно шла смена флексий: медиальных > полуактивных > активных. Иначе говоря, формы актива являются значительно менее архаичными, чем это принято считать. По мнению Ф. Бадер, «сигматический аорист – это один из претеритов с точечным значением, образуемых с помощью корневого расширителя – обычно только одного лица (*-s, *-u, *-k, *-t)». Итак, с точки зрения Ф. Бадер, «Будучи претеритным образованием, сигматический аорист получает в индоевропейском медиальную флексию, характерную для всех корневых претеритов» [Бадер 1988: 343]. Таким образом, интересующее нас *-s сигматического аориста являет себя каким-то хамелеоном, внедряясь то в медий, то в претерит, то в оба залога. Однако во всех языках, претерпевающих разнообразные глагольные преобразования, этот «суффикс» неизбежным образом принимается.
Окончания всех лиц единственного числа аориста и 3-го лица множественного числа: *-m, *-s, *-t, *-nt отличаются, по А. Н. Савченко, от соответствующих окончаний презента только отсутствием конечного который [Савченко 1974/2003: 279] называется частицей-показателем настоящего времени.
1– е лицо множественного числа аориста, по мнению А. Н. Савченко, имело два варианта: *-mes/-mos; *-me/-mo.
2– е лицо имело окончание *-te.
И здесь небезынтересным можно считать мнение А. Н. Савченко о том, что основы глагола не выражали времени: время выражалось окончаниями, но при этом основы презента выражали длительность действия, а основы аориста – действие как факт, независимо от длительности или законченности. Поэтому, по мнению А. Н. Савченко, понятие «имперфекта» вообще условно: это глагольные формы, в санскрите и греческом образованные от основ презента, но с окончаниями, как в аористе, и с аугментом.
Окончание 3-го лица *4ъ сохранилось только в санскрите (см. выше исследование об этом окончании Шмальштига).
Перфект
Его окончания восстанавливаются в книге А. Н. Савченко следующим образом:
1– е лицо – *-ha;
2– е лицо – *-tha;
3– е лицо – *-e.
Окончание первого лица множественного числа – то же, что в презенте и аористе.
Второе и третье лица множественного числа отчетливым образом не восстанавливаются.
Само значение перфекта, по А. Н. Савченко, не было выражением прошедшего времени: «состояние, им выражавшееся, существовало в настоящем, а действие, вызвавшее это состояние, в прошлом» [Савченко 1974/2003: 284].
Вывод из этого также представляется небезынтересным: «Таким образом, перфект занимал особое положение в грамматической системе индоевропейского глагола. Это объясняется тем, что он был пережитком несколько иной грамматической системы, существовавшей в праиндоевропейском языке на древнейшей стадии его развития» [Там же: 284].
Мы оставляем без анализа те разделы книги, которые посвящены формам футурума и формам наклонения, как формам явно позднейшим и разнообразным по языкам.
А. Н. Савченко кратко останавливается на интересной категории инъюнктива, имеющего значение разнообразное и неопределенное. Эта форма признается А. Н. Савченко наиболее архаичной, приобретающей значение только в контексте и также, вероятно, являющейся «остатком весьма древней праиндоевропейской категории».
Наибольшее внимание автор уделяет формам медия, который «прошел сложный путь развития в праиндоевропейском языке», и следы этого пути «отразились в разных языках по-разному». Именно медий и был маркированной категорией, отражавшей «средний» залог.
Среди медиальных форм реконструируются «первичные» и «вторичные» окончания презента, имевшие геодиалектную дистрибуцию.
«Первичные» окончания (перечисляются лингвистически достоверные формы трех лиц единственного числа и формы 3-го лица множественного): *-ai, *-sai, *-tai, *-ntai.
«Вторичные» окончания (те же формы): *-e (только у тематических глаголов), *-so, *-to, *-nto.
Совершенно очевидно, что этот набор флексий не «особый», а соотносится с флексиями презента и аориста[97].
Сразу, однако, видно, что парадигматическая «нормальная наука» здесь давит на исследователя. Примером этого являются рассуждения А. Н. Савченко о том, что данные ряда языков (итало-кельтские, санскрит и др.) обнаруживают еще третий ряд окончаний медия: *-ha, *-tha, *-a, *-r.
«Эти три ряда не могли составить единую систему, потому что в презенте, аористе и наклонениях противопоставлялись только «первичные» и «вторичные» окончания. (…) По-видимому, перед нами – различные системы, сложившиеся на различных этапах развития праиндоевропейского языка» [Савченко 1974/ 2003: 303]. Далее интересно то его замечание, что «вторичные» окончания, по мнению А. Н. Савченко, первоначально не были показателями медия, а его древнейшими показателями были окончания: *-ha, *-tha, *-a, *-r. Только в хеттском языке они составляют систему, а в других индоевропейских языках «существуют как уцелевшие обломки какой-то иной системы».
Само значение медия связано прежде всего с непереходностью. Но, по мнению А. Н. Савченко, это свойство медия было приобретено позднее, а на первоначальном этапе медий обозначал состояние. В этом отношении он был очень близок к перфекту, имея с ним общее происхождение, то есть восходя к более древней общей категории состояния.
В заключение этого необходимого, как нам кажется, обзора раздела «Глагол» книги А. Н. Савченко мы считаем нужным обратить внимание на то, что автор ее практически приближается к высказанным через 10—15 лет идеям Ф. Адрадоса и К. Шилдза, о которых мы говорили, но никак не может отрешиться от давления принятой тогда парадигмы. Мы уже не раз подчеркивали, что он ощущает потребность нащупать какую-то неясную древнейшую парадигму и ищет ее осколки в различных формах. Именно поэтому был предпринят пересказ этой главы о глаголе его книги. Искомая в ней «древнейшая парадигма» – это и. – е. Стадии I, по Ф. Адрадосу. Трудности представляет для А. Н. Савченко решение о хронологии хеттского. С одной стороны, он «утратил», в частности, аорист. «Однако тот факт, что во втором тысячелетии до нашей эры аорист уже был полностью утрачен, заставляет думать, что хеттский и не унаследовал от праиндоевропейского вполне сложившейся категории аориста» [Савченко 1974/2003: 320]. С другой стороны, «Отличие хеттской глагольной системы определяется тем, что она отражает индоевропейскую систему более раннего периода» [Там же: 322]. В системе Адрадоса– Шилдза это и. – е. Стадии II.
§ 7. Партикулы и « имя»
Пожалуй, сама идея многосоставности словоформы, включающей в себя «местоименные» показатели, началась с именных форм, а в дальнейшем эта «местоименность» окончаний стала неким общим местом таксономической лингвистики. Во всяком случае, с этой идеей не спорят.
Разумеется, с наибольшей страстью и эмоциональной убедительностью эта идея была выражена у Фр. Шпехта в книге, писавшейся всю Вторую мировую войну и сразу после выхода ставшей очень популярной [Specht 1947].
Происхождение индоевропейских именных парадигм Фр. Шпехт видит в соединении именных основ, точнее, нужно сказать, корней, с последовательно к ним «приклеивающимися» личными и указательными местоимениями.
Глядя сейчас на его фундаментальное развертывание именных парадигм в их становлении, видишь следующую эскалацию наращений. Сначала возникали лексические классы. Причем не равные по значимости для человека, а имеющие коммуникативные приоритеты. Далее возникали основы, как атематические, так и тематические. Первой появилась двухпадежная система: Casus rectus и Casus obliquus. Затем – падежные системы в разных вариантах.
Все сказанное выше является фактом общеизвестным. Значительным является наглядность демонстрации Шпехтом «вечного возвращения» практически одних и тех же расширителей имени (Erweiterungen), которые, однако, присоединяясь к именному «входу», меняли свое значение и свои функции. Тем самым, анализируя книгу Фр. Шпехта, мы наблюдаем именную парадигму в становлении.
Среди этих упомянутых расширителей Фр. Шпехт видит три основных (точнее, изначальных): k/g, t/d, s. Сначала они создают лексически значимые основы. Например, – t как бы одушевляет предметы, выделяя части тела. Ср. славянское ного-ть, ко-го-ть и др.
Расширителями были и другие «местоимения». В частности, это i, u, n, e/o, men/mn (bh), r/l и др.
Ре-интерпретируя его анализ, мы можем сказать, что одни и те же элементы в процессе эволюции именной парадигмы осуществляли переход от формирования «по-словной» семантики к семантике «полу-синтаксической», добавляя показатели ich-дейкси-са и der-дейксиса. Затем происходила дальнейшая грамматикализация этих показателей, и создавалась именная парадигма в привычном для нас виде. Совершенно очевидно, что сквозь все эти диахронические изменения проходит самоутверждение одной и той же категории – категории определенности, поскольку первичное выделение одушевленного существа, частей тела и под. есть вполне интерпретируемая маркированность. Фр. Шпехт в качестве ich-дейксиса приводит «местоимение» i, а в качестве отдаленного дейксиса – t/d. Таким образом, как пишет Фр. Шпехт, «Der nominale i-Stamm ist nicht weiter als eine Zusammensetzung der blossen Wurzel mit dem Demonstrativpronomen i» [Specht 1947: 303] [«Именное i-склонение есть ничто иное, как объединение голого корня с указательным местоимением i»].
Основными местоимениями древней индоевропейской системы Фр. Шпехт считает уже многократно обсуждавшиеся в нашей книге *to и *so. Именно из них возникли расширители имени, с одной стороны, а также более протяженные местоимения поздних индоевропейских языков, с другой.
Альтернативность k/g и t/d Шпехт объясняет чисто фонетическими причинами, а именно: чередование их объясняется тем, заканчивается ли основа через tenius или media. Впрочем, расходиться эти аллопоказатели могут и в начале: ср. ст. – сл. то\ и русское да-ль.
В самые далекие времена, по мнению Фр. Шпехта, имя и глагол могли иметь одни те же расширители (In alter Zeit auch der Verbalstamm häufig mit der Nomen übereinstimmt [Specht 1947: 324]).
Расширитель *s был, по мнению Шпехта, связан с Casus rectus, а расширитель *t – с Casus obliquus. Постепенно в создание парадигмы, по Шпехту, втягиваются и другие местоимения, точнее, их остатки. Некоторые из них совмещаются в пределах одной парадигмы. Например, это r/n, i/u, e(o)/i. Существенно его замечание о сосуществовании s и t: «Die Laute t und s befinden sich also innerhalb des Paradigmas noch im Austausch» [«звуки t и s находятся в пределах одной и той же парадигмы на правах обмена»] [Specht 1947: 344]. В таких же отношениях, по его мнению, находились альтернанты r(l)/n. Поэтому все классы имен, как и l/r-Stamme, например классы основ на e/o, i, u, n, men, суть комбинации корня с указательным местоимением. В некоторых случаях происходило совпадение (наложение) корневой гласной и гласной дейктического местоимения. Тогда гласная становилась долгой, например класс типа devl.
Раздел, посвященный возникновению падежных флексий, у Шпехта строится не по парадигмам, а по исходным частицам-флексиям, возникшим, по его мнению, из указательных местоимений. Разумеется, эта боязнь столкнуться с первообразными единицами, даже в рамках простой номинации, заставляет и Фр. Шпехта идти по некоторому половинчатому пути. А именно: на самом деле он оперирует партикулами, как можно видеть по приведенным выше примерам, как единицами первообразными, но декларирует их восхождение (происхождение) к неким былым полноценным парадигматически местоимениям, кое-что уже утратившим с течением времени. Поэтому несколько странно читать его рассуждения [Specht 1947: 359] о местоимении *so, которое не имело уже правильного окончания -s, т. е. не сохранилось как *sos, поскольку конечное -s оно отдало номинативу существительного.
Разумеется, самое большое место в своей книге Шпехт уделяет уже многократно нами упоминавшимся «ведущим» партикулам индоевропеистики -s/-t, но его рассуждения мы перенесем в следующий параграф, который будет специально посвящен этим двум партикулам.
О каких же других партикулах у него идет речь?
Это -men, сокращающееся до mn-; оно создает флексию инструментального падежа в германских, балтийских и славянских языках, добавляя дейктическое местоимение i. Таким образом появляется окончание -ми.
Это партикула go/ko, создающая окончание генитива в славянских прилагательных. В комбинации с релятивным местоимением jo– получаются формы местоимений вроде [je + go] русского.
Вокалические партикулы чередуются. Так, e/o чередуется с i в слабой позиции аблаута.
Но все другие принципиально возможные частицы > флексии, кроме двух упомянутых выше ведущих, по его мнению, встречаются реже, так как они присоединяются к менее популярным для архаического социума именам существительным[98].
Разумеется, книга Фр. Шпехта, оставшаяся классической и неизменно цитируемой, за истекшие годы неизбежно подвергалась критике. И с этой критикой нельзя не согласиться. Так, К. Шилдз [Шилдз 1990], говоря о теории Шпехта, согласно которой универбация словоформы имени состояла из слияния корней с указательными местоимениями, упрекает Фр. Шпехта за то, что он не понимает, что присоединялись на самом деле не местоимения, а «дейктические» частицы энклитической природы. «Короче говоря, мне представляется, что источником основообразующих формантов в раннем индоевропейском были дейктические частицы» [Шилдз 1990: 13]. К. Шилдз идет и несколько далее. Так, он разграничивает демонстративы и дейктические частицы: вторые, как он считает, более ранними. Поэтому, «Несмотря на то, что в индоевропейском не реконструируется обычно демонстратив на *-a, существование дейктической частицы *a не вызывает сомнения» [Там же]. Только поэтому в подобном случае можно признать существование основы на краткое -а. Но и К. Шилдз останавливается перед вопросом, который по сути по отношению к партикулам является ключевым. Так, одной из последних работ К. Шилдза является статья, посвященная происхождению балто-славянского окончания *-ād. То есть это русское склонение дом – дома, брат – брата и т. д. Разумеется, К. Шилдз ссылается на Шпехта и на более поздние работы, исследующие балто-славянское склонение. С неизменяемой научной последовательностью он и здесь проводит мысль о возникновении флексий из контаминаций «дейктических» частиц и корневых элементов. В данном случае к этой общей идее добавляется мысль, что в тот период, который обычно полагается реконструируемым, происходила диалектная раздробленность индоевропейского, что в свою очередь давало разнообразие парадигматических форм. В частности, он пишет о принципиальном отсутствии «не-единственных» форм на ранней стадии индоевропейского и о позднем становлении самой *о-основы (здесь он повторяет идеи Брозмана и Лемана середины 90-х). Именно поэтому не восстанавливается общая форма для этой основы. Однако мы хотим подчеркнуть следующую его простую (и потому важную) мысль. А именно: дейксис есть вещь спациальная, поэтому экзистенциальность и посессивность связаны: «The grammaticalization of deictic particles as markers of the genitive case is especially well established typologi-cally when one considers the close etymological connection between the expression of genitive and locative functions» [Shields 2001: 167] [«Грамматикализация дейктических частиц как показателей родительного падежа хорошо верифицируется типологически, если принять во внимание тесную этимологическую связь между выражением функций генитивных и локативных»]. Поэтому он связывает, например, окончание родительного множественного *-on и славянское онъ. Итак, он считает, что показатель балто-славянского генитива был когда-то контаминирован с функционально идентичным ему *-(e/o)t. Это привело к форме *-ād, в свою очередь сократившей консонант.
Почему же все-таки партикулы так неизменны на протяжении долгой истории? Они истрепываются функционально, но не меняются. Отсюда отмечающаяся многими загадочная цикличность (А. Звики и др.) в диахронической корреляции клитик, частиц и самостоятельных слов.
По этому поводу я хочу процитировать Л. Хейзельхорн, описывающую тождественные процессы в финно-угорских языках (цит. по: [Шилдз 1990: 15]): «Дейктические частицы, первоначально обозначавшие участников коммуникации и их местонахождение, впоследствии превратились в маркеры определенности и стали использоваться для того, чтобы выделять фокус высказывания. В дальнейшем эти же элементы были переосмыслены как показатели лица, с одной стороны, и маркеры аккузатива, числа и т. д., с другой. Однако основной характеристикой всего набора рефлексов указанных элементов… является определенность».
Будет тривиальным, но все же необходимым лишний раз подчеркнуть, что определенность – это категория, а не граммема (или сема). Поэтому в эту категорию входит достаточно богатый спектр разных оттенков той же определенности. В дальнейшем
многие из них укрепляют эти оттенки путем дальнейшей грамматикализации. Именно в этой связи термин «дейктические» является по сути одним из пустых терминов лингвистической метатеории вроде «полноударных» слов, «логического» ударения и под. О причинах введения в языкознание этих терминов-пустышек мы говорили в главе первой этой книги.
Далее. Как уже говорилось, логика научного изложения с неизбежностью потребовала включения в нашу книгу специального раздела, описывающего, хотя бы в самом сжатом виде, функции, историю в языке и историю в языкознании партикул -s– и -t-. В этом разделе мы постараемся дать экспериментально-фонетическое объяснение ведущей роли этих партикул, а также продемонстрировать их «новое место» в грамматике славянского пространства, где они частично перешли в «скрытую память» языка, а частично выступают в несколько новом качестве.
§ 8. * Sl*t – грамматический центр[99]
1
О функциях и соотношении загадочной пары *s/*t на протяжении этой книги говорилось очень много. При этом упоминались и их функции «раздельно» и сообщались разные точки зрения по поводу того, находятся или не находятся члены этой пары в дополнительном распределении. Все сказанное выше (а также – ниже, в главе третьей) придется в этом разделе сообщить кратко, но, по возможности, экспликативно.
Повторить нужно и исходные посылки.
Итак, то, что мы называем партикулами, для славянского мира обычно моносиллабично и, как правило, выражается через CV или V (за редкими исключениями вроде -ød). На уровне же индоевропейской реконструкции подобные партикулы в основном декларируются как единицы с консонантной опорой (Stammlaut). Таким образом, многообразные позднейшие славянские партикулы, развившиеся из этой пары, сводятся к двум звуковым опорам – s и t.
Как было видно из предыдущего текста, список партикул, реконструируемый от древнейшего состояния индоевропейского до состояния позднейшего славянского, относительно невелик (хотя и различается от лингвиста к лингвисту). В самом лучшем случае он насчитывает примерно дюжину (или полторы) партикул. Сама эта неизменность для исследователя привлекательна: выходят из употребления комбинации партикул, например древнерусское и + но, просторечное а + ж + но, но сам исходный набор как будто бы задан заранее.
Не перечисляя весь получившийся у нас набор, могу только повторить положение Фр. Шпехта [Specht 1947] о том, что у таких «местоименных» расширителей только три лидера: k/g, t/d, s. Почему слово «местоименный» было поставлено нами в кавычки? Потому, что за ним вырисовывается не разделяемое нами странное убеждение, что за одними парадигмами стояли еще более древние парадигмы, а те в свою очередь опирались на плечи еще каких-то парадигм и т. д. За всем этим просвечивает страх «нормальной науки» перед признанием некоей возможности первичных некаталогизированных элементов, перед диффузностью и «дофлективностью» древнейшего языкового состояния. Более того, на протяжении всей книги мы сознательно избегали даже термина «дейктические частицы», который считаем в известном смысле для древнейшего состояния недоказуемым, о чем писал еще Б. Дельбрюк, полагая, что *to никогда не имело дейктической функции, так как древнее восприятие просто предполагало называние объекта или указание на него [Delbr?ck 1893: 499]. И действительно, русский носитель языка, внезапно увидев, например, самолет, так и скажет: «Самолет!», а не «Этот самолет».
Но пара *s/*t все же выдвигается на первое место. Об этом пишет и Фр. Адрадос [Adrados 2000], предполагая, что множество местоимений и союзов индоевропейского языкового пространства является результатом эволюции элементов *-so и *-to.
Общеизвестно, что в славянском мире отпадение конечных согласных, «закон открытого слога», отбросил многие более древние флексии индоевропейского. Но посмотрим сначала, что же все-таки сохранилось от этой пары в грамматическом пространстве славянских языков (более подробно эти партикулы наравне с другими будут рассматриваться в главе третьей).
2
Итак, что же осталось от этих элементов в славянском мире? Прежде всего это разнообразные частицы, как примарные, то есть употребляющиеся изолированно, так и кластерного происхождения.
Наример, это партикула da (вариант do), партикула de, а также dy.
Это партикулы на *t-: ta, to, гъ, tu[100]. Многие из них выполняют функции междометия, частицы и союза – по-разному в разных славянских языках и диалектах.
Проблемой t/d является вопрос о том, считать ли эти партикулы восходящими к одной единице рядами по звонкости / глухости или на славянском уровне эти единицы уже разошлись. (Согласно глоттальной теории, *d = *t.) В той части работы, которая посвящена исключительно славянским данным, ответ будет отрицательным, так как на протяжении веков уже произошла грамматикализация даже примарных партикул в каждом из рядов по глухости и звонкости. Например, tu связано с темпоральностью, а аналогичной партикулы-наречия du – нет. Зато есть спациальное de (къ + de и под.), но te и tb с ним по смыслу не соотносятся. «Та-та-та», – говорит человек, стремясь поправить коммуниканта и сомневаясь в сказанном. Но «Да-да-да» означает, напротив, подтверждение.
Элемент t остался в словоизменении и словообразовании.
Это второе лицо множественного числа – те.
Это третье лицо настоящего времени единственного и множественного числа в древнерусском: дѣлаеть и -тъ в современном русском.
Это -тъ как окончание супина (после глаголов, означающих движение).
Это -ти под ударением в инфинитиве глагола и -ть с ослабленным вокалом конца.
Это формы страдательного причастия типа уби-т-ый, то есть обладающий неким свойством и в этом смысле соотносимый с борода-т-ый, зуба-т-ый и т. д. Это сохранившиеся старые основы на -t вроде локъть, ногъть[101] (следы классного деления). Это основы слов типа теля-те, дитя-ти (они восходят, по мнению Р. Якобсона и Л. Во, к особому архаическому типу преназализации: *-nt) и т. д.
Это существительные типа зла-то, доло-то, боло-то, существительные от прилагательных, например живо-тъ и т. д. На базе партикулы -to развились суффиксы: – itje-, – ost’, – tvo, (-tva), – bstvo.
Но прежде всего нужно сказать о местоимениях тъ (тотъ), та, то, считающихся показателем «дальнего дейксиса». На этой базе возникают как неопределенные местоимения достаточно сложной структуры: нѣ-къ-то, къ-то-то, ко-jе-къ-то и т. д., так и определенные: то-тъ-то, артиклеобразные сочетания: домъ-от, девка-та и под.
Перейдем теперь к партикулам на *-s. Напомним честное признание по поводу этой партикулы: «элемент -s стоит совершенно вне системы, и его происхождение неясно» [Шмальштиг 1988: 283]. Напоминаем также, что в книге Фр. Шпехта этот «расширитель» является одним из трех основных, наряду с t/d, k/g, расширителей индоевропейской именной системы. (В славянском языке с < *k палатальному как сатэмное изменение; поэтому в славянском произошло объединение того, что в индоевропейском отчетливо различалось.)
Прежде всего этот элемент представлен в виде партикулы se/s^ Эти два вида иногда разделяются этимологами, считающими, что sь выступает исконно как указательное местоимение, а se – как междометие. Первый вариант выступает и как опора деривативных цепочек: с-его дня, с-ию минуту, утро-сь, по-ся-мест, древнерусск. си-ночь, макед. си-нока и т. д. Интересно в этой связи замечание о семантике порядка сь в препозиции сьродъ. Тогда это значит «именно этот род», а родось значит просто «этот род» [Мейе 1938: 383].
В славянских языках эта частица принимает разные фонетические виды, в основном меняя вокалический исход. Таковы славянские частицы sa, se, si, sь (подробный анализ их семантики и примеры см. в главе третьей).
Особое место занимает так называемое s-mobile: с-мерть, шкура (s > s-kora), с-колько и т. д.
Как и в случае с -t-, партикула -s– сохраняет свои следы как тематический показатель основы некоторых слов, например небе-с-е, слове-с-е и др.
Как и партикула *-t, *-s партикула служит в славянских языках в качестве показателя определенности, например польское kto-§. Таким образом, обе партикулы могут быть амбивалентны, что говорит об их древности и первоначальной энантиосемии.
Легко заметить, что следы партикулы -s исчезают в словесном ауслауте. Ее неинициальной сохранности способствует часто прикрытие в виде -t. Таковы формы -ст в да-ст, окончание суффикса сравнительной степени прилагательного и наречия: – jos, is, jeis.
В эпоху гораздо более позднюю, чем индоевропейское единство, то есть в эпоху развития восточных индоевропейских диалектов, в славянских языках широко развился так называемый «сигматический» аорист. Его показателем был -s-, к нему же присоединялись вторичные глагольные окончания. В результате получались формы -ss, – st. Впоследствии конечные согласные исчезали, что и привело к совпадению форм 2-го и 3-го лица единственного числа. По так называемому «правилу r, u, k, i» окончание сигматического аориста переходило в хъ, например rѣk-s > rѣхъ и под. Исчезало и -s– в местном падеже: *-su > хъ (домѣхъ). Таким образом, грамматический формант -s в славянских языках постепенно исчезал, сохраняясь лишь спорадически.
Выше мы уже говорили о словоформах типа даст. Могут ли обе эти партикулы сочетаться в одной словоформе или в одном идиоме? Да, таких словосочетаний довольно много, и они кажутся неслучайными. Это обороты типа туда-сюда, там-сям и т. д.
Что же касается парадигматики, то можно отметить, что язык, сохранивший показатель *-so в родительном падеже че-со, заменил при местоимении тъ аналогичную форму на то-го. Как пишет А. Мейе, «Что касается элемента -go, то он может быть частицей, сохранившейся в славянском языке в составе сложной частицы не-го (после сравнительной степени) и соответствующей санскритскому gha, подобно тому, как же соответствует санскритскому ha» [Мейе 1938: 348][102].
Но совершенно очевидно, что славянские языки сохранили на всех своих уровнях лишь какие-то осколки когда-то мощной грамматической корреляции партикул *-s и *-t, партикул, пронизывавших грамматики языков гораздо более древних. Славянский же язык не только многое не сохранил, он всеми силами многое преобразовал.
Не вдаваясь в глубокие причины таких потерь и такого отталкивания, постараемся показать, что же стояло в утраченных и преображенных позициях в дославянскую эпоху в парадигмах индоевропейского Стадии III (по К. Шилдзу и Ф. Адрадосу), когда партикулы *-s и *-t переживали свой, если так можно выразиться, звездный час.
3
Прежде всего нужно сказать, что интересующие нас s/t партикулы отнюдь не являются только индоевропейскими. Так, в фин-но-угроведении давно обсуждается t-овый корень финно-угорского местоимения 2-го лица единственного числа и s-овый корень местоимения 3-го лица. Впервые вопрос о возможности генетического родства между индоевропейскими и финно-угорскими (уральскими) языками был поднят Г. Андерсоном в 1878 г. Система финно-угорского дейксиса строится, как указывалось, по принципу степени удаленности от говорящего. Например, эстонское see ’этот’ и too ’тот’. Интересно и важно то, что наиболее общим и реконструируемым как элемент языка-основы является архетип *s’e, se. Интересно и поразительно читать также [Майтинская 1969: 110] о том, что, например, в мордовских языках к имени в именительном падеже добавляется постпозитивный артикль s’ < s’e, указательное местоимение, а в косвенных падежах – артикль t’. Просто иногда эти форманты принято считать флексиями.
Г. П. Живовой для енисейских вопросительных местоимений среди прочих первообразных местоимений выделяется s-, а среди неопределенных местоимений в енисейских языках обязательно присутствует ta, восходящее к древнему t-дейксису [Живова 1984].
Ностратический гений В. М. Иллич-Свитыч среди 10 примарных единиц, классифицируемых по консонантным опорам, выделяет две: t/s (V) и s(V), т. е. не чередующееся с t [Иллич-Свитыч 1971]. Расподобление s/t у Иллича-Свитыча решается так: 1) s – дейксис у одушевленного класса[103]; 2) t – указательное местоимение неодушевленного класса. Что касается глагольных форм, то t может служить показателем каузатива и рефлексива, а s – показателем дезидератива.
Однако обе формы – на t и на s – описываются В. М. Илличем-Свитычем как варьирующиеся показатели формы 2-го лица единственного числа. Точно так же формант на t может, по Илличу-Свитычу, обозначать и ’тот’, и ’этот’. Наконец, t/s – показатели косвенных падежей имени. Тот показатель на s-, который, по Илличу-Свитычу, не смешивается с консонантной опорой на t-, имеет значение дейксиса 3-го лица, значение притяжательности, для глагола – значение рефлексива.
Напоминаем еще раз, что нас интересует не судьба элементов *s и *t в эволюции индоевропейского пространства, а те концепции, которые определяли механизм их дистрибуции, при том что эта пара считалась именно парой, что смутно ощущали все, кто с ними соприкасался. Можно в принципе, например, описать функциональные расхождения формантов e/o и n или k/g и l, но почему-то этим специально никто не занимался; подобные объединения интереса не привлекали.
Самым простым для лингвистов было объединение этих элементов через запятую – так, как объединяют, упрощая, уже и уж, хотя и хоть и т. д. Так, например, поступает Ф. Адрадос [Adrados 2000].
Обратимся к разным концепциям, анализирующим функциональную комплементарность членов этой пары[104].
• Самая распространенная точка зрения. Формант на s отмечает именительный падеж; косвенные падежи формируются через t. Так, К. Бругманн и Б. Дельбрюк [Brugmann 1892; Delbrück 1893; Brugmann 1897], называя «корнями» (Stämme) те элементы, которые мы называем партикулами, пишут, что для именительного падежа единственного числа мужского рода выбирается корень *so-, *sā, а для всех остальных падежей выбирается второй корень *to-, *t[105].
К этой точке зрения присоединяется и Ф. Шпехт [Specht 1947]. Хотя он приводит много примеров изолированного функционирования S-Stämme (например, формирование абстрактных прилагательных, создание Nomina acti и Nomina actionis etc.), само создание индоевропейской парадигмы он видит с того, что через окончание -s возникает именительный падеж: «Die Herkunft der idg. Kasusendunge. Die Einführung der Endung s für den Nom.Sing. Dieses s ist aber nichts anderes als seine deiktische Partikel, die zum Demonstrativum geworden ist. Das -s neutral sehr früh zum Stamm gezogen ist.» [«Возникновение индоевропейских падежных окончаний. Введение окончания s для именительного единственного. Это s есть ничто иное, как соотносящаяся с ним дейктическая частица, которая стала демонстративом. S в среднем роде очень рано вошло в основу»] [Specht 1947: 353—354].
П. Схрайвер [Schrijver 1997] считает также оба элемента членами единой парадигмы, сохранившейся в большинстве индоевропейских языков, где все формы, кроме номинатива, начинаются с консонанта *t. Но только элемент *so воплощается в синонимах: а именно – форму sa после непалатальных звуков и форму se после палатальных. • Некоторые концепции близки к вышеперечисленным, особенно если попытаться сделать некоторые обобщения. Так, К. Уоткинс, полагая -s рефлексом более древнего деривационного суффикса, обладавшего функцией индивидуализации, или выделения, считает, что именно *s вскоре стал показателем 3-го лица глагола. По его мнению, это просто «фонетический расширитель, не имевший значения». Во многих и. – е. языках он используется во втором лице, а в тохарском – как показатель третьего лица [Watkins 1962].
• К. Шилдз [Шилдз 1988] считает, что *so употреблялось при передаче эргативности, а *to(d) – когда необходимо было указание на Casus Absolutus. (Эта идея высказывалась и ранее при обсуждении сущности эргативной конструкции. См.: [Эргативная… 1950].) Сложную судьбу s он интерпретирует следующим образом: *s был интерпретирован как неличный показатель в системе первичных глагольных форм, затем он был распространен на имя и превратился в показатель номинатива. В более поздний период показателем 3-го лица единственного числа стал формант *t и, таким образом, функции *s были ограничены вторым лицом [Шилдз 1988: 241—245].
• Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 356], описывая местоименные элементы субъектно-объектного характера (то есть элементы второго позиционного места), для 3-го лица единственного числа именительный падеж представляют через *-os, а именительный-винительный среднего рода через *-ot[h].
Что можно сказать об этом, если так можно выразиться, первом, концептуальном цикле? Все эти гипотетические построения демонстрируют по сути одно: зыбкость и слабую грамматикали-зованность первичных падежных и глагольных словоформ, когда одна и та же партикула могла в принципе переходить от одного формирующегося класса к другому и от одного члена парадигмы к другому члену той же парадигмы[106].
Совершенно ясно, что древними коммуникантами выделяется некий «Он» (напомним, что и в русском языке у местоимения 3-го лица именительный падеж выражен иначе, чем падежи косвенные: он – его – ему и т. д.; они – их – им и т. д.). «Он» находится где-то близко и маркируется через *s. Но это могут быть и «Они», поэтому *s может появиться и во множественном числе (и в некоторых языках там и остается). Остальные актанты или находятся дальше, или являются предметом беседы, занимая неосновное место. К ним добавляется *t. Начинается новый этап грамматикализации, и более распространенное *s являет себя каким-то хамелеоном, внедряясь то в разные формы презенса, то в медий, то в претерит, то в оба залога. Очевидно, что в реальных языках эпоха грамматикализации и становление парадигм происходили в разное время, однако пара s/t все равно не меняла своей значимости.
По мысли К. Шилдза [Shields 1992], по мере создания глагольной парадигмы происходил активный процесс контаминации дейктиков, в результате чего появились такие комбинации, как -st (2-е лицо) и т. д. В этой же книге он высказывает мысль о том, что само это легендарное *so есть результат контаминации *(e/o)s + *o. Ранее сходную мысль высказывал в 1927 году Х. Хирт [Hirt 1927: 11—12].
• Существуют и другие точки зрения. Так, например, Э. Стертевант предположил в 1939 году, что эта пара восходит к «индо-хеттским» конгломератам союзов. При этом союз *so употреблялся в предложениях без замены субъекта, а *to – в предложениях с заменой субъекта. Впоследствии союз *so был реинтерпретирован как местоимение в именительном падеже. Вообще, по мысли Э. Стертеванта, эти «индо-хетт-ские» конгломераты приобретали значение местоимений позже, а в более древнем хеттском они сохраняли свое первичное значение. Эта гипотеза была отвергнута Х. Педерсеном на том основании, что указательные местоимения являются древнейшими элементами языка, а хеттские союзы возникают позднее. Эту гипотезу отвергает и Т. В. Гамкрелидзе, показывая на фактах хеттского синтаксиса, что замена или «не-замена» субъекта не соотносится с типом союза [Гамкрелидзе 1957]. Однако все приводимые ранее факты, возможно, нуждаются в пересмотре с точки зрения тема-рематического членения и выявления анафорических связей.
Нельзя здесь удержаться, чтобы не отметить тот огромный путь, который проделало языкознание за последние 70—80 лет, когда оно почти готово оторваться от прескрипций «нормальной науки», по Т. Куну, и признать и первообразные элементы, и их диффузность, и отсутствие парадигм ab ovo, и то, что грамматический строй языка строится подобно дому: не по отработанным частям последовательно, а сразу, но не все части бывают готовы тоже сразу.
• Еще одна гипотеза предложена Г. Дункелем (Дункель 1992). По его мнению, существовало личное местоимение 3-го лица единственного числа на *s: форма *si передавала женский род, а форма *só – неженский. При этом ортотонические формы, т. е. ударные, были связаны с консонантной опорой на *t, а формы энклитические – с консонантной опорой на *s.
• Напротив, О. Семереньи [Семереньи 1980: 232] считает маркированной форму второго лица единственного числа, передающуюся через опорный консонант *t, а *s считает показателем «не-единственности». Поэтому исходная форма второго лица множественного числа в идеальном (агглютинированном?) виде демонстрирует три формы: второе лицо + первое лицо + множественность. Это *t + *we + *s. (При этом исследователь отказывается от предлагаемой ему соблазнительной интерпретации финали nsme > n + s + me, то есть как ’того + его + меня’, что, собственно, и значит ’нас’.) Вспомним, как разлагал форму άνέρες Ф. Шпехт: «Plurals άνέρες urspünglich geheissen“ein Mann, hier einer und dort einer”. Demnach bedeutet der Plural zunächst eine Dreiheit» [Specht 1947: 366] [«Форма множественного числа άνέρες первоначально означала: человек, и здесь еще один, и там еще один. Таким образом, множественное число первоначально обозначало тройственность»].
• Относительно происхождения этой пары тот же К. Шилдз [Shields 1992: 30] полагает, что исходная форма для обеих партикул (basic variant) была здесь *(e/o)DH, а остальные были ее производными. Однако и *t развивался самостоятельно и легко контаминировался с другими частицами[107].
Изначальное значение этой партикулы с звонким исходом *-dh было ’not – here – now’. Отсюда: *me-dhi (’in the midst of) и предлог μέτα, то есть ’then and there’.
Это же значение К. Шилдз видит в сочетании вокалической партикулы с сигматическим формантом *(e/o)s. Сигматический показатель формирует аорист, будущее время, субъюнктив, дезитератив, претерит, отчасти презенс и участвует в показателе 2-го и 3-го лиц. Каким же образом это *-s могло появиться в настоящем времени? Шилдз считает это результатом сложного ре-анализа и комбинации с *-t, который являлся показателем презенса. • В последнее время к функциональной дистрибуции формантов *s и *t вернулась в связи с галльским и ирландским претеритом Н. О’Шей [О’Шей 2005]. Она видит в их дистрибуции фонетическую причину: – s претерит связывается с исходом на ларингальный, а -t претерит связан с исходом на сонорный.
Итак, можно, с достаточной долей неуверенности высказать и собственное мнение. А именно – безусловно пара s/t занимала первое место среди элементов, формирующих индоевропейские парадигмы. Из них двоих, конечно, первое место занимало s. (Обо всех его грамматических следах мы сознательно не говорили.) Скорее всего, s выражает определенность, при этом демонстрируя указание на «ближнесть». Можно привести доказательства самые простые, опираясь на то, что в первой главе мы назвали «скрытой памятью» языка. Известно, что множественное число в большей степени тяготеет к неопределенности, чем единственное. Поэтому многие языки, вроде английского и французского, закрепляют определенность через s, формируя множественность. Но это уже поздняя грамматикализация. Точно так же ’s в английском родительном (special clitics, по А. Звики) закрепляет определенность, постепенно превращаясь в факт грамматики.
Но все же – почему именно эта пара? А вот в этом случае, как нам кажется, поможет фонетический эксперимент, который никогда никто не проводил – так же, как никто не проводил реальный эксперимент с клитиками / не-клитиками, хотя все единодушно утверждали, что не-клитики ударны и что клитики, в отличие от «ударных» не-клитик, образуют одно фонологическое слово с «хозяином».
4
Итак, что можно сказать об этой паре согласных с фонетической точки зрения? Оба звука – консонанты, оба глухие. Оба – переднеязычные. Но они различаются по способу образования. Звуки группы S – фрикативные (щелевые), звуки группы T – смычные, см. таблицу Международной фонетической ассоциации:
Из нее видно, что различаются они по сути только одним признаком – уже упомянутым способом образования.
Но почему такое предпочтение было именно для этой пары глухих? Обратимся к самому популярному учебнику – Л. Р. Зиндер «Общая фонетика» [Зиндер 1979]. На с. 124 читаем довольно простое и убедительное объяснение «силы» глухих: «В пределах одного языка звонкие обычно слабее глухих. Это, очевидно, связано с тем, что присутствие голоса делает согласный слышимым, даже при слабой артикуляции. Чтобы достичь такой же слышимости глухого согласного, его нужно произносить сильнее. Слышимость же играет в речи далеко не последнюю роль; она так же важна для понимания сказанного, как и другие фонетические факторы».
Итак, глухие консонанты – сильные. Но ведь существуют и другие глухие пары. Для определения силы согласных s/t в Лаборатории фонетики ИРЯ РАН был проделан эксперимент. Записывались логотомы: ТÁСА – ТАСÁ; ТÁТА – ТАТÁ; ТÁКА – ТАКÁ; ТÁПА – ТАП. «Сила» пары глухих S/T очевидна. Тогда естественно, что в древности стремились употреблять «сильнозвучащие» звуки (см. рис. 13—20).
Для дальнейших разысканий дистрибуции этой пары в парадигматических рамках, как кажется, необходимо было бы определить их сущность с позиций Л. В. Щербы, выделившего три типа согласных: «сильноначальные», «сильноконечные» и «двувершинные».
Рис. 13. ТÁСА
Рис. 14. ТАСÁ
Рис. 15. ТÁТА
Рис. 16. ТАТÁ
Рис. 17. ТÁКА
Рис. 18. ТАКÁ
Рис. 19. ТÁПА
Рис. 20. ТАПÁ
Глава третья Партикулы славянского пространства
§ 1. Некоторые вводные соображения
1
О типологии славянского коммуникативного фонда довольно много говорилось в моей книге 1985 года, посвященной «Функциям частиц в высказывании» [Николаева 1985/2004]. Однако и материал, и задачи этих двух монографий – написанной двадцать лет тому назад и настоящей – по сути глубоко различны, хотя использовались во многих случаях одни и те же словари, одна и та же литература, да и совокупность данных во многом совпадает.
В книге 1985 года, во-первых, исследовались частицы, а в настоящей книге – партикулы, что не всегда идентично. Напомним разницу: частицами являются и производные знаменательных слов, например ведь, пусть, нехай и под. частицы, заимствованные из неславянских языков, и сами партикулы, например же, и, а. Во-вторых, в книге 1985 года в центре исследовательского внимания находилась семантика частиц и формальные способы ее выражения в высказывании. Центром внимания настоящей книги, напротив, является формальная структура славянского фонда партикул, хотя без апелляции к семантике создать такое описание невозможно. А потому некоторые соображения о плане содержания представлены все-таки будут.
Но часть общих выводов книги 1985 года в принципе, в краткой форме, можно воспроизвести и сейчас.
А именно. В этой книге приводится количественный подсчет (частиц!)[108], при котором из 2955 лексем выявилось только 66 лексем, которые представлены в единообразном облике (разумеется, с соответствующим графическим и фонетическим пересчетом) во всех славянских языках. Остальные 2889 единиц распределяются по славянским языкам в различной количественной пропорции.
Так, на первом месте оказался русский язык (включаются и диалектные данные, и факты древнерусского языка) – 344 лексемы, затем сербо-хорватский (как он именовался в то время) – 308, чешский – 303, польский – 293, болгарский – 261, словацкий – 255, украинский – 244, словенский – 227, старославянский – 218, белорусский – 207, македонский – 195.
Но это лишь словарные данные. Однако в речи носителей одного языка может встречаться гораздо больше частиц, чем в речи носителей другого (при том что словарные данные могут свидетельствовать об обратном). Более того, диалектные данные могут фиксировать (и так бывает) большую частотность частиц, чем в литературном языке. То же нужно сказать и о соотношении числа частиц в старых текстах и в языке более позднем (древние тексты обычно бывают в большей степени «частицеобильными»).
Наконец, возможна и такая ситуация, когда одна какая-либо частица оказывается частотной и в употреблении (то есть в текстах), и в системе языка (когда она служит исходной базой для производства новых частиц). Такова, например, частица же в старославянском языке [Добрев 1962].
В книге 1985 года говорится также о трудностях идентификации партикул (частиц), возникающих из-за разнообразия графического их оформления. Например, в моравском диалекте видим: Atož sem tam šel ‘и я там шел’. Здесь atož – цельнооформленная частица; см. русское: Приходи, а то будет же тебе от отца! В этом русском примере та же самая частица графически не объединена, к тому же ее компоненты существуют дистанцированно.
Последнее обращает наше внимание к непростой проблеме идентификации частицы (комплекса партикул) в соответствии с линейной их протяженностью и компактностью / дистанцированностью. То есть имеем ли мы дело в этом приведенном выше примере с атоже, с а+ (то же) или с (ато) +же?
Существенным был также поставленный в этой книге вопрос о том, можем ли мы говорить о некотором глобальном для всего славянского континуума значении единичной партикулы-части-цы, как примарной, так и комплексной. Поясню свою мысль. Очевидно, что союз а в русском, старославянском, украинском, белорусском, польском, болгарском и сербском языках имеет в основном сопоставительное значение, а в чешском, словацком и лужицком – сочинительное (žena a škola). Но если сравнить данные наиболее распространенных в славянском пространстве частиц, то получится, что общий набор семантических компонентов у них совпадает, если учитывать совокупность фактов диалектных и текстов старшего периода. В книге 1985 года [Николаева 1985: 143—144] демонстрируется такое совпадение смыслов для частиц i, a, no, da, tak – по всем славянским языкам.
Показано, что каждая из этих частиц передает следующие основные значения: 1) соединения – ’ и’; 2) противопоставления – ’но’; 3) подтверждения – ’да’; 4) указания на способ действия – ’так’. Однако это совпадение может иметь место на разных языковых (речевых) пластах: литературный вариант одного языка совпадает с диалектом другого, современный с архаикой и т. д.
Естественно также, что совпадений на более ранних этапах существования у славянских языков в партикулярном фонде больше. Поэтому, например, древнерусский ближе к старославянскому (не только по составу, но и по «частицеобильности»), чем современный русский. Наконец, нельзя обходить вниманием и тот факт, что в одном языке частицы сохраняются только во фразеологизмах, а в других те же по происхождению партикулы употребляются свободно. Например, частица еі в словацком, в чешском, в болгарском означает некое аффективное подтверждение: Ej, ma zima svoje krásy (словацкий); Обедал ли си? Ей, обедал (болгарский); ср. также известные примеры из старославянского:
Разумєштє ли вси? Глаголашє єму: єй, господи; Бжди жє слово вашє єй єй и ни ни; Єй отьчє, тако Быстъ благоволєниє прѣдъ тобод и т. д. В русском же языке это ей ’да’ встречается в несколько устаревших по языку фразеологизмах – Ей Богу, правда или Ей-ей, выпьем, ей Богу, еще (русский текст «Шотландской песни» Бетховена).
Наконец, в книге 1985 года много говорится о том, о чем в настоящей главе не будет сообщаться совсем, – о частицах, заимствованных в славянские языки из неславянских языков и связанных с этим проблемах. Приведем некоторые примеры таких заимствований. Это – ама (из турецкого ama ’но’) в словенском, сербском, македонском и болгарском. Это – комаj (из турецкого komak’I ’может быть’) в сербском, македонском и болгарском; в тех же языках: тамам (из турецкого tamam ’точно’); тек (из турецкого tek ’единственно’), баре (из румынского barem ’по меньшей мере’), чак (из венгерского csak ’только теперь’ ), макар (из греческого μákαρι ’если бы’ и т. д. Много турецких и новогреческих заимствованных частиц представлено в македонско-болгарской паре языков. Нерешенным в этой связи остался вопрос, почему заимствовали столько частиц славянские языки Балкан, но не было в славянском чешском языке так много заимствований из «частицеобильного» немецкого, хотя контакты были достаточно длительными. Но в настоящей книге, как уже говорилось, заимствованные из неславянских языков лексемы рассматриваться не будут.
2
Наиболее важным результатом исследования славянских частиц, проведенном в работе 1985 года [Николаева 1985], можно считать опыт количественной типологии этих частиц в их дистрибуции по 11 славянским языкам[109]. Всего было представлено 9 иерархических серий, каждая из которых будет здесь кратко охарактеризована.
1. Первый подсчет выявляет общее количество подобных лексем в каждом славянском языке. Он демонстрирует шкалу количественных показателей «частицеобильности». При этом языком с максимальным числом оказался русский (вслед за ним сербский и чешский), а языком с минимальным числом таких лексем – македонский (с близким к нему болгарским).
2. Второй подсчет показывает число партикульных лексем, представленных только в одном из славянских языков. Он демонстрирует особенность пути этого данного языка в пределах общеславянской семьи. Полученные данные (в лексемах):
Словенский – 88; Русский и Сербский – 67; Чешский – 54; Украинский – 37; Словацкий – 25, Польский – 24; Старославянский – 19; Болгарский – 17; Македонский – 5. Таким образом, наибольшее число индивидуальных, то есть присущих только этому языку, партикульных лексем принадлежит словенскому языку, оказывающемуся в этом отношении на общеславянской периферии.
3. Однако эти цифры абсолютны и не показывают для каждого языка, какова его доля в общеславянском пространстве. Подсчитывалось отношение числа индивидуальных лексем к общему числу партикульных лексем в этом языке (в %). Приведем эти процентные показатели:
Словенский – 39 %; Словацкий – 26 %; Польский – 23 %; Сербский – 22 %; Русский – 19 %; Чешский – 18 %; Болгарский – 14 %; Старославянский – 9 %; Белорусский – 8 %; Македонский – 2,5 %.
И здесь крайними членами цепи количественной типологии остаются словенский и македонский; сербский и русский остаются так же близки, как и при предыдущем показателе; более соответствующим общеязыковой реальности современной славянской семьи оказалось сближение словенского, словацкого и польского языков.
Сумма индивидуальных лексем – 441. Таким образом, общеславянскими в целом являются 2514 лексем. Вычитая из них присущие всем 66, мы получаем 2448 лексем. Этот набор – 86 % общего количества – в разных комбинациях распределяется в пределах славянского континуума.
Каково же происхождение и состав этого индивидуального фонда? В его состав, как представляется, могут входить четыре гетерогенных компонента:
• это общеславянские лексемы, по каким-либо причинам не сохранившиеся в остальных славянских языках;
• это возникшее из старых партикул новое сочетание (напоминаем, что в книге 1985 года исследовались частицы, а не только партикулы);
• это знаменательное слово (форма знаменательного слова), которое стало функционировать как частица;
• это частицы, заимствованные из неславянского фонда.
4. Четвертым количественным показателем было изучение того, сколько частиц является формами, построенными из партикул того же языка. Полярными лидерами здесь оказались старославянский, максимально «конструкторный», и словенский, «конструкторный» минимально.
5. Пятый подсчет выявлял процентное отношение лексем указанного типа к общему числу индивидуальных лексем в тех же языках.
6. Шестой подсчет демонстрировал число частиц, образованных от форм знаменательных слов. Например, это русские просто, прямо, пускай, словацкое nače и т. д. Выяснилось, что наибольшее число таких частиц – в восточнославянских языках, много – в западнославянских языках и минимально – в южнославянских.
7. Седьмой критерий показал, насколько индивидуализированы славянские языки по критерию 6. А именно: общее число частиц, образованных от знаменательных слов, может быть достаточно высоким, но все эти лексемы совпадают с аналогичными лексемами других славянских языков. Оказалось, что наиболее индивидуализирован по этому критерию словацкий язык, а минимально – болгарский (5 %) и македонский, который вообще не имеет индивидуальных лексем подобного рода[110].
8. Восьмой подсчет относился к той сфере образования славянских частиц, которая в настоящей книге не рассматривается. А именно: он демонстрировал, какой процент из общего числа частиц в каждом языке занимают неславянские заимствования. И этот критерий оказался очень наглядным. Наибольшую степень неславянских заимствований продемонстрировали южнославянские языки (сербский, македонский, болгарский), наименьшую – белорусский и русский языки.
9. Девятый критерий показывал индивидуальность подобных заимствований, то есть сколько заимствованных лексем представлено только в одном славянском языке. Поэтому сюда не включались, например, ми (из греческого μή) ’не’), поскольку это слово встречается и в македонском, и в болгарском языках. То же относится к ма, оти (так же греческого происхождения: μήγ, ότι) в тех же языках.
Здесь по этому критерию первое место занял словенский язык.
По поводу всех этих критериев можно в заключение сделать три общих замечания.
Во-первых, совокупностью максимально близких к другим языкам показателей выделяется сербский язык. А именно: в нем представлено почти максимальное число лексем, относящихся к общему партикульному фонду (после русского), в нем же много индивидуальных лексем (после словенского), много частиц, происшедших из знаменательных слов, и в то же время много заимствованных лексем. То есть сербский язык оказывается близким ко всем языкам, языком, сохранившим общие модели и впитавшим инновации.
Во-вторых, это обстоятельство, на которое нужно обратить внимание, – практическое отсутствие заимствованных партикульных лексем в русском языке. Напротив, как пишет К. Е. Майтинская [Майтинская 1982], именно русский язык является в свою очередь основным источником заимствований частиц для соседних финно-угорских языков.
В-третьих, нельзя не отметить особого положения словенского языка, максимально индивидуализированного – как количественно, так и типологически. Только словенскому принадлежат:
• Частицы ampak ’но’; anti ’ведь’; lendi ’вот там’; seveda ’конечно’; toda ’но’ и др.
• Диалектному словенскому – anikoj ’чем’; boli ’или’ и под.
• Частицы из знаменательных слов – onkraj ’там, в другом месте’; baje ’мол’; pravkar ’только что’; kakovred ’когда’; sadle ’внизу’; tovno ’недавно’; venomer ’постоянно’ и т. д.
• Заимствованные частицы немецкого происхождения dalih ’хотя’ (из gleich), denok (из dennoch), javalne (из ja wohl nicht), lih (из gleich), mahr (из menr) и т. д.
• Заимствованные частицы – итальянизмы: o(b)kevre, o(b)tevre < ura; балканизмы: mar – (греч. μákαρ), ama (турецкое ’но’), komaj (румынское acum), bas (турецкое ’глава’) и др.
§ 2. Примарные партикулы славянского пространства
1
Материалы данной главы во многом основаны на следующих источниках: Etimologický slovnik slavanskýh jazyků. Slova gramatická a zájmena. Praha, 1980, далее – Etim. slov. 1980; Этимологический словарь славянских языков, т. 1—32, далее – ЭССЯ. См. также данные словаря Ю. Покорного [Pokorny 1939].
Хотя в разных разделах этой книги неоднократно говорилось о том, что партикулы могут выступать и функционировать как самостоятельные единицы языковой системы каждого языка, могут быть также составной частью комплекса партикул, а также «прилипать» к знаменательным «словам» на том или ином этапе их парадигматического развития, необходимо в настоящем параграфе еще раз повторить те условия, которым, по нашему мнению, должны удовлетворять автономные партикулы, называемые нами примарными.
1. Они должны – хотя бы в одном из славянских языков (либо в его литературной форме, либо в диалектной, либо на раннем этапе его развития) – выступать самостоятельно, то есть являться единицей языка. Например, таковы союзы, частицы (входящие в языковой класс частиц, а не
только частицы как партикулы), артикли, междометия. При этом совершенно необязательно, чтобы они являлись таковыми во всех славянских языках. 2. Они должны быть в то же время частью более сложного языкового комплекса, будь то слово коммуникативного фонда или словоформа знаменательного слова + примарная частица. Например, примарной является славянская частица же (с фонетическим по-языковым пересчетом), которая может выступать автономно: Я же Вам это не раз говорила!, Когда же Вы придете?, и входит в более сложные комплексы, вроде да + же, у + же, и + же, не + у + же + ли и т. д. Другой пример – общеславянская партикула tu. Она может быть расширена различными консонантными элементами:
k-овым – tu-ka, tu-kaj;
d-овым – tud, tude;
t-овым – tutъ, tut’;
j-овым – tuj;
n-овым – tunъ
и т. д.
Более подробно функции примарных партикул как таковых рассмотрены нами в предыдущей главе (партикулы как союзы и коннекторы, партикулы как детерминативы и т. д.). В настоящей же главе не будет анализироваться подробно семантика таких партикул (об одних только союзах а, и, но существует огромная литература), но задачей исследования будет выявление общего числа таких примарных партикул и их дистрибуция в общеславянском пространстве, поскольку выведенные нами примарные партикулы, действительно являющиеся таковыми в языках, отдаленных от русского, могут вызвать некоторые сомнения у русскоязычного читателя, которые мы постараемся развеять.
Естественно, что при выявлении примарных частиц прежде всего встает вопрос об их верификационной идентификации.
• Считать ли идентичными партикулы, консонантная опора которых различается по глухости / звонкости? Составители Этимологического словаря [Etim. slov. 1980] считают именно так. Например, ta фиксируется как элемент, имеющий звонкий вариант da. Также по поводу партикулы te (сербский, реже в староболгарском) говорится, что она входит в ряды ta, ti, tu[111], имеющие звонкие варианты da, do, de, dy.
• Считать ли идентичными партикулы, совпадающие по консонантной компоненте, но различающиеся по вокальному исходу? Например, da, dy, de, dě? ba, bo? и т. д.
Особенно это важно для различения / отождествления форм с e и ѣ, например пе и пѣ, а также форм с вокалом или редуцированным. То есть, различать ли, например no и nъ?
Во всех этих случаях мы принимаем решение, ведущее к мультипликации числа исходных славянских партикул.
Почему? Потому что это раздвоение становится сразу же функционально действующим, как только мы перейдем к партикулам бинарной структуры, когда значимой становится комбинация только с одним из идентифицированных вариантов, т. е. возможно tu – da, а не tu – ta. В конце раздела будет дан минимизированный список примарных партикул, верифицированных по всем трем вопросам-пунктам.
Итак, всего нами было выявлено / идентифицировано 42 примарные славянские частицы. Эти партикулы будут далее перечислены и кратко охарактеризованы.
В начале перечисляются общеславянские партикулы. Затем – в алфавитном порядке – партикулы, также примарные, но встречающиеся либо в нескольких славянских языках, пусть даже в одном из них, либо в диалектах этих языков, либо в древних текстах на этих языках. Разумеется, многие наши решения могут показаться спорными. Например, не приводя достаточно большой литературы, могу сказать, что много споров возникло вокруг только одной частицы дакъ: является ли она «цельной» или составной – да + къ и как она соотносится с так (об этом мы уже писали в предыдущих главах).
По поводу общеславянских партикул авторы этимологических словарей в начале словарной статьи обычно объявляют, что данная партикула проходит (прошла) три следующих этапа: междометие > частица > союз. Однако реальные факты славянского континуума показывают, что принять точно такое однозначно простое решение во всех случаях нельзя, а именно: в одном языке (в литературной форме) это междометие, например русское ну. В диалектах же того же русского языка – это союз ’ но’ (наблюдение Р. Ф. Касаткиной)[112]. Русское но – союз, но в польском и словенском это междометие и т. д. Поэтому мы представляем партикулы, в первую очередь обращаясь к плану выражения.
Вторая проблема представления партикулы в качестве «примарной» касается «этимологии» партикул. Как уже говорилось в предыдущих главах, мы стоим на твердой позиции: этимологии, то есть возведения к неким знаменательным словам (корням, основам) или к их «застывшим» формам, они не имеют! (Мне приятно здесь сказать, что я успела выслушать полное одобрение этой идеи от В. Н. Топорова.) Ясно чувствуется, что это подозревают и авторы этимологических словарей: в одних случаях такая «этимология» все же предлагается (обычно протоформой считаются местоимения), в других же – находится простой, но «научный» выход: употребляется неясный по сути термин «соотносится» и приводятся действительно родственные и тождественные параллели из других языков – древнегреческого, латинского, санскрита, более поздних и т. д. Но этот родственный параллелизм, строго говоря, «этимологией» не является.
Итак, всего нами было выявлено (по разным источникам) 718 славянских лексем, восходящих к партикульному фонду и имеющих соответственную опирающуюся на него структуру. Нужно сказать заранее, что в него не были нами включены личные местоимения 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа, но, разумеется, включены местоимения 3-го лица обоих чисел. Это было сделано потому, что формы личных местоимений 1-го и 2-го лица не удовлетворяют второму нашему условию, обязательному для примарных частиц: от них не образуются деривативные цепочки[113]. Кстати, то, что местоимения 3-го лица вошли в парадигму позднее и являлись исходно демонстративами, дейктиками, было известно еще в ХІХ веке, и наши критерии это подтверждают.
Из этих 718 лексем примарными, по нашему критерию, оказались 42 единицы.
Но, естественно, не все они являются общеславянскими. Таких оказалось всего 15. Поэтому перечень начнется именно с общеславянских примарных единиц.
1. Первой общеславянской партикулой является а. В работах, цитировавшихся нами ранее в предыдущих главах, указывалось, что в ранних индоевропейских языках такое а могло быть чередующимся альтернантом е/о, т. е. входить в ряд индоевропейского аблаута.
Данные [Etim. slov. 1980]:
это а (в древнерусском и чешских диалектах может выражаться через прикрытие h/х) может быть междометием: Дедушка, а, дедушка, иди обедать!;
• чем-то переходным между междометием и частицей: Вы ведь вернетесь, а?;
• адъюнктивной частицей: А Святославъ мутєнъ сонъ видѣлъ;
• сочинительным союзом в пределах словосочетания: žena a škola;
• сочинительным / сопоставительным союзом в сложносочиненном предложении: ты иди направо, а я пойду налево;
• союзом со значением условия: а бы сьдє былъ, то нє бы умрълъ братръ.
Все оттенки значений этой партикулы приводить здесь не имеет смысла, так как ей одной можно посвятить огромную монографию, для нас же важно прежде всего зафиксировать, во-первых, ее общеславянскость; во-вторых, важно было понять,что она имеет очень большое число деривативных цепочек; в-третьих, что в пределах славянского континуума она имеет, употребляясь изолированно, практически все значения коммуникативного фонда, кроме собственно местоименных. И к местоимениям, если считать е ее вариантом, она присоединяется в препозиции[114].
Данные [ЭССЯ 1974: 33][115]:
*a характеризуется как союз, в эпических песнях часто «лишенный конкретного значения». По всей славянской территории представлены функции противительные и присоединительные. «Союз *a обычно объясняют, аналогично некоторым другим союзам (например *i), из падежной основы и. – е. *e/o, причем реконструируется праслав. *a < *ēd/*ōd, абл. ед. ч.». Интересно приводимое здесь мнение Маретича о том, что исходной формой а является ja > a. Оно восходит к местоименной основе io-. Не совсем понятна фраза авторов этой статьи: «Серьезного внимания заслуживает теория об участии в образовании данного союза эмфатических частиц или междометий». На самом деле, за этой малопонятной фразой стоит все та же боязнь признать первоэлементность этой формы, вначале выступающей как междометие. Данные Словаря Ю. Покорного: А – это выражение чувства, часто при виде неожиданного. Любопытно читать сейчас такое описание семантики языковой единицы, при котором описываются сходные чувства по языкам: например, греческое ά – «Ausruf des Erstaunens, Schmerzes, Unwillens», латинское ā, āh – «Ausruf des Schmerzes, Unwillens» и т. д. Заметка очень мала по объему.
2. Вторая общеславянская партикула – čь (варианты šь, c).
Функции ее многообразны.
Однако в «чистом» виде она встречается не во всех славянских языках: наиболее часто ее сопровождает партикула to, тогда она становится вопросительным местоимением (вариант – šьto). Вторым сопровождающим ее партикульным элементом как правило служат -so или -go.
Однако вопрос о функционировании этой партикулы не так прост. (См. специальную статью К. Шилдза о славянском -go, правда, рассмотренном как одно из окончаний «определенного» славянского прилагательного [Shields 1997].) Дело в том, что и -so, и -go являются сами по себе партикулами и потому в «нелитературной» форме такого квазигенитива может проступать в «скрытой памяти» столь же полноправная по отношению к номинативу исходная форма. Поэтому трудно сказать, – поскольку русские люди, даже вполне образованные, все-таки говорят Чего? вместо Что?, – что здесь происходит: они путают генитив с номинативом? или здесь проступает «скрытая память» возможного первообразного номинатива?
3. Следующая общеславянская партикула – da[116].
Именно в связи с ней поломано достаточно много копий.
Данные [Etim. slov. 1980]: Проблема в данном случае проста: либо это исконная примарная партикула, тогда нужно признать исконными и другие партикулы с звонкой консонантной опорой, имеющие глухой вариант[117], либо это звонкий вариант некоей общей партикулы с консонантной опорой t/d. Однако значения и функционирование этих двух частиц и, главное, цепочки их дериватов сильно в славянской языковой истории расходятся. Поэтому вероятно предположить, как и считают составители Этимологических словарей, что эта бифуркация вариантов (глухой консонантной опоры и звонкой) произошла очень давно.
Интересные данные предоставляет в этом плане украинский язык, в котором сочинительное славянское да (русск. Иван да Марья) заменилось на та. Важным свидетельством являются факты, приведенные С. М. Толстой [Толстая 1984—85]. Описывая употребление союза и частицы да в полесских говорах украинско-белорусского пограничья, она говорит о двух вариантах этой партикулы: да и до, последнее в свою очередь функционирует как звонкий вариант то. Очень существенны поэтому следующие наблюдения С. М. Толстой: «В ряде полесских говоров наряду с формой да в тех же функциях и аналогичных контекстах (нередко в пределах одного и того же текста ) выступает форма до. Ни условия появления варианта до, ни точная география этого явления пока не ясны. В одном из своих значений (следственном) в составе союза як – до и аналогичных конструкций до может пониматься как звонкий коррелят следственного то, (…) причем развитию то > до в данном ареале (говоры украинского Полесья) могло способствовать, с одной стороны, наличие следственного союза да на той же и соседних территориях; во-вторых, оппозиция ограничительного та – да, характерная для всего украинского ареала (да в этом значении ограничено полесскими говорами)» [Толстая 1984—1985: 783]. К этим фактам С. М. Толстая привлекает сходные варианты Мариинского и Зографского Евангелий, где вместо да + и встречается до + и. Таким образом, исходя из наблюдений С. М. Толстой, можно вывести следующую триаду: да > до < то.
Как и все общеславянские частицы, партикула да функционирует в прошлом и настоящем как междометие, частица, союз и «модальное» наречие.
Поскольку наша работа не является в строгом смысле семантической, то здесь мы приведем только небольшое число иллюстративного материала ее функционирования.
• Частица сентенциальная. Русский: Иван, да это нам Господь дитя дает!
• Частица побудительная. Русский: Да замолчите же! сербский: Да мо] ветре, не ломи ме!
• Побудительное значение. Старославянский: Они да придутъ, ко мнѣ; да свѣтитъ сѧ имѧ твоѣ.
• Утвердительная частица (обычно во всех трудах таксономически описываемая различно). Болгарский: Согласен ли си?
Да. Сербский: Зе ли то тако? Да, тако je. Русский: Ты сказал ему про это? Да, сказал[118].
• Вопросительно-утвердительная частица. Болгарский: Да не си болен?
• Эта партикула выражает также значения цели, декларативности, выступает как союз с оптативным значением. Словенский: Bojim se, da ne boš več vstal.
• Каузативности. Словенский: Zakaj ne prišel? Da nisem mogel.
• Следственное; уступительное, примыкания. Русский: Он во-лок его к машине, да на лестнице как загремело что-то. Старославянский. Чьто хощєтє ми дати, рєчє, да азъ вамъ прѣдамъ го. И многие более тонкие значения, охватывающие почти всю гамму синтаксической семантики. Этимологические разработки да столь же концептуально обширны, как и сама функциональная семантика этой партикулы.
С одной стороны, предполагается, что это «окаменевшая» форма индоевропейского императива от *dō? То есть ’дай’. С другой стороны, как уже говорилось, эта партикула возводится к индоевропейским и не только индоевропейским (есть даже мнение – Й. Фридриха – о наличии такой сходной по значению партикулы в африканских языках) глубинным расхождениям когда-то единой формы t/d. То есть это с несомненностью принимаемая примарная партикула – из тех, которые в приводимых нами выше разнообразных исследованиях с правильной осторожностью называются t/d-овым элементом (именно так называет ее Ф. Шпехт, положения которого анализировались во второй главе).
Сложным в этом плане оказывается решение о принятии «звонкого» и «глухого» рядов этого элемента t/d, а также об объединении партикул, несмотря на различия вокалического сопровождения консонанта. А именно:
• считать ли партикулы do, da, dy, de альтернантами объединяющей их d или отдельными примарными для славянского пространства партикулами?
• считать ли to, tъ, ti, te параллельным рядом к этому звонкому ряду – и тогда необходимо объединение более глубокое?
В нашей работе, посвященной исключительно славянским данным, ответ на оба вопроса будет отрицательным. А именно: первую цепочку мы не объединяем и считаем все ее компоненты отдельными партикулами, так как у каждой такой партикулы деривативная семантика различается.
Поэтому признание или непризнание t/d единой партикулой выходит за пределы славянской общности и потому вопрос об этом в рамках настоящей главы решаться не может.
Данные ЭССЯ 1975:
Концепция авторов состоит в том, что это «служебное слово, широко распространенное в функции союза, вводящего разные глагольные формы. Крайний результат эволюции – функции частицы, например утвердительное ’да’. Восходит к и. – е. указ. местоим. *do-, вар. *to-. Такая этимология, принятая большинством исследователей, подтверждается однотипностью контекстов слав. Da + гл. и слав. Ta + гл.». Это функциональное сходство, между тем, не может быть свидетельством «крайности» эволюции к частице, а может быть свидетельством как раз обратного.
4. Не менее известной и обсуждаемой (см. выше) на самых ранних этапах индоевропейского языкового развития является партикула е.
Как и все общеславянские партикулы, она выступает в примарной функции как междометие, как частица и как союз. Данные [Etim. slov. 1980]:
• см. в русском (междометие): Э, да тут полно работы!; Э, – сказали мы с Петром Ивановичем. Белорусский: Э, дазвольте, я расскажу. Сербский: Е, моj синко, знам jа за них. Болгарский: Е, голяма работа и т. д.
В употреблении этой партикулы как междометия существует много смысловых оттенков:
демонстратива. См. болгарский: Е го! (’вот он’); Е хлеб и вода и т. д.
ассертива. См. сербо-хорватский: Ти си из Дубровника? Е госпо!
• е имеет и концессивное,
• и каузативное значение.
Эта партикула имеет множество дериватов: русские э-то, э-ва, э-кий и др., старославянское єсє, єда, єй, словенское eno и т. д. Она выступает в вариантах he, he, hy и под.
Фонетическим вариантом ее является огубленное о с возможным прикрытием в. Поэтому русское это равно при пересчете русскому же вот, на что уже давно обращено внимание лингвистов.
Напоминаем, что именно это е компаративисты видят в аугменте греческого имперфекта и аориста и во многих образованиях ранееиндоевропейского периода. Именно об этом е мы писали в главе первой как об инициальном элементе интродуктивной цепочки, к которой восходит наше я.
Как представляется, на уровне славянского материала нет необходимости ставить вопрос об объединении ряда Е / О / А, поскольку мы стараемся проследить мир партикул именно славянского пространства.
Данные [ЭССЯ 1979]:
Это усилительная частица. Междометное употребление вторично[119]. «Праслав. *e восходит к указат. мест. и. – е. *e, рано или как правило выступающему в соединении с другими элементами».
5. Столь же активной в славянском пространстве и имеющей очень много дериватов является партикула i.
Данные [Etim. slov. 1980]:
Фонетическими ее вариантами являются hi, ё, he, ih, ji.
• Как и у других общеславянских частиц-партикул, эта партикула имеет значение междометия. Например, русское: И, бабушка, затеяла пустое; словенское: I, kajpa delaš; польское: I, daj mi pokój и т. д.
Существует – для этой партикулы – множество переходных смысловых оттенков от междометия к сентенциальной частице.
• В качестве «внутренней частицы» эта партикула имеет значение ’также’, переходящее к ’даже’ и далее практически приближающееся в некоторых высказываниях к негации. См., например, чешский: Búh dal zuby, da i chleba; русский: Мне и рубля не накопили строчки; старославянский: мьнѣ николижє не далъ єси и козьлѧєтє и т. д.
Во всех славянских языках представлена двойная конструкция: и… и. Например, русское и там и сям; и то и другое. Разумеется, семантика а и и, партикул, во многом коррелирующихся, требует разъяснения, но мы еще раз повторяем, что оптика этой главы – очень крупная, а семантические и текстовые отличия а и и занимают лингвистов в течение многих лет (см. монографию: Вербальные и невербальные опоры. 2003, а также упоминавшуюся в параграфе втором работу А. В. Исаченко [Isačenko 1970], который также смотрел на три основных сочинительных союза в русском языке с точки зрения крупной оптики и увидел практически не членимое стоящее за ними общее семантическое поле).
И-союз также имеет множество значений:
• присоединения – польский: Spadł pierwszy snieg. I to sniegnie byłe jaki;
• континуации – старославянский: Искони бѣ слово и слово бѣ у бога и богъ бѣ слово;
• следствия – украинский: Вже з полудня хвыля почала спадати, и Али взялся за работу;
• концессивности – русский: Вы такой специалист по мостам и отказываетесь их строить;
• противительности – старославянский: Рѣхъ вам южє и нє слышастє;
• градации – И синего моря уклончивый вал в часы роковой непогоды, и пращ, и стрела, и лукавый кинжал щадят победителя годы.
Этимология этого союза в Словарях обычно объясняется через ассоциативное сопоставление с этой же партикулой в неславянских языках, или же эту партикулу возводят к «застывшей» форме индоевропейского местоимения *e/ei.
Данные [ЭССЯ 1981]:
Представлено как *i. Чувствуется, что именно эта простая партикула доставила много затруднений авторам Словаря. Таксономическая ее принадлежность не обозначается. Обычно объясняют из и. – е. *ei, первонач. местн. пад. ед. ч. от указат. мест. *e. Далее идет довольно странная фраза: «Сближение слав. i с лит. ё сомнительно ввиду скорее дейктич. функции лит. слова, несвойственной слав. слову». Здесь неясно, считают ли авторы, что дейктичность несвойственна слав. слову вообще или именно этому слову. Следующая фраза еще более удивительная – «Обращает на себя внимание отсутствие у слав. i полных соответствий формы и значения», – поскольку выше это значение описано как ’и, тоже, также’.
6. Общеславянской партикулой является li[120].
Эта партикула примарна, так как она выступает изолированно и имеет свое значение, с одной стороны, и входит в деривативные цепочки (чаще всего в постпозиции), с другой стороны. У этой партикулы есть фонетические варианты – l’, ly, lja, le (в разных славянских языках и диалектах).
• Она может быть сентенциальной частицей. См. русский: Ты река ли, моя реченька, ты течешь, не колышешься.
• Выражать сравнение, выполняя союзную функцию. См. в древнерусском: Лучьши есть похвальна брань ли миръ.
• Иметь альтернативное значение. Старославянский: Аштє ключитъ сѧ въпасти въ вино ли въ масло ли въ ино єтєро.
• Выражать вопрос, то есть функционировать как вопросительная частица. Словенский: Je li res? Русский: Далеко ли от вас до вокзала?; Старославянский: Ты ли єси цєзаръ июдєискъ?
Безусловно общеславянской является тенденция употреблять эту частицу в косвенном вопросе. В современном русском языке отчетливо прослеживается движение к исчезновению этой частицы в прямом вопросе. То есть Я их спросил, были ли они когда-нибудь в Москве, но Вы были когда-нибудь в Москве?. Это сохранение ли в косвенном вопросе и исчезновение в прямом (интересно, что ли в прямом вопросе встречается иногда у русских эмигрантов первого поколения) подтверждает мнение Т. Гивона [Givon 1979] о том, что основные инновации в синтаксисе начинаются именно в главном предложении, тогда как придаточные еще сохраняют более старые значения и структуры.
Этимология li трактовалась в трех непересекающихся аспектах. Во-первых, эту партикулу возводили к детской речи (первые звуки), во-вторых (лингвисты старшего поколения), пытались возвести ее к индоевропейскому корню *uel – ’желать’, в-третьих, в этимологии известны дискуссии по поводу того, можно или нельзя объединять эту партикулу с lĕ.
В [ЭССЯ 1988] представлена. Описаны функции: как союз и как частица. Авторы считают, что славянское *li нельзя рассматривать в отрыве от *lĕ/*le. Авторы статьи согласны с мнением В. Н. Топорова о том, что в глубокой диахронической перспективе восстанавливается исходная ситуация с элементом l в модальной функции.
Необходимо в данном случае остановиться на позиции В. Н. Топорова, которую он высказывает в вообще непривычных для данного пласта больших статьях, посвященных балтийскому lai, рассматриваемому им с широких индоевропеистических позиций [Топоров 1984; 1984а]. Существенно в этих его статьях не столько обсуждение категориально-глагольных функций этого элемента в прусском и восточнобалтийском, сколько определение его отношения к неоднократно обсуждавшейся проблеме связи этого элемента и славянской частицы li, а также связи с польским le ’ лишь’. Существовала и концепция более широкого охвата, связи балтийских частиц со славянскими *li, *le, *lĕ. В. Н. Топоров присоединяется к концепции Эндзелина, согласно которой и балтийские, и славянские l-частицы восходят к и. – е. *le, *lē (с гласным не из дифтонга). Замечательно прозорливыми и в известном смысле поучительными являются высказанные здесь мысли В. Н. Топорова о том, что отсутствие точной опоры в сравнительно-исторических данных «может оказаться и несправедливым упреком, учитывая, что сам статус данного элемента, независимо от его происхождения, определяется соотношением входящих в игру факторов в каждом данном языке и той кардинальной синтаксической схемой фразы, которая актуальна для данного периода развития этого языка»[121] [Топоров 1984: 422]. И далее им высказывается мысль, которая могла бы быть эпиграфом к нашей книге: «Вместо того, чтобы ориентироваться на поиск единой и достаточно четко очерченной формы, в которой можно было бы видеть первоисточник всех остальных (или, по меньшей мере, форму, наиболее близкую к нему), в данном случае целесообразно сменить установку и считать именно этот хаос первичной (или ранней, или – еще точнее – периодически возникающей и в той или иной мере всегда присутствующей) ситуацией, из которой только и можно определить – поневоле обобщенно и лишь с определенной степенью вероятности, – каким образом из флуктуирующей совокупности фактов выделился и подвергся категоризации элемент» [Там же: 426]. Таким образом, по мнению В. Н. Топорова, имеется комплекс славянских фактов, близких к балтийским, а именно: комплекс элементов на -l-, «который объединяет в себе самые разнородные факты по степени их семантической наполненности и грамматичности, не говоря уж о различиях в вокализме: не только *lě и *le, но и *li, которое позволяет предположить для предыдущего периода наличие (*loi или *lei )» [Там же: 427][122].
7. Седьмой партикулой в этом ряду мы считаем ne. Эта некоторая неуверенность нашей таксономии будет объяснена в конце статьи, посвященной этой партикуле. Она имеет довольно большое число фонетических вариантов: ne, пё, nie, nja, na, na’a, ny, ne и т. д.
● Основное ее значение – негация. При этом возможна сентенциальная негация: чешский: Byls tam? Ne!; ст.-польский: Tako bądź wasza mowa «Jest tako jest, nie, nie jest tako»; болгарский: Ште дойдеш ли? – Не! и под.
● В некоторых славянских языках эта партикула выполняет функцию переспроса, ср. чешский: To je divné, ne?[123]
Чаще всего эта партикула негации употребляется в приглагольной функции (при этом в одних славянских языках она графически отделяется от глагола, а в других пишется с ним слитно). Однако практически может присоединяться к любому члену предложения.
Сложным вопросом таксономии является вопрос об объединении или различении этой партикулы и славянской партикулы ni. Последняя функционирует не в качестве сентенциального отрицания, а для образования деривативных цепочек со значением негации: ни-къ-то, ни-ка-кой, ни-че-го, ни за чь-то и т. д. Однако в некоторых языках (например, в украинском) в качестве сентенциального отрицания употребляется именно ni.
Необходимо сказать также, что каждая из этих партикул может образовывать серийные ряды: ни (ni) . ни (ni) и не (ne) . не (ne). Небезынтересно и то, что в настоящее время в русской речи, выплеснувшейся на экраны телевизоров и просто на улицу, эти ряды смешиваются, точнее, ряд с ни заменяется на ряд с не: Он не сообщил не президенту, не премьер-министру; Приказ был не подписан не в июне, не в июле и т. д.
Поэтому мы бы предложили партикулу ni обозначить как 7а. Объединить же их не считаем возможным, так как полностью их функции не совпадают. Разделить их на две полноправных партикулы тоже будет неправомерно, так как в одних и тех же синтаксических структурах разные славянские языки выбирают ту или другую партикулу. То есть сферы их действия пересекаются, но не налагаются.
Этимологически обе партикулы объединяются с многими неславянскими индоевропейскими партикулами с n– основой и с греческими партикулами негации на μ-
Более сложным, чем квалификация ни, является определение статуса партикулы nĕ (< nĕ), являющейся первой частью неопределенных местоимений во всех славянских языках – nĕčьso /nĕčьto / nĕkъto / nĕkъjь / nĕkako / nĕjako / nĕkamo / nĕkъdy / nĕkoliko и под.
Дело в том, что эта партикула в принципе может отделяться от следующего за ней деривата, пропуская между ним и собой предлог, например не у кого, ст. не за кем и т. д.
Но сама по себе, то есть в изолированном состоянии, в славянских языках (мы имеем в виду во всех славянских языках) она не употребляется. Таким образом, она не соответствует первому требованию выделения примарных партикул. Тогда встает вопрос о том, что же мешает считать ее вариантом ne?
Прежде всего, этому мешает ее форма, что заставило некоторых этимологов полагать эту партикулу комбинацией пь + vѣ (< vѣstь), а других этимологов – считать ее продленным вариантом негативной партикулы не. Существует и более упрощенное решение, которое в конце концов приходится принять и в нашей работе, а именно – отнести эту партикулу в общее хранилище «п-овых демонстративов», но не считать отдельной примарной партикулой.
В [ЭССЯ 1997] партикулы *nĕ и пе представлены; они объединены в одной статье. Генезис *nĕ объясняется (для ряда случаев [?]) стяжением первоначального *ne je, то есть ’не имеется, нет’. Если рассматривать дублеты неопределенных местоимений *nečьto / něčьto, то природа долготы ě здесь, как считают авторы, иная: это аффективное продление и тем самым вторичная долгота. «Местоименная, указательная природа сравнения ne– может быть распространена и на отрицание как одну из вторичных специализаций и. – е. *ne, связанного с и. – е. *on, *n практически во всех употреблениях».
8. С некоторыми сомнениями в качестве следующей партикулы мы не называем в качестве примарной единицы no – междометие. Причины для этих сомнений следующие. Хотя эта партикула – междометие – известна всем славянским языкам и употребляется изолированно, но она не служит элементом деривативной цепочки[124] и потому – естественно – функционально ограничена.
• Прежде всего, как уже было сказано, это междометие. Русский: Но, мертвая, крикнул малюточка басом. Польский: No, nie bij go!. Сербский: Но, синко, како е било?. Чешский: No, přestaň už и под.
• Удвоенное но может выполнять функцию отрицания: Но, но! Все было не так, как Вы говорите и под.
• В западнославянских языках но выполняет функцию противопоставления (как считают этимологи, более позднюю, вторичную, при которой это значение возникает под влиянием противительного но < пъ). Словацкий: Jaz sem hotel, no ti ne.
Примарной партикулой под номером 8 мы считаем партикулу no/nu.
• Она выполняет функцию междометия. Русский: Ну, побежали! Ну, братья, помогайте!. Польский: Nu, kiedy już inaczej byċ nie może, otoż tak pуjdźy. Словенский: Nu tedaj, vi bogati, placite se! и т. д.
Уже говорилось выше о том, что Р. Ф. Касаткиной обнаружено в русских говорах у этой партикулы значение не только междометия, но и противительного союза [Касаткина 2004]. Сходное значение находят и в старосербском, и в дубровницких текстах: Tako gorim vas u sebi, nu moj oganj skroven stoji.
Однако существенным обстоятельством в пользу определения данной партикулы как примарной является тот факт, что она может (хотя и в слабой степени) являться базовым элементом деривативной цепочки – см. русское Ну же!, Ну те ка!, Ну-ка!, Нуте (с). Возможно и более сложные комбинации, например: Я просила его, ну а он не согласился.
Деривативные расширения этой партикулы по славянским языкам известны: nuj (польский), нумо (украинский), нудер (сербский).
Как и в случае других общеславянских партикул, в данной ситуации существуют два противоположных подхода: 1) все партикулы с консонантной опорой n– объявлять восходящими к «детской» речи (Lallwörter); 2) считать, что эти партикулы восходят к «застывшим» формам местоимения – демонстратива *ono/eno.
9. Примарной партикулой под номером девять мы считаем адверсативный союз no/пъ. В последней форме он представлен в старославянском, древнерусском и украинском. Например, старославянский: Не умрьтъ бо дьвица нъ спитъ; l вы чисти єстє нъ нє вьси; древнерусский: Не бяшє мира мєзи ними нъ рать; Не бояринъ но простъ сий человѣкъ; Аще кто отьца ли матєрє не послушаєть, но смєрть приимєть и т. д.
Более подробно об этом союзе написано нами в этой же книге в главе второй (§ 2. Союзы).
Таким образом, в нашей работе выявляется некоторая неизбежная искусственность разделения n-овых партикул на несколько самостоятельных единиц, определяемых в качестве примарных. Но если вернуться к заданным выше нами правилам, то это разделение неизбежно. И все-таки в этой единой для всей цепочки консонантной опоре чувствуется общий «негативный» (включая «неопределенный», то есть не-определенный) смысл. См. в первой главе о финно-угорских n-овых местоимениях в книге К. Е. Майтинской [Майтинская 1982].
В [ЭССЯ 1999а] представлена как союз. «Преобладает мнение о принадлежности праслав. союза *nъ к гнезду и. – е. *nū ’теперь’. Анализ всех версий привел авторов последнего исследования (? – Т. Н.) к выводу о междометной природе *nъ и о его связях с приведенным материалом на уровне элементарных соответствий»[125].
10. Примарной партикулой (также в двух фонетических вариантах) является партикула se/sb[126].
Авторы ряда Этимологических словарей обособляют и разделяют эти варианты, опираясь на разность их функций: se чаще выступает как междометие, а sь – как указательное местоимение. Однако, рассматривая предыдущие партикулы и квалифицируя их как примарные, мы (напоминаем) обращали внимание на два их свойства: а) функционировать изолированно и б) входить в деривативную цепочку. То, как именно функционирует партикула, не требовало для нашего определения однозначной корреляции: форма – смысл; более того, как видно было из предыдущего изложения, мы рассматривали каждую партикулу на фоне всей славянской семантической палитры, допуская для нее самую различную семантико-синтаксическую функцию.
• Итак, прежде всего эта партикула функционирует как «междометие»[127]: старославянский: сє ангелъ господинъ въ сьнѣ гависѧ ѣму; они идошѧ и сє звѣзда идѣашє прѣдъ ними; др. – русский: Сє азъ Мьстиславъ, Володимиръ сынъ; Се обѣдъ мои уготовахъ; украинский: Се твой пришол до тебе батько; Чом се хата не метена?и т. д.
• Форма sь выступает как самостоятельное местоимение или как часть деривативной цепочки: се-й, с-е-го, по с-ю пору, си-ю минуту. Кроме того, эта партикула может занимать как инициальную, так и конечную позицию: се-годни, но вече-ро-сь, утро-сь; ср. древнерусское си-ночь, сербское си-но, македонское си-нока и т. д. Она может занимать и центр: др. – русское: по-ся-мєст / по-ка-мєст и под.
В принципе эти два отмеченных выше фонетических варианта одной партикулы могут быть все же разведены: по форме и по функции. Но вопрос этот тоже не так прост. Во-первых, сентенциальный демонстратив не всегда легко строго отделить от демонстратива, относящегося к словосочетанию. Во-вторых, даже такая как будто бы очевидная форма, как сего (трактуемая как генитив от с), может быть разложена как сочетание двух частиц: се+го; см. выше в анализе работы К. Шилдза о происхождении славянской частицы -* го.
В главе первой настоящей монографии говорилось о том, что в книге «Функции частиц в высказывании» [Николаева 1985/ 2004] при определении функций славянских частиц в их многообразии наиболее «нагруженными» оказались частицы с t и s консонантной опорой. Обе они прежде всего функционируют как показатели определенности / неопределенности, точнее сказать, как показатели и определенности, и неопределенности, при этом, в пределах славянского мира, один язык больше «предпочитает» s-основу (например, польский), а другой – t-основу (например, болгарский).
Выявилось также, что именно эти две консонантных опоры входят в один парадигматический комплекс, в параграфе первом главы первой приводятся самые разные взгляды на отношения этих двух единиц и дискуссии по этому поводу. На чисто славянском уровне возводятся этимологически к s-овому исходу, но на уровне индоевропейском его возводят к k-овому исходу. См. греческий σήμερον / τήμερον < *kιάμερον. Ср. также русское диалектное Чайник типит!. Таким образом, судьба этих двух консонантов и восходящих к ним партикул коммуникативного фонда, видимо, требует отдельного исследования, которое, в силу наших возможностей, было представлено в главе второй настоящей книги.
11. Предлагаемый здесь тип примарной партикулы требовал еще более серьезных теоретических обоснований.
Как будто бы претендентом на эту роль могла бы служить партикула ta. Однако в славянской истории эта партикула испытала слишком большое расчленение функций, восходящее к давней истории.
А именно:
• В ряде языков она играет роль сочинительного союза (украинский, польский, словацкий).
• Она выполняет и междометную функцию. Так, например, можно сказать по-русски: та-та-та, я кажется вспоминаю… (употребление здесь да было бы более ясным и простым подтверждением, то есть было бы грамматикализованной сентенциальной частицей).
• В простонародном польском и словацком языках ta употребляется вместо ta + k{b), то есть эта лексема представляет собой нечто вроде перехода от да к так(ъ) или наоборот. Однако такое та нельзя приравнять к да, так как деривативные цепочки, которые за ними стоят, различаются: например, там(ъ) не заменяется на дам(ъ) и та-же не равно да-же. В то же время эта партикула и не может быть включена в наш список, так как она не является общеславянской.
Таким образом, мы включаем эту партикулу в состав общеславянских примарных с большим сомнением.
12. Бесспорно в списке общеславянских примарных партикул должна занимать место партикула to.
Как все партикулы «первого уровня», она служит и междометием, и частицей, и союзом. Число связанных с ней деривативных цепочек очень велико, причем – как видно будет далее – она может занимать любую позицию в грамматике партикульных порядков.
• Выполняя функции сентенциального междометия, она в то же время иногда выступает чем-то схожим с переходом к союзам: Просил он, то я и дал (народный русский).
• Служит показателем интенсивности действия (на грани наречия): To je práce! (то есть много работы).
• Эта партикула может выполнять функцию понуждения, уговора – чешский: To neplač!.
• Она может быть подтверждающей репликой, обращенной к коммуниканту с пресуппозитивным значением потенциального несогласия: Ну, что? Удивил я вас? То-то!.
Можно привести список дериватов этой партикулы в славянском пространстве. При этом мы ограничимся только теми, которые начинаются с этой партикулы, то есть она занимает инициальную позицию в цепочке:
1. tobože
2. točkar
3. totiž / točuš
4. todà
5. tode
6. todě(ti)
7. to-dje
8. tog(ъ)da / dy, tъg(ъ)da / dy
9. tog(ъ)da-dje-že
10. tojci
11. toje-že
12. toku / toku / tuku
13. tolě / toli
14. tolikaj
15. toliko
16. toli(ko)-dje / -že
17. tolikъ
18. tolьmi (-ma)
19. tonamo
20. tonde
21. to-ono
22. to-
23. to-t
24. tóta (j)
25. totiž
26. tovde
27. tovolik
28. tovuder
29. to– že
30. tơdě / du / da.
13. Близкой фонетически и функционально к этой партикуле является tъ, которое, в свою очередь, выполняет функции анафорического и местоименного демонстратива, являясь базой для 3-го лица единственного числа славянского местоимения. Судьбы этих двух партикул переплелись и потому сложно решить, является ли, например, то же дериватом от партикулы то или от среднего рода партикулы тъ, ставшей местоимением? Или к чему присоединяется э в э-то? Создается отчетливое впечатление недалеко разошедшихся потомков одного и того же t-ового компонента, которых мы, вопреки собственному «протестному» взгляду на жесткую таксономию, стараемся все же каталогизировать. Возникает желание в данном случае нарисовать нечто вроде геналогического дерева этих (примарных?) партикул, в вершине которого будет Stammlaut – t/d, пара, о которой в числе трех наиболее значимых пишет Фр. Шпехт. Обоснованием для секуляризации ветвей будет выделение их по позднейшей синтаксической функции и по типу деривативных цепочек.
14. Более «легкой» для t-ового ряда оказывается следующая партикула: tu.
Хотя в некоторых случаях она пересекается (чешский, сербский, польский) с to/te, но эта партикула во всех славянских языках исконно связана с «хронотопической» семантикой. Например, чешский: Tu se zjavil anděl; древнерусский: И яко приближасася к ракама, ту абиє утвєрдиштася нозѣ iєго и под. См. в «Слове о полку Игореве»: Tу Игорь князь высѣдѣ из сѣдла злата; Не бысть ту брата Брячислава, ни другаго – Всєволода; ту ся копиємъ приламати, ту ся саблямъ потручати и т. д.
15. Последней в списке общеславянских примарных партикул выступает že < *ghe.
• Эта партикула выполняет функции междометия, например, чешский: Že přijdeš? Přijdete, že?.
• Она выступает в качестве союза с функцией:
1. континуативной – старославянский: бѣ въ чрьвѣ китовѣ три дни три жє ношти;
2. адъюнктивной – старославянский: Видѣвъ же пилатъ яко млъвл буваєтъ;
3. конклюзивной – старославянский: Tунѣ приястє, тунѣ же дадитє;
4. адверсативной – русский: Вы его хвалите, он же вас ругает.
2. Примарные партикулы, не являющиеся общеславянскими
В параграфе первом данной главы говорилось (но только в связи с частицами, а не партикулами), что общее ядро партикул славянского пространства не очень велико. Большая часть славянских частиц распределяется по отдельным славянским языкам, иногда встречаясь в нескольких славянских языках (но не во всех!), иногда в двух-трех из них, иногда даже в одном. Данные литературного языка могут совпадать с диалектными или просторечными фактами другого славянского языка. Могут совпадать элементы разного хронологического вертикального среза.
Все это относится и к партикулам, несколько иным изначально и часто более «мелким» единицам языка, чем частицы.
Ниже будут перечислены «примарные» партикулы славянского мира, выведенные в соответствии с теми же установками:
а) они употребляются в языке изолированно; б) они входят в деривативные цепочки, состоящие из партикул же.
Партикулы будут представлены в алфавитном порядке, на латинице, для каждой из них будет указан язык (языки) употребления, приблизительное «значение» и пример одной-двух деривативных цепочек.
1. Ba – междометие, частица, модальное наречие. Данные [Etim. slov. 1980]:
Не представлено в кашубском и словенском.
• В русском, македонском и нижнелужицком функционирует только как междометие: Ба, кого я вижу!.
• Эта партикула может иметь и значение аффирмативное (модальное), например, старочешский: Ba zajisté pravi.
• Эта партикула может иметь и значение пояснения, и в этом смысле ее производной некоторые исследователи считают поясняющее bo (см. о ней ниже). В других исследованиях частицу отделяют от междометия как отдельную лексему. Некоторые исследователи возводят ее к так называемым Lallwörter.
Данные [ЭССЯ 1974]:
«Праславянское *ba – междом. весьма старого вида и происхождения, характеризовавшееся целым комплексом значений». Приводимое ниже *bo по отношению к нему вторично. *bā > bă > *bo.
2. Bo – частица, модальное наречие и союз. Данные [Etim. slov. 1980]:
Представлена как самостоятельная в старославянском, древнерусском, белорусском, украинском, кашубском; редко в словацком; изредка в старосербском, отдельные случаи в старочешском и архаичном лужицком. Отсутствует в современных южнославянских языках.
Деривативные цепочки многообразны – например, и-бо, ne-bo, u-bo. В этих цепочках партикула занимает обычно исходную позицию, конечную, что дает основания для некоторых исследователей в современных языках причислять ее к энклитикам.
• Имеет значение: подтверждающее: Бо ты, дидусю, стал суровый (украинский).
• Значение заключающее-пояснительное: старославянский: блажени бо кжє нє видѣвьшє ти вѣровашє.
• Объясняющее (основное значение bo-союза): старославянский: Измъвєны нє трѣбуєтъ тъкмо нозє умыти, єстъ бовьсь чистъ; русский диалектный: Не дам, бо нет; старопольский: Smiłuj sie nade mnoj, bo nemocen jeśm;; украинский: Так дай нам йисти, бо й тебе зйимо и т. д.
Этимологически многие исследователи считают bo аблаут-ным вариантом ba, уже разошедшимся с ним в своих значениях. Аналоги этой партикуле находят во многих индоевропейских языках.
Данные [ЭССЯ 1975]:
Союз пояснительного значения
«Праслав. *bo представляет собой вариант к *ba, однако не апофонический, как нередко полагают, а просодический, ср. ударность, эмфатичность употребления *ba и подчиненность, энклитичность употребления *bo». Данное замечание очень интересно, так как позволяет интерпретировать вокалические различия через просодическую фразовую нагрузку, однако, примечательно, что выше о той же паре партикул *ba/*bo говорится в том же Словаре совсем иное.
3. Če. Болгарская и словенская частица и союз. Имеет значение:
• Вопросительное: Че часто не идва? Че знам ли аз?
• Союзное и т. д.
• В русском языке кластер че-го рассматривается как генитив от того же вопросительного местоимения что и потому в русском языке, вопросительная конструкция вроде А чего у них там? Чего случилось? трактуется как нелитературная.
В этимологическом плане эта партикула возводится к индоевропейским k-овым формам, см. *kyi-; лат. quid и т. д.
4. Ei. Употребляется как междометие и модальное наречие. Эта партикула принадлежит к очень небольшому числу (как в славянском пространстве, так и в индоевропейском) партикул, не оканчивающихся вокальным исходом. Внутри славянского мира она имеет много вариантов: hej, heja, hyj. Деривативные цепочки: ей-же-ей, дублированное: ей-ей, ей ну, ej-ka и т. д. В русском языке мы имеем дело с двумя «лексемами», по существу практически омонимичными.
• Первая из них – это междометие-окрик: Эй, ты, ты что не слышишь? и под. С этим окриком в форме Гей! в восточнославянском мире погоняют животных, выполняют разные работы.
• Вторая «лексема» у этой партикулы – она выступает как частица, выражающая согласие и имеющая значение ’да’. Прежде всего в этом значении она фиксируется в старославянском: Єй, владыко, призьри на ны. В русском языке она представлена в этом значении в немногих фразеологизмах, вроде ей-ей!, ей Богу!, ей же ей и т. д.
Этимологи считают эту партикулу «примарным» междометием, фонетически соотносящимся с выкриком-реакцией ai!, представленным и в древних языках.
5. Ga – партикула нижнелужицкого языка. Она является фонетическим вариантом da. См. нижнелужицкое gdygano <
6. Ha – партикула верхнелужицкого языка. Является сентенциальной частицей со значением подтверждения. Это фонетический вариант общеславянского da.
7. Há – моравская частица и междометие. Как частица имеет значение ’что’.
В качестве междометия, по мнению этимологов, возводится к «примарному» междометию а.
8. Hi/hy – партикула украинского языка. Функционирует в качестве сравнительного союза: Скулився, стулився хи пес.
Дериваты: тахи, хи коли, тахиви и под.
Для этой партикулы существуют две этимологические интерпретации. Согласно одной из них, хи является редуцированным вариантом kogъdy > kohdy > hdy > hy. Согласно другой концепции, эта партикула, развив протетическое h, восходит к общеславянскому междометию е.
9. (J)u – партикула, функционирующая как частица и как наречие с временным значением. В изолированном виде встречается только в старославянском, древнерусском, кашубском.
Зато деривативные цепи с этой партикулой – у-же, juže,ужо, вже, już, již, už и т. д. распространены во всех славянских языках и их семантика практически совпадает.
Синтаксически эта партикула часто занимает «ваккернагелевскую» позицию, после инициальных сентенциальных частиц, вроде вот, ну, а и под.
Инициальное j в этой партикуле считают поздним явлением (тип aviti > javiti).
Данные [ЭССЯ 1981]:
Представлено как *ju. Значение ’уже’ (Описание несколько непонятно. – Т. Н.). Продолжает и. – е. *jou, нареч. от мест. *io-(см. *>).
10. Ka – партикула, выступающая как частица, как союз, как наречие места.
Она представлена в польских диалектах, словенских диалектах, болгарских диалектах, в народной речи в македонском. Однако в изолированном виде в литературных славянских языках она не функционирует.
• В качестве союза многофункциональна. Например, болгарский: Ка смо то чули, така го казваме.
• Как частица выступает со значением места и времени. См. польский: Kupić nie było ka; Ka ta idziesz?. И т. п.
Этимологически она сопоставляется с ta, с которой имеет много функциональных совпадений. Некоторые этимологи возводят эту частицу к инструментальному падежу от *kuō.
В русском языке более широко известны ее дериваты, например ка-мо (из старославянского: Камо грядеши?).
С этой партикулой нельзя смешивать словенское вторичное ka < kaj.
11. Ko – партикула, представленная в кашубском, словенском, в сербском, в болгарском. В украинском существует как часть целого: ко-би.
Различается примарное ко, о котором здесь идет речь, и его омонимы, возникшие из стяжения партикульных комплексов: сербское кô < као < како, словенское ko < kako (r), болгарское ко < кога и т. д.
● Функционирует примарная партикула ко как частица и как союз. Как частица имеет значение ‘ведь, только’ – например, словенский: ko pridi, кашубский: ko veš, jak je.
• В качестве союза имеет широкую гамму значений: ’поскольку, когда, если’ – например, словенский: komu se smem ver-jeti, ko me prijateji varajo.
Эта партикула возводится этимологами к первичным «местоимениям», возникшим из междометий. Данные [ЭССЯ 1983а]:
Представлена как *ko. Значение неясное, колеблется от ’иди-ка’ до ’ однако, поэтому’. Впервые в этом Словаре появляется такая ранее тщательно избегаемая характеристика: «Получает объяснение как этимологически первичная форма».
12. Lě[128]. Эта партикула в славянских языках представлена широко: ее отмечают в древнерусском, старосербском, старочешском, старопольском, в полабском (в форме lă). В современных языках известна в словенском, в сербском (в форме ли).
• Как частица имеет значение ’едва, чуть’. Старосербский: ле живъ; церковнославянский (русский): Лє живу кму сущу.
• В качестве союза имеет значение ’но’. Например, кашубский: to ńe jes čłovjek, le złi duch.
• Однако этот союз-партикула имеет и другие значения: лимитативное, экспликативное, понуждающе-императивное и под.
Сложным в данном случае является вопрос о «генетических» связях этой партикулы. Этимологи возводят ее к le, тогда эта ситуация становится параллельной с ситуацией пары ne/ne. Кроме того, как видно будет далее, в славянских деривативных комплексах эта партикула функционирует параллельно с je– (ledva – jedva), и вопрос об их объединении на гиперуровне нужно решать в общем плане.
В [ЭССЯ 1987а] представлена в виде *lě (*le). Описывается как праславянская частица с «вариантным вокализмом (см. еще *li) и выделительной, усилительной функцией. Особо рассматривается сходство с балт. lai. Говорится о «трудностях генетического отождествления вокализма». Приводится важная ссылка на В. Н. Топорова [Топоров 1983; 1984] о том, что балто-славянские служебные элементы «как бы фиксируют более архаичную синтаксическую предысторию явлений, в максимуме своего развития обретших статус стандартных морфологических граммем».
13. Na. Несмотря на то, что эта партикула представлена в словарях в виде нескольких лексем и на то, что выше, в перечне общеславянских партикул, приведен вариант na, квалифицированный как частная фонетическая разновидность негации, мы считаем описываемый здесь идиом na отдельной лексемой междометно-дейктического характера.
Она (партикула) представлена почти во всех славянских языках (но в болгарском и македонском только в диалектах, в полаб-ском не обнаружена). Соотносится с рядом дериватов – русский: на-те, на-ка; словенский: nãta; кашубский: nata; верхнелужицкий: natej и т. д.
• Дейктическая функция этой партикулы связана с аффективным моментом, например, русский: На, да ты уже здесь!, На, вот что наделал! Вот тебе на! и под.
• Этот аффективный оттенок может уступать место дейктически-императивному: русский: На, ешь! На тебе кусок хлеба, болгарский: На ти пет лева, сербский: На ти коj динар купи себи нешто и т. д.
• Этимологические исследования причисляют это на к междометию, переходящему в местоимение: см. онъ /ono /eno / ano.
14. Ce – употребляется в украинском языке: Вы чого це тикаете дали?.
Предполагается, что эта партикула является вариантом те.
15. Сь. В старославянском и древнерусском употребляется в уступительном значении: Нє хотяшє ту ни хлєба іасти, цѣ и могыи пищу приокрѣсти.
16. Ci. Представлена в восточнославянских языках.
• Употребляется в вопросительном значении: Ци самъ есмъ шелъ Кыевѣ? (русский).
• В дизъюнктивно-гипотетическом значении: (русский): iєда iєстъ пьсь ци лукавыи бѣсъ; Ци ащє ударитъ мєчємъ, да того заплатити сребра литръ е. Этимологически возводится к ти.
17. Ca. Вопросительная частица в чакавском. Фонетический вариант сь (в crto).
18. De. Южнославянская и словенская партикула.
• В словенских диалектах употребляется в значении ’же’.
• Примерно в этом же смысле употребляется в южнославянских языках в побудительных предложениях: болгарский: Седнете де, седнете!. См. также македонский: Е како де, како!.
• Может выступать и как сдвоенный союз: де…де. Македонский: Де единот, де другиот.
Как и во многих предыдущих ситуациях, этимологи предлагают и в этом случае два противоположных решения: а) эта партикула восходит к глаголу dějati и является сокращенным императивом; б) эта частица является примарной, см. ее дериваты, например, kь-de, gь-de.
19. Do. Старославянский, сербский и украинский вариант da.
Эта партикула имеет те же значения, что и da. Параллельными для этих партикул являются и производные от них дериваты: da-že / do-že; ср. da-ž/dori.
20. Dy. Белорусская партикула, выступающая в функции частицы и союза.
• Она функционирует в функции наречия, в начале объясняющего придаточного: Хочь йон и разумный, ды я яго не люблю.
• Эта же полифункциональная партикула может служить и сочинительным союзом: Дзень ды ноч. Она считается фонетическим вариантом общеславянского da, с которым, как видно будет ниже, она совпадает по всем дериватам.
21. Sa – словенская и польская партикула, функционирующая как наречие и частица. Имеет дериваты: польский: sa-sa, словенский: sa in ta. Эту же семантику находим в русском там-сям, там и сям и т. д.
• Может иметь сентенциальное значение, например, известен словенский ее вариант: saj ’ ведь’.
Этимологи причисляют эту партикулу к тому же ряду, что и k-овые и t-овые партикулы, то есть к примарным единицам коммуникативного фонда.
22. Si. Партикула представлена в древнерусском, старословенском и диалектном словацком.
• Может выступать в функции союза со значением уступительности, например, древнерусский: Любо си отьцю нє мѣ и гнѣватися, не иду к ворогомъ своимъ.
• Она может иметь вопросительно-гипотетическое значение. Ср. древнерусский: Вънидє ли си воплъ вашъ въ слуха господьня.
Этимологически эту партикулу возводят либо к примарному s-овому элементу, либо, напротив, к форме оптатива от глагола byti.
23. Ta. Как уже говорилось выше, соотношение партикул da/ta вытягивает из славянского партикульного пространства нить более запутанного клубка, который в нашей работе мы не в состоянии распутать полностью, поскольку для этого нужно найти силы покинуть парадигму «нормальной науки», в которой и я воспитывалась и существовала около пятидесяти лет.
Проще говоря, вопрос ставится так: является ли та глухим вариантом да или, что то же самое, – является ли да звонким вариантом та? Как можно было видеть в других главах нашей книги, вопрос этот или не решался лингвистами совсем, они как бы не замечали этой проблемы, или же они объединяли эти два варианта, не объясняя метатеорических принципов этого объединения.
Ответ на этот вопрос все-таки необходим. Пусть он будет таким:
• Функционально та повторяет да. Но не во всех языках. И не во всех функциях.
Другой вопрос: имеем ли мы таксономическое право приравнивать единицы, частично по родственным языкам разошедшиеся, если даже мы и предполагаем их единство в далекую реконструируемую эпоху? На этот вопрос ответить очень трудно и потому он (и близкие к нему вопросы метатеоретического описания) будет специально обсуждаться в следующих разделах настоящей
главы. Но все-таки, если обратиться к междометному началу, почитающемуся наиболее древним, то в данном случае мы увидим наибольшие расхождения. Например, в русском, если мы говорим, начиная реплику: – Та-та-та!, то это примерно означает: «Подождите, Вы не совсем правы…», тогда как начало: Да-да-да, напротив, означает согласие.
• Итак, ta выполняет в славянских языках функции междометия, частицы, союза и местоименного наречия.
Представлено в старославянском, древнерусском, русском диалектном, белорусском, украинском, словацком диалектном, моравских диалектах и в южнославянских языках в целом.
Имеет деривативные вхождения: taj, tajta, taže/tadje и др.
• Выполняет функции оптативной частицы, например, сербский: Та помози ми, ако си човек; польский диал.: Ta daj mu światła и под.
• Однако в функции частицы может иметь и значение подтверждающее, то есть ’ ведь’, например, словенский: Ta rekel sem ti, da ne hodi.
• Некоторые сентенциальные значения этой партикулы идентифицировать трудно, например, украинский: Куды идешь? Та до пана.
• Эта партикула имеет и значение следственного присоединения, например, украинский: Набрал в ту торбиню воды, але же старый, та не здужал.
• Она имеет и временное значение, например, в древнерусском: Та жє яко бысть вєчєръ – ’А когда настал вечер…’; значение континуально-сочинительное: И начати пѣти псалтырь, та по сємь канонъ; Туда жє сѣдѧть кривичи, та жє сѣвєръ от них сѣдѧть вєсь и под.
• В качестве наречия эта партикула имеет пространственное значение ’там’, например, словацкий: Ta ist’ je podle L. Novaka, а также способа действия: ’так’. См. словацкий: Bralo nie je sie nizke, ale je este ta rovne.
Этимологи причисляют эту партикулу, с одной стороны, к глухому варианту da, с другой стороны, возводят к общеиндоевропейскому t-овому форманту, образующему местоимения.
24. Te. Партикула, выступающая как междометие, частица и союз. Встречается в сербском, в староболгарском, в церковнославянском русского извода.
• В качестве междометия имеет указующее значение, соединенное с актуальным настоящим. См. болгарское: Те го ’вот он’.
• В диалектах польского аффирмативное te-te-te является синонимом ta-ta-ta.
• В сербском языке эта партикула служит союзом в функции ’что’. Например, Отиде своме господару те му каже. Именно в сербском языке эта партикула знает много семантических подтипов и вариантов, а именно:
1. значение градуальное,
2. континуативное, конклюзивное,
3. причины,
4. цели,
5. следствия.
Решение вопроса об ее этимологических связях в данном случае затруднительно. Несомненно, однако, междометное происхождение этой партикулы. Несомненно также и то, что она связана фонетически и функционально с общим рядом te, ti, to. Однако считать ее глухим вариантом звонкого ряда в славянских языках нельзя, так как она прямо соотносится с партикулами глухого ряда более далеких языков индоевропейского родства: литовским te, греческим -τή), санскритским utά и др. Некоторые исследователи видели в этих формах рефлексы местоименных падежей реконструируемого общеиндоевропейского.
25. Te. Старославянское междометие и союз. Функционирует как сентенциальное побуждающее междометие: тѣна ти дари мнози и поимъ братъ свои.
Функционирует в качестве аподосиса при аштє и єчє.
Имеет дериваты тажє и тєжє.
Этимологическая трудность остается той же (см. выше): считать ли эту партикулу соотносящейся прямо с неславянскими индоевропейскими языками? Считать ли ее синонимом te (более поздним)? Считать ли ее входящей в параллельный ряд по глухости / звонкости с d-овыми партикулами?
26. Ti. Старославянская и древнерусская партикула.
Ее дериват можно увидеть в словенском и кайкавском niti, но в изолированном виде она встречается только в упомянутых выше двух языках.
• Как союз выступает с сочинительным значением, см. старославянский: чєтыри десѧти ти шєсть.
• С континуальным значением: аштє ли єсть живъ ти глаголєт.
• Значением примыкания: см. древнерусский: Слнцє помьркнєть и луна нє дасть свѣта ти тогда явитьсѧ знамєние сына чловѣчьскааго; значение противительности: древнерусский: Раздаѩ имѣниє моє ти любви нє имѣга, ничто не успѣѩ.
• Партикула может быть и вопросительной частицей: русский диалектный: Ти здоров ли? Ти хочешь?.
Этимологи вводят эту партикулу в общий ряд t-овых местоименных консонантных основ.
В современном русском просторечном словоупотреблении она сохранилась в слове нетути, которое приходится иногда слышать. Значительное место в описании частиц в древненовгородских текстах ей уделяет А. А. Зализняк в своих работах (см.: [Зализняк 2004а: 196—197]. Ее основное значение он передает как «Обращаю твое внимание на следующий факт». Поэтому эта партикула не может сочетаться с императивом). Чаще всего она встречается в первой же фразе, сразу после адресного обращения. В не первой фразе, как отмечает А. А. Зализняк, она приобретает дополнительные оттенки: противопоставления, следствия или причины. В «несвободных» употреблениях может приобретать форму ть. Приобретая усилительное значение, как пишет А. А. Зализняк, эта частица приближается по функции к релятивизатору, то есть переводит вопросительные элементы в относительные. Наконец, с да и а происходит полное сращение двух партикул, и ти выступает часто в форме ть. Например, да ти (дать), ати (ать). Мы считаем все-таки необходимым, несмотря на общеизвестность этих примеров, привести примеры на употребление этой частицы в «Слове о полку Игореве», поскольку эту частицу часто игнорировали при исследованиях и переводах: Сѣдлаи, братє, своя бързыя комони, а мои ти готови, осѣдлани у Курьска на пєрєди; А мои ти курянє свѣдоми къмєти; эту партикулу не нужно смешивать в том же тексте с ти-дательным падежом, часто там же встречающимся.
Итак, проще говоря, мы реконструируем одну единицу, а из нее возникают не ряды, а что-то вроде елки (возможно любое древовидное сравнение!) со спадающими – в разное время и разной силы – побегами. Эту нестройность потомков реконструируемой единицы чувствуют иногда составители словарей. Так, (см.: [Etim. slov. 1980: 711]): «Первичными единицами были тогда (но как тип) ta, te/te, ti, to, tu, гъ, переходный мост был создан благодаря to, которое одновременно было и местоимением среднего рода» (перевод мой. – Т. Н.). То есть, если развитие языковой семьи (и отдельного языка) и идет по некоей алгоритмизированной структуре, то алгоритм этот пока еще никем не описан из-за той же «дисциплинарной матрицы» нормальной лингвистики с ее требованиями. Например, предположим, что партикула tu приобретает сразу же (а на самом деле, когда – сразу же?) значение пространственное, тогда партикула to – или еще в большей степени партикула ta – доставят еще больше проблем.
Как и в языке вообще, и в этой области также обнаруживаются мощные завихрения омонимии и синонимии. Например, to – это и местоимение среднего рода (дальний дейксис), и часть союза. Но как быть? нельзя ориентироваться только на исход слова, скажем, на перечисленные комплексы, образующие квазиморфемы. Например, начальный комплекс къ-то всегда будет относиться к одушевленному лицу, какое бы расширение за ним ни стояло – kъtoso, kъtože и т. д.
27. Ve. Партикула архаического словенского.
Например, Baš ve ’ведь это так’, Do ve ’до этих пор’.
Имеет дериват – vezda.
• Эту партикулу считают дейктической параллелью к te, как, например, ete : eve.
Таким образом, нами всего рассмотрены 41 примарная (но не всегда общеславянских) партикула. Напоминаем, что для их выделения требовалось соответствие двум признакам: 1) возможность существования в изолированном виде хотя бы в одном славянском языке (в данном случае не было существенно то, в каком именно таксономическом качестве – междометия, частицы или союза они функционируют); 2) входят ли они (будь то в начале слова, в середине или в исходе) в некую (некие) деривативные цепочки.
Итак, из них только 15 общеславянские (и то с большими сомнениями в ряде случаев). Характерно, что все общеславянские партикулы обладают более широкой гаммой как синтаксических, так и деривативных возможностей.
Однако непосредственная лексикологическая работа не облегчила, но, напротив, еще больше усложнила те метатеоретические трудности, о которых говорилось в начале настоящей книги. О них будет рассказано в следующем параграфе. Возможно, эти трудности – как метатеоретические, так и собственно лексикографические – являются одной из причин «отталкивания» этого, столь значительного, языкового пласта «нормальной наукой», привычной к иной таксономии.
§ 3. Трудности метатеоретического представления партикул ( Обобщение предыдущего параграфа)
На протяжении всех предыдущих разделов говорилось о трудностях описания партикул и – в связи с этим – о том, почему «нормальная лингвистика» всячески старалась «не заметить» этот огромный пласт языка, составляющий движущую силу его коммуникативного начала.
В двух предыдущих параграфах мы постарались представить – в виде расчлененного списка – примарные партикулы славянского пространства. Классификация их опиралась на их деление на общеславянские и не-общеславянские, (не-общесла-вянские, т. е. известные ряду славянских языков или даже хотя бы одному из них).
Но на самом деле список этот не был полон: из него были исключены местоимения, которые – в этом расплывшемся диффузном ряду – представляли уже с давних пор стройную когорту грамматически оформленного ряда. И если «общеславянские» партикулы (не-местоимения) обычно демонстрировали палитру: междометие – частица – союз (причем географически и хронологически, так сказать, хронотопно, то есть растекаясь и по пространству, и по времени), то о местоимениях этого не скажешь[129].
Кроме того, коммуникативный фонд славянства включал, как мы сообщали, 718 единиц, некоторые из которых можно считать весьма протяженными и многосоставными. Как же описывать эту разношерстную таксономически и разноразмерную по структуре массу?
Именно об этом мы хотим поговорить в настоящем разделе.
Все, кто хоть как-то занимался коммуникативными партикулами, описывали их так: или «по частям речи», например, представляли их как частицы, как союзы, как местоименные наречия и т. д., или пытались реконструировать их первичный список, увлекаясь (и это понятно и естественно) минимизированием их состава. Казалось бы, привести все методично к общему списку, очистив от позднейших бифуркаций, гораздо сложнее, чем перечислить разветвившийся современный набор этих первоначальных единиц. Но это не так. Ибо тогда мы реконструируем в известном смысле виртуальную единицу, а из нее получаются ряды или даже побеги. То есть, очевидно, в реальности мы (то есть лингвисты) имеем в отдалении прошлого не единицу, а некий фонетически диффузный комплекс (им пользовались носители таинственного реконструируемого языка).
Однако и представление о функционировании современных партикул имеет свои, отнюдь не симметричные реконструкции, сложности.
Основными проблемами привычной реконструкции были: а) отождествлять или не отождествлять глухие и звонкие;
б) считать ли гласные при идентичной консонантной опоре алловариантами; в) приписать ли единой консонантной опоре диффузный набор полусостоявшихся вариантов или же изначально реконструировать несколько полноправных вариантов. Как было видно выше, «этимологи» поступают по-разному, практически смешивая в одном словаре или даже в одной словарной статье все перечисленные возможности.
Сравнить это можно только с иллюзиями школьного развертывания индоевропейского древа языков. Кажется, что все происходит здесь (там) одновременно: распалась одна ветвь, потом ее часть, потом следующая – и все это аккуратно, как по команде. Кибернетизация науки весьма этому способствует. Но это ветвление идет отнюдь не одновременно: одни языки еще ближе к основе, другие ушли чуть подальше и т. д. Это же относится и к отдельным лексемам.
По нашему мнению, этот процесс, а процесс этот – грамматикализация, – шел и идет постепенно и неравномерно по времени. И при этом процессе бифуркация консонанта на глухой и звонкий, а также создание CV пар разного вокала становится все очевиднее и очевиднее. Какова, например, ситуация с lědva и jedva, с kako и jako? Считать ли их геовариантами одного инварианта или конструкциями, состоящими из разных партикул?
Так, несомненной очевидностью реконструкции является возведение к k-овому элементу вопросительных местоименных слов. См., например:
kьjь
kьjьno
kьjьsi
kьjьto
kьjьže
kьjьžьde/do
kьterъjь/kьtorьjь – si
kьto
kьtoso
kьtože,
и т. д.
Но как же тогда квалифицировать явно «невопросительное» та + къ? Является ли оно формальным эквивалентом къ + то, поскольку оно состоит с ним из одних и тех же партикул, но стоящих на разных местах? В чем здесь суть расхождения: в типе вокала или в грамматике порядка?
Именно в этой связи встает вопрос о том, почему местоимения мужского рода оканчиваются редуцированным звуком: овакъ, онакъ, а местоименные наречия – полногласным звуком: овако, онако? Возможно, ответ таится в требующем реконструкции синтаксисе примыкания, иначе говоря, именно в том, что я называю «непарадигматической лингвистикой». То есть можно предположить, что субъект (а местоимение мужского рода в именительном падеже – это явно субъект) располагался на той интонационной позиции, которая требовала сокращения, редукции, а наречие – на позиции, требующей полноты, если даже не продления. Обратимся к некоторым примерам. Сравним, например, сербские овакъ и овако:
Аль се вараш, ниjе тако, Дале било то овако; Друга книга бисе овако исто велика као и ова; Што на jeдномe мjeсту говори овако, а на другоме онако и т. д.
Сербский: ваког човека можеш замолити; македонский: Ваков човек не сум видел и т. д.
Сравним общеславянское толико и толикъ. Старославянский: Толико жє стръганъ быстъ свѣтыи божии моученикъ дондєжє мѣса iємоу падошє вьса на зєми; толик обо бѣашє вьзлюбєныи и славєнъ градъ и под.
Как представляется, возможно, что наречие или было подчеркнуто в смысловом отношении, или располагалось в конце синтагмы, там, где требуется интонационное продление. Одно не исключает другого. Адъективный же компонент (то есть адъективированное местоимение) примыкает к имени сильнее, и его вокальный ауслаут редуцируется.
Как и при становлении собственно грамматических парадигм, «прилипание» партикул друг к другу создает лексикализованные, грамматикализованные и полуграмматикализованные комбинации. Например, да-же, и-бо, ли-бо – комбинации лексикализованные. Къ-то, чь-то – комбинации грамматикализованные и
лексикализованные, так как они обладают изменениями по падежам, образующими парадигмы этих слов. Полуграмматикализованными можно назвать комбинации вроде -а-ко, – ли-ко (чаще всего относящиеся к «местоименным наречиям», которые вообще составляют большинство компонентов, восходящих к партикулам). Из этого количественного преобладания «партикульных» наречий разных дейктических оттенков можно сделать интересный вывод, как кажется, характерный для архаического мышления: указание прежде всего связывалось с местом, а не с объектом или субъектом. Очевидно, их было немного и они были известны – перечислимы – именованы. (Напомним упомянутую во второй главе гипотезу К. Шилдза о том, что временные указания ранее были специальными.)
Далее. Бинарные сочетания партикул, не являющиеся самостоятельными «словами» любой таксономии, то есть не-лексика-лизованные, не-грамматикализованные и не-полуграмматикали-зованные, могут быть инициальным комплексом, но могут и заканчивать многосложный комплекс. Например: gъda /dy, ovъdje / že, – tol / tal / tul / tel / tyl.
Более сложным является вопрос о центральном инкорпорировании, то есть расположении бинарного партикульного сочетания внутри более сложного комплекса. Рассмотрим это на примере общеизвестного и широко употребляемого русского слова неужели.
Что оно собой представляет? Возможны следующие варианты его разбиения:
Не + у + же + ли;
Не + уже + ли;
Не + ужели[130].
Какое же решение принять, если существуют – для этого слова – близкие ряды: nego / neže / niže
neli
nelo
neuže / neuželi / neužьto
než(li)
nežto?
Итак, отнюдь не все многосложные партикулы так прозрачны, как хотелось бы, в целях построения их грамматики.
Так, в частности, партикула -va отчетливо вырисовывается при анализе слов je-dь-va, lě-ab-va, sot-va. В этимологических словарях фигурирует явно не подходящее сюда определение: «VA – pron. pers. 2 dualis ’vos duo / vy dva’» [Etim. slov. 1980: 716].
Еще более сложной в этом ряду таксономических проблем представляется проблема окончания (конечной партикулы) наречий и вопросительных местоимений со значением места. В русском языке это оттуда, отсюда, докуда, дотуда, туда, сюда, куда и т. д. В реконструкции несомненным образом проявляется 0d, что и описывается в соответствующих словарях. Но дело в том, что эта, возводимая к *-ind, партикула, не имеет принятой для славянского пространства структуры CV или V, во-первых, и «сразу же» приобретает четкую семантику направления, во-вторых. Кроме того, интересно, что «окончание» – da/dy сразу нам сообщает о направлении и/или о времени, а de – о месте.
В некоторых случаях выбор между отнесением частицы к «знаменательному» или к «партикульному» фонду языка тоже требует обсуждения. Например, партикула jed-. Мы ее находим в числительном jed-in(b), где обозначается некий минимальный элемент. Но по сути этот же минимум (оставшихся человеческих усилий?) мы находим в jed-va, а в za-jed-no видим сведение элементов к одному, «воедино».
Специального анализа требует и вопрос о том, почему партикулы, реконструируемые для индоевропейского пространства, предстают в виде практически неизменяемых частичек, мало поддающихся общефонетическим воздействиям, имеющих, за редкими исключениями, структуру CV или V? Стоит ли за этим сохранившаяся сквозь века тенденция к открытому слогу, характеризующая славянские языки, или тенденция более древняя, в славянских языках совпавшая с вышеуказанной.
Достаточно сложным является в данном случае вопрос о семантике партикульной позиции. Например, партикульный комплекс ажно ’так, что даже…’ разлагается как: а + ж(е) + но. И а, и но могут считаться синонимами да. Тогда этот комплекс является чем-то вроде перевернутого (или преображенного) да + -же.
Семантика позиции в свою очередь связывается с графикой. Например, в [Etim. slov. 1980: 70] представлен партикульный комплекс atoli с пометкой «польский архаический противительный союз». Это означает, что, с точки зрения составителей словаря, в русском языке такого комплекса нет. Но сколько раз мы слышим, в довершение какого-либо «страшного» рассказа, реплику: А то ли еще будет! Разве это не тот же комплекс?
Итак, в рамках славянского пространства мы имеем комплексы партикул-полуфлексий, сразу сообщающие нам о семантике лексемы, в которую они входят. Например:
– ако – ведет нас к способу действия;
– ad/od – к направлению;
– amo – к месту действия;
– liko – показывает количественность;
– evo – направление;
– (V)že – подтверждение с оттенком противительности и т. д.
Дейктические партикулы могут наслаиваться друг на друга, по сути создавая двойной семантический комплекс. Например, ovin (украинский) < ov + in.
В типологическом плане могут быть предложены разные критерии, по которым происходит разбиение славянского партикульного пространства. (Напомним, что выше речь шла о девяти количественных типологиях.)
Так, в частности, предлагаются следующие бинарные признаки:
1) Изменяются ли фонетически в данном языке единицы, реконструируемые как общеславянские?
2) Наблюдается ли в данном языке тенденция к графическому слиянию партикул в одно словарное слово?
3) Наблюдается ли тенденция к позиционной контактности партикул, даже если они графически не являются лексикографическим объектом?
4) Наблюдается ли в данном языке стремление к созданию «протяженных» партикул? Этот признак не идентичен второму признаку.
5) Принадлежит ли данный язык к j-зоне[131]?
Разумеется, речь может идти во всех случаях только о тенденциях, а не об абсолютных решениях, поскольку, как мы уже говорили, славянский континуум является континуумом не только по плоскости геопреференций, но и хронологически, поэтому совпадения и сближения могут иметь место на разных участках славянского хронотопа.
Не расписывая материал полностью, предлагаем только несколько иллюстративных положений, поясняющих выбор перечисленных выше признаков.
По признаку 1 выделяется словенский язык, в котором происходит сильная фонетическая модификация общеславянских единиц. Например, etec < е + to + ci; kar < ka + r (= že); kec < ka + d + ci; kjer < къ + de + že и т. д.
По признаку 2 выделяется как отрицающий эту тенденцию русский язык (но нужно не забывать о том, что графика суть продукт кодификации). См. старорусское, старопольское и белорусское aliže; украинское avžež < a + u + že; чешское dokogъda > dokdy; белорусское dotonova < (o)t + on + ov + a; сербское етавако < e + ta + ov + ak + o и т. д. Авторами Этимологических словарей, например, приводятся такие комплексы партикул, как украинское аjакже. См. русское: Вы выступите по докладу? – А как же! Последнее сочетание партикул явно не будет внесено в Словари, как и Ну вот как!, А вот и не так!, А ты где же?. И т. д.
По признаку 3 тоже выделяется русский язык. Например, южнославянское dali < da + li; сербские danu < da + nu; daśto < da + сь + to, польское dlacego и многие другие примеры подобного рода встречаются, точнее, существуют и в русском языке, но они дистанционно «распылены»: Да будет ли вы есть, наконец?; Да, но в целом вы неправы; Да ну тебя!; Да скажите, что там происходит; Для чего вы это все сделали? и т. д. Что стоит за этим признаком, точнее, за дистанцированностью партикул, в русском высказывании?
Как кажется, за этим стоит отход от правила Ваккернагеля, обязательно «приклеивающего» вторую партикулу за инициальной первой. Однако трудно сказать, «потерял» ли русский язык это «правило» или вообще его не имел. По сути, ваккернагелевскому правилу следует только партикула же (возможно, ли).
Признак 4 – стремление к созданию громоздких партикульных кластеров. Он не идентичен второму, поскольку многие «склеенные» и графически единые комплексы по всем славянским языкам, скорее, бинарны, типа ako, eko, ile, jeli, koli, oze, nebo, atje, zato, ledva и т. д. Громоздкими комплексами мы считаем кластеры партикул, начиная от четырех слогов и более. Эта тенденция характеризует южнославянские языки. См.:
Etavako – сербский,
Etoliko – сербский,
Evovaj – сербский,
Jedinamo – сербский, старорусский,
Kogbdaže – словенский, сербский, кашубский,
Nekamoli – сербский.
Nikamože – старославянский, старорусский, словенский, сербский,
Odovuda – сербский,
Otsenova – болгарский,
Takovbdje – старославянский, сербский,
Tavodek – сербский,
Tudakerak – сербский диалектный и под. Признак 5 относится к геопреференциям славянского континуума (то есть к предпочтению той или иной партикульной формы). В книге [Николаева 1985/2005] уже предлагался некий набор фонетических признаков для партикул славянского пространства:
• открытая фонетическая структура;
• отсутствие звука r в реконструируемом начале;
• отсутствие сочетаний с плавными.
По этим признакам партикулы противопоставлялись предлогам, где представлена именно такая фонетика. См. примеры славянских предлогов: prama, predi, predtem, prema, pri, prije, pro, promedju, proti, proz и т. д. К этой же идее противопоставления этих двух рядов элементов языка относилось отмеченное предпочтение b у партикул и предпочтение p (то есть глухого коррелята) у предлогов.
В целом же у партикул намечается тенденция к доминированию группы передне– и среднеязычных консонантов.
Хотя многие употребления партикул сложным образом пересекаются на хронологической оси типологии (например, в некоем современном языке этой партикулы или комплекса партикул нет, а в этом же языке раньше это было), все же зональные фонетические предпочтения славянского пространства (признак 5) увидеть можно. Так, различаются зоны jako/kako. Первая зона, jako, скорее, это западнославянские языки. Вторая – языки южнославянские и восточнославянские. По такому же принципу различаются и адъективные партикульные образования: см. чешский jaky и русский какой, сербский какав. Но из этого не вытекает, что западнославянские языки обязательно предпочитают йотацию в инициали слова. Что это не так, можно убедиться, введя следующее деление на зоны уже по другой модели: jed(b)-/led(b)-. Здесь начальная йотация представлена: в старославянском, русском, чешском, сербском, словенском, болгарском, македонском. Вариант le-, считающийся вторичным, представлен в украинском, белорусском, словацком, польском.
Итак, рассказ о трудностях идентификации славянских партикул и о проблемах их не-количественной типологии можно назвать неким «интродуктивным введением» в грамматику славянских частиц.
§ 4. Славянские партикулы и славянские местоимения
Если в главе второй настоящей монографии рассматривался вопрос о том, какую роль играют партикулы при создании парадигмы местоимений и состоят ли местоимения из одиночных партикул или их комбинаций, кластеров, или же местоимения 1-го и 2-го лица не восходят целиком к партикульному фонду (§ 5 главы 2), и при этом, естественно, рассматривалась вся система местоименных парадигм, то в настоящем параграфе нас интересуют другие вопросы, хотя и связанные с вышеуказанными. Какие же это вопросы?
• Прежде всего, это вопрос о том, какой процент в общем числе слов славянского коммуникативного фонда занимают собственно местоимения. Под местоимениями мы в данном случае имеем в виду их словарную форму, а не парадигму как таковую. Поэтому нас, как правило[132], не будут интересовать словоформы любого местоимения (то есть его падежная инфраструктура). Не будут также интересовать все мучительные проблемы, которые доставляют лингвистам так называемые «клитики», а также вопрос о наличии в языке «слабых» и «сильных» местоимений (см. о клитиках и слабых и сильных местоимениях § 4 главы второй).
• Второй вопрос – это соотношение местоимений с общим набором славянских партикул, то есть вопрос о том, есть ли в местоимениях как утвердившемся классе что-нибудь «особенное», то есть не вписывающееся в список партикул славянства (разумеется, в список их инвариантов), или же все местоимения складываются из этих партикул. Если же что-либо «особенное» есть, то в каких именно классах местоимений оно обнаруживается?
• Какой процент из общего числа славянских местоимений занимают местоимения «всеславянские»? И какой процент характеризует лишь группы языков или отдельные языки?
• Как соотносятся эти «всеславянские» местоимения, точнее, строевой набор их партикул, и примарный список индоевропейских частиц, выведенный другими исследователями и обсуждавшийся в главе первой нашей монографии?
Итак, о каких же именно «местоимениях» будет далее идти речь?
Под местоимениями мы понимаем в данном случае личные местоимения, изменяемые указательные и посессивные. Иначе говоря, речь не будет идти о «местоименных наречиях», уже обсуждавшихся выше.
Таким образом, этот раздел представляет собой как бы «перевернутый» раздел главы второй «Партикулы и «местоимения»». А именно – там, в главе второй, в центре внимания были партикулы как системообразующие элементы местоименного начала, то есть, говоря проще, флексии, создающие привычные нам парадигмы местоимений. Начальная часть местоимения, исход, была в центре внимания в меньшей степени.
Однако, как кажется, именно здесь целесообразно сказать о славянском местоимении je-go, последняя часть которого уже давно привлекала внимание лингвистов.
Так, достаточно подробно об этом пишет А. Мейе [Мейе 1938: 349]: «Наиболее интересной формой является род. – отложит. падеж ед. ч. м. – ср. р. того, служащий также родительным-винительным падежом, если указательное местоимение обозначает лицо или вообще одушевленное существо. Первоначально отложительный падеж указательных местоимений должен был иметь форму, тождественную форме существительных, индоиранские языки сохранили эту форму в виде наречия. Отсюда, следовательно, в славянских языках можно было бы ожидать в родительном-отложительном *ta. Что касается элемента -go, то он может быть частицей, сохранившейся в славянском языке в составе сложной частицы не-го (после сравнительной степени) и соответствующей скр. gha, подобно тому, как же соответствует скр. ha. Таким образом, родительный-отложительный падеж должен был иметь старую форму *ta-go, изменившуюся в то-го под влиянием других форм склонения: дат. п. томоу, местн. п. томь, возможно, также под влиянием сохранившегося старого род. п. *to-so, так как показатель *-so сохранился в вопросительном неопределенном местоимении ЧЕСО. К тому же, вполне вероятно, что употребление то-го как родительного-винительного падежа является древним; в самом деле, если, как мы предположили в п. 470, старое конечное *-on дает *to и *гъ в зависимости от выразительности, с какой произносилось окончание, то старый вин. п. *ton должен был дать to, когда хотели подчеркнуть его указательное значение, и вин. п. то-го должен был бы явиться фонетически. И действительно, старое *jon дает, с одной стороны, энклитическое анафорическое (указательное) местоимение и (/ь), которое в именительном падеже имеет эту форму даже в тех случаях, когда речь идет об одушевленных предметах, а с другой – ударный винительный падеж относительного местоимения jе-го для названий одушевленных предметов. Тот факт, что тип то-го сохранился для названий лиц и вообще одушевленных предметов, хорошо объясняется вопросительно-неопределенным местоимением ко-го, противопоставляемым род. падежу че-со, сохраненного для названия неодушевленного предмета. Поэтому совпадение род. – отложит. п. togo (замещающего *tago) и вин. п. togo можно считать чисто случайным. Таким образом, употребление общей формы для родительного-отложительного и винительного падежей единственного числа мужского рода названий одушевленных предметов становится вполне ясным».
Со времен А. Мейе по этому вопросу накопилась большая исследовательская литература. Так, например, в уже не раз упоминавшейся нами работе Ф. Шпехта [Specht 1947: 364] написано, что славянские генитивно-аблативные конструкции на -go состоят «demnach aus Zusammenrückung der slav. Stämme jo– und to– mit dem Pronominalstamm go. Dabej verhält sie go zu ko <…> Da k und g im Anlaut wechseln, kommen Formen wie lat. hic aus *ho-ce mit ke dem go in slav. to-go sehr nahe» [«эти конструкции состоят из комбинации славянских корней jo– и to– с прономинальным корнем go… Так как к и g в анлауте могут заменяться, то формы типа лат. hic < *ho-ce с корнем ke очень могут быть близки к слав. то-го»].
Разнообразные взгляды на этот предмет изложены в уже упоминавшейся нами вкратце статье К. Шилдза, специально посвященной окончанию -го у славянских местоимений в родительном падеже единственного числа [Shields 1997]. Говоря коротко, его позицию можно свести к двум основным положениям:
• -го – это одна из наиболее распространенных и частотных частиц (партикул) индоевропейских языков («A particle in *ghe/o is traditionally reconstructed for Indo-European» [Shields 1997: 87]). В русском языке (и других славянских) употребляемая изолированно, она известна как же. В своей первоначальной форме она сохраняется в сравнительной частице не-го.
• К. Шилдз считает, что местоимения в целом отражают более архаичную парадигму, чем имена («it is generally recognized that the pronouns reflect a more ancient paradigmatic structure than nouns»). Развитие известной нам многопадежной парадигмы поэтому происходило у местоимений постепенно. И он высказывает гипотезу о первоначальном локативном значении генитивных форм в индоевропейском. «The original unity of the locative and the genitive cases is further suggested by the intimate relationship between locative and genitive constructions in the world’s languages» [Shields 1997: 85]) [«Первоначальное единство местного и родительного падежей просматривается у глубинных связей между локативными и генитивными конструкциями во многих языках мира»]. Таким образом, еще раз можно обратить внимание на справедливость подзаголовка нашей монографии: «История блуждающих частиц».
Итак, как было указано, внутренняя структура настоящего раздела соответствует делению личных местоимений на две группы: первая группа – это личные местоимения первого и второго лица обоих чисел. Вторую группу составляло «все другое», то есть местоимения посессивные и демонстративные, которые не рассматривались и тем самым и не ставился вопрос о том, из каких партикул они состоят. В этом отношении идеологом такого раздела был Э. Бенвенист, в частности, в его знаменитой работе о местоимениях. Позволим себе и здесь (сильно сократив) процитировать его основное положение, более подробно сообщенное нами во второй главе: «В самом деле, третье лицо представляет немаркированный член корреляции лица.
<…> Таким образом, в формальном классе местоимений так называемые местоимения «третьего лица» по своей природе и функции совершенно отличны от я и ты» [Бенвенист 1974: 290].
В этой же второй главе нашей монографии сообщалось также и то, как «видят» и «видели» местоимения первого и второго лица единственного и множественного числа известные лингвисты разных эпох, а именно – излагались точки зрения:
1. Бругманна и Дельбрюка [Delbr?ck 1893; Brugmann 1892; 1897].
2. Гамкрелидзе—Иванова (Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984).
3. Семереньи (Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980).
4. Воробьева-Десятовского (Воробьев-Десятовский В. С. Развитие личных местоимений в индоарийских языках. М.; Л., 1956).
5. Шилдза (Shields K. The role of deictic particles in the IE personal pronoun system. 1994; Idem. Comments on the evolution of the Indo-European personal pronoun system. 1998).
1. Общеславянские местоимения и их структура
Из общего числа славянских местоимений (95) общеславянскими (с соответствующими пометами) оказалось 31[133]. Это число можно сравнить с соотношением общеславянских примарных партикул (не местоимений) с общим числом примарных партикул славянства (то есть соотношение было 15 к 43), что было продемонстрировано выше.
Ср.: 31/95 = 0,32; 15/43 = 0,348.
Приблизительное (и поразительное!) совпадение соотношения «ядра» и «периферии» в обоих случаях нельзя считать случайным. Иначе говоря, общеславянским является примерно одна треть коммуникативного фонда.
Однако и здесь сразу же возникают таксономические трудности. В частности, мы не считаем возможным объединить АЗЪ и JA, хотя они явно восходят к одному и тому же элементу (см. главу первую). В «партикульном» плане, как уже подробно разбиралось в главе первой, собственно местоименным является «невидимое» здесь и скрытое m-.
Сложным также оказался вопрос о том, представить ли как самостоятельную единицу общеславянское местоимение къто же, поскольку местоимения с подобными (или аналогичными) графическими наращениями даются во многих Этимологических словарях при явной зависимости от графического представления в том или ином славянском языке. Мы от такого общеславянского местоимения отказались, так как число подобных наращений легко увеличить.
Третьим таксономическим вопросом была проблема объединения / необъединения цепочки фонетических вариантов для слова Koterъ, а именно: давать ли ряд а) Koterъ, б) Kъterъ, в) Kotorъ, г) Kъtorъ – то есть считать элементы цепочки разными лексемами, или же давать единый ряд: Koterъ / Kъterъ / Kotorъ / Kъtorъ?
2
Первыми в ряду общеславянских личных местоимений, разумеется, являются местоимения первого и второго лица трех чисел: единственного, множественного и двойственного. Итак, это:
(Ja, АЗъ)[134]
MY
Ty
Vy
Vě.
Что объединяет эту местоименную группу? Это компоненты m/n (в первых лицах единственного и множественного чисел), v (во втором лице множественного числа и в двойственном числе), t (во втором лице единственного числа и множественного числа *twe), + гласный + (-s для формы множественного числа, впоследствии отпавшее)[135].
Таким образом, компонент *m/*n отмечен для первого лица единственного и множественного чисел (напоминаем, что Ja – это местоимение, восходящее к составной конструкции).
Компонент *t отмечен для второго лица единственного числа.
Компонент *v отмечен для не-единственного числа, но как у второго лица множественного, так и всех лиц двойственного.
(Более глубокую реконструкцию см. в разделе «Партикулы и «местоимения»» в главе второй.)
По внутренней прозрачности формы выделяются формант m/n, присутствующий в посессивных конструкциях от первого лица единственного числа, и формант v, объединяющий плюралис и дуалис. Само слово дъ-ва имеет в начале партикулу дъ-, которую мы находим в je+dъ+va и je+d^)+im>. Окаймляющие d(b в этих словах партикулы подчеркивают выделительность форманта и его единичность.
Относительно происхождения гласного, сопровождающего опорный консонант личных местоимений, нужно сказать, что если обратиться к гласному форм my, ty, vy, то существует устоявшееся мнение, что это рефлекс индоевропейского u/?, восходящего, возможно, к билабиальному w. История вокала в именительном падеже двойственного числа остается невыясненной.
3
Второй ряд общеславянских местоимений – это демонстративы, неопределенные и отрицательные местоимения, вопросительные местоимения и посессивы. Они будут перечисляться в алфавитном порядке; при этом мы будем указывать их общепринятое партикульное членение.
Посессивы:
Mojь < *ma + ios < moį + jo(jь);
Našь < *nōs + jos < nōs + jь;
Ničьjь < *ni + čь + jь;
Svojь < *suªe + jo > suªe + jь;
Tvojь < *tuªo + jь;
Vašь < *vōs +įo + jь;
Демонстративы:
(J)ь – примарная партикула;
Onъ < *(o/e)nъ, восходит к древнейшим n-овым партикулам;
Ovъ < *(a/ai)vъ, восходит к древнейшим v-овым партикулам;
Samъ – в этом случае для этимологов разложение на отдельные партикулы оказалось затруднительным; возможно, это слово имело самостоятельное значение вроде ’ человек’;
Sь – принадлежит к древнейшим s-овым партикулам; возможно, входит в ряд с k– или t-;
Se – принадлежит к древнейшим s-овым партикулам; так-же, возможно, входит в ряд с k– или t-;
Tak (ovъ) < ta + ko + vъ;
Tъ – примарная партикула, может восходить к и.-е. *tod;
Tъtъ < tъ + tъ;
Tolikъ < to + li + ko/ъ;
Vьchakъ (?) < Vьs + a + kъ(o);
Vьchъ < vьs + j(o), первая составляющая, по всей вероятности, имеет не-партикульную принадлежность.
Вопросительные местоимения:
Čь
to < *kuªi + t(o); на славянском уровне состоит из двух партикул: Čь + to;
Čь
jь < *kuªi + jo; на славянском уровне состоит из двух партикул: Čь + jь;
Kъto < *kuªi > ka > kъ + to;
Kъjь < *kuªi + j(ь).
Неопределенные и отрицательные местоимения:
Boedin (aš) < bo + (j) + ed + i + nъ;
(J)edinъ < (j)ed + ьnъ > in-;
Jьnъ < jь + n(ъ)-;
Jьnakъ < jь + n(ъ) + kъ;
Někoterъ < Ně + *kuªo + ter/tor.
Последний формант относят к праязыковой архаике;
Někъto < ně + kъ + to;
Někъjь < ně + kъ + jь ;
Nikъto < ni + kъ + to;
Nikъjь < ni + kъ + jь;
Ničьto < ni + čь + to.
В самом начале нашей монографии говорилось о «конструкторе», создающем из единичек-партикул разные комбинации, которые и являются «словами» коммуникативного фонда. Ясно было также, что со временем порождающая сила конструктора ослабевает и вводятся в обиход (действительно «застывшие») словоформы знаменательных слов.
Анализ общеславянских местоимений проводился выше, в частности, и со специальной целью – обнаружить в них элементы, которые не могут считаться партикулами потому, что партикулы должны повторяться и входить в «конструктор» хотя бы несколько раз.
Такие элементы, как нам кажется, были обнаружены. Это —
*m-
*nōs-
* suªe-
*tuo-
*vōs-
*sam-
*vьs-.
Выявление этих элементов, о которых пока мы не можем сказать, какому лингвистическому миру они принадлежат – миру коммуникативного фонда или миру знаменательных слов, мы считаем неким, пусть незначительным, результатом нашего исследования.
4
Необщеславянские местоимения будут представлены как складывающиеся из соответствующих «кубиков» конструктора, в виде списка, организованного в алфавитном порядке. Описание их строения см. в Приложении № 4.
Естественно, что следующим этапом работы, для которого, собственно, и приводился список местоимений и неместоименных примарных и кластерных собраний партикул, должно быть выведение более краткого «первичного» списка тех минимальных единиц, из которых и составлен славянский коммуникативный фонд. Лингвистический интерес при этом представляет таксономическая дистрибуция этого списка, которая, по нашему мнению, есть продукт более позднего развития общеславянского и отдельных славянских языков и групп.
Список примарных партикульных единиц славянского коммуникативного фонда в нашей книге помещен в Приложениях № 1 и 2.
Выводы
Сделать какие-либо достаточно серьезные выводы из этой книги очень сложно, потому что затронутые в ней вопросы на самом деле очень важны и автор предпочитает – вероятно, в силу своих собственных возможностей – эксплицировать возникающие проблемы, а не решить их с требуемой степенью глубины.
Я думаю, что микрорешения гораздо более доступны лингвисту, чем макрорешения, которые иногда кажутся смешными в своей заносчивости. Можно вспомнить тут и положение К. Поп-пера о том, что базовые концепты неопределимы в принципе.
Но, как кажется, дело здесь коренится и в другом. В сущности, описывая глубинное существование языка, мы описываем самих себя и описываем это на языке же. Итак, мы не можем выйти за пределы, начерченные нам изначально. Поэтому избитое и тривиальное положение о том, что «рыба еще не ихтиолог», приписываемое то одному ученому, то другому, можно понимать не только как насмешку над «рыбами», а как невозможность самоописания. Поэтому положение исследователей-лингвистов, быть может, гораздо сложнее, чем настоящих «ихтиологов», описывающих нечто, находящееся извне.
Таким образом, то, что ниже нами предполагается как Выводы, в известном смысле можно сравнить с жанром «Положения, выдвигаемые на защиту». И только.
1. Итак, предполагается, что в языке крутятся две «шестеренки»: та, что является основой слов знаменательных, и та, из чего в дальнейшем создается коммуникативный фонд. В этом смысле я предполагаю несколько иное деление, чем у Ф. Адрадоса,
К. Шилдза и их предшественников, начиная от Ф. Боппа. Так как деление исходных единиц на два класса – глагольно-именные и прономинально-адвербиальные – все же ведет к привычной частеречной таксономии, однако сильно укрупненной, то единицы коммуникативного фонда в нашей книге именуются партикулами. Тем самым я подчеркиваю их принципиальное отличие от привычных таксономических частиц, которые могут по своему происхождению и не быть партикулами, и не состоять из них. Это и не «служебные слова», происхождение и формирование которых также достаточно разнообразно. Их строение, как правило, моносиллабично, для славянского мира оно описывается как CV или только V. В немецкой лингвистической традиции (а в нашей книге несомненно прослеживается влияние классической немецкой школы младограмматиков, «телеологов» и лингвистов начала ХХ века) говорится в таких случаях в основном о согласном, Stammlaut.
2. Сколько же в нашем языке (в наших языках) элементов, из которых в дальнейшем возникают знаменательные слова и частеречные классы? Как представляется, их бесконечно много. Десятки и даже сотни тысяч. А сколько – для каждого индоевропейского языка – мы знаем партикул? Очень немного, просто мало – примерно до двух десятков единиц при любой классификации. И, что самое поразительное, число их практически не меняется. Новые не возникают! Значит, где-то здесь заложена одна из основных языковых тайн, разгадать которую пока еще невозможно. Обычно те лингвисты, которые ощущали роль партикул в языковой истории, называли их «дейктическими частицами». Я избегала и избегаю этого определения, так как оно претендует на слишком близкое знакомство с функциональной семантикой единиц языка эпох, слишком для нас отдаленных.
3. Партикулы участвуют во многих языковых системах, создавая то, что мы теперь называем словами и словоформами. Из них создаются тематические компоненты основ, а потом к основам – из того же набора – прибавляются флексии, может быть, состоящие из нескольких сливающихся затем единиц. Мы видим, как из этого же набора возникают категориальные показатели, примыкающие к «хозяину» как справа (например, аугмент), так и слева. Наиболее сложным видом потенциально определяемых партикул являются так называемые клитики, так как, несмотря на огромное число исследований, до сих пор не определено, как отличить клитику от не-клитики и как фонология слова связана здесь с синтаксической интонацией. Из партикул создаются парадигмы. Парадигмы имени, глагола, прилагательного. Большинство местоимений (кроме местоимений 1-го и 2-го лица) целиком состоят из партикул. Из них же стоят и многие «местоименные» наречия. Так, в истории языка просвечивает былая агглютинация.
4. Таким образом, партикулы, оставаясь исходно неизменными, могут налагаться друг на друга, контаминироваться, перекомбинироваться, подвергаться ре-анализу, наконец, менять свои позиции во фразе. Одни и те же партикулы могут «прилипать» к будущим глагольным формам, к будущим именным, могут создавать союзы, традиционные частицы, наречия. Могут как бы «перебегать» из одной парадигмы к другую. Поэтому наша книга и имеет подзаголовок «История блуждающих частиц».
5. Неизменность. Циклы. Преобразования. Эти противоречивые свойства характеризуют партикулы в их истории. Но интересно то, что их свойства – присоединяться (хотя бы друг к другу) и менять свои позиции – должны были бы продолжаться и стимулировать возникновение новых парадигм и новых партикулярных сочетаний. Однако этот почти детский «конструктор» на каком-то этапе начинает приостанавливать свой механизм. Для славянского мира это примерно XVI век. Очевидно, что для создания языковой истории начинают действовать какие-то новые механизмы, о которых я писать не хочу, так как все предположения по этому поводу остаются на уровне догадки.
6. Почему наша книга называется «Непарадигматическая лингвистика», хотя в ней так много внимания уделено созданию частеречных парадигм? Именно поэтому. Я считаю (хотя отдельные высказывания по таким же поводам есть и в литературе у коллег и в более ранних работах), что создание парадигм, точнее, словоформ, основывается на некоем еще не описанном «минисинтаксисе», когда к основе присоединяется элемент определенного значения. Например, i, создающее «вторичные» глагольные окончания, расшифровывается как некая «частица» со значением ’here and now’. Несомненно, что *-s в именительном падеже имени и оно же в сигматическом аористе семантически тождественно, так как оно привязывает происходящее в случае аориста (или его тему, топик – в случае имени) к наглядной ситуации. В дальнейшей языковой истории близкие по семантике партикулы могут подменять друг друга, функционально смешиваться.
7. Но все же основное значение всех единиц партикульного фонда – это отношение к категории определенности / неопределенности.
8. В книге не раз отмечалось сходство основных индоевропейских парткул с партикулами аналогичного функционирования в неиндоевропейских языках. В наибольшей степени привлекались данные финно-угорских языков (исследования К. Е. Майтинской) и некоторые сведения о енисейских языках. Этими ведущими партикулами (или, если вернуться к немецкой традиции, элементами с консонантной опорой такой-то) были партикулы с t-основой, d-основной, п-основой, s-основой.
9. Более подробное описание партикул показывает, что их можно разделить на употребляющиеся изолированно и те, которые в основном существуют, присоединяясь к чему-то другому, – к таким же партикулам или к знаменательным элементам. Первую группу партикул мы называем примарными. Например, это союзы вроде а, и, но; частицы вроде же, ли, ни и т. д. На уровне общеславянского пространства определить функциональную семантику каждой партикулы (примарной или нет) бывает достаточно трудно, так как они являются неким потенциальным материалом общедиффузного значения. Но уже при контактном соединении даже двух партикул начинает проходить грамматикализация партикульных кластеров, создаются некие элементы с достаточно ясной семантикой. Они тоже могут функционировать изолированно, или становиться чем-то похожим на значимый аффикс. Например, а + ко есть показатель образа действия, а + мо – показатель места, но къ + то, чь + со – это уже существующие изолированно местоимения. Разумеется, на многие вопросы, особенно те, которые касаются партикульной грамматики порядка, ответить было невозможно. Например, почему та + къ это наречие, а къ + то – местоимение? Почему то + ли (в смысле То ли еще будет!) существует, а ли + то – нет? И т. д.
10. Конечно, при сопоставлении славянских партикульных систем большую роль играли и играют графико-оптические привычки. Так, мы знаем о существовании ряда партикул в славянских языках потому, что они пишутся контактно, а в русском языке много таких партикул с дистантным расположением: Да ответишь ли ты мне, наконец?.
11. Славянские местоимения состоят, как известно, из двух видов: местоимения краткие (обычно называемые прономинальными клитиками) и местоимения, имеющие некую большую протяженность по сравнению с краткими. Уже очевидно, что эти последние состоят, как правило, более чем из двух частей. Так, еще в XIX веке писали о возможном разложении, например, формы ему на две: je + mu, где первый компонент соотносится с партикулой-релятивизатором – *j(eA)). Местоименные формы второго типа принято называть «полноударными», иногда – просто «ударными». Строго говоря, это и неверно, и неточно. Так, если произнести вслух (или проговорить про себя): Токмо волею пославшей мя жены и Токмо волею пославшей меня жены, то лингвистическое ухо не уловит никакой разницы в ударности / безударности последнего слога обеих форм местоимения. Идея же «полноты» ударности вообще не фонетическая. Отдельно произнесенные звуки [a] после мягкого палатального произносятся в обоих случаях примерно идентично. Это значит, что можно говорить только о том, что при установке на дополнительную коммуникативную категорию – выделение, противопоставление, подчеркивание темы и под. – употребляются только «полные» формы. То есть – это фактор семантический и достаточно древний. Он легко расшифровывается: здесь нужно с максимальной точностью указать, кого мы выделяем: JE-GO. Непонятным и, по моему мнению, неверным, является любимый критерий клитиковедов: то, что они сливаются со знаменательной частью в одно фонологическое слово. Известно, что, например, в русском языке логотипы Тамарка была и Там арка была произносятся абсолютно идентично (исследования Петербургской школы экспериментальной фонетики). Следует ли из этого, что там – это проклитика?
12. Неясным остался в монографии интересный вопрос: почему местоимения первого и второго лица обоих чисел сохраняют некий не-партикульный элемент, а местоимения третьего лица – будь то полные или краткие – целиком состоят из партикул (разного набора?).
13. Однако язык во многом оказывается сложнее, чем это представляется языкознанию. Так, например, в книге достаточно подробно реконструирована история русского односложного местоимения первого лица я, которое в конце концов возводится к интродуктивной сложной комбинации элементов, означающей примерно ’вот он я’, или, как формулирует В. Н. Топоров, ’вот моя здешнесть’. «Скрытая память» русского языка сохранила семантику различия высказываний с я и «без -я». Поэтому и в истории партикул не всегда краткое сложнее более развернутого.
14. Исследователи клитик часто говорят об обнаруженном в немецком языке (не знающем кратких прономинальных форм) местоимений слабых и сильных. Наше исследование показало, что в русском языке можно говорить о таком же явлении. Но лучше от этой теории отказаться, так как в обоих языках сила или слабость (просодическая, конечно) зависит не от исходных свойств того или иного местоимения, а от их синтаксических и интонологических коммуникативных заданий в высказывании. Несмотря на блестящие результаты А. А. Зализняка, исследовавшего позиционную хронологию русских энклитик, открытым в этом плане остается вопрос об исчезновении в позднем русском общеславянской клитичности и переходе на систему полных местоимений.
15. Выше (п. 7) говорилось о том, что основной семантической категорией, определяющей весь спектр значений партикульного фонда, является категория определенности / неопределенности. В современном мире славянской грамматики обе стороны этой категории выражают партикулы с консонантными опорами на *s и *t. Это может быть некто, тотъ, кто-то, этотъ, вчерась, сей, kto§, небось и т. д. Амбивалентность этих партикул говорит об их архаике. Более внимательный анализ славянского словаря и грамматики показал, что славянские языки лишь частично, благодаря закону открытого слога и других мощных структурных преобразований, сохранили индоевропейское наследство, в котором пара s/t играла колоссальную роль в создании основ и парадигм в целом. Разным точкам зрений лингвистов, постаравшихся объяснить ведущую роль этой консонантной пары и их возможную комплементарную заменяемость, посвящен специальный раздел главы второй нашей монографии. Как и в случае с клитиками, несмотря на самое внимательное отношение к материалу, никто не проводил анализ экспериментально-фонетический. Наше исследование показало – в известной степени – причины исходного доминирования этой консонантной пары в коммуникативном партикульном фонде.
• Во-первых, обе эти согласные глухие, а глухие консонанты акустически (и тем самым перцептивно) сильнее звонких.
• Во-вторых, они различаются только по одному признаку: способу образования, но не различаются по месту образования.
• В-третьих, они «сильнее» других глухих, что является фактом экспериментальной фонетики, на который никто не обращал внимания.
16. Наконец, как эволюционируют эти элементы в пределах, скажем, славянского пространства? Я думаю, что эволюционная схема здесь такова:
• На первом этапе консонантные опоры партикулы не различают глухих и звонких. Семантика их диффузна и в дальнейшем может различаться даже в пределах родственных языков.
• На втором этапе выделяются будущие «изолированно функционирующие партикулы». Происходит формирование кластеров. Партикулы приобретают более четкое значение. Например, о + ва + ко – образ действия, а о + ва + мо – локальность.
• На третьем этапе (точнее, последнем) происходит окончательная грамматикализация: изолированных партикул, распределившихся по союзам, частицам, местоимениям, словоформ с партикулами-флексиями, партикульных кластеров разной таксономии.
17. Наконец, мы вновь возвращаемся к первым разделам монографии, где ставится вопрос о том, почему до сих пор существует в языкознании никем полностью не описанный, но всячески демонстрирующий себя на разных узлах языкового существования целый пласт языка? Ответ на это был дан мною в первой главе в соответствии с идеями Т. Куна о развитии «нормальной науки» и том периоде, когда ее акме становится тормозом и проблемы альтернативных научных построений снимаются. В нашем случае есть еще в языкознании и некоторый страх – страх перед поиском первообразных элементов, страх перед чем-то неведомым, что явно таят в себе наши непритязательные партикулы. Поэтому они и не описываются целиком, а отдельные исследования, даже и замечательные, существуют. Как ни удивительно, у лингвистов-предшественников, начиная с Ф. Боппа и кончая Ф. Шпехтом, этого страха не было.
Я старалась показать и даже доказать, что «по-уровневая» лингвистика, начинающаяся с фонологического уровня, строится на системно-абстрактном уровне и потому с языкознанием, начинающимся с элементарных частиц и высказываний и доходящего, поднимающегося до парадигматического строя с синтаксисом, в нашем понимании еще не упорядоченным, сосуществовать не может.
18. Я надеюсь, что эта моя книга будет первой отечественной монографией, развивающей вопросы метаописания и просто описания этих первообразных коммуникативных элементов.
Приложения
Приложение № 1
Список примарных общеславянских партикул
Итак, нами был выведен следующий список примарных общеславянских партикул (сначала представляем их в латинице, затем в кириллице):
● a/; а,
● e/ o/ vo; е / о / во;
● i / hi / ji / jь; и ;
● da; да;
● li; ли;
● ne; не / нě;
● ni; ни;
● no / nu; но / ну;
● no / nъ; но / нъ;
● se / sь; се / сь;
● ta; та;
● to / tъ; то/ тъ;
● tu / ту;
● že; же;
Разумеется, этот список требует обсуждения.
Приложение № 2
Список славянских партикул
1. (J)u
2. (J)ь
3. A
4. Ba
5. Bo
6. Ča
7. Ce
8. Če
9. Ci
10. Či
11. Cь
12. Da
13. De
14. Dě
15. Do
16. Dy
17. E
18. О
19. Ei
20. Ga
21. Go
22. Ha
23. I
24. Jed
25. Ka
26. Ko
27. Kъ
28. Lě
29. Le
30. Li
31. Na
32. Ne
33. Ně
34. Ni
35. No
36. Nu
37. Nъ
38. Ød
39. Onъ
40. Ovъ
41. Sa
42. Se
43. Si
44. Sь
45. Ta
46. Te
47. Tě
48. Terъ
49. Ti
50. To
51. Tu
52. Tъ
53. Va
54. Ve
55. Vě
56. Že.
Постараемся сгруппировать их по признаку «консонантной опоры»:
1. Da; De; Dě; Do; Dy;
2. Na; Ne; Ně; No; Nъ; Ni; Nu;
3. Ga; Go; Ha; Že;
4. Ka; Ko; Kъ
5. Ta; Te; Tě; Terъ; Ti; To; Tu; Tъ
6. Ba; Bo
7. Sa; Se; Si; Sь
8. Lě; Le; Li
9. Va; Ve; Vě
10. Ča; Če; Če; Či
11. Ce; Ci; Cь.
Теперь перечислим партикулы: 1) гласные или 2) с опорой на гласную
1. A ; Е;О; И
2. (J)u; (J)ь; Ei; Ød; Onъ; Ovъ.
Приложение № 3
Словник партикульного фонда славянских языков[136]
1. a (см. главу 3)
2. abo[137] < a bo или a (le) bo; в ЭССЯ 1974 представлено как *a bo
3. aby < a by (последний элемент как партикула сомнителен) в ЭССЯ 1974 представлено как *a by
4. acě < cě или < a kъ
5. ače/atje < a če; a tje; в ЭССЯ 1974 представлено со специальной оговоркой, что слитная форма неверна, поскольку «здесь целесообразно считаться с наличием словосочетания, а не слова»
6. ačej < ?[138]
7. ačakъ < a ča kъ
8. ašte – ?
9. ači > či
10. ada < a da / a tak
11. ady < a dy
12. adde < a adé; de < hde < kъ de
13. addež < a d že
14. aha – сложная трактовка, возможно, первичное междометие
15. ai < a i
16. ajá < a i á
17. ajak že < a i a kъ že
18. ajbo < aj bo
19. ajno < aj no
20. ako – вариант acě < *j -ĕ ko; в ЭССЯ 1974 объединено с *jako. Праформа характеризуется как «неясная». Возможно, в условиях фразовой фонетики все примеры с а– утратили местоименную инициаль *io– ‘этот’
21. aky/oky < ja ko
22. ala < a/o l a/e/i
23. albo, alebo < ф ду ищ
24. ale/ali/ala (все предыдущие партикулы в ЭССЯ не представлены[139]; данное сочетание характеризуется как «исключительно сев.-слав. cоюзное словосочетание»)
25. alebo, alibo, aljubo
26. ali/ale < a lě/li
27. aliže < a li že
28. al’ni – ?
29. āmo < a a mo; в ЭССЯ 1974 представлено как *amo/jamo.
Возможно, формы на а– также утратили местоименную инициаль
30. anda < a nъ da
31. ande < a nъ de
32. anež < a ne ž(e)
33. ani < a ni; в ЭССЯ 1974 представлено как *a ni и характеризуется как «усиленное союзом *a отрицание *ni»; выше перечисленные формы в ЭССЯ не представлены
34. anit’ < a ni ž(e)
35. anikoj < a ni ko j(ь)
36. aniž < a ni ž(e)
37. ano < a no(ъ)
38. anti < a no ti
39. anto < a no to
40. antož < a no to ž(e)
41. anu < a nø/nu
42. anys’ < a nu sь
43. anžto – см. antož
44. are < a ž(e)
45. arti < a ti
46. asi < a si
47. ati, atc, at’ < a ti (предлагается вариант < a dati)
48. atje (в ЭССЯ 1974 подчеркивается необходимость различать этот «уступительный» союз и союз *a če; их позднейшее схождение вторично)
49. ato (ata, atъ) < a to
50. atoli < a to li
51. ava(se)/avo < a ovo < a o vo se. Русск. авось
52. avžež < a (j)u že ž(e)
53. avžo < u (j)u ž(e)
54. aže < a že
55. ažež < a (j)u že ž(e)
56. ažno < a ž(e) no
57. ba – междометие «Lallwort» (см. в главе 3)
58. bo – близко к ba, хотя этимологии предлагались различные (о соотношении *ba/*bo см. в главе 3)
59. bojedin – неопределенное местоимение: bo j(ь) ed i nъ
60. boli < bo li
61. by – по поводу этимологии существуют самые разнообразные суждения
62. ce – вариант te
63. cě – вариант ci/ča
64. cej – вариант tej/sej
65. ci > či
66. cili < ci li
67. ča < čь(to)
68. čak < a čak
69. ce < (a)ce < a ko
70. cego – в Etim. slov. описывается как каузативное наречие (см. в главе 3)
71. ci – вариант ce
72. c i li < c I li
73. Сьь < сь jь
74. Cьto/Ceso < сь to / ce so
75. c’to by < сь to (by)
76. Ctosi < сь to si
77. Cto-to < сь to to
78. Cto ze < сь to ze
79. da (см. раздел в главе 3)
80. da (do) i < da i
81. daCe < da сє
82. dakako < da ka ko
83. dakle < da Цъ) le
84. dako < da ko. См. проблему соотнесения с tako/ta_ в главе 3
85. da li < da li. В македонском и болгарском пишется слитно
86. daniz < da ni z(e)
87. dano < da no
88. danu (см. dano)
88. dardo < da z(e) / do z(e)
90. dasi < da si
91. dasto < da сь to
92. dati < da ti, параллель к a ti
93. da to < da to
94. daze/doze < da/do/dy ze; в ЭССЯ 1977 представлено как *da ze. Существенное замечание в ЭССЯ «Ввиду того, что конструкцию *da ze трудно отделить от *do ze как формально, так и семантически (ср. др. – русск., русск. – цслав. доже ’до’ = ст. – слав. длже (…) можно ставить вопрос об этимологическом родстве *da и *do. Исконно дейктическая сущность обеих форм очевидна»
95. dej – этимология неясна
96. deka < _ de ka
69. če < (a)če < a ko
70. čego – в Etim. slov. описывается как каузативное наречие (см. в главе 3)
71. či – вариант cě
72. č i li < č I li
73. čьjь < čь jь
74. čьto/česo < čь to / če so
75. č’to by < čь to (by)
76. č’tosi < čь to si
77. č’to-to < čь to to
78. č’to že < čь to že
79. da (см. раздел в главе 3)
80. da (do) i < da i
81. dače < da če
82. dakako < da ka ko
83. dakle < da k(ъ) le
84. dako < da ko. См. проблему соотнесения с tako/takъ в главе 3
85. da li < da li. В македонском и болгарском пишется слитно
86. daniž < da ni ž(e)
87. dano < da no
88. danu (см. dano)
88. dardo < da ž(e) / do ž(e)
90. dasi < da si
91. dašto < da čь to
92. dati < da ti, параллель к a ti
93. da to < da to
94. daže/dože < da/do/dy že; в ЭССЯ 1977 представлено как *daže. Существенное замечание в ЭССЯ «Ввиду того, что конструкцию *da že трудно отделить от *do že как формально, так и семантически (ср. др.-русск., русск.-цслав.дожє ‘до’ = ст.-слав. дажє <…> можно ставить вопрос об этимологическом родстве *da и *do. Исконно дейктическая сущность обеих форм очевидна»
95. dej – этимология неясна
96. deka < kъ de ka
97. deno < kъ de no
98. deto < kъ de to
99. de – первичная форма партикулы
100. dě < kъ de
101. di – вариант do
102. dga/dha < da ha
103. do – характеризуется как вариант da, см. главу 3; в ЭССЯ
1978 характеризуется как предлог, который «восходит к и.-е. *dō, предлогу-послелогу мест. происхождения»
104. dok < do ka
105. doka/doky – характеризуется как сокращение do ko li; в ЭССЯ 1978 описывается как сочетание do + ka со значением ‘до тех пор, пока’. Интерпретируется генетически как сложение *do и местоим. происхождения *ko, в расширенных вариантах kъ
106. dokar < do kar
107. dokad < do k(ъ) ød
108. dokal’ < do ka li
109. dokle < do ko l(i)
110. dokol’/-kal/kul/kel; в ЭССЯ 1978 описывается как сочетание *do, см. выше о нем, + *ko, см. выше о doka, + энклитика *lĕ/*li
111. dok(og)ъda/dy < do k(og)o da/dy
112. donde že < do onъ dě že
113. donde < do onъ dě
114. do-n-jel < do ne je li
115. do-n-jød < do onъ ød
116. donle < do onъ le
117. dosele < (в ЭССЯ 1978 представлено как *do se / *do se lě.Характеризуется как сочетание предлога *do, местоимения sь/se и энклитической частицы lĕ)
118. doseli < do se li/lě
119. dosenova < do se onъ ovъ a
120. dosød/dosad < do sad < do sø de
121. dotad < do t(ъ) ø de
122. dotamo < do ta mo
123. dotog(ъ) da/dy < do to gъ da/dy
124. dotol-, tal, tul, tel < do to/ta/tu/te lě (в ЭССЯ 1978 описывается как сочетание *do, см. выше, + *to/tъ и энклитической частицы lĕ)
125. dotød/tad < do tø de
126. dotonova < do to on(ъ) ov(ъ) a
127. doty < do to j(ь)
128. dovde < do ovъ de/dě
129. dovle < do ovole < do ov(ъ) le
130. dože < da že
131. duž < *tuž < t/d ju že
132. dy – вариант da
133. dyk < da/do kъ
134. dyžli < (kъ) dy že li
135. e (см. главу 3)
136. eče < e če
137. eda – только по ЭССЯ 1979. Авторы Словаря представляют кластер как
*e da и видят в нем «pанее местоименное соединение двух основ»
138. edak < je da kъ
139. edakij (см. ниже о *je de kъ jь)
140. ede– первая часть неопределенного местоимения
141. edin/edьnъ (в ЭССЯ 1979 объединены оба эти кластеры партикул, значение ‘один, единственный’
142. edinakъ (jь) – только в ЭССЯ 1979 наречие со значением‘тот же самый’
143. eftot (см. eftot)
144. ei – первичное междометие, затем партикула ‘да’, варианты hej
145. ejsaka < ej sa/so ka
146. ejse < ej se gъ da
147. ejtu < ej tu
148. ega – возможно < aga/aha; возможно < (j)e gъ da
149. eko < e ko
150. ele/hele – ?
151. eli/jeli < je li; в ЭССЯ 1979 представлено как *e *lě/li
152. em < hem
153. ema < ama < a ma
154. eno < ono/ano/ino {a, o, i} no
155. entot/estot < e {n, s} to tъ
156. ese < e se; в ЭССЯ 1979 представлено как *e se со значением ‘вот’. См. ст.-слав. єссє
157. eta < e ta
158. etako < e ta ko
159. etamo < e ta mo
160. etavako < e ta ovъ a ko
161. eterъ < je/e terъ
162. etnode < e tъ on Ød de
163. eto < e/je to; в ЭССЯ 1979 представлены в одной статье *etъ, *e ta, *e to. Харктеризуется как сочетание *e и местоименной основы *to-. Возможен ранний характер конструкции»
164. etot < e to tъ
165. etoliko < e to li ko
166. etovi < e to ov (i, a, o)
167. etød < e t(ъ) ød de
168. evaj < e (o)vъ a j(ь)
169. evaki < e (o)vъ a ki( jь)
170. evako < e (o)vъ a ko
171. evo < e ov(ъ) o
172. evovej/evovaj < evo ovaj < e ov(ъ) a j(ь)
173. evtot < e (o)vъ to tъ
174. eza – ?
175. ezdakij < e že da k(ъ) i j(ь)
176. eže < (j)e že
177. ga < da?
178. geto < kъ de to / kъ dě to
179. ha – первичное междометие
180. hač < ače < a če
181. haj, aj, – междометие
182. hajno < ai no
183. hajde – общебалканское междометие
184. hajwo < ai a ovъ
185. hakle < a/ja ko lě
186. hani < a ni
187. haza < a za(?)
188. hedé < e de
189. hej/hyj > ej
190. hejzo(li) < je zo/že li
191. hen – ?
192. hev < evako < e (o)vъ a ko
193. hižli = dyžli
194. horky (že) – ?
195. cha < a
196. chyba < i ba
197. i (см. в главе 3)
198. iako < i a ko
199. iba – ?; в ЭССЯ 1981 объединено с ibo и представлено как *i ba, *i bo. Значение ‘ведь, даже. Является сочетанием *i и частицы *ba’
200. ibo (см. выше)
201. ida < j(e) da
202. ile < je le
203. ili < i li; в ЭССЯ 1981 представлено как сочетание *i и *li
204. im – ?
205. imъže – jь že
206. inda/indo < a/i nъ da
207. indi < jь nъ di (?)
208. ini < i ni
209. inno < inda < a/i nъ da
210. ino < i no ( в ЭССЯ 1981 представлено как сочетание *i и *no. Указано, что М. Д. Фе анализирует это сочетание как «сочетание с указат. мест. оно»
211. inovo < jь nъ vo
212. inu < jь nu
213. ionako < i onъ a ko
214. itako < i ta ko
215. iza < i za
216. izda < I sad a
217. Ižby < I že by
218. iže < I že < jь že
219. ižno < i že no
220. Ja (не местоимение 1-го лица, этимология неясна)
221. Jacy < a tь e / ače
222. Jače/jatje (см. выше)
223. Jady < (j) ød u
224. Jako < J(ь) a kъ
225. Jak(ъ) < j(ь) a kъ; в ЭССЯ 1981 представлено как *jakъ(jь).
Слово вызывает трудности в трактовке, так как совпадаетс праслав. Jakъ ‘какой’. В этом слове вторично развилось значение «сильный, крепкий». «Здесь сосредоточен основной корпус примеров на адъективно-местоименное *jakъ, генетически связанное с относительно-вопросит.местоим. *io-»
226. Jali < j(ь) a li
227. (J)amo < j(ь) a mo
228. janu < j(ь) a nu
229. jec – вариант leč
230. (j)eda < (j) eg(ъ) da/-dy
231. (J)edak(-kij) < (j)e da kъ (ij)
232. je de kъjь – представлено только в ЭССЯ 1981. Имеет значение ‘некий, какой-то’. Трактуется как сочетание мест. je (от *jь) с частицей de и мест. *kъjь
233. Jedinamo < (j)ed in a mo
234. Jedinoždy < (j)ed i no že dy
235. jedinъde < (j)ed i nъ de
236. jedinơdě < (j)ed i nъ ơd ě
237. je (d)no < (jed) no
238. jednolik < (jed) no li kъ
239. jednoliko < (jed) no li ko
240. jedy < je g(ъ) da/dy
241. jed(ъ)va < jed(ъ)va
242. led(ъ)va < l/jed(ъ)va
243. jedьnaga < jed(ъ) na ga
244. jedьnako/jedьnače < jed in a ko/če
245. jedьnakъ/jedinakъ < jed in a kъ
246. jedьnova < jed in ov a
247. (j)edьnъ/(j)edinъ < e/jed ьnъ
248. (j)egъda/dy < (j)e gъ da; в ЭССЯ 1981 представлено так же. Трактуется как «сложение (или сочетание) мест. je ср. р. (см. *jь) и энклитик ga, da. Мейе возводил это слово к сочетанию *jego goda
249. jekudž – ?
250. (j)elě < je lě
251. jeli (jelь, jele, ile) < je li; в ЭССЯ 1981 представлено в виде *je li. Трактуется как сочетание местоимения je > *Jь с частицей li
252. ile (см. выше)
253. jeliko < je li ko
254. jelikъ < je li kъ
255. jer < je že
256. jerbo < je že bo
257. jelьma/mi < je li ma/mi
258. (j)eša – ?
259. ješče /ešče – ?
260. ježe /eže < (j)e že
261. ježeli < (j)e že li
262. ježto < je že to
263. jod < jð dě
264. jødu/-dy – представлено только в ЭССЯ 1981. Значение ‘откуда’. Сложение мест. *Jь, вернее вин. п. от формы ж. р. и энклитики -du, -dy.
265. ju, juže < ju že или < u že; в ЭССЯ 1981 представлено как *ju ze. Трактуется как сочетание *ju и частицы *že
266. (j) ьde / (j) ьdě / (j)ь djě < jь de
267. jьnako/jьnače <jьn ače; в ЭССЯ 1981 представлено как *jьnakъ(jь). Остается неясным определяется ли семантика его местоимения или местоименного наречия, поскольку приводятся примеры того и другого. Трактуется как «производное с суф. -akъ, ako от *jьnъ»
268. jьnakъ (см. выше)
269. jьnamo < jьn amo; в ЭССЯ 1981 описывается как «нареч.,производное с суф. -amo от *Jьnъ»
270. jьno < jь no < i no
271. jьnogъda < jь no gъda; в ЭССЯ 1981 представлено с окончаниями -da/-de/-dy/-dъ. Сообщается, что первоначально здесь усматривали редукцию -goda. Трактуется как сложение *jьnъ и энклитической частицы -gъ -da
272. jьnъ – в ЭССЯ 1981 представлен как *jьnъ (jь). Предполагается связь с и.-е. *ojno-, ср. лат. ūnus
273. jьnъde – представлено только в ЭССЯ 1981. Значение ‘в другом месте’. Трактуется как сочетание *jьnъ и энклитич. частицы -de
274. jьnødě < jьn ødě
275. jьnъda/dy < jьn da/dy; в ЭССЯ 1981 представлено дополнительно с формой *jьnødu. Значение ‘в другом месте’.
Трактуется как сочетание
*jьnъ, точнее – вин. п. ж. р.
*Jьnø с энклитическими частицами -dy, -du
276. ka (см. главу 3)
277. kaby < ka(kъ) by
278. kaj < ka i
279. ka-d < ka/ko/kъ da/de/dy
280. kajno < kъ jь no
281. (ka)k (i)na / (ka)kêna < ka kъ jь na
282. kako < ka ko/ъ; в ЭССЯ 1983 представлено как *kako, *kakъ (jь). Характеризуется как местоименное прилагательное. Однако первично наречие *kako (трудно понять,как именно такое утверждение верифицируется, поскольку отсутствие точного соответствия в балт. еще ни о чем не говорит. – Т. Н.). Объясняется это слав. слово как расширение с помощью суф. -ko местоименного *ka-,предположительно тв. пад. ед. ч. от мест. *kuªo– ‘кто, какой, который’)
283. kakono < ka ko no < kak ono
284. kakosi < ka ko si
285. kakoto < ka ko to
286. kakovъ(jь) – представлено только в ЭССЯ 1983. Описывается как производное с суф. -ovъ от *kakъ
287. kakože < ka ko že
288. kakъ < ka ko/ъ
289. kamo < ka mo; в ЭССЯ 1983 представлено как *kamo. Образовано от тв. пад. ед. чис. местоим. основы в соединении с наречным суффиксом -mo.
290. kamosi < ka mo si
291. kamože < ka mo že
292. kan < ka nъ
293. kanda < ka nъ da
294. kao < ka ko
295. kar < ka že
296. kasi < ka si
297. kato < ka to
298. kažьdъjь – представлено только в ЭССЯ 1983. Наиболее архаичной авторы считают форму *kъžьdo, которая трактуется как сочетание *kъ и žьdo от глагола ждать. Авторы критически относятся к тем исследователям, которые считают, что žьdo состоит из двух частиц: žь и do
299. kaže < ka že
300. kdežto < kъ de že to
301. keby < ked’by < kъ dy by
302. kec < ke dъ ci
303. ked’ < kedy < ko gъ dy
304. kenž/kinž < kъ jь nъ že
305. ker < kъ de že
306. kerady/kěrai < ko terъ a dy
307. kesik < ke si kъ
308. kie < ky < kъ jь
309. kien(i) – ?
310. kina < (ka) ki no
311. kino < kь jь no
312. kjer < kъ de že
313. ko < ko gъ da или < a ko или примарная частица ko
314. kogъda/dy, kъgda/dy < ko gъ da/dy; в ЭССЯ 1983а представлено в форме *kogъda/*kogъdy. Предполагается, что соотношение с *jegъgda, возникшим не без влияния формы года, сменило прежнюю форму *koda, которая представляла собой сочетание мест. *ko и энклитики -da; в ЭССЯ 1987 представлен вариант *kъgъda. Трактуется как вариант к *kogъda, от «которого его трудно отличить»
315. kogъdato < ko gъ da to
316. kogъdaže < ko gъ da že
317. koj < ko jь
318. koje < ko jь je
319. koje/že < ko jь je že
320. koli/kolě < ko li/lě; в ЭССЯ 1983а представлено как *ko *li / *ko *le.
Затрудняет сопоставление тот факт, что после 1980 г. составители ЭССЯ стали пользоваться данными Etim. slov.
321. koliko < ko li ko; в ЭССЯ 1983а представлено как *koliko/*kolikъ (jь). Рассматривается как расширение сочетания *ko li с помощью частицы ko
322. kolikъ (см. выше)
323. koližъde(do) < ko li že do
324. kolьmi/ma < ko li mi/ma
325. konda/kono < ka ko no
326. koter-/kъter-/kotor-/kъtor ødy < ko terъ ød y
327. koter-/kъter-/kotor-/kъtorъjь že < ko terъ že
328. kotorъjьžde-/-ždo < kъ terъ jь že de
329. kødě/kødu/køda/kødy < kъ ø dě/du/da/dy
330. kodaže < ko da že
331. kød/kad (см. выше)
332. køděžeto < kø dě že to
333. kudijen < ku dy on(ъ)o
334. kutu > kog da to
335. kъde/kъde < kъ de/dě; в ЭССЯ 1987 представлено. Праслав. *kъde восходит к наречию места и.-е. *kǔdhe. Это сочетание мест. *ku и энклитической локативной частицы *d(h)e
336. kъdeno < kъ de no
337. kъdeže < kъ de že
338. kъdesi < kъ de si
339. kъdy/kъda < kъ dy/da; в ЭССЯ 1987 представлено и трактуется как соединение мест. *kъ и энклитической частицы. Разница в вокалической огласовке, возможно, коренится в имитации падежных флексий: -у, вин. п. мн., -а,род. п. ед.»
340. kъdyby/kъdaby < kъ dy/da by
341. kъdy(ga)to < kъ dy/da to
342. kъdyže/kъdaže < kъ dy/da že
343. kъgъdysi < kъ gъ dy si
344. kogъdyby/kogъdaby < ko gъ dy/da by
345. kъdyto < kъ dy to
346. kъdysi/kъdasi < kъ dy/da si
347. kъjь < kъ/o jь; в ЭССЯ 1987 представлен в двух вариантах: *kъjь и *kъjь že. Трактуется как «йотовое (адъективное) производное от мест. *kъ(*ko).
348. kъjьno < kъ jь no; вариант: koji ono
349. kъjьsi < kъ jь si
350. kъjьto < kъ jь to
351. kъjьže < kъ jь že
352. kъjьžьde/žьdo < kъ jь že de/do
353. kъterъjь/kъtorъjь < kъ terъ jь; в ЭССЯ 1987 представлено.Трактуется как вариант к *koterъjь/*kotorъjь; вокализм обнаруживает старое соотнесение с *kъto
354. kъto < kъ to; в ЭССЯ 1987 представлено как *kъto. Авторы считают, что оба слова оформлены дейктической частицей -to, «в чем проявляется общая тенденция релятивизации вопросительных местоимений. Наращение -to —славянская инновация, а не продолжение и.-е. -t/d; ср.противоположное мнение Георгиева
355. kъtosi < kъ to si
356. kъtože < kъ to že
357. kъžьde/-žьdo < kъ žь de
358. le (см. главу 3 как lě)
359. lěbo < le bo или lě bo; в ЭССЯ 1987а описывается как каузативный союз, образованный праслав. cочетанием частиц *lě и *bo
360. ledva < le/je d(ъ) va
361. lego < lě go
362. len < le no
363. lestože – представлено только в ЭССЯ 1987а. Трактуется по-разному. 1) Как сращение частиц: *lě sъ to že; 2) как *lě isto že. Последняя версия представляется авторам более вероятной. Заканчивается своеобразно: «Праславянская древность необязательна»
364. lestor/listor < lě sъ to(že)
365. le tak < lě ta k(ъ)
366. lež < lě že
367. lě – примарная частица, см. главу 3
368. lěče/lěči < lě če; в ЭССЯ 1987а представлено как сочетание lě и če. Отвергаются гипотезы генетического тождества čь с вопросительным местоимением čьto и происхождения čь из сокращения či
369. lěda < lě da; в ЭССЯ 1987а. трактуется как частица с ограничительным значением, образованная сложением * lě и da
370. lědma < je/lě d(ъ) va
371. lěky < lě ky; в ЭССЯ представлен и трактуется как сравнительный союз, образованный сложением частиц lě и ky, которое в свою очередь соотносится с če и že
372. lěli – представлен только в ЭССЯ 1987а и трактуется как условный союз, образованный соединением частиц lě и *li. Не исключается вторичное развитие из *je li
373. libo < li bo, вариант: от ljubo
374. liki< lěky < lě ky
375. ma < a ma
376. maj —?
377. na < nъ
378. nai < na i
379. nače < i na če
380. nadali < na da li
381. na(d)tot’ /na(d)toz
382. nale < no a le
383. nali < na li
384. neli – см. nali
385. nalo, nelo / nel, nolo / nol < nъ a la/le
386. našь – (см. Приложение 4).
387. ne (см. главу 3)
388. nebo < ne bo; в ЭССЯ 1997 представлена как *neb o.
Трактуется как сложение (словосочетание) *ne и *bo,причем *ne выступает в функции усиления
389. nebojьedъnъ (edin) / nibojьedinъ – представлено только в ЭССЯ 1997, авторы затрудняются дать характеристику этому поздно засвидетельствованному словосочетанию
390. nebonъ < ne bo nъ
391. neby < ne by
392. ne
čto/nešto < ne čь/šь to
393. ne čь(so) < ne kъ to
394. neda < je da
395. nego/neže/niže < ne/ni go/že; в ЭССЯ 1997 представлено как *ne go / *ně go. «Сочетание *ne (см.) и энклитической частицы *go (отсутствие в нашем словаре этой алфавитной позиции свидетельствует как раз о строгой энклитичности, подчиненности употребления). Древность этой частицы видна из структурной и семантической близости с *ne že(li), где употребляется более распространенный вариант *že. Роль *ne авторы считают усилительной
396. ne (j)u go – представлено только в ЭССЯ 1997. Трактуется как сочетание *ně, *ju, *go
397. ne(j)u že li – представлено только в ЭССЯ 1997. Трактуется как сочетание *ně, *ju, že и частицы *li
398. nekaj < ně ka i
399. nek(a)moli < ne kamo li < ne ka mъ li
400. nekъto < ne kъ to
401. neli – в ЭССЯ 1997 представлено. Трактуется как *ně li /*ne li, ne lě
402. neliko – представлено только в ЭССЯ 1997 как сложение *ne и *liko
403. nel(o) < ne li/o
404. neni < ne ni
405. nenuž < ne nø/nu ž(e)
406. nenъ < ne onъ
407. nerci(li)/neřku (li) < ne ci li
408. nesto < ne čь to
409. neti < ne ti
410. neto < ne to
411. neto(m) < ne to mъ
412. neuka < ne u ka
413. neuže/neuželi/neužto < ne (j)u že li
414. nezda – ?
415. než(li) < ne ž(e) li
416. nežto < ne ž(e) š(ь) to
417. ně (см. главу 3)
418. něčьjь < ně čь jь
419. něčьso/něčьto < ně če so
420. nějako < ně ja ko
421. někako < ně ka ko
422. někamo < ně ka mo
423. někog(ъ)da/dy, někъg(ъ)da/dy < ně kъ/o g(ъ) da/dy
424. několi < ně ko li
425. několiko < ně ko li ko
426. ně -koterъ/kъterъ/kotorъ/kъtorъ < ně ko/kъ terъ
427. někød/ad < ně k(ъ) ød
428. někъde < ně kъ de
429. někъdy/da < ně kъ dy/da
430. někъjь < ně kъ jь
431. někъto < ně kъ to
432. ni – см. главу 3; в ЭССЯ 1999 представлено. Партикула сопоставляется с эквивалентным оборотом *I ne, ср. с русским и не, где те же компоненты расположены иначе.
Авторы считают, что в этой частице содержится *ne ei,которая является предтечей славянского союза i
433. niby < ni by; в ЭССЯ 1999 представлено как *ni и *by, аористичной формы от глагола *byti
434. ničь < ni čь; в ЭССЯ 1999 представлено. Трактуется как сложение *ni и čь, кроме с.-х. oбычно представленного с расширением -čьto
435. ničьjь < ni čь jь; в ЭССЯ 1999 представлено. Трактуется как сложение *ni и čьjь
436. ničь (-to/-so) < ni čь to/-so; в ЭССЯ 1999 представлены оба кластера как два слова. Первое трактуется как сложение ni и čьto; второе – как сочетание ni и čьso
437. nie < ni 3 sg. ot byti
438. nijьedinъ – представлено в ЭССЯ 1999 как *ni edinъ /*ni edьnъ. Трактуется как сочетание *ni и *edinъ/*edьnъ
439. nieto < ni 3 sg. ot byti to
440. nijako < ni ja ko
441. nika < ni ka < ni kъ da
442. nikaj < ni ka j(ь)
443. nikako(že) < ni ka ko že; в ЭССЯ 1999 представлено как ряд слов: *nikako, nikakъ(jь), никакоже. Сложение *ni и *kako, kak(ъ)
444. nikamo/nikamože; в ЭССЯ представлены обе формы. Сложение *ni и *kamo
445. nikog(ъ)da/dy, nikъg(ъ)da/dy < ni ko/kъ g(ъ) da/dy; в ЭССЯ 1999 представлено как сложение *ni и *kogъda
446. nikoli < ni ko li; в ЭССЯ 1999 представлено как сложение *ni и *koli
447. ni -koterъ/kъterъ/kotorъ/kъtorъ < ni ko/kъ terъ
448. nikød/ad < ni k(ъ) ød
449. nikøda – представлено только в ЭССЯ 1999 в форме именно такой и трактуется как сложение *ni и *koli)
450. nikъda – представлено только в ЭССЯ 1999 .Сложение *ni и *k ъda
451. nikъde(že) < ni kъ de že
452. nikъdy/da < ni kъ dy/da; в ЭССЯ 1999 представлено как сложение *ni и *kъdy
453. nikъjь < ni kъ jь; в ЭССЯ 1999 кластер представлен. Описывается как сложение *ni и *kъjь
454. nikъterъjь – только в ЭССЯ 1999 представлено в трех формах: *nikъterъjь/*nikъtorъjь/*nikotorъjь. Описывается как сложение *ni и соответствующих не разлагаемых далее остатков
455. nikъto < ni kъ to; в ЭССЯ 1999 представлено в этой же форме. Описывается как сложение *ni и *kъto
456. nino < ni (o) no – ?
457. nit’ < ni ti
458. niti/nito < ni ti / ni to
459. nitu(t) < вариант nět
460. niže < ni že; в ЭССЯ 1999 представлено как *ni že, это сочетание двух элементов
461. no (см. главу 3)
462. nobeden < no bo jed inъ
463. noli < na li
464. nolьna/nolьno/nolьni < no li no/na/ni
465. non < onъ e nъ
466. nø/nu (см. главу 3)
467. ny/ný – вариант ni
468. nyně < nъ ně
469. nъ (см. главу 3)
470. oby < o/a by
471. oce < ot(o) se
472. ocej < o tъ se jь
473. odande < od onъ de
474. odanle < otъ on(o) lě
475. odatle < ot to lě
476. odavde < otъ ovъ de
477. odavle(n) < otъ ovъ lě nъ
478. ode/odě < o de/dě
479. odeka < o de ka
480. odin < je dь nъ
481. odonde < otъ onъ de482. odonle < otъ onъ lě
483. odovde(ka) < otъ ovъ de(ka)
484. odovle/odavle < otъ ovъ lě
485. odovud, odovuda < otъ ovъ ød
486. oky < a ky
487. ole < o le
488. oli < o li
489. oliko < o li ko
490. oliž < o/a li že
491. olkav < o li kъ ovъ
492. onady < on ød/dy
493. onako < onъ a ko
494. onakъ < onъ a kъ
495. onamo < onъ a mo
496. onda, onde, ondy < onъ dy/da
497. ono < o nъ/o
498. onogъda/dy < o nъ gъ da/dy
499. onolě < onъ/o lě
500. onolik < onъ/o li kъ
501. onoliko < onъ/o li ko
502. onød/onad < on(ъ) ød/ad
503. onъ (см. главу 3)
504. onъde/onъdě < on(ъ) de/dě
505. onъdy/da < on(ъ) dy/da
506. onъ-sь/sicь < on(ъ) sь/si cь
507. ose < o se
508. otaj < otъ jь
509. otde < otъ de
510. ot-(jь) nod < otъ (j)ьn ød
511. ot k(og)ъda/dy < ot kъ g(ъ) da/dy
512. otk(og)ъda že < ot kъ g(ъ) da že
513. otkød/kad < ot k ød/ad
514. otkol (-kal, -kul-, -kel, kyl-) < ot ko le/li
515. ot (n) jød < ot nъ jь ød
516. ot n jeli
517. oto < o to < *ho to
518. otonuva < otъ onъ/u va
519. otovød < ot(ъ) ov(ъ) ød
520. otsel < otъ se le
521. otsenova < otъ se no va
522. otsød/sad < otъ s ød/ad
523. ottamo < otъ ta mo
524. ottog(ъ)da/-dy < otъ to g(ъ) da/-dy
525. ottol– tal-, tul-, tel– < otъ to li/lě
526. ottonova < otъ to no va
527. ot-tød/-tad– < otъ tъ ød/ad
528. ot-ty – ?
529. otuva < otъ tu va
530. otvăd < ov ød/ad
531. otže < otъ že
532. otъjь < otъ jь
533. ova < ovъ a
534. ovako < ovъ a ko
535. ovakъ < ovъ a kъ
536. ovamo < ovъ a mo
537. ovin < ovъ/nъ
538. ovo/ova < ovъ
539. ovog(ъ)da/dy, ovъg(ъ)da/dy < ovъ/o g(ъ) da/dy,
540. ovoli < ovъ/o li
541. ovoliko < ovъ/o li ko
542. ovød/ovad < ovъ ød/ad
543. ovъ < (o)vъ
544. ovъde/ovъdě/ovъdje < ovo/ъ de/dě/dje
545. ože < ot že
546. po(n)jød/ponjad že < po nъ ød/ad že
547. poka/poky/poko < po ko li
548. pokol (kal, kul, kel, kyl) < po ko (ka, ku, ke, kyl) le
549. pokød/kad < po kød/kad
550. poktore < po ko terъ/terъ
551. poně < po ně
552. po(n)jeli < po ne (j)e li
553. ponje(že) < po je že
554. po (n)jød že < po nъ jod/jad že
555. posød/ad < po s(ь) ød/ad
556. posel < po se lě
557. potol (tal, tul, tel, tyl) < po to li/lě
558. potomь < po to m(ь)
559. potød/tad < po t(ъ) ød/ad
560. potus’ < po tu sь
561. sa < *se
562. sada < sъ g(ъ) da
563. saj < sa vь ha ko (?)
564. samo < sa mo
565. samъ (см. Приложение 4)
566. se (см. главу 3)
567. sebto < se (ce) bo to
568. sed’ < sь de
569. sejci < se i ci
570. seli/selě < se li/lě
571. seliko < se li ko
572. selikъ < se li kъ
573. sejo < se je
574. semъ < se mo/ъ
575. sę/se ( см. главу 3)
576. sě – ?, описывается как первичное междометие или как сокращение от глагола *esi
577. sěmo/samo/sjamo < se/sь/sě mo
578. si < ?
579. siko/sice < si ko/ce
580. sikъ/sicь < si kъ/cь
581. sjako < si a ko
582. sjakъ < si a kъ
583. soj < saj < sь jь
584. solko < so li ko
585. sotva < ?
586. sød < sь ø dě
587. sъ-kol (kul, kel) < sъ ko li
588. sъ kød/kad < sъ k(ъ) ø dě
589. sъsøsơ < sъ sø du
590. sъtol < sъ to l (?)
591. sъtød/tad < sъ t(ъ) ød/ad
592. sь (см. главу 3)
593. sьda < sь da
594. sьde/sьdě < sь de/dě
595. sьg(ъ)da/dy < sь g(ъ) da/dy
596. štom < što < čь to m (?)
597. štono < što ono < čь to on(ъ) no
598. ta (см. главу 3)
599. tače – вариант ta ko
600. ta-d < tog(ъ)da < to g(ъ) da
601. taj < ta i
602. tajak < ta k(ъ) ja k(ъ)
603. tajta < ta i ta
604. tako < ta ko
605. tako-dje < ta ko d je
606. takožde < ta ko
607. tak (ovъ) dje/že < ta k(ъ) ovъ dje/že
608. takože < ta ko že
609. takъ < ta kъ
610. tali < ta li
611. tamo < ta mo
612. tanaj < taj onaj < tъ onъ a i
613. tavaj < taj + ovaj
614. tavodek < ta ovъ ơd dě
615. tatăk < ta ta kъ
616. taže < ta že
617. te (см. главу 3)
618. ted’ < ta d (?)
619. tec – вариант ted’
620. teke < ta kъ
621. tel(i)I ko < to li ko
622. teni < tę ni
623. teno < te no
624. te (см. главу 3)
625. tere < te (в словенском r)
626. tě (см. главу 3)
627. tem/tyjim < tъ jь mъ или твор. пад. от tъ
628. ti (см. главу 3)
629. t (i)ja < tja
630. tiki < ti ki/ke
631. to (см. главу 3)
632. tobože < to bo že или трактуют как to, Bože
633. tobto < to bo to
634. točkar < to či kar < to či ka že
635. totiž/(to)čuš < to ti že
636. todà < to da
637. tode < to de
638. todě(ti) < to dě ti
639. to-dje < to dje
640. tog(ъ)da/dy, tъg(ъ)da/dy < to g(ъ) da/dy
641. tog(ъ)da-dje – že
642. tojci < to i ci
643. toku/toku/tuku < to li ko
644. toje– že < to je že
645. tolě/toli < to lě/li
646. tolikaj < toli + kaj < to li ka j(ь)647. toliko < to li ko
648. toli(ko) -dje/-že < to li ko že
649. tolikъ < to li kъ
650. tolьmi (-ma) < to li mi/ma
651. tonamo < to n(ъ) a mo
652. tonde < t onъ de
653. to-ono < to on(ъ)o
654. to (см. главу 3)
655. to-t < to t(ъ)
656. tota (j) < tød + taj < t ød ta j(ь)
657. totiž (см. выше)
658. tovde < e to ov(ъ) de
659. tovolik < to ov li k(ъ)
650. tovuder < e to ov u de
661. to-že < to že
662. tødě/du/da < to ødě/du/da
663. tu (см. главу 3)
664. tu-dě/dy že
665. tudakerak < tu da ke že a ko
666. tu-i-dje < ti i že dě
667. tudi(ka) < tu/to di ka
668. tukějśi < tu kě j(ь) si
669. tvoj (см. главу 3)
670. tъdje/-da < tъ dje/-da
671. tъj (jь)dje, tъjь/tъnъ/tъtъ že < tъ jь nъ/dje že
672. tyk < dyk < da ko
673. tъ (см. главу 3)
674. tъdy/-da < tъ (gъ) dy/da
675. tъkъmo/-ma < tъ kъ mo/ma
676. tъnъ (см. приложение 4)
677. tъtъ (см. приложение 4)
678. ubo < u bo
679. use < vъch-
670. uto < o to
681. u(že) < u že
682. vako < (o) va ko
683. ve < eve/eto < o vo
684. vednaga < je di na ga
685. vedno < je d(ь) no
686. vele < o le
687. veto – ?
688. vezda (j) – ?
689. wjec < lě če/či
690. vole /volje
691. vinagi < vъ jь nØ gi
692. vole < (v) o le
693. voto < o to
694. vovse < vъ vъch
695. vsele < (v) se le
696. vsaj/saj < (v) sa i
697. vtedy < (v) te dy
698. vъjьnø < (vъ) jь nъ
699. vъnejødě < vъně jø dě/du
700. vъcholik < vъcho– li kъ
701. vъchød/da/dy < vъcho– ød/a/y
702. vьsьma < (v)e lь ma/mi
703. za < sъ da
704. zajedьno < za jedь no
705. zakød/-kad < za kø/ka dě
706. zali < za li
707. zanje (-ze)
708. zâr —вариант za
709. zasę < za sę
710. zato (za toje) < za tъ
711. zatol (-tal, -tel) < za to li
712. zer(e) – ?
713. zjad < sъ jød
714. zowąd < sъ ov ąd
715. že (см. главу 3)
716. žędьnъ (žádný ) < že (j)e dъ nъ
717. žga/žgam/žgan < vьchъ gъ da
Приложение № 4
Славянские местоимения партикульного фонда
Первыми в ряду общеславянских личных местоимений, разумеется, являются местоимения первого и второго лица трех чисел: единственного, множественного и двойственного. Итак, это:
(Ja, АЗъ)[140]
MY
Ty,
Vy
Ve.
Анализ общеславянских местоимений проводился выше, в частности, и со специальной целью – обнаружить в них элементы, которые не могут считаться партикулами потому, что партикулы должны повторяться и входить в «конструктор» хотя бы несколько раз.
Такие элементы, как нам кажется, были обнаружены. Это —
*m-
*nōs-
*suªe-
*tuo-
*vōssamъ
*vьs-.
Посессивы:
Mojь < *ma + ios < moį + jo(jь);
Našь <* nōs + jos < nōs + jь;
Ničьjь < *ni + čь + jь;
Svojь <*suªe + jo > suªe + jь;
Tvojь <*tuo + Jь;
Vašь <* vōs +įo + jь.
Демонстративы:
(J)ь – примарная партикула;
Onъ < *(o/e)nъ, восходит к древнейшим n-овым партикулам;
Ovъ < *(a/ai)vъ, восходит к древнейшим v-овым партикулам;
Samъ – в этом случае для этимологов разложение на отдельные партикулы оказалось затруднительным; возможно, это слово имело самостоятельное значение вроде ‘человек’;
Sь – принадлежит к древнейшим s-овым партикулам; возможно, входит в ряд с k– или t-;
Se – принадлежит к древнейшим s-овым партикулам; возможно, входит в ряд с k– или t-;
Tak (ovъ) < ta + ko + vъ;
Tъ – примарная партикула, может восходить к и.-е. *tod;
Tъtъ < tъ + tъ;
Tolikъ < to + li + ko;
Vьchakъ (?) < Vьs + a + k(o);
Vьchъ < vьs + j(o); возможно, первая составляющая имеет не-партикульную принадлежность.
Вопросительные местоимения:
Čьto < *kui + t(o); на славянском уровне состоит из двух партикул: Čь + to;
Čьjь < *kui + jo; на славянском уровне состоит из двух партикул: Čь + jь;
Kъto < *kui > ka > kъ + to;
Kъjь < *kui + j(ь).
Неопределенные и отрицательные местоимения:
Boedin(aš) < bo + (j) + ed + i + nъ;
(J)edinъ < (j)ed + *ьnъ > in-;
Jьnъ < jь + n(ъ)-;
Jьnakъ < jь + n(ъ) + kъ;
Někoterъ < ně + *kuo + ter/tor. Последний формант относят к праязыковым;
Někъto < ně + kъ + to;
Někъjь < ně + kъ + jь;
Nikъto < ni + kъ + to;
Nikъjь < ni + kъ + jь;
Ničьto < ni + čь + to.
Необщеславянские местоимения будут представлены как складывающиеся из соответствующих «кубиков» конструктора, в виде списка, организованного в алфавитном порядке.
Cej – украинский < ce + j(ь);
Entot – русский диалектный < e+ n(o) + to + t(o);
Eterъ = (j)eterъ – старославянский, нижнелужицкий < je +ter + (o);
Etot – русский и белорусский < e + to + t(o);
Evaj – старосербский < e + vo + j(ь);
Evaki – сербский диалектный < e + vo + k(o) + j(ь);
Evovaj – сербский диалектный < e + vo + vo + j(ь);
Evtot – русский диалектный < e + v(o) + to + t(o);
Ezdakij – русский диалектный < e + s(ь) + t/da + k(o) + j(ь);
Jedakij – русский диалектный < je+ s(ь) + t/da + k(o) + j(ь);
Jego – посессивное местоимение в старославянском, восточнославянских, западнославянских < je + go;
Jeję – посессивное местоимение в старославянском, восточнославянских, западнославянских < je + (?);
Jelik(ъ) – старославянский, церковнославянский, древнерусский < je + li + k(o);
Kaj – южнославянский < kъ + jь (?);
Kinž – нижнелужицкий < kъ + nъ + že;
Kolikъ – современный польский, кашубский, поморскословенский и литературный белорусский < ko + li + k(ъ);
Koližьde/o – старославянский, древнерусский, польский, кашубский, нижнелужицкий < ko + li + ž(e) + de/o;
Koterъ/Kъterъ/Kotorъ/K]ъtorъ – отсутствует в южнославянских языка, где встречается в диалектах изредка <kъ + ter ъ;
Koterъjь/Kъterъjь/Kotorъjь/K]ъtorъjь + že – старославянский, древнерусский, западнославянский. Может выступать или слитно, или как свободное сочетание < kъ + ter ъ + Jь + že;
Kød/kad +si – украинский, белорусский, польский, старочешский, словацкий < kød/kad + si;
Kødě/kødy/køda + že – старочешский, диалектный польский, кашубский, словенский, сербский < k( ) + ød + (?) + že;
Kъjь-no – старый сербский < kъ + jь + no;
Kъjь-si – польский и чешский < kъ + jь + s(ь);
Kъjь-to – южнославянский < kъ + jь + to;
Kъjь-že – старославянский, древнерусский, польский, лужицкий, старочешский, словацкий, словенский, сербский < kъ + jь + že;
Kъjь-žьde/do – старославянский, древнерусский и старосербский < kъ+ jь + že + de/do;
Kъterъjь/Kъtorъjь-si – польский, чешский, словацкий < kъ + ter ъ + jь + s(ь);
Kъtosi – севернославянский, кроме русского, лужицкого и полабского < kъ + to + s(V);
Kъto že – западнославянский, кроме полабского, а также словенский < kъ + to + že;
Kъžьde/žь do – представлено во всех славянских языках, но как архаическое < kъ + že + de;
Nečь(so) ? < ne + čь + so;
Nekaj – словенский и хорватский < ně + kъ + jь (?);
Nekьto – ? < ně + kъ + to;
Něčьjь – отсутствует в старославянском, литературном русском и украинском, не отмечено также в полабском < ně + čь + jь;
Nikъjь – старославянский, русский, сербский, македонский, болгарский < ni + kъ + jь;
Nobeden – словенский архаический < ni + bo + jed + inъ;
Non – украинский диалектный < onъ + onъ;
Ocej – украинский < o + se + jь;
Odinъ – см. Jedinъ;
Olkav – македонский < o/e + no + li + kъ + (o)vъ;
Onakъ – южнославянский, чешский, архаический словацкий < o/e + n(ъ) + а + kъ;
Onolikъ – южнославянский < o/e + no + li + kъ;
Onъsь/sicь – старославянский, древнерусский, старосербский, болгарский, церковнославянский < o/e + nъ + sь;
Otъjь – сербский и украинский (?) < o/e + tъ + jь;
Ovakъ – польский, верхнелужицкий, южнославянский <o/evъ + a + kъ
Ovin – украинский < o + v + in < onъ;
Selikъ – старославянский, церковнославянский, древнерусский < se + li + kъ;
Sikъ/sicь – старославянский, древнерусский, старочешский, старословенский < si + kъ;
Sjakъ – восточнославянский, польский и болгарский < si + a + kъ;
Tak (ovъ)ъ-dje– že– – старосербский < ta + kъ + ovъ + že;
Tanaj – сербский диалектный < tъ + (o)nъ + jь;
Tavaj – сербский диалектный < tъ + (o)vъ + jь;
Tek( e) – македонский и болгарский < tъ + kъ;
Tovolikъ – сербский диалектный < tъ + ovъ + li + kъ;
Tъ(jь)dje, tъ(jь)/tъnъ/tъtъ + že – старославянский, древнерусский, старосербский, чакавский, словенский < tъ + jъ+ že / +nъ/tъ;
Tъnъ – поморскословенский, верхнелужицкий < tъ + nъ;
Venoga – словенский народный. Возможно, происходит от < jьnakъ;
Žędьnъ/žádný – чешский, словацкий, верхне– и нижнелужицкий, старопольский, польский, кашубский, белорусский диалектный, поморскословенский, украинский диалектный, русский диалектный < ni + že + jedь + nъ.
Приложение № 5
Список комбинаций и перестановок из десяти русских партикул (и, а, у, но, не, же, ли, то, къ, да)
Список комбинаций создан компъютерной программой. За создание этой программы я благодарю С. А. Семихатова. Программа позволяет выявить комбинации любых произвольно взятых партикул – до 10 единиц (включаются и перестановки).
Выбор партикул авторский. Число комбинаций – от двух до трех. Реализованные возможности маркируются подчеркиванием. Разумеется, речь идет о возможности комбинаций в рамках одного простого высказывания.
Как представляется, даже этот список, основанный на случайной выборке партикул, которые казались нам достаточно частотными, дает возможность увидеть, как и по какому принципу язык отбирает из возможного числа партикульных кластеров (учитывая и внутренние перестановки) свои реализовавшиеся единицы. Еще раз подчеркиваю, что речь идет о кластерах (как контактных, так и дистантных), между которыми не помещается иных партикул, кроме указанных.
Считаю необходимым заметить, что реализовавшимися я считала и зафиксированные в словаре сочетания, и те, которые русская графика и русский синтаксис могут разместить в виде membra disjecta. Например, Да придешь ли ты наконец? – да-ли; И не то еще будет! – и-не-то; Но к(ъ)то Вам поверит? – но-къ-то; Даже и придумать не могу – да-же-и и под. Вполне возможно, что некоторые реальные возможности были нами пропущены, не учтены. Именно поэтому данный список и предлагается читателю.
Как показал подсчет отношения реализовавшихся сочетаний к нереализовавшимся, язык выбирает в данном случае около 17 % из общего числа. Вполне возможно, что при другом исходном наборе партикул этот показатель изменится.
Литература
Апресян 1997 – Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. 1997. Вып. 35.
Арутюнова 1988 – Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
Бадер 1988 – Бадер Ф. Флексии сигматического аориста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХХІ. Новое в современной индоевропеистике. М., 1988.
Белоусов 2007 – Белоусов Е. В. Так сколько же лет человечеству? Опыт расследования одного аномального археологического факта // Вестник Российской академии наук. Т. 77. № 1. 2007.
Бенвенист 1974 – Бенвенист Э. Уровни лингвистического анализа // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 129—140.
Бенвенист 1974 – Бенвенист Э. Природа местоимений // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
Бичакжан 1992 – Бичакжан Б. Х. Эволюция языка: развитие в свете теории Дарвина // Вопросы языкознания. 1992. № 2.
Бодуэн де Куртене 1963 – Бодуэн де Куртене И. А. Влияние языка на мировоззрение и настроение // Бодуэн де Куртене И. А. Избр. труды по общему языкознанию. Т. 2. М., 1963. С. 331—336.
Борисова 2005 – Борисова А. Б. Местоименный повтор дополнения: синтаксический и прагматический аспекты (на матле новогреческого языка): Автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 2005.
Брейяр, Николаева, Фужерон 2003 – БрейярЖ., Николаева Т. М., Фужерон И. Наличие/отсутствие личного местоимения – функциональная категория русского языка // Русистика. Славистика. Лингвистика. Festschrift f?r Werner Lehfeldt zum 60 Geburtstag. M?nchen, 2003.
Брейяр, Фужерон 2001 – Брейяр Ж., Фужерон И. Когда Я нужно? //
Изв. РАН. Сер. лит. и яз. Т. 60. 2001. № 4.
Бюлер 1993 – Бюлер К. Указательное поле языка и указательные слова // Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. М.,
1993.
Васильева-Шведе 1948 – Васильева-Шведе О. К. Курс испанского языка. М., 1948.
Вербальные и невербальные опоры пространства межфразовых связей.
М., 2003.
Вельмезова, Завьялова, Николаева 2006а – Вельмезова Е. В., Завьялова М. В., Николаева Т. М. Типология спонтанной речи генетически несвязанных языков // Типология грамматических систем славянского пространства. М., 2006.
Вельмезова, Завьялова, Николаева 2006 – Вельмезова Е. В., Завьялова М. В., Николаева Т. М. Исследования по спонтанной речи на 15 Международном конгрессе фонетических наук (Барселона, 2003) // Типология грамматических систем славянского пространства. М.,
2006.
Вольф 1974 – Вольф Е. М. Грамматика и семантика местоимений. На материале иберо-романских языков. М., 1974.
Воробьев-Десятовский 1956 – Воробьев-Десятовский В. С. Развитие личных местоимений в индоарийских языках. М.; Л., 1956.
Гамкрелидзе 1957 – Гамкрелидзе Т. В. Местоимение *so, *s?, *tod и «индо-хеттская» гипотеза Э. Стертеванта // Сообщения АН Грузинской ССР. Т. XVIII. № 2. 1957.
Гамкрелидзе, Иванов 1984 – Гамкрелидзе Т. Г., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. 1. Тбилиси,
1984.
Георгиев 1958 – Георгиев В. Балто-славянский и тохарский языки // Вопр. языкознания. 1958. № 6.
Дискурсивные 1998 – Дискурсивные слова русского языка. Опыт контекстно-семантического описания. М., 1998.
Добиаш 1897 – ДобиашА. Опыт семасиологии частей речи и их форм на почве греческого языка. Прага, 1897.
Добрев 1962 – Добрев И. Към историята на старобългарската морфема же // Известия на Института за български език. 1962. Кн. VIII.
Дульзон 1968 – Дульзон А. П. О древней центрально-азиатской языковой общности // Вопросы русского языка и его говоров. Томск, 1968.
Дульзон 1969 – Дульзон А. П. Общность глагольных форм индоевропейских языков с урало-алтайскими // Учен. зап. № 75. Вопросы лингвистики. Вып. 2. Томск, 1969.
Дульзон 1971 – Дульзон А. П. О некоторых общностях енисейских языков с индоевропейскими // Вопросы языкознания и сибирской диалектологии. Томск: ТГУ, 1971.
Дункель 1992 – Дункель Г. Грамматика частиц // ВЯ. 1992. № 5.
Дыбо 1981 – Дыбо В. А. Славянская акцентология. М., 1981.
Елизаренкова 1982 – Елизаренкова Т. Я. Грамматика ведийского языка.
М., 1982.
Елоева, Перехвальская 2004 – Елоева Ф. А., Перехвальская Е. В. Пре-метафорическая стадия развития языка // Теоретические проблемы языкознания: Сб. ст. к 140-летию кафедры общего языкознания фи-лол. фак-та С. – Петербургского гос. ун-та. СПб., 2004.
Ефимова 2002 – Ефимова В. С. Местоимение первого лица в древнейших славянских текстах // Славяноведение. 2002. № 4.
Живова 1984 – Живова Г. Т. Енисейско-индоевропейские типологические параллели в области вопросительных и неопределенных местоимений // Структура палеоазиатских и самодийских языков.
Томск, 1984.
Журавлев 2006 – Журавлев А. Ф. По поводу истины // Studia etymologica Brunensia. 3. 2006.
Зализняк 2004 – Зализняк А. А. «Слово о полку Игореве». Взгляд лингвиста. М., 2004.
Зализняк 2004а – Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М., 2004.
Золотова 2000 – Золотова Г. А. Понятие личности / безличности и его интерпретации // Russian linguistics. Vol. 24. 2000.
Зорина, Смирнова 2006 – Зорина З. А., Смирнова А. А. О чем рассказали «говорящие» обезьяны? М., 2006.
Иванов 1965 – Иванов Вяч. Вс. Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые системы. М., 1965.
Иванов 1979 – Иванов Вяч. Вс. Отражение правил индоевропейской синтаксической акцентуации в микенском греческом // Balcanica. Лингвистические исследования. М., 1979.
Иванов 2004 – Иванов Вяч. Вс. Лингвистика третьего тысячелетия. М.,
2004.
Иванов 2006 – Иванов Вяч. Вс. О сравнительном изучении систем знаков антропоидов и людей // Зорина З. А., Смирнова А. А. О чем рассказали «говорящие» обезьяны? М., 2006.
Иллич-Свитыч 1971 – Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков (семито-хамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). Введение. Сравнительный
словарь (B—K). М., 1971.
Иллич-Свитыч 1971a – Иллич-Свитыч В. М. Местоимения mi ’я’, m? ’мы’ в ностратическом // Исследования по славянскому языкознанию. М.: Наука, 1971.
Ильяшенко 1984 – Ильяшенко И. А. Вопросительные местоимения kude ’кто’ и qai в селькупском языке // Структура палеоазиатских и самодийских языков. Томск, 1984.
Ильяшенко, Максимова 1984 – Ильяшенко И. А., Максимова Н. П. Грамматические категории числа местоимений в селькупском языке // Структура палеоазиатских и самодийских языков. Томск, 1984.
Казанский 1989 – Казанский Н. Н. К реконструкции категории падежа в праиндоевропейском // Актуальные вопросы сравнительного языкознания. Л., 1989.
Казанский 1999 – Казанский Н. Н. Начальный комплекс частиц o-da-a2 и a-ke-a2 в микенском греческом // Поэтика. История литературы. Лингвистика: Сб. к 70-летию Вяч. Вс. Иванова. М., 1999.
Казанский 2000 – Казанский Н. Н. Гомеровское: история одного формульного выражения // Индоевропейское языкознание и классическая филология. IV. Мат-лы чтений, посвящ. памяти проф. И. М. Тронского. СПб., 2000.
Казанский 2004 – Казанский Н. Н. Синкопа в латинском языке и проблемы фразовой интонации // Теоретические проблемы языкознания: Сб. ст. к 140-летию кафедры общего языкознания филол. факта С. – Петербургского гос. ун-та. СПб., 2004.
Карцевский 2000 – Карцевский С. И. О формально-грамматическом направлении // Карцевский С. И. Из лингвистического наследия. М.,
2000.
Кацнельсон 1936 – Кацнельсон С. Д. К генезису номинативного предложения. М; Л., 1936.
Кацнельсон 1949 – Кацнельсон С. Д. Историко-грамматические исследования. М.; Л., 1949.
Кацнельсон 2001 – Кацнельсон С. Д. Категории языка и мышления. Из научного наследия. М., 2001.
Киселева, Пайяр 2003 – Киселева К., Пайяр Д. Дискурсивные слова русского языка: контекстное варьирование и семантическое единство. М., 2003.
Кисилиер 2003 – Кисилиер М. Л. Особенности языка Иоанна Мосха (Закон Ваккернагеля и местоименные клитики в языке позднего койне): Автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 2003.
Козинцев 2004 – Козинцев А. Г. Происхождение языка: новые факты и теории // Теоретические проблемы языкознания: Сб. ст. к 140-летию кафедры общего языкознания филол. фак-та С. – Петербургского гос.
ун-та. СПб., 2004.
Кошелев 2006 – Кошелев А. Д. О языке человека (в сопоставлении с языком «говорящих» антропоидов) // Зорина З. А., Смирнова А. А. О чем рассказали «говорящие» обезьяны? М., 2006.
Кошелев 2006а – Кошелев А. Д. Они говорят или обезьянничают? (Предисловие издателя) // Зорина З. А., Смирнова А. А. О чем рассказали «говорящие» обезьяны? М., 2006.
Красухин 1997 – Красухин К. Г. Закон Ваккернагеля и структура индоевропейского предложения // Вестник Московского ун-та. Сер. 9. Филология. 1997. № 6.
Красухин 2001 – Красухин К. Г. Некоторые особенности микенского синтаксиса // Язык и культура. Факты и ценности: К 70-летию Ю. С. Степанова. М., 2001.
Красухин 2004 – Красухин К. Г. Аспекты индоевропейской реконструкции. М., 2004.
Красухин 2004а – Красухин К. Г. Введение в индоевропейское языкознание. М., 2004.
Краткий словарь 2003 – Васильева Н. В., Виноградов В. А., Шахнарович А. М. Краткий словарь лингвистических терминов. М., 2003.
Кун 1975 – Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.
Лингвистический. 1990 – Лингвистический энциклопедический словарь. Советская энциклопедия, 1990.
Майтинская 1969 – Майтинская К. Е. Местоимения в языках разных систем. М., 1969.
Майтинская 1982 – Майтинская К. Е. Служебные слова в финно-угорских языках. М., 1982.
Марр 2001 – Марр Н. Я. Язык // Сумерки лингвистики. М., 2001.
Мейе 1938 – Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938.
Мещанинов 1926 – Мещанинов И. И. Основные начала яфетидологии.
Баку, 1926.
Мещанинов 1929 – Мещанинов И. И. Введение в яфетидологию. Л., 1929.
Михайлова 2001 – Михайлова Т. А. Др. – ирл. Etain / Ethne (к проблеме ресемантизации партикул) // Имя: внутренняя структура, семантическая аура, контекст. Тезисы междунар. науч. конф. Ч. 1. М., 2001.
Николаева 1982/2004 – Николаева Т. М. Семантика акцентного выделения. М.: УРСС, 1982/2004
Николаева 1985/2004 – Николаева Т. М. Функции частиц в высказывании (на мат-ле славянских языков). М., 1985.
Николаева 1990 – Николаева Т. М. Опыт классификации ученых: метод – объект // Проблемы кибернетики. К 60-летию В. А. Успенского.
1990. № 3.
Николаева 1991 – Николаева Т. М. Диахрония или эволюция (об одной тенденции развития языка) // Вопросы языкознания. 1991. № 2.
Николаева 1996 – Николаева Т. М. Теории происхождения языка и его эволюции – новое направление в современном языкознании // Вопросы языкознания. 1996. № 2.
Николаева 2000 – Николаева Т. М. Несколько слов о лингвистической теории 30-х: фантазии и прозрения // Слово в тексте и в словаре: Сб. ст. к 70-летию акад. Ю. Д. Апресяна. М.: Языки русской культуры,
2000.
Николаева 2001 – Николаева Т. М. Металингвистический иконизм и социолингвистическая дистрибуция этикетных речевых стереотипов // Язык и культура. Факты и оценки: Сб. к 70-летию Ю. С. Степанова.
М., 2001.
Николаева 2002а – Николаева Т. М. Многомерность интонационного пространства и ограниченность его отображения // Русский язык в научном освещении. 2002. № 3.
Николаева 2002 – Николаева Т. М. «Скрытая память» языка: постановка проблемы // Вопросы языкознания. 2002. № 4.
Николаева 2003 – Николаева Т. М. [Рец.] Bichakjian B. N. Language in a Darwinian perspective. Frankfurt-am-Main; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien, 2002 // Вопросы языкознания. 2003. № 1.
О’Шей 2005 – О ’Шей Н. А. Галльские и лепонтийские формы претерита – традиции, инновации и вопрос диалектного распределения // Вопросы языкознания. 2005. № 5.
Осипова 1997 – Осипова О. А. Одно из обоснований местоименных истоков индоевропейской падежной системы // Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики. Тюмень, 1997.
Остроумов 1954 – Остроумов А. А. Наречие «еще» и его безударный двойник // Доклады и сообщения Ин-та языкознания АН СССР.
1954. Вып. VI.
Пеньковский 2003 – Пеньковский А. Б. Нина. 2-е изд. М., 2003.
Петкова-Шик 1997 – Петкова-Шик И. Българските местоимени клитики // Съпоставително езикознание. XXII. 1997. № 1.
Пизани 1956 – Пизани В. Общее и индоевропейское языкознание // Общее и индоевропейское языкознание. М., 1956.
Поленова 2002 – Поленова Г. Т. Происхождение грамматических категорий глагола (на мат-ле енисейских языков). Таганрог, 2002.
Робинсон 2004 – Робинсон М. А. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 – начало 1930-х годов). М., 2004.
Розанова 1983 – Розанова Н. Н. Суперсегментная фонетика // Русская разговорная речь. М.,1983.
Розанова 1983 – Розанова Н. Н. Влияние различной степени ударности на фонетическую деформацию слов // Русская разговорная речь: Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М., 1983.
Розанова 1996 – Розанова Н. Н. Фонетика разговорной речи. Взаимодействие сегментных и суперсегментных единиц // Русский язык в его функционировании. Уровни языка. М., 1996.
Рыко 2000 – Рыко А. И. Семантическое распределение 3-го лица презенса // Балто-славянские исследования 1998—1999. XVI. М., 2000.
Савченко 1974/2003 – Савченко А. Н. Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М., 2003.
Свешникова 2003 – Свешникова Т. Н. Синтаксис румынского глагола. Коньюнктив и его трансформы. М., 2003.
Семереньи 1980 – Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
Толстая 1984—85 – Толстая С. М. Союз (частица) да в полесских говорах (к проблеме южнославянско-восточнославянских параллелей // Зборник матице српске за филологщу и лингвистику. XXVII– XXVIII. 1984—85.
Топоров 1977 – Топоров В. Н. Mova?i «Музы»: соображения об имени и предыстории образа: (к оценке фракийского вклада) // Славянское и балканское языкознание. М., 1977. [Вып. 3] (Античная балканистика и сравнительная грамматика).
Топоров 1984 – Топоров В. Н. О специфике балт. *lai и его индоевропейских параллелях: на стыке морфологии и синтаксиса // Балто-славянские исследования. 1983. М., 1984.
Топоров 1984а – Топоров В. Н. Прусский язык. Словарь. K—L. М., 1984.
Топоров 1992 – Топоров В. Н. Из индоевропейской этимологии IV (1). И-е. *eg’h-om (*He-g’h-om): men. 1 Sg. pron. pers. // Этимология. 1998—1990. М., 1992.
Тронский 1967 – Тронский И. М. О дономинативном прошлом индоевропейских языков // Эргативная конструкция предложения в языках различных типов. М., 1967.
Успенский 2005 – Успенский Б. А. Татьяна Михайловна Николаева как собеседник // Язык. Личность. Текст. М., 2005.
Фридрих 1952 – Фридрих И. Краткая грамматика хеттского языка. М.,
1952.
Фрумкина 1996 – Фрумкина Р. М. «Теории среднего рода» в современной лингвистике // Вопросы языкознания. 1996. № 2. Фуко 1994 – Фуко М. Слова и вещи. СПб., 1994.
Хэмп 1964 – Хэмп Э. Словарь американской лингвистической терминологии. М., 1964.
Цивьян 1979 – Цивьян Т. В. Синтаксическая структура балканского языкового союза. М., 1979.
Циммерлинг 2002 – Циммерлинг А. В. Типологический синтаксис скандинавских языков. М., 2002.
Цыхун 1968 – Цыхун Г. А. Синтаксис местоименных клитик в южнославянских языках (Балканославянская модель). Минск, 1968.
Шведова 1998 – Шведова Н. Ю. Местоимение и смысл. М., 1998.
Шилдз 1988 – Шилдз К. Некоторые замечания о раннеиндоевропейской именной флексии // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXI. М., 1988.
Шилдз 1990 – Шилдз К. Заметки о происхождении основообразующих формантов в индоевропейском // Вопросы языкознания. 1990. № 5.
Шимчук, Щур 1999 – Шимчук Э., Щур М. Словарь русских частиц. Frankfurt-am-Main; Berlin; Bern, etc. 1999.
Шмальштиг 1988 – Шмальштиг В. Морфология глагола // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXI. Новое в современной индоевропеистике. М., 1988.
Щерба 1974 – Щерба Л. В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Сб. статей. Л., 1974. С. 24—39.
Эргативная конструкция предложения. М.; Л., 1950.
ЭССЯ 1974 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1. М., 1974.
ЭССЯ 1975 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 2. М., 1975.
ЭССЯ 1976 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 3. М., 1976.
ЭССЯ 1977 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 4. М., 1977.
ЭССЯ 1978 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 5. М., 1978.
ЭССЯ 1981 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 8. М., 1981.
ЭССЯ 1983 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 9. М., 1983.
ЭССЯ 1983а – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 10. М., 1983. ЭССЯ 1987 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 13. М., 1987. ЭССЯ 1987а – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 14. М., 1987. ЭССЯ 1988 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 15. М., 1988. ЭССЯ 1990 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 17. М., 1990. ЭССЯ 1997 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 24. М., 1997. ЭССЯ 1999 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 25. М., 1999. ЭССЯ 1999а – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 26. М., 1999. ЭССЯ 2005 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 32. М., 2005. Юнг 1997 – Юнг К. Г. Различие между восточным и западным мышлением // Юнг К. Г. Сознание и бессознательное. Сб. статей. СПб.; М.,
1997.
Adrados 1992 – Adrados Fr. The new image of I. – E.: the history of a revolution // Indogermanische Forschungen. Bd. 97. 1992.
Adrados 2000 – Adrados Fr. R. Towards the syntax of Proto-Indo-European // Indogermanische Forschungen. 2000. Bd.105.
Aitchison 1981 – Aitchison J. Language change: progress or decay? Bungay, 1981.
Aitchison 2000 – Aitchison J. The seeds of speech: language origin and evolution. Cambridge, 2000.
Aitchison 2004 – Aitchison J. Recent development in language origin // European review. 12. 2004.
Anderson, Zwicky 2004 – Anderson St., Zwicky A. Clitics. An Overwiew // Oxford International Encyclopedia of linguistics. 2004.
Arbeitsman 1992 – Arbeitsman Y. L. Luwian za– and sa (/za): how I have changed my mind (with ruminations on palaic) // Academie Bulgare des sciences. Linguistique balkanique XXXV. 1992. 1—2.
Arvaniti 1992 – Arvaniti A. Secondary stress: evidence from Modern Greek // Gesture, segment, prosody. Cambridge: Cambridge University
press, 1992.
Bichakjian 1988 – Bichakjian B. H. Evolution in language. Ann Arbor,
1988.
Bichakjian 1989 – Bichakjian B. H. Language innateness and speech pathology // Studies in language origins. Vol. 1. Amsterdam; Philadelphia,
1989.
Bichakjian 2003 – Bichakjian B. N. Language in a Darwinian perspective.
Frankfurt-am-Main; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien, 2002. Boeree 2003 – Boeree C. G. The origins of language // w.w.w.ship.edu.
cgboeree/langorigins.html Bopp 1833 – Bopp Fr. Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend,
Griechischen, Lateinischen, Littthauischen, Gothischen und Deutschen.
Berlin, 1833.
Breidaks 1996 – Breidaks A. The pronominal inflexion of plural Genitive – us in the deep subdialects of latgale: Indo-European source // Academie des sciences de Bulgarie. Linguistique Balkanique XXXVIII. 1996. 3.
Breuillard, Fougeron 2001 – Breuillard J., Fougeron I. Avec ou sans я // Русский язык: пересекая границы. Дубна, 2001.
Brugmann 1892 – Brugmann K. Grundriss der vergleichenden Grammatik der Indogermanischen Sprachen. Kurzgefasste Darstellung. Zweiter Band. Wortbildungslehre (Stammbildungs– und Flexionslehre). Strassburg, 1892.
Brugmann 1897 – Brugmann K. Laut-, Stammbildungs– und Flexionslehre der Indogermanischen Sprachen. Erster Bd. Strassburg, 1897 // Brugmann K., Delbr?ck B. Grundriss der vergleichenden Grammatik der Indogermanischen Sprachen. Erster Bd. Strassburg, 1897.
Brugmann 1897а – Brugmann K. Vergleichende Laut-, Stammbildungs– und Flexionslehre der indogermanischen Sprachen. Erster Band. Einleitung und Lautlehre // Brugmann K., Delbr?ck B. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Kurzgefasste Darstellung. Dritter band. Zweite Bearbeitung. Strassburg, 1897.
Burling 2000 – Burling R. Comprehension, production and conventionalization in the origins of language // The evolutionary emergence of language: social function and the origin of linguistic form. Cambridge: Cambridge University press, 2000.
Cardinaletti 1999 – CardinalettiA. Pronouns in Germanic and Romance languages: an overview // Clitics in the languages of Europe / Ed. by H. van Riensdijk. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1999.
Cardinaletti, Starke 1999 – Cardinaletti A., Starke M. // Clilics in the languages of Europe / Ed. by H. Van Riemsdijk. Berlin; New York: Mouton
de Gruyter, 1999.
Carstairs-McCarthy 2000 – Carstairs-McCarthyA. The origins of complex language. New York, 2000.
Chiarelli 1989 – Chiarelli Br. The origin of human language // Studies in language origins. V. 1. Amsterdam; Philadelphia, 1989.
Clitics 1997 – Clitics, pronouns and movement / Ed. by J. R. Black. Amsterdam; Philadelphija: Benjamins, 1997.
Clitics 1999 – Clilics in the languages of Europe / Ed. by H. van Riemsdijk. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1999.
Corbalis 1999 – Corbalis M. The gestural origins of language // American
scientist. 87. 1999.
Corbalis 2002 – Corbalis M. C. From hand to mouth: the origins of language. Princeton, 2002.
de Roder 2003 – de Roder J. A sort of missing link: poetic rhythm beyond iconicity // Meeting of the Language Origins Society. Nijmegen, 2003.
Deacon 1992 – Deacon T. Brain-language coevolution // The evolution of human languages. Santa Fe Institute. Studies in the sciences of complexity. Vol. 10. 1992.
Deacon 1997 – Deacon T. The symbolic species: the co-evolution of language and the brain. New York, 1997.
Deacon 2003 – Deacon T. W. Multilevel selection in a complex adaptive system: the problem of language origins // Evolution and learning the Baldwin effect reconsidered. MIT Press, 2003.
Delbr?ck 1893 – Delbr?ck B. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. Erster Theil // Brugmann K., Delbr?ck B. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Kurzgefasste Darstellung. Dritter band. Strassburg, 1893.
Dimitrova-Vulchanova 1999 – Dimitrova-Vulchanova M. Clitics in the Slavic languages // Clilics in the languages of Europe / Ed. by H. van Riemsdijk. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1999.
Donald 1993 – Donald M. Precondition for the evolution of protolanguages // Language origins Society. 9-th meeting. Oranienbaum, 1993.
Dunbar 1996 – Dunbar R. Grooming gossip and the evolution of language. Harvard University press; Cambridge, 1996.
Dunn 1989 – Dunn G. Enclitic pronoun movement and the ancient Greek
sentence accent // Glotta. T. 67. 1989.
Eroms 1996 – Eroms H. W. De l’erosion des connecteurs et de la precession des ligateurs // Etudes germeniques. 1996. 51 ann. № 2.
Etim. slov. 1980 – Etimologicky slovnik slavanskych jazyku. Slova gramatick? a z?jmena. Praha, 1980.
Favart, Passerault 1999 – FavartM., Passerault J. – M. Aspects textuels du fonctionnement et du development des connexteurs approche en production // Armee psychologique. 1999. 99.
Fried 1999 – FriedM. Inherent vs. derived clisis: evidence from Czech proclitics // Journal of linguistics. 1999. Vol. 35. № 1.
Fr?ndt 1993 – Fr?ndt H. Speech origin research: semiotic and linguistic indications from echolocation among animals // Language origins Society. 9-th meeting. Oranienbaum, 1993.
Gonda 1954—55 – Gonda J. The original character of the Indo-European relative pronoun jo– // Lingua. Vol. 4, 1. 1954—1955.
Green 1993 – Green R. D. The question of transphyletic linguistics // Language origins Society. 9-th meeting. Oranienbaum, 1993.
Gries 1999 – Gries St. T. Paricle movement: a cognitive and functional approach // Cognitive linguistics. Berlin; New York, 1999. Vol. 10. № 2.
Gyori 1993 – Gyori G. Symbolic cognition: its evolution and adaptive impact // Language origins Society. 9-th meeting. Oranienbaum, 1993.
Hamp 1984 – Hamp E. The reconstruction of particles and syntax // Historical syntax. Berlin; New York; Amsterdam, 1984.
Harnard 1996 – Harnard St. The origin of words // Communicating meaning: evolution and development of language. N. J.: Erlbaum, 1996.
Harrub, Thompson, Miller 2004 – Harrub B., Thompson B., Miller D. The origin of language and communication // The true origin archive. Exposing the myth of evolution. 2004.
Havers 1931 – Havers W. Handbuch der erkl?renden Syntax. Heidelberg,
1931.
Helmbrecht 1999 – Helmbrecht J. The typology of 1-st person marking and its cognitive background // Cultural, psychological and typological issues in cognitive linguistics. Amsterdam; Philadeiphia, 1999
Hermann 1923 – Hermann E. Berthold Delbr?ck. Ein Gelehrtenleben aus Deutschland grosser Zeit. Jena, 1923.
Hermann 1931 – Hermann E. Lautgesetz und Analogie. Berlin, 1931.
Hermann 1942 – Hermann E. Probleme der Frage. G?ttingen, 1942.
Hermann 1943 – Hermann E. Die homerischen Bennenungen der Schiffteile // J. Endzelin zum 70. Geburtstag. G?ttingen, 1943.
Hirt 1927 – Hirt H. Indogermanische Grammatik. III. Hedelberg, 1927.
Holden 1998 – Holden C. No last word on language origins // Science.
1998.
Isacenko 1970 – Isacenko A. V. Hortativs?tze mit a, i, ti, to im Ostslavischen // Scando-Slavica. T. XVI. 1970.
Jakobson 1933 – Jakobson R. Les enclitiques slaves // Jakobson R. Selected writings. Vol. 11. The Hague; Paris, 1971.
Janse 1997 – Janse M. Phonological aspects of clisis in ancient and modern
Greek // Glotta. LXXIII. 1997. Josephson 1997 – Josephson F. Joint Celtic, Italic and Anatolian evidence
for the expression of deixis/ directionality // Miscellanea Celtica in
memoriam Heinrich Wagner. Uppsala, 1997. Keller 1985 – Keller R. Towards a theory of linguistic change // Linguistic
dynamics, discourses, procedures and evolution. Berlin; New York,
1985.
Kendon 1993 – Kendon A. «Iconic expresiion» and the link between language and cognition in glottogenesis // Language origins Society. 9-th meeting. Oranienbaum, 1993.
Key 1989 – Key M. R. Language origins and RED MARBLE theory // Studies in language origins. Vol. 1. Amsterdam; Philadelphia, 1989.
Klavans 1985 – Klavans J. The independence of syntax and phonology in clitization // Language. 1985. Vol. 61. № 1.
Laenzlinger, Shlonsky 1997 – Laenzlinger Ch., Shlonsky U. Weak pronouns as LF clitics (German and Hebrew) // Studia linguistica. Malmo, 1997. A. 51. № 2.
Lass 1980 – Lass R. On explaining language change. Cambridge, 1980.
Lass 1987 – Lass R. language, speakers, history and drift // Explanation and linguistic change. Amsterdam; Philadelphia, 1987.
Lehman 1974 – Lehman W. P. Proto-Indo-European syntax. Austin; London, 1974.
Leinonen 1997 – Leinonen M. Syntactic convergence in Komi Zyryan and Northern Russian dialects // Finnisch-Ugrische Sprachen in Kontakt. Maastricht, 1997.
Leinonen 2000 – Leinonen M. Параллели севернорусских слов дал, дак на европейском Севере // Коренные этносы севера Европейской части России на пороге нового тысячелетия: история, современность, перспективы. Сыктывкар, 2000.
Leinonen 2002 – Leinonen M. Morphosyntactic parallels in North Russian dialects and Finno-Ugric languages // Scando-Slavica. T. 48. 2002.
Lieberman 1984 – Lieberman Ph. The biology and evolution of language. Cambridge (Mass.); London, 1984.
Lieberman 1997 – Lieberman Ph. Peak capacity // The sciences. 1997. Vol. 37.
Lieberman 1998 – Lieberman Ph. Eve spoke: human language and human evolution. New York, 1998.
L?dtke 1989 – L?dtke H. Invisible-hand processes and the universal laws of linguistic change // Language change. Contributions to the study of its causes. Berlin; New York, 1989.
McCrone 1991 – McCrone J. The ape that spoke: language and the evolution of human mind. New York, 1991.
Miller, Sag – Miller A., Sag I. French clitics movement without clitics or movement // Natural language and Linguistic theory. 1997. Vol. 15. № 3.
Mussies 1971 – Mussies G. The morphology of Koine Greek as used in the Apocalypse of St. John: a study in bilingualism. Leiden, 1971.
Nerlich 1989 – Nerlich B. Elements for an integral theory of language change // Journal of literary semantics. XVIII. 3. 1989.
Neu 1997 – Neu E. Zu den Hethitischen Ortspartikeln // Miscellanea Celtica in memoriam Heinrich Wagner. Uppsala, 1997.
Nilsson 1982 – Nilsson B. Personal pronouns in Russian and Polish. A study of their communicative function and placement in the sentence. Stockholm, 1982.
Nowak 2000 – Nowak M. A. Some aspects of language evolution // LOS
Forum. 2000.
Oller, Omdahl 1992 – Oller J. W., Omdahl J. L. Origin of human language capacity: in whose image? // Moreland J. P. (ed.). The creation hypothesis. 1992.
Palander-Colin 1998 – Palander-Colin M. Grammaticalization of I THINK and METHINKS in Late Middle and Early Modern English // Neophilologische Mitteilungen. 1998. XCIX. 4.
Payson Creed 1989 – Payson Creed R. A student of oral tradition looks at the origins of language // Studies in language origins. Vol. 1. Amsterdam; Philadelphia, 1989.
Percival 1976 – Percival W. K. The applicability of Kuhn’s paradigms to the history of linguistics // Language. Vol. 52. № 2. 1976.
Pokorny 1939 – Pokorny Ju. Indogermanisches etymologisches Worterbuch. Bern; M?nchen, 1939.
R? Hauge 1999 – R? Hauge K. A reinterpretation of the Bulgarian particle си // R? Hauge K. A short grammar of contemporary Bulgarian. Slavica publishers. Bloomington, 1999.
Ragir 1993 – Ragir S. The development of stone tool technologies and the structure of thought // Language origins Society. 9-th meeting. Oranienbaum, 1993.
Riemsdijk 1999 – RiemsdijkH. van. Clitics: a state-of-the-art report // Clitics in the language of Europe. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1999.
Rolfe 1993 – Rolfe L. Phonesthemes as primary word forms // Language origins Society. 9-th meeting. Oranienbaum, 1993.
Rosenkranz 1958 – Rosenkranz B. Zur Entstehungsgeschichte des bestimmten Adjektivs des Baltischen und Slavischen // Die Welt der Slaven.
1958. Heft 2.
Schmalstieg 1980 – Schmalstieg W. Indo-European linguistics: a new synthesis. University Park, 1980.
Schmalstieg 1997 – Schmalstieg W. R. The Slavic aorist ending in -Гъ and the Old Prussian preterit in -ts // Miscellanea Celtica in memoriam Heinrich Wagner. Uppsala, 1997.
Schmidt 2004 – Schmidt K. H. Pre-Indo-European grammar // General linguistics. Vol. 42. 2004 (2002).
Schrijver 1997 – Schrijver P. Studies in the history of Celtic pronouns and particles. Maynooth, 1997.
Shields 1981 – Shields K. On Indo-European sigmatic aorist formations // Bono Homini Donum. Benjamins, 1981.
Shields 1992а – Shields K. C. A history of I. – E. verb morphology. Amsterdam; Philadelphia, 1992.
Shields 1994 – Shields K. The role of deictic particles in the IE personal pronoun system // Word. Vol. 45. № 3. 1994.
Shields 1997 – Shields K. On the origin of the Hittite particle -za // Miscellanea Celtica in memoriam H. Wagner. Uppsala, 1997.
Shields 1997b – Shields K. On the pronominal origin of the I. – E. athematic verbal suffixes // The Journal of Indo-European studies. 1997. Vol. 25.
№ 1—2.
Shields 1997с – Shields K. On the origin of the Slavic pronominal genitive singular ending -go // International journal of Slavic linguistics and poetics. XLI. 1997.
Shields 1997e – Shields K. Linguistic typology and reconstruction: the animacy hierarchy and its implications for the Indo-European inflectional number category // Word. Vol. 48. № 3. 1997.
Shields 1998 – Shields K. Jr. Comments on the evolution of the Indo-European personal pronoun system // Historische Sprachforschung (Historical linguistics). 1998. Bd. 111. H. 1.
Shields 2001 – Shields K. On the Origin of the Baltic and Slavic 0-stem
genitive singular suffix *-?d // Baltistica. XXXVI (2). 2001. Specht 1947 – Specht Fr. Der Ursprung der Indogermanischen Deklination.
G?ttingen, 1947.
Steele 1977 – Steele S. Clisis and diachrony // Mechanisms of syntactic change. Austin, 1977.
Tallerman 2005 – Tallerman M. (ed.). Language origins: perspective on evolution. Oxford Univ. press.; Darhum, 2005.
Tassot 1988 – Tassot D. Language – Origins and evolution // http:/www. creationism.org/csshs
Testelets 2007 – Testelets Y. Are there strong and weak pronouns in Russian? // .
The evolution of language out of Pre-Language / T. Giv?n, B. E. Malle (eds).
Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2002. Vajda 2006 – Vajda E. The origin of language // Linguistics. 201. 2006. Van Baar 1992 – Van Baar T. Particles // International conference on functional grammar. Anvers, 1992. Voronin 1993 – Voronin St. Approaching the Iconic Theory of Language
origin // Language origins Society. 9-th meeting. Oranienbaum, 1993. Wackernagel 1892 – Wackernagel J. ?ber ein Gesetz der indogermanische
Wortstellung // Indogermanische Forschungen. 1892. Bd. 1. Wackernagel 1979 – Zwei Gesetze der indogermanischen Wortstellung //
Wackernagel J. Kleine Schriften. G?ttingen, 1979. Bd. 111. Watkins 1962 – Watkins C. I-E origins of the Celtic verb. Dublin, 1962. Watkins 1968—69 – Watkins C. The Celtic masculine and neuter enclitic
pronouns // Etudes celtiques. Vol. XII. Fasc. 1. 1968—69. Weil 1879 – Weil H. De l’ordre des mots dans les langues anciennes
comparees aux langues modernes. Paris, 1879. Wesener 1999 – Wesener T. Production strategies in German spontaneous
speech: definite and definite article // Proceedings ICPhS 14. SanFrancisco, 1999.
Wind 1988 – Wind J. Language evolution and pedomorphosis // The genesis of language, different judgement of evidence. Berlin; New York; Amsterdam, 1988.
Wind 1992 – Wind J. Speech origin: a review // Language origin: a multid-isciplinary approach. Dordrecht; Boston; London, 1992.
Wisseman 1957 – Wisseman H. Zur nominalen Determination /1/ Die Grundfunktion des bestimmten Adjektivs im Baltischen und Slavischen // Indogermanische Forschungen. Bd. LXIII. Erster Heft. 1957.
Zimmer 2001 – Zimmer C. Evolution. New York, 2001.
Zwicky 1977 – Zwicky A. On clitics. Bloomington, 1977.
Zwicky 1985 – Zwicky A. M. Clitics and particles // Language. 1985. Vol. 61.
№ 2.
Татьяна Михаиловна Николаева
НЕПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА (История «блуждающих частиц»)
Примечания
1
В известной мере многие излагаемые здесь и далее положения можно найти в предыдущих работах автора; см.: [Николаева 1985; 2000; 2002; 2003].
(обратно)2
Замечание, сделанное 30 лет тому назад А Н. Савченко [Савченко 1974/2003: 141] о том, что корни, оканчивающиеся на гласную, есть только в праиндоевропейском языке у местоимений, в дальнейшем – на протяжении данной книги – еще будет обсуждаться.
(обратно)3
Термин «консонантная опора» («Stammlaut») в основном применялся немецкоязычными языковедами и является во многих отношениях удачным, так как он снимает для ряда случаев сложную проблему вокалического сопровождения консонанта.
(обратно)4
Нельзя при этом удержаться от изложения интересной гипотезы Б. Дельбрюка, согласно которой *to никогда не имело дейктической функции, так как при непосредственном восприятии человек просто называл объект, осуществляя акт номинации; поэтому эта частица могла иметь функции предупоминания, анафорики и под. [Delbrück 1893: 499]. По его мнению, и артиклевая функция была при этом также исключена. В этом отношении можно отметить архаичность системы русского языка, когда русские, внезапно увидев объект, действительно его номинируют. То есть: Кошка! а не Эта Кошка, Та кошка и под. Артиклевые европейские языки реагируют иначе.
(обратно)5
Гипотеза Э. Стертеванта излагается нами по работе: [Гамкрелидзе 1957].
(обратно)6
Эта гипотеза цитируется также по работе: [Гамкрелидзе 1957].
(обратно)7
К сожалению, многие работы К. Шилдза известны мне только из библиографических указателей. Реально мне удалось прочитать не более 15 его работ, на которые я буду ссылаться в дальнейшем.
(обратно)8
При этом он воскрешает многие как будто бы подвергшиеся критике гипотезы Э. Стертеванта.
(обратно)9
См. в более поздней статье Фр. Адрадоса: «It is absolutely essential to assume the existence of two hyperclasses of words: nominal-verbal and pronominal-adverbial» [Adrados 2000: 63].
(обратно)10
Есть и «промежуточная» точка зрения. Так, К. Шмидт, соглашаясь с У. Леманом, говорит о трех классах «пре-индоевропейского»: глаголах, существительных (оба класса слабо флектированы) и частицах (particles), которые «employed with verbs developed to conjunctions; those with nouns, to prepositions» [Schmidt 2004: 94].
(обратно)11
Могу добавить к этому, что, будучи участницей диалектологических экспедиций во время учебы в МГУ, я удивлялась тому, что «информанты» никак не могли просклонять сочетания вроде та девушка, эта старушка, а называли их по именам: Так это ж Лариска! И т. под.
(обратно)12
Расшифровать это можно так. Старое о старом – это что-то очень традиционное, пишущие классические учебники профессора, авторы пособий. Старое о новом – это исследования, обычно диссертационные (но не обязательно) и очень добротные, когда методы применяются традиционные и проверенные, а материал привлекается малоизвестный и часто требующий большой подготовки для его усвоения. Новое о старом – это неожиданные решения и даже открытия в пределах уже известного и расклассифицированного материала (новые способы описания, открытия новых соотношений и т. д.). Новое о новом – это можно сказать о первопроходцах, обычно не признанных современниками, зато становящихся позднее классиками.
(обратно)13
В некотором смысле вся ситуация с «Новгородским кодексом» напоминает ситуацию со «Словом о полку Игореве», которое дважды некоторым образом закрыло эпоху: в момент написания (если считать его аутентичным текстом) оно как бы закрыло Древнюю Русь, на которую уже надвигалась тень татарского нашествия, а в момент его публикации и гибели – закрыло Россию XVIII века, кончившуюся с эпохой войны с Наполеоном. И не случайно поэтому обращение А. А. Зализняка к «Слову о полку Игореве», закончившееся – на сегодняшнем этапе – его блестящей книгой, доказывающей аутентичность «Слова» с позиций его новейших открытий [Зализняк 2004].
(обратно)14
Положения, излагаемые далее, в более подробном виде приводятся в работе автора [Николаева 2002].
(обратно)15
Более подробно о них см. наши статьи: Николаева Т. М. Два направления в языкознании межвоенной Европы: схождения и различия (в печати) и – более кратко – [Николаева 2000].
(обратно)16
См. описания Московской семантической школы под руководством Ю. Д. Апресяна.
(обратно)17
Некоторые изложенные в этом параграфе соображения были опубликованы в работе [Николаева 2002].
(обратно)18
Можно даже предположить, что, в частности, и этим преклонением перед графической формой объясняются знаменитые грубости наших продавщиц, вроде – Там все написано; Вы что, не видите ценник? и под.
(обратно)19
Цитируется по статье В. Пизани [Пизани 1956: 151].
(обратно)20
Примечательно, что в Лингвистическом энциклопедическом словаре, изданном у нас недавно, вообще нет такой статьи Клитики, естественно, – ни Проклитики, ни Энклитики, хотя о них выпускаются специальные издания и проводятся конференции во многих странах.
(обратно)21
Интересно в этом плане замечание А. Н. Савченко [Савченко 1974/2003: 241] о том, что «колебание долготы гласного в ПИЕ наводит на мысль о том, что она является результатом неодинакового стяжения какого-то более древнего сочетания под влиянием ударения и интонации последующего слова».
(обратно)22
Но ни в коей мере не квалифицирующаяся как еще один вид словообразования.
(обратно)23
Однако можно заметить, что некоторые наблюдения в рамках традиционной «парадигматической лингвистики» заставляют лингвистов выйти за ее пределы, что воспринимается как даже род некоего эпатажа. Например, Н. Н. Казанский [Казанский 2004], занимаясь синкопой в латинском языке, склоняется к концепции «лексической диффузии», согласно которой слово могло варьировать свою форму в зависимости от позиции в предложении и от действия «закона Ваккернагеля». Но на самом деле из его примеров вытекает то положение, что идентичные в парадигме формы слова могут иметь разную форму в предложении. Сходные мысли были высказаны более 20 лет тому назад Н. Телиным, который утверждал, что, например, им. пад. от поле произносится иначе, чем предложный: в поле. Тогда подобные мысли казались по меньшей мере странными.
(обратно)24
Многие положения, публикуемые в настоящем разделе, опираются на статью автора [Николаева 2002].
(обратно)25
См.: [Брейяр, Николаева, Фужерон 2003; Николаева и др. 2004] и др.
(обратно)26
В этих работах приводилось много примеров, а также подробная аргументация полученных выводов, поэтому в настоящем разделе мы лишь повторим их кратко.
(обратно)27
Напоминаем упомянутую выше точку зрения О. Н. Трубачева о том, что инициальное j в ja возникло именно вследствие частой контактности с а противопоставительным.
(обратно)28
Именно в этом смысле важно наблюдение В. С. Ефимовой [Ефимова 2002: 3—7] о том, что в евангельских текстах с азъ начинаются слова Христа, несущего новую весть; с азъ вводятся также реплики самоидентификации, столь характерные для евангельских текстов.
(обратно)29
Разумеется, в этом параграфе мы можем опираться лишь на существующие теории происхождения языка, никак и ни в коей мере не претендуя на собственные гипотезы.
Как это ни необходимо, я не решаюсь обращаться здесь к много толковавшемуся веками началу Евангелия от Иоанна, хотя позволяю себе только его привести:
От Иоанна святое благовествование:
1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть…
(обратно)30
См. характерное название книги Филиппа Либермана «Ева говорила» (Eve spoke) [Lieberman 1998]. Но, очевидно, «политическая корректность» не дает возможности хотя бы задать вопрос – безусловно, автору данной книги небезынтересный: а Адам – что? молчал? Ведь именно он давал имена животным. Во-вторых, во многих трудах говорится о переходе первоговорящих людей из Центральной Африки в Европу, где они столкнулись с неандертальцами. Но как тогда объяснить цвет кожи европейцев и африканцев?
(обратно)31
Разумеется, число авторов, интересующихся происхождением языка, и число предлагаемых ими теорий растет сейчас в геометрической прогрессии. Поэтому мы не считаем возможным и допустимым превращать настоящую монографию в обзорную, хотя и считаем, что описание партикул и идеи первоэлементов языка связаны глубоким образом.
(обратно)32
Напомним, что об изоморфизме между слоговой структурой и структурой высказывания писал еще около шестидесяти лет тому назад Е. Курилович. Однако в те, структуралистские, годы эти идеи и трактовались, и обсуждались с совершенно иных позиций.
(обратно)33
Хотя самые ранние зачатки развития речевого аппарата уже находят у рыб 300 000 лет назад [Wind 1989; 1992], зачатки человеческого языка отмечают примерно в Среднем Палеолите около 100 000—50 000 лет назад, когда произошел некий «скачок» [Lieberman 1989; Chiarelli 1989; Ragir 1993; Pulleyblank 1989; Hafferland 1989]. Именно в это же время произошел и скачок в числе человеческой популяции: от 2 млн в период 30 000 до 6 млн за последующие 15 лет.
(обратно)34
Необходимо отметить, что в этой оригинальной теории на самом деле скрываются и креационистские идеи, и идеи «мозаичной эволюции», и – что важнее – возможности ранних эволюционистских тупиков.
(обратно)35
Напоминаем, что активным сторонником Дарвина был и один из основоположников индоевропеистики Август Шлейхер.
(обратно)36
Хотя автором настоящей книги с самого начала было заявлено об отсутствии собственной концепции, относящейся к происхождению языка, хочется все-таки отметить, что во всех последних работах говорится очень обобщенно о языке как таковом и никак не говорится о том, что язык наших предков был кардинально иным. См. выше о работах Адрадоса и Шилдза. Поэтому Адам и Ева явно не говорили на языке типа современного, если принять гипотезу креационистской врожденности.
(обратно)37
Симптоматично замечание о четырех элементах марристов, в частности об отношении к этому И. И. Мещанинова, известного слависта тех лет А. И. Томсона: «Жаль, что полная картина маразма обесцвечена тем, что автор, по-видимому, сам уже стыдится знаменитых сал, бер, йон, рош, которые так наглядно характеризуют первобытный взгляд дилетанта на язык» (цит. по книге: [Робинсон 2004: 176]).
(обратно)38
Интересно, что сам Бругман (следуя за книгой К. Бюлера) считает первым способом указания в индоевропейском корни *to/*so.
(обратно)39
Автор монографии прекрасно понимает, что предлагаемый ниже обзор является самым первоначальным и эскизным и должен необходимым образом пополняться по мере приближения к концу текста данной монографии.
(обратно)40
В этой связи хочу привести слова из прослушанного в Университете спецкурса по фонологии Р. И. Аванесова, сказавшего, что любую систему языка можно сравнить, например, с мастерской столов, где одни столы полностью готовы к продаже, другие – почти готовы, а с третьими работа только начинается.
(обратно)41
Об этой частице будет много говориться в третьей главе монографии в связи со славянским материалом (см. русское э-то, э-тот).
(обратно)42
Многие его положения и построения будут более подробно рассматриваться в главе второй в связи с вопросом о комбинаторике партикул: слиянии их между собой и «прилипании» к знаменательным основам.
(обратно)43
Он называет этот элемент «катализатором».
(обратно)44
Известно из палеоантропологии, что человек Говорящий первого периода речи говорил примерно раз в семь медленнее, чем говорим мы теперь. Ускорение речи я ощущаю и теперь в речи молодого поколения. Это вполне согласуется с положением / законом, высказанным мною в 1991 году, о том, что язык изменяется в сторону увеличения информации в единицу времени [Николаева 1991].
(обратно)45
Все эти проблемы будут еще рассматриваться в главе второй в связи с клитиками и их ролью в «законе Ваккернагеля».
(обратно)46
При том, что вокалический элемент здесь включает и гласную *a.
(обратно)47
Легко заметить здесь и в дальнейшем, что все отмечаемые для разных единиц значения внутри одной группы на самом деле могут быть идентичными.
(обратно)48
В дальнейшем, при анализе славянского материала, будет видно, насколько особо отстоит партикула на -d от других, поскольку она не выступает в ряде славянских языков в виде структуры CV при локативном значении, а реконструируется как ąd/ød.
(обратно)49
По этому поводу сразу же вспоминаются противительные союзы с той же опорой на l-, например, греч. ἄλλα или слав. ale, le.
(обратно)50
Правда, у В. М. Иллича-Свитыча (см. выше) место сонантов в системе первообразных отрицаний, напротив, кажется семантически первичным.
(обратно)51
Г. П. Живова в своей статье опирается на работы К. Бругмана, А. Мейе и – в первую очередь – на книгу В. М. Иллича-Свитыча 1971 г., о которой говорилось выше.
(обратно)52
См. примечание И. М. Тронского к с. 30 книги А. Эрну (раздел «Окончания»): «Теория «местоименного» происхождения окончаний именительного и родительного падежей множественного числа в первом и втором склонениях, предположение об исконной долготе ōm в родительном падеже множественного числа вызывают серьезное сомнение» [Эрну 1950: 30].
(обратно)53
Подробный анализ таких комбинаций для берберских языков см.: [Allaona 1997].
(обратно)54
У автора существует специальная компьютерная программа, обеспечивающая порождение партикульных комплексов из числа элементов от 2 до 10.
(обратно)55
Например, И то верно!; И не выдумывайте!; То ли еще будет!; Приходите, а то обижусь и т. д.
(обратно)56
См. об этом более подробно в первой главе.
(обратно)57
Существенно, в пределах нашего общего подхода к сочинительным союзам, что это хеттское nu– переводится ими всюду как ’и’.
(обратно)58
О нетривиальном сходстве ряда грамматических форм (и категорий) иранских языков, особенно персидского, и славянских языков Балкан неоднократно писала Д. И. Эдельман.
(обратно)59
В тексте этого раздела о клитиках будет говориться подробно, поэтому предлагается следующая его композиция: 1. Как клитики определяют?; 2. От каких классов и по каким критериям их нужно отделять?; 3. Позиция клитик по отношению к «хозяину» (host); 4. Позиция клитик в высказывании в целом; 5. Клитики и типология.
(обратно)60
О клитиках и законе Ваккернагеля см. в конце этого же раздела.
(обратно)61
Однако и А. А. Зализняк в своих последних работах о древненов-городском диалекте и о «Слове о полку Игореве» (см. библиографию) вводит именно этот «застывший» аорист в число клитик.
(обратно)62
Важно для нас, что первую часть «полного» местоимения – *je – Р. Якобсон считает относительным местоимением, позднее воспринятым как клитика.
(обратно)63
Эту проблему не нужно смешивать с указывавшейся в предыдущей сноске очень существенной проблемой отделения клитик от не-клитик, чему будет посвящен специальный раздел настоящего параграфа.
(обратно)64
Правда, эти критерии были сформулированы только для французского материала, а данные романских языков отличаются некоторой спецификой.
(обратно)65
Не совсем понятно, чем этот последний критерий отличается от первого.
(обратно)66
Напоминаем, что в англоязычной традиции термин «фраза» не идентичен русскому сходно звучащему термину. Так, английское phrase – это, скорее, русское «словосочетание», а русское «фраза» – это, скорее, высказывание, utterance.
(обратно)67
Эта позиция не совсем понятна, так как большинство союзов и инициальных сентенциальных частиц именно моносиллабичны (и во всех славянских языках тоже).
(обратно)68
Считаю, что единственным доказательством этого положения может быть экспериментально-фонетический анализ, видимо, автором не осуществлявшийся.
(обратно)69
Димитрова-Вулчанова считает, что объединяют славянские языки только специальные клитики (кроме белорусского). Украинский и русский – бедны клитиками (poorclitic system). Возможно, клитикой можно считать форму 2-го лица ед. числа в русском. Так как она не приводит примеров, то можно предположить, что это высказывания вроде: Ты знаешь, я решила туда не ехать, хотя она далее пишет о невозможности первой позиции для клитик.
(обратно)70
На самом деле экспериментальная часть исследования Г. А. Цыхуна очень велика и объемна, но мы приводим только отдельные примеры.
(обратно)71
Большой опыт чтения чужих работ мне показал, что очень многие «звездочки» (*) легко снимаются при введении соответствующего контекста.
(обратно)72
Закон этот был опубликован Якобом Ваккернагелем в 1892 году [Wackernagel 1892], однако потом он воспроизводился в собраниях его трудов неоднократно.
(обратно)73
С несколько другой точки зрения, но достаточно подробно эти вопросы обсуждаются в нашей книге: [Николаева 1985/2004].
(обратно)74
Ланцлингер и Шлонский [Laenzlinger, Shlonsky 1997] отмечают отличие иврита, где представлена кластерная комбинация Дат. + Акк., от немецкого с конструкцией Акк. + Дат. Тогда получается, что немецкий язык стоит в стороне от квазиуниверсальной тенденции.
(обратно)75
Этим Т. Н. Свешникова отличается от других авторов, которые подобные наречия в класс клитик не вводят.
(обратно)76
Правда, в последнем примере ощущается некоторое противопоставление говорящего остальным и, тем самым, определенная элевация местоимения.
(обратно)77
Здесь специально употреблено наречие ярко, поскольку иногда, особенно для «слабых» форм, вопрос об ударности / безударности оказывается весьма сложным.
(обратно)78
О причинах этого мы надеемся рассказать подробно в следующем разделе второй главы «Местоимения».
(обратно)79
Разумеется, мы имеем в виду местоимения индоевропейских языков, считая принципиально важным, излагая теоретические положения, приводить общепонятные для большинства лингвистов примеры.
(обратно)80
Несмотря на подобные осторожные высказывания, сам К. Шилдз обычно называет эти частицы «дейктическими», хотя и этот ярлык может считаться слишком прямолинейным.
(обратно)81
Нельзя не отметить, что и в этом случае, как и во многих других, Р. Якобсон обнаруживает лингвистическое «прозрение», мимоходом рассуждая о том, что славянское je-mu, je-go есть нечто вроде маленького мини-высказывания (’это именно ему’, ’это он, кого’… и т. д.) в статье «Les enclitiques slaves» [Jakobson 1962].
(обратно)82
Продленные формы О. Семереньи считает эмфатическими.
(обратно)83
Последний формант О. Семереньи считает вторичным и возникшим под влиянием существительных.
(обратно)84
Форманты родительного падежа, не совпадающие с реконструируемыми выше, к сожалению, автор не объясняет.
(обратно)85
Интересно, что примеры отдаленности, связанной с первым и вторым лицом, приводимые на излюбленных американскими лингвистами никому не известных языках, полностью находят аналоги в современном разговорном русском: Вы там, что молчите; А вон там Вы, рыжий и т. д.
(обратно)86
Кстати, к чему-то близкому приходит и А. Н. Савченко (см. ниже раздел «Партикулы и «глаголы»»).
(обратно)87
Примечательно, что К. Е. Майтинская употребляет то термин корень, то термин основа.
(обратно)88
Таким образом, мы снова возвращаемся к идее исходной моносиллабичности первообразных дейктических элементов.
(обратно)89
Кавычки здесь поставлены нами сознательно, так как мы считаем, что все эти части речи – позднейшие и произошли от одной диффузной единицы.
(обратно)90
Неслучайно К. Е. Майтинская пишет о том, что иногда не обнаруживается генетической связи между указательными и вопросительными местоимениями, а общее происхождение местоимений указательных и неопределенных очевидно [Майтинская 1969: 235]. В качестве примера она приводит гипотезу о связи слова «один» (венг. egy) c индоевропейской указательной частицей e-/i– (напоминаю, что венгерское слово по звучанию, а не по графике весьма близко к славянскому единый).
(обратно)91
Иногда вместо этого слова употребляются лексемы типа «чужой», «второй» и под.
(обратно)92
Чтение этого текста почти двухсотлетней давности невольно вызывает умиление и восхищение. Поистине верно положение о том, что часто «новое – это хорошо забытое старое».
(обратно)93
Еще и еще раз считаю необходимым настаивать на термине «партикулы» – там, где многие употребляют термин «дейктики», потому, что понятие «дейктический» имеет слишком конкретное лингвистическое значение, терминологическую семантику, тогда как в рассматриваемое время эти частицы (партикулы) были явно диффузны и полисемантичны и потому их строго обозначать не стоит. Стремление их называть «дейктическими» я объясняю все тем же нежеланием лингвистики как «нормальной науки» иметь «неопознанный объект».
(обратно)94
Это окончание в глаголе – t[ъ] – давно привлекало к себе внимание исследователей. Так, В. Шмальштиг, занимаясь этим окончанием в славянском аористе в сопоставлении с древнепрусским претеритным окончанием -ts, приводит множество теорий по поводу генезиса этой флексии, в основном возводящих ее к другим глагольным формам. С негодованием и без упоминаний только говорится об идеях «местоименного» происхождения этого окончания: «Some have thought that these forms were derived by the addition of a personal pronoun tb> [Schmalstieg 1988: 197].
(обратно)95
Между прочим, небезынтересно было бы поставить и такой простой, но не ставившийся вопрос: а какая информация о предложении заложена в русском глаголе.
(обратно)96
Сейчас мы оставляем в стороне извечный вопрос об «ударении» в реконструируемый период: было ли оно действительно присловным или это было фразовое повышение или понижение.
(обратно)97
См. по этому же поводу далее иные предположения: ««Вторичные» окончания медия *-so, *-to, *-nto, как мы уже видели, также не выражали первоначально ни времени, ни залога. По-видимому, они были фонетическими вариантами окончаний *-s, *-t, *-nt, причем древнейшими» [Савченко 1974/ 2003: 324].
(обратно)98
Трудно сказать сейчас без специального исследования, насколько в те, уже отдаленные от нас годы была исследована категория определенности / неопределенности и насколько она находилась в активе содержательной интерпретации синтаксиса. Так, Фр. Шпехта удивляет отсутствие того же -s в генитиве множественного числа. Это вполне предсказуемо, поскольку в таком случае скорее всего речь идет о неопределенном множестве [Specht 1947: 376].
(обратно)99
За все замечания, относящиеся к этому разделу, я благодарю Вячеслава Всеволодовича Иванова, который с этим параграфом ознакомился.
(обратно)100
Все значения упоминаемых здесь партикул и языки их употребления приводятся – с примерами – в главе третьей нашей книги.
(обратно)101
В последнем случае может быть представлена метатеза: ср. лувийское tamuga.
(обратно)102
Со времен А. Мейе по этому вопросу накопилась большая исследовательская литература. Так, например, в уже не раз упоминавшейся нами работе Ф. Шпехта [Specht 1947: 364] написано, что славянские генитивно-аблативные конструкции на -go состоят «demnach aus Zusammenrückung der slav. Stämme jo– und to– mit dem Pronominalstamm go. Dabej verhält sie go zu ko ‹...› Da k und g im Anlaut wechseln, kommen Formen wie lat. hic aus *ho-ce mit ke dem go in slav. to-go sehr nahe»
[«эти конструкции состоят из комбинации славянских корней jo– и to– с прономинальным корнем go… Так как к и g в анлауте могут заменяться, то формы типа лат. hic < *ho-ce с корнем ke очень могут быть близки к слав. то-го»].
Разнообразные взгляды на этот предмет изложены в статье К. Шилдза, специально посвященной окончанию -го у славянских местоимений в родительном падеже единственного числа [Shields 1997]. Говоря коротко, его позицию можно свести к двум основным положениям:
– Го – это одна из наиболее распространенных и частотных частиц (партикул) индоевропейских языков. («A particle in *ghe/o is traditionally reconstructed for Indo-European» [Shields 1997: 87].) В русском языке (и других славянских), употребляемая изолированно, она известная как же. В своей первоначальной форме она сохраняется в сравнительной частице не-го.
К. Шилдз считает, что местоимения в целом отражают более архаичную парадигму, чем имена («it is generally recognized that the pronouns reflect a more ancient paradigmatic structure than nouns»). Развитие известной нам многопадежной парадигмы поэтому происходило у местоимений постепенно. И он высказывает гипотезу о первоначальном локативном значении генитивных форм в индоевропейском. «The original unity of the locative and the genitive cases is further suggested by the intimate relationship between locative and genitive constructions in the world’s languages» [Shields 1997: 85] [«Первоначальное единство местного и родительного падежей просматривается у глубинных связей между локативными и генитивными конструкциями во многих языках мира»].
(обратно)103
Однако в позднеанатолийском, возможно, в сверхархаичном индоевропейском лидийском *-s связывается с одушевленными именами.
(обратно)104
Я вполне допускаю и даже знаю, что малая доступность лингвистической литературы последних лет в отечественных библиотеках поневоле делает мой обзор-анализ более чем скромным и ограниченным.
(обратно)105
Однако у Б. Дельбрюка читаем, что в литовском и славянском: «Nur dass im Nominativ der S-Stamm durch den T-Stamm verdrängt wordenist» [Delbrück 1893: 510].
(обратно)106
Напоминаем, что подзаголовок нашей монографии – «История блуждающих частиц».
(обратно)107
Это окончание в глаголе 4[ъ] давно привлекало к себе внимание исследователей. Так, В. Шмальштиг, занимаясь этим окончанием в славянском аористе в сопоставлении с древнепрусским претеритным окончанием -ts, приводит множество теорий по поводу генезиса этой флексии, в основном возводящих ее к другим глагольным формам. С негодованием и без упоминаний только говорится об идеях «местоименного» происхождения этого окончания: «Some have thought that these forms were derived by the addition of a personal pronoun гъ» [Schmalstieg 1988: 197].
(обратно)108
По данным Этимологического словаря славянских языков. Т. 2. Грамматические слова и местоимения (далее – [Etim. slov. 1980]).
(обратно)109
Материалом служил Этимологический словник [Etim. slov. 1980].
(обратно)110
Напоминаю, что я пользовалась данными словарей и исследованиями коллег; возможна и некоторая количественная неполнота, за которую я не хочу нести ответственность.
(обратно)111
Некоторая неясность подобных определений – «близка», «входит в ряды» – должна быть отнесена к составителям Словаря, трудности которых и позднейшему исследователю вполне понятны.
(обратно)112
Более внимательно прислушиваясь, я обратила внимание на то, что и в литературной русской речи употребляется ну в значении ’но’.
(обратно)113
На том простом уровне, на котором они образуются от собственно партикул.
(обратно)114
Напоминаем, что ее «этимологию» многие авторы возводят к «застывшим» местоименным формам, другие же, напротив, к первичным междометиям на грани выкрика.
(обратно)115
Мы сознательно не приводим богато представленные в ЭССЯ сравнения славянских партикул с аналогичными данными в индоевропейских языках, так как это только увеличило бы объем книги и ничего не доказало.
(обратно)116
Совпадением с ней, то есть омонимом, является вторичная лужицкая частица da < gda < *kъda.
(обратно)117
См. выше о проблематичности, возникшей в связи с севернорусской частицей дакъ.
(обратно)118
В этом значении данная партикула используется и в румынском языке.
(обратно)119
Все-таки хотелось бы понять, как именно подобные вещи (утверждение о вторичности междометного употребления) оказываются!
(обратно)120
О совпадении / несовпадении этой партикулы с партикулами le и lѣ см. в следующих параграфах этой главы.
(обратно)121
Здесь и далее выделение самого В. Н. Топорова. – Т. Н.
(обратно)122
В. Н. Топоров демонстрирует в этой статье «намек» на пермиссив: значение ’пусть’ в стихах: Брожу ли я вдоль улиц шумных, /Вхожу ль во многолюдный храм, / Сижу ль меж юношей безумных…
(обратно)123
Сходные функции выполняет отрицание, например, в английском языке, являясь так называемым tag, например, It’s a good weather to-day, isn’t?
(обратно)124
Хотя в сербском языке от этой партикулы как будто образован комплекс нако (в смысле «только») – Немам нако двиjе краве.
(обратно)125
Чувствуется некоторое стремление признать первичность данного «союза» и в то же время написать нечто уже не совсем понятное.
(обратно)126
Несомненно, от этих двух вариантов одного инварианта отличается форма рефлексива sę/se, восходящая к корню *sue-.
(обратно)127
Именно так полагают авторы [Etim. slov. 1980: 595], однако, судя по примерам, функцию этой партикулы можно определить как функцию сентенциальной указательной частицы со значением ’вот’.
(обратно)128
Казалось бы естественным в анализируемый нами ряд поместить южнославянское le. Однако оно, хотя и употребляется как отдельное слово (междометие), но не имеет дериватов.
Партикулу къ мы не включаем в этот ряд по другой причине: она не употребляется изолированно и потому рассматривается как вариант ко.
(обратно)129
В главе второй говорилось об общем свойстве партикул – свойстве прилипания, и это демонстрировалось на примерах разных частей речи, в том числе и местоимений; в этой же главе мы хотим представить вполне реальные славянские местоимения. Кроме того, там говорилось о примарных партикулах, создающих местоименные парадигмы, здесь же мы должны описать славянские местоимения самой различной протяженности.
(обратно)130
Интересно, что в последнем случае получается нечто вроде отрицания вопроса – ужели, какового значения этот комплекс не имеет, не вносит в данном случае пресуппозитивный смысл «обманутого ожидания».
(обратно)131
Этот признак будет подробно пояснен далее.
(обратно)132
Некоторые отклонения от этого правила будут существенны в дальнейшем изложении и будут специально оговариваться.
(обратно)133
Напоминаем, что в данном параграфе не рассматриваются падежные словоформы, которые, конечно, увеличили бы число совпадений.
(обратно)134
Учитывая сказанное об этом местоимении выше, мы его помещаем в скобки, но принимаем к сведению для общей классификации.
(обратно)135
В данном случае мы сознательно отвлекаемся от данных неславянских языков, чтобы сосредоточиться только на славянской фонетике этих местоимений.
(обратно)136
Представленные здесь материалы взяты из Этимологического словаря славянских языков (ЭССЯ), выпусков 1—31, и Etim. slovnik 1980. Сначала приводятся данные [Etim. slov. 1980] без пояснений, откуда они взяты.
(обратно)137
Автор книги не принимает на себя ответственности за некоторую непоследовательность разложения партикульных кластеров и идентификацию примарных единиц в ЭССЯ и Etim. slov. Однако и при явной этой непоследовательности очевидно, как действительно немного в пространстве славянских языков этих примарных партикул.
(обратно)138
Вопросительный знак ставится в тех случаях, когда авторы Etim. slov. или не указывают разложение партикульного кластера, или колеблются в этом раскладывании.
(обратно)139
В дальнейшем не будет указываться, что взятые из Etim. slov. партикулы или их кластеры не представлены в ЭССЯ.
(обратно)140
Учитывая сказанное об этом местоимении выше, мы его помещаем в скобки, но учитываем для общей классификации.
(обратно)


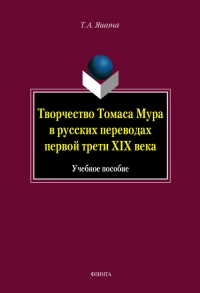
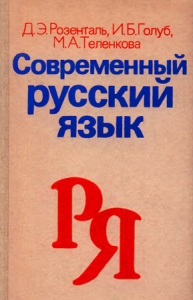
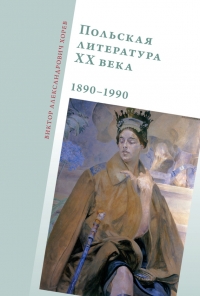

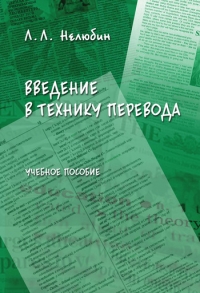
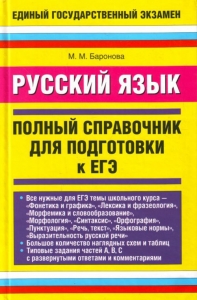
Комментарии к книге «Непарадигматическая лингвистика», Татьяна Михайловна Николаева
Всего 0 комментариев