В. В. Шигин ДЕЛО «ПАМЯТИ АЗОВА» и ДЕЛО О ДВУХ ЭСМИНЦАХ
ДЕЛО КРЕЙСЕРА «ПАМЯТЬ АЗОВА»
Свеаборг и Кронштадт показали настроение войска.
В. И. ЛенинРеволюция 1905–1906 годов оставила немало тайн, связанных с мятежами на российском военно–морском флоте. Одним из таких загадочных мятежей стал и «матросский бунт» на крейсере «Память Азова» в 1906 году.
Год спустя после кровавых событий на Черноморском флоте российский флот снова потрясла серия кровавых восстаний. На этот раз кровь пролилась уже на Балтике. Сценарий их был настолько похож на прошлогодние черноморские, что говорить о случайном совпадении не приходится.
В 1906 году на Балтике, как и в 1905 году на Черном море, в надежде взять реванш за прошлогоднее поражение, действовали все те же кукловоды. На этот раз роль «запала» (каким явился в 1905 году на Черном море «Потемкин») должен был на Балтике сыграть броненосный крейсер «Память Азова». Именно он должен был стать инициатором серии мятежей на оставшихся после Порт-Артура и Цусимы кораблях Балтийского флота и оказать помощь одновременным мятежам в Свеаборге и Кронштадте.
При этом в советской революционной историографии события на революционной Балтике в 1906 году всегда освещались намного скромнее, чем подвиги черноморских мятежников на «Потемкине» и «Очакове». Если морские мятежи 1905 года были возведены в ранг легенд, то о событиях, происшедших на Балтике год спустя, говорили более неохотно. Причем, даже когда о балтийских мятежах и упоминали, то, как всегда, замалчивая многие весьма важные детали, которые во многом меняют истинную картину происходившего. Думается, что настало время все же рассказать правду о кровавых событиях на Балтийском море летом 1906 года.
Любимый корабль императора
Среди экспонатов Оружейной палаты Московского Кремля внимание посетителей всегда привлекает небольшая драгоценная шкатулка в виде расколотого яйца Фаберже, внутрь которого вложена миниатюрная копия корабля — золотой крейсер плывет по лазуритовому морю, сверкая бриллиантами иллюминаторов… Экскурсовод всегда пояснит, что так даритель яйца запечатлел для императора Николая II особо любимый им крейсер «Память Азова». Говорят, что до лета 1906 года расколотое драгоценное яйцо неизменно присутствовало на рабочем столе императора, а затем было навсегда передано в хранилище драгоценностей. Согласитесь, что уже одного этого факта достаточно для того, чтобы понять — перед нами корабль с особой историей.
История «Памяти Азова» началась 12 июля 1886 года на Балтийском заводе Санкт-Петербурга, когда там в присутствии императора Александр III, императрицы Марии Федоровны, греческой королевы Ольги Константиновны и генерал–адмирала Алексея Александровича был заложен очередной броненосный крейсер российского флота.
Назван новый броненосный фрегат был в честь парусного линейного корабля «Азов», отличившегося в сражении при Наварине в 1827 году. За доблесть в сражении линейный корабль «Азов» впервые в истории российского флота был награжден кормовым Георгиевским флагом: в центре Андреевского флага был изображен Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. Георгиевский флаг, которым был награжден первый «Азов» за Наваринское сражение, перешел к «Памяти Азова» вместе с именем и хранился на нем как реликвия.
Водоизмещение «Память Азова» составляло 6734 тонн. Основные размерения нового корабля были таковы: длина 115,6 метра, ширина — 15,6 метра, осадка — 8,2 метра. Мощность механизмов крейсера — 5664 л.с. и максимальная скорость хода — 16 уз. Дальность плавания без пополнения запасов угля — 3190 миль. Поэтому корабль вполне успешно мог быть использован на океанских просторах. Вооружение броненосного фрегата также было вполне приличным. «Память Азова» имел два 203–мм орудия, 13 152–мм пушек, 15 малокалиберных 47–мм и 37–мм орудий. Кроме этого на корабле имелись и три торпедных аппарата. Команда нового броненосного фрегата составила 569 человек.
Спуск крейсера на воду был приурочен к 200–летию ботика Петра Первого. Он состоялся 20 мая 1888 года в присутствии императора. В церемонии участвовала и команда корабля под командованием капитана 1–го ранга Н. Н. Ломена. Тогда же Александр III избрал «Память Азова» для особой миссии. После соответствующих указаний достроечные работы на фрегате пошли ударными темпами. Одновременно началось и обустройство внутренних офицерских помещений и в особенности адмиральского салона. Никто в точности не знал, почему «Памяти Азова» уделяется столько внимания и почему на оборудование его помещений идут весьма большие деньги. Однако все понимали, что кораблю уготована какая–то особая роль в планах российского императора. Так впоследствии и оказалось. Именно на «Памяти Азова» Александр III решил отправить в кругосветное образовательное морское путешествие своего старшего сына и наследника престола Николая.
Даже у видавших виды ценителей красоты отделка офицерских помещений вызывала восхищение. И было от чего! Адмиральский зал (в документации указан именно зал, а не салон!) был отделан красным полированным деревом.
На стенах над диванами висели огромные зеркала в дорогих бронзовых рамах. Адмиральская приемная была полностью отделана ореховым и полированным деревом. Письменный стол также орехового дерева, там же стояли волосяные стулья на пружинах и витые сафьяновые вольтеровские кресла. Адмиральская спальня тоже вся была отделана красным полированным деревом, а умывальник выполнен из итальянского мрамора. Кабинет и каюта командира корабля щедро обшиты ореховым деревом. Весьма дорогими сортами деревьев была отделана и кают– компания. Каюты офицеров обшиты тиком. Сама же планировка кают и их количество предусматривали пребывание на корабле большого количества важных особ. На камбузе и в жилой палубе была использована невиданная доселе в русском флоте кафельная плитка. Даже шлюпки «Памяти Азова» имели особые флюгарки с золочеными звездами.
Помимо героического наименования, кормового Георгиевского флага на фрегате было предусмотрено богатое и красочное носовое украшение, какого более не имел ни один корабль императорского флота: орден Святого Георгия в обрамлении георгиевских лент с бантами, императорской короны, лаврового венка и пальмовых ветвей. Эскиз украшения специально разработал летом 1887 году великий российский художник–маринист академик А.П. Боголюбов.
Новейший броненосный фрегат был укомплектован офицерами и матросами гвардейского экипажа. На «Память Азова» отбирали лучших из лучших. Служить на крейсере с самого начала считалось большой честью. Некоторое время его команду вообще комплектовали исключительно офицерами и матросами гвардейского экипажа, и только русско–японская война впоследствии нарушила эту традицию.
23 августа 1890 года «Память Азова» вышел в свое первое плавание. По плану кораблю предстояло обогнуть Европу, пройти в Севастополь, чтобы принять там на борт наследника, и затем направиться на Дальний Восток. Уже в самом начале похода на переходе от Плимута до Мальты корабль попал в сильный шторм. Фрегат благополучно выдержал шторм, уверенно выдерживая 14–узловую скорость, и показал хорошие мореходные качества. «Вообще фрегат оказался крепок и обладает довольно хорошими мореходными качествами в полном грузу, но все–таки короток для форсирования большой океанской волны», — писал командир корабля капитан 1–го ранга Ломен.
Боясь усиления Черноморского флота, турки, однако, отказались пропустить «Память Азова» через проливы, и цесаревичу Николаю пришлось поездом добраться до Пирея, где он и взошел на борт фрегата. Там же в охрану «Памяти Азова» вступил броненосный крейсер «Владимир Мономах» капитана 1–го ранга Дубасова. Пройдя Суэцким каналом, корабли взяли курс на Цейлон.
В октябре крейсер стал на якорь в гавани Бомбея, и цесаревич сошел на берег, где его ждала 42–дневная программа развлечений. Затем был переход в Японию. Там, в ходе посещения Киото, фанатичный самурай Тсудо Санцо совершил покушение на наследника российского престола. Получив ранение головы мечом, Николай записал в своем дневнике: «Я нисколько не сержусь на добрых японцев за отвратительный поступок одного фанатика».
Прибыв затем во Владивосток, цесаревич заложил железнодорожный вокзал и отправился в Петербург через Сибирь. Прощание Николая с офицерами и командой крейсера было очень теплым. Человек, совершивший большое плавание на корабле, навсегда роднится с ним. Спросите у бывалых моряков, и они с теплотой вспомнят корабли, на которых им пришлось на долгие месяцы, а то и годы уходить в океан. Именно поэтому будущий император Николай проникся к «Памяти Азова» особой любовью.
Одновременно с убытием цесаревича на «Памяти Азова» во Владивостоке произошла и смена командиров. Вместо внезапно заболевшего Ломена в командование вступил капитан 1–го ранга Бауер. В те же дни в честь состоявшегося полукругосветного плавания цесаревича фирма Фаберже по заказу Александра III изготовила два пасхальных яйца с миниатюрными моделями крейсера внутри.
На Пасху 1891 года Александр III подарил своей супруге Марии Федоровне одно из двух изготовленных пасхальных яиц с «секретом». Этим секретом была 5–сантиметровая моделька «Памяти Азова» внутри яйца. Второе яйцо, по возвращении домой, получил и сам Николай.
Стараясь загладить негативное впечатление от покушения самурая, по повелению японского императора для наследника русского престола японскими мастерами была сделана и модель «Памяти Азова» из черепаховой кости. Ее отправили в Петербург на крейсере «Адмирал Нахимов».
Осенью того же года в ходе инспекторского смотра крейсера «Адмирал Нахимов» в Кронштадте «государь изволил приказать принять подношение». Ныне эта уникальная модель хранится в фондах Центрального музея Военно–морского флота. Будучи в музее и знакомясь с реликвиями запасников, я в свое время познакомился и с этой моделью, которая не может не поразить уникальностью работы.
Став императором, Николай II никогда не забывал «Память Азова». При случае он всегда с удовольствием бывал на «своем» (как он его называл) корабле, прекрасно лично знал не только его офицеров, но и старослужащих матросов. Особенно любил император фотографироваться у знаменитого бронзового двуглавого орла, размещенного над кормовым мостиком крейсера. Не зря на флоте «Память Азова» неофициально называли «государевым кораблем». При этом азовцы, а вслед за ними и все остальные моряки именовали свой корабль «Память Азова», с ударением в слове «Азов» на первом слоге. Это считалось особым шиком. Вообще на «Памяти Азова» было много особых традиций, касающихся и манер поведения, и атрибутики — особые браслеты и перстни у офицеров, серьги и кольца у матросов. Фирменный перстень с монограммой «Памяти Азова» многие годы носил и сам император.
Что касается «Памяти Азова», то после убытия цесаревича, фрегат весь следующий год провел в плаваниях по Дальнему Востоку. В мае 1892 года в командование кораблем вступил капитан 1–го ранга Чухнин. Тогда же корабль был по новой классификации переименован из фрегата в крейсер. Летом 1892 года Чухнин привел корабль обратно на Балтику. На обратном пути «Память Азова» принял участие в международных торжествах в честь 400–летия открытия Америки в испанском Кадисе. В середине октября 1892 года, завершив свое первое полукругосветное плавание, корабль прибыл в Кронштадт, где и встал в послепоходовый ремонт.
21 августа 1893 года крейсер вышел из Кронштадта на соединение со Средиземноморской эскадрой. Местом дислокации Средиземноморской эскадры был греческий порт Пирей, откуда корабли уходили для посещения разных средиземноморских портов. В остальное время в исторической Саламинской бухте или на рейде острова Порос занимались повседневной боевой подготовкой и корабельными учениями. Эта служба для «Азова» продолжалась до конца 1894 года.
22 ноября 1894 года крейсер покинул Пирей, чтобы передислоцироваться на Дальний Восток. Срочность отплытия была такова, что судовой праздник, день святого Георгия, приходившийся на 26 ноября, команде пришлось отмечать в пути. По пути к новому месту службы корабль поочередно вел на буксире два вновь построенных минных крейсера, «Всадник» и «Гайдамак».
6 февраля 1895 года «Память Азова», завершив второе плавание на Дальний Восток, пришел в Нагасаки, где на нем подняли флаг командующего Тихоокеанской эскадрой вице–адмирала П. П. Тыртова. В силу предписанных японским правительством правил, эскадра была разбросана по различным портам Японии. В Нагасаки стояли крейсера «Память Азова» и «Владимир Мономах». 6 апреля к ним присоединился флагманский корабль эскадры Средиземного моря броненосец «Император Николай I» под флагом контр–адмирала С. О. Макарова.
В конце апреля корабли эскадры начали сосредотачиваться в китайском порту Чифу. Ввиду уведомления о возможном начале боевых действий со стороны Японии эскадра готовилась к сражению. Был издан революционный для флота приказ о немедленном окрашивании кораблей в защитный «светло–серый цвет». Командиры использовали эту возможность, чтобы подобрать наиболее эффективный цвет окраски. Крейсер «Память Азова» был окрашен в розовато–серый цвет под тон цвета местности, в результате чего не только ночью, но и вечером и рано утром корабль совершенно сливался с морем. Тогда же эскадры Тыртова и Макарова впервые вышли в море для отработки эскадренных эволюций. Крейсер «Память Азова» возглавлял правую колонну, в которой шли крейсера «Адмирал Корнилов» и «Рында».
Вскоре Япония отказалась от претензий на Ляодунский полуостров. С наступлением разрядки в обстановке Тихоокеанская эскадра покинула Чифу. 29 июня «Память Азова» под флагом вице–адмирала Тыртова ушел во Владивосток. На шесть лет крейсер стал главной ударной силой Тихоокеанского флота. За это время он успел пережить четверых командующих флотом (вице–адмирала Тыртова, контр–адмирала Алексеева, контр–адмирала Дубасова и вице–адмирала Гильдебрандта) и трех командиров (капитанов 1–го ранга Чухнина, Вирениуса и фон Нидермиллера).
Главным событием 1898 года стало участие «Азова» в передаче русскому флоту Порт-Артура. Именно «Память Азова» своим салютом приветствовал Андреевский флаг, который 16 марта на мачте Золотой Горы поднял великий князь Кирилл Владимирович.
В Порт-Артуре крейсер простоял всю весну и лето, после чего, после нормализации обстановки, возобновил стационарную службу в других портах.
В конце 1899 года крейсера на Тихом океане сменили броненосцы, и «Память Азова» решено было вернуть на Балтику. 28 ноября крейсер вышел из Владивостока и в следующем году с открытием весенней навигации встал на рейде Кронштадта.
В 1900 году решено было перевооружить корабль, заменив котлы и освободив их от устаревшей магистральной трубы водоотливной системы. Летом 1901 года крейсер в качестве флагмана Учебного артиллерийского отряда принимает участие в показательных маневрах флота.
Особый статус корабля обеспечивал блестящую карьеру и его командирам. Практически все командовавшие «Памятью Азова» до событий лета 1906 года офицеры впоследствии вышли в адмиралы. Первый командир крейсера Н. Н. Ломен сразу же по восшествии на престол Николая II станет его флаг–капитаном и контр–адмиралом. Следующим командиром крейсера стал известный в будущем флотоводец, командующий Черноморским флотом вице–адмирал Г. П. Чухнин. Именно Чухнину выпадет нелегкая доля усмирять в 1905 году мятежи на «Потемкине» и «Очакове». До трагических событий на своем родном корабле он не доживет, став жертвой террориста. Адмиральские эполеты надел впоследствии и следующий командир «Памяти Азова» — В. А. Вирениус. Еще одним командиром «Памяти Азова» был и А. Г. Нидермиллер. Затем Нидермиллер был первым командиром новейшего эскадренного броненосца «Бородино». Впоследствии он исполнял обязанности начальника Главного морского штаба, а в 1908 году был уволен с чином вице–адмирала. После революции находился в эмиграции и умер в 1937 году. На «Памяти Азова» в 1895–1897 годах служил старшим офицером и Евгений Александрович Трусов — будущий командир броненосного крейсера «Рюрик», героически погибший в бою с японскими крейсерами 1 августа 1904 года.
С началом Русско–японской войны «Память Азова» под командованием капитана 1–го ранга Сильмана был предварительно включен в состав 3–й Тихоокеанской эскадры, но техническое состояние не позволило крейсеру быстро закончить ремонт, и по этой причине он не участвовал в трагическом Цусимском сражении. Нам не трудно предположить судьбу корабля, дойди он до Цусимского пролива, но судьба в тот раз уберегла любимый корабль императора.
В 1904 году крейсер встал на капитальный ремонт, в ходе которого на Франко—Русском судостроительном заводе на нем были заменены котлы и паротрубопроводы, установлены две мачты вместо трех и оборудование для ведения с корабля минных поставок. Отныне крейсер уже не нес никаких парусов, став полностью паровым кораблем.
Так как после поражения в войне у нас на Балтике практически не осталось флота, выйдя из капитального ремонта в 1906 году, крейсер приступил к усиленной боевой подготовке в составе Минно–учебного отряда. Теперь «Памятью Азова» командованием капитан 1–го ранга А. Г. Лозинский. Свой брейд–вымпел на крейсере поднял и командир минно–торпедного отряда капитан 1–го ранга Дабич. Это был опытнейший офицер. Всю русско–японскую войну он достойно командовал броненосным крейсером «Громобой» и в бою с эскадрой Камимуры получил 17 ранений (более 100 мелких осколков в теле!). В 1906 году он еще толком не оправился от многочисленных ран, но уже снова был на ходовом мостике!
Российский флот переживал в ту пору нелегкие времена. Трагедия Порт-Артура и особенно Цусимы негативно отразились на моральном состоянии моряков. Морской офицерский корпус России в целом и офицерский состав «Памяти Азова» в частности находился в подавленном состоянии. Из–за резкого сокращения боевого состава многие офицеры были вынуждены уйти в отставку, так как им просто не на чем было служить. Среди матросов царило разочарование, как в своих начальниках, так и во власти в целом. На фоне этого в матросскую среду стали проникать всевозможные революционеры. Назревали события, каких еще никогда ранее не было в отечественном флоте.
Большевики против эсеров
Пока «Память Азова» занимается практическими артиллерийскими и минными стрельбами, обратимся к политической ситуации в стране. К середине 1906 года ситуация в России явно стабилизировалась. Губернии успокаивались одна за другой. Революционное сообщество было в полной растерянности и унынии. Именно поэтому было решено предпринять последнюю отчаянную попытку повернуть все вспять и снова раздуть искры затухающего революционного костра. И дровами для этого костра должны были на этот раз стать вчерашние рабочие и крестьяне — матросы Балтийского флота.
В советской революционной художественной литературе неизменно присутствовал образ молодого рабочего царской России. Этот рабочий остро переживал несправедливость. На этой почве он в конце концов знакомился с профессиональным социал–демократом (большевиком). Обаятельный большевик вначале сочувствовал переживаниям рабочего, а потом давал ему почитать «Капитал» Маркса: мол, прочитаешь, и сам все поймешь. Теперь у рабочего была цель. Долгими вечерами после напряженного рабочего дня при огарке свечи он взахлеб читал на чердаке том за томом «Капитал», и перед ним отрывались дотоле неведомые горизонты. Когда же он переворачивал последнюю страницу великой книги, рабочему все было уже совершенно ясно. Отныне он знал, что источник всех его бед — это прибавочная стоимость, а также то, что отныне он убежденный марксист–большевик. Образцом данной темы, по видимому, можно считать роман М. Горького «Мать». Помню, читая в молодости подобные книги и представляя себе малограмотного (с двумя–тремя классами приходской школы) рабочего, я удивился, какой надо иметь природный ум, терпение и одержимость, чтобы одолеть столь огромный и малопонятный труд, как «Капитал».
Возможно, что в истории России действительно было несколько десятков таких рабочих, которые, даже засыпая, клали труд Маркса себе под голову. Но то, что остальные сотни тысяч работяг наперебой взахлеб зачитывались Марксом, в этом я сильно сомневаюсь. Представьте современного рабочего с полным средним, а то и со среднетехническим образованием, который бы ночами запоем читал теоретические труды по политэкономии. Если таковые где–то и найдутся, то они скорее редчайшее исключение из общего числа любителей съездить в свободное время с семьей на дачу или оттянуться с друзьями пивком. Что уж говорить о малообразованном пролетарии начала XX века!
Позволю себе небольшое отступление от главной темы. Моя судьба сложилась так, что я вначале учился в военно–морском политическом училище, а затем закончил Военно–политическую академию им. В. И. Ленина, причем ее самый элитный — научно–педагогический факультет. Что касается училища, то там мы, разумеется, учили все основные труды классиков марксизма–ленинизма, но, имея за плечами лишь 10 классов школы, многого не понимали, да многого от нас и не требовали. Получили общее представление, и ладно! Другое дело — академия. На нашем факультете готовили будущих преподавателей всех общественных дисциплин для кафедр общественных наук военных вузов (научный коммунизм, история партии, политэкономия, психология и педагогика, социология и философия), т.е. тех, кто должен был вкладывать в головы будущих советских офицеров познания марксизма–ленинизма, а потому учили нас фундаментально. Если на остальных (общих) факультетах читали лекции кандидаты наук, а семинары вели даже адъюнкты, то у нас имели право и читать лекции, и вести семинары исключительно доктора наук, причем самые лучшие. Каждое занятие с преподавателями такого уровня было настоящим откровением. Я избрал для себя стезю историка, а потому в течение всех трех лет учебы том за томом штудировал материалы съездов и конференций, разбираясь со всевозможными оппозициями и политическими течениями.
Помню огромный том протоколов II съезда РСДРП, который мы дотошно изучали в течение двух месяцев, вникая в каждый диалог и каждую реплику. Любви к съездам это не прибавляло, но материал мы знали отменно. Если у историков настольными книгами были протоколы съездов, то у философов — знаменитый 18–й том полного собрания сочинений Ленина — «Материализм и эмпириокритицизм», одна из самых путаных и тоскливых работ Ильича. Выпускники военных училищ и академий советского времени меня поймут, потому что ни один из них не миновал участи конспектирования сего нескончаемого и малопонятного творения. Что касается группы политэкономов, то у них была, разумеется, своя библия — «Капитал» Маркса. Учили они его, бедолаги, все три года пребывания в академических стенах. Помню их стенания и проклятья в адрес отца марксизма, зависть к нам. Бедные политэкономы фактически от руки переписывали себе в конспекты все тома Маркса и разобрали их до последней запятой.
Оговорюсь, что состав слушателей нашего факультета был весьма сильным. К концу обучения мы уже сдавали кандидатские минимумы и намечали темы будущих диссертаций. На сегодня большинство моих сокурсников — кандидаты и доктора наук, заведующие кафедрами престижных вузов и известные в своих кругах ученые–историки.
К чему я все это говорю? А к тому, что даже хорошо теоретически подготовленным ученикам при весьма сильной мотивации (получение престижной специальности преподавателя, которая обеспечит тебе и карьеру, и все сопутствующие блага), при наличии лучших преподавателей, освоение «Капитала» Карла Маркса было делом весьма непростым. А нам пытались рассказывать о толпах рабочих–самоучек, которые, читая запоем после работы «Капитал» и уяснив для себя суть марксисткой теории, шли в революцию!
Разумеется, что агитаторы социал–демократов кое–что рассказывали рабочим и о Марксе, но лишь в доступной для понимания малограмотными людьми самой примитивной форме. Помимо этого они много говорили о социальной несправедливости и о том, что уничтожить царизм и буржуев могут только они — пролетарии, которым нечего терять, кроме собственных цепей, зато потом они будут жить припеваючи. Конечно, такая агитация порой приносила свои плоды, и рабочие увлекались идеей экспроприации экспроприаторов. Но в большей своей массе и матросы (вчерашние рабочие), и рабочие (вчерашние крестьяне) за социал–демократами не шли. Уж слишком заумными были их идеи, слишком далекой была перспектива светлого коммунистического рая, который они слабо себе представляли.
Совсем иное дело были социал–революционеры. В отличие от заумных эсдеков, эсеры были людьми дела. Они без всяких раздумий швыряли бомбы в окна полицейских участков, палили из револьверов в губернаторов и жандармов, грабили банки и при этом не читали никаких моралей. Они привлекали к себе и храбростью, дерзостью, и тем, с какой легкостью проливали кровь и как их боялась власть. Это вызывало не только испуг, но и восхищение, особенно среди молодежи. Для многих поэтому именно террористы–эсеры были настоящими героями! Помимо этого эсеры превыше всего ставили не пролетария, а свободного хлебопашца–крестьянина с отданной ему навечно землей. Это было хорошо понятно матросам (в большинстве своем вчерашним крестьянам) и нравилось куда больше, чем непонятный пролетарский коммунизм. Надо ли говорить, что ряды приверженцев эсеров пополнялись куда веселее, чем их конкурентов.
Успехи эсеров не могли не вызывать раздражения и даже ненависти у социал–демократов. Именно поэтому группа Ленина и решила перенять многое из арсенала эсеров, чтобы тоже стать популярными. Это вызвало возмущение правоверных марксистов, после чего некогда единая партия социал–демократов и распалась на два враждующих крыла — леворадикалов–большевиков и центристов–меньшевиков. При этом читателя не должны путать наименования фракций. В действительности все было наоборот: меньшевиков было куда больше, чем большевиков.
Впрочем, и у эсеров тоже были свои заморочки. Одни из них так увлеклись терроризмом и грабежами, что ни о чем другом и слышать уже не хотели. Кровь и легкие деньги быстро пьянили. Другие же все еще тешили себя идеями будущей крестьянской республики. На этой почве эсеры тоже постепенно распадались на левых и правых, но пока еще не столь явно, как их главные конкуренты эсдеки.
К 1906 году, когда всем стало предельно ясно, что революция пошла на спад, конкуренция между революционными партиями еще больше обострилась. О каком–то союзе, который был еще год назад, теперь уже не было речи. Каждый стремился к единоличному успеху, чтобы лавры разжигателя социального костра достались только ему. И на Балтике в этой борьбе за матросские массы эсеры далеко опережали своих конкурентов.
В советское время на эсеров навешали все негативные ярлыки. Они–де специально провоцировали преждевременные восстания, чтобы обречь матросов и солдат на поражение, они выдавали всех и вся полиции. Они, наконец, являлись чуть ли не платными агентами той же полиции. Все это, разумеется, неправда. Эсеры были нисколько не хуже, но и не лучше своих конкурентов социал–демократов. То, что именно они начинали почти все мятежи в 1905–1907 годах, говорит только об их авторитете и силе, которых не хватало конкурентам. То, что порой эсеры и толкали матросов на преждевременные выступления, было вызвано все той же конкуренцией и желанием опередить эсдеков, чтобы первыми добиться успеха, возглавить революцию и захватить власть в стране. Если бы история распорядилась так, что к власти в России пришли бы не большевики, а эсеры, то в учебниках истории мы с вами читали бы о любимцах народа социал–революционерах и о провокаторах и агентах охранки большевиках.
И тем и другим к лету 1906 года было абсолютно ясно, что у них остался последний шанс столкнуть Россию в хаос революции — поднять на мятеж Балтийский флот, который до этого времени пребывал в относительном спокойствии, если не считать пьяного мятежа в Кронштадте в 1905 году, который сам собой прекратился, едва начавшись. Конкуренты лихорадочно готовили каждый собственное восстание, но эсеры, как всегда, были на корпус впереди.
Думается, что здесь, как всегда, не обошлось без мировой закулисы. Разумеется, совершенно неслучайно все должно было произойти именно на Балтике. При этом, учитывая опыт Черноморского флота, мятеж должен был вспыхнуть одновременно в нескольких военно–морских базах одновременно. Для этого были выбраны Кронштадт и Свеаборг. Первый находился в непосредственной близости к столице, а второй — в лояльной к революционерам всех мастей Финляндии. Кроме этого должны были восстать и боевые корабли. При этом возглавить мятеж кораблей должен был броненосный крейсер «Памяти Азова». Расчет был таков — мятеж на столь знаменитом корабле всколыхнет не только флот, но и общество, которое придет к заключению, что если против власти восстают самые заслуженные и «приближенные» корабли, то эта власть не имеет права на существование. Кроме этого мятеж на «Памяти Азова» был личным вызовом самому императору, которого буквально заставляли этим гениальным ходом разочароваться в моряках и, как следствие этого, потерять интерес к флоту, а значит, и к возрождению морской мощи империи. Что и говорить, столь далеко идущие цели оправдывали и затраты. А затраты были немалые. На Балтике в 1906 году революционеры сосредоточили свои лучшие силы. Ряд специалистов по организации мятежей были переброшены с юга России. Максимально был учтен опыт 1905 года. При этом, как и год назад в Севастополе и в Одессе, на Балтике шла острая непрерывная конкурентная борьба между социал–демократами и эсерами, за влияние на матросские массы и право назначать вожаков мятежей. Все понимали, что мятеж Балтийского флота — это последний шанс не только разжечь революцию, но и стать во главе ее. И этого шанса никто упускать не желал.
Из хроники революции 1905 года: «Проводить революционную работу на территории Финляндии было значительно легче, чем в России, здесь не было русской полиции. В дни октябрьской стачки 1905 года рабочие Гельсингфорса создали отряды Красной гвардии. Эти отряды существовали вполне легально. К лету 1906 года Красная гвардия насчитывала до 20–30 тысяч человек, правда, вооружена из них была только часть. Правда, руководство финской социал–демократии стояло на оппортунистических позициях». Поразительно, но в империи вполне официально существовала целая армия, готовая в любой момент вступить в бой с властью. И царя после этого упрекают в реакционности и деспотизме! Приведите еще хоть какой–то пример в истории подобному!
Задайтесь вопросом, какая самая демократичная и либеральная власть потерпит такое положение дел!
Официально принято считать, что мятежи на Балтике в 1906 году вспыхнули стихийно. Они якобы были запланированы, но на более позднее время. В преждевременном же выступлении масс, как всегда, самую подлую роль играли эсеры. Согласно версии самого большого советского специалиста в области революционного движения в русском флоте С. Найды, здесь отличился известный эсеровский провокатор Азеф, который, выполняя задание охранки — сорвать восстание, подготавливаемое большевиками, и организовал преждевременное выступление.
На самом деле все было не так. Мятеж в Свеаборге (мятеж начался именно с него) готовился загодя, и готовился как раз на то время, когда и произошел. Подтверждением этому служит практически одновременное со свеаборгским начало мятежей на «Памяти Азова» и в Кронштадте. Обвинения же на эсеров было «повешено» уже после того, как все эти мятежи подавили. Большевики просто обвинили своих конкурентов в неудаче. Кстати, и эсеры в неудаче мятежей в Свеаборге и Кронштадте, в свою очередь, обвинили тех же большевиков.
Как отмечалось в одной из большевистских листовок: «Наша тактика была: готовиться, организовываться и ждать общего движения, тактика эсеров — начинать, а за нами, мол, не отступят и остальные… Все свое дело они вели как заговорщики, рассчитывая на то, что самое важное в этом деле — тайна, внезапность нападения. Мы же полагали, что если уж идти на восстание, то надо придать ему массовый характер, надо подготовить настроение на митингах и массовках и в решительный момент вызвать на улицу многотысячную толпу рабочих».
Историк С. Найда о подготовке мятежа на Балтике большевиками в 1906 году писал так: «В. И. Ленин уделял исключительное внимание подготовке, а затем руководству восстаниями матросов и солдат на Балтике. В ЦК РСДРП в это время преобладали меньшевики; этот ЦК не руководил восстаниями, не мог и не хотел этого делать.
Он давал оппортунистические лозунги, за которыми массы не шли. В момент восстаний Ленин находился в Петербурге. Под его руководством Петербургский комитет РСДРП через голову меньшевистского ЦК руководил борьбой масс. 16 июля Петербургским комитетом были получены из Свеаборга сведения о готовящемся революционном выступлении солдат и матросов. Получив это известие, большевики созвали совещание, на котором председательствовал Ленин. Совещание обсудило вопрос о руководстве восстанием и приняло постановление, написанное Лениным. Большевики — члены ПК и ЦК были немедленно командированы во все районы города, быстро связались с рабочими организациями и начали готовить забастовку рабочих. В Кронштадт для руководства восстанием были командированы 19 июля тт. Мануильский, член ЦК Иннокентий (Дубровинский), Гусарев и др. работники. Эти товарищи, по словам Мануильского, сделали все возможное, чтобы придать восстанию характер организованной борьбы, они же и до конца событий руководили восстанием. 21 июля по призыву большевиков в течение нескольких часов забастовало около 100 тысяч рабочих. К забастовке примкнули финские железнодорожники, которые еще раньше в ряде мест разобрали железнодорожные пути. Меньшевики предательски срывали организацию забастовки, но большевики, уничтожая препятствия, воздвигаемые предателями, выводили питерских рабочих на борьбу. Для обсуждения вопроса об организации всеобщей забастовки на станции Удельная было созвано совещание Петербургского комитета РСДРП. По–видимому, на совещании присутствовал провокатор, так как не успели собраться участники намеченного совещания, как все 19 человек были арестованы».
Итак, 2 июля 1906 года в Гельсингфорсе состоялось совещание представителей Финляндской военно–партийной организации РСДРП, на котором разрабатывался общий план восстания. В соответствии с этим планом Свеаборг условной телеграммой «отец здоров» должен был дать флоту и Кронштадту сигнал к общему восстанию. Восставший флот в свою очередь должен был ответить Кронштадту и Свеаборгу также условной телеграммой — «отец болен», что означало: «Восстал, иду в Кронштадт». По плану восстания матросы и солдаты должны были сначала захватить Свеаборгскую и Кронштадтскую крепости и корабли. Затем флот должен был частью сил идти в Петербург для поддержки рабочих, а частью — в порты Прибалтики, чтобы поддержать восстания там.
В это же время примерно такой же план вырабатывают и эсеры, с той лишь разницей, что в главе восставшего флота встают не большевики, а они. О планах восстания на Балтийском флоте вскоре стало известно и властям. Контрразведка работала весьма неплохо. После событий 1906 года большевики обвинят в утечке информации эсеров, а те в свою очередь большевиков. Как на самом деле стал известен план восстания охранному отделению, мы так и не узнаем. Как бы то ни было, но флотское командование незамедлительно отреагировало на полученную информацию: корабли были рассредоточены по Финскому и Рижскому заливам, многие неблагонадежные матросы списаны с кораблей, команды и караулы усилены проверенными и надежными матросами, а также офицерами и гардемаринами. Помимо этого команды кораблей были вычищены от неблагонадежных элементов. Надо отметить, что полученная флотским начальством информации о возможном мятеже носила весьма общий характер. Ни об инициаторах восстания, ни о его сроках ничего известно не было. Это затрудняло работу по выявлению зачинщиков.
Однако при этом властям внезапно повезло. Помощь пришла оттуда, откуда ее меньше всего ожидали. В преддверии мятежа на Балтийском флоте до предела обострились отношения меду социал–демократами и эсерами.
Историк С. Найда об этой межклановой схватке пишет так: «Эсеры провоцировали немедленное выступление. В Кронштадте и других местах они начали создавать свои организации под видом контактных и беспартийных организаций, комитетов, центров и т. п., приглашая социал–демократов вступать в эти организации, якобы для объединения действий по подготовке восстания, а в действительности для того, чтобы подчинить социал– демократов своему влиянию, ослабить большевистские военно–партийные и боевые организации. Они действовали как заговорщики, рассчитывая на то, что самое важное в подготовке восстания — тайна, внезапность нападения. Большевики же считали, что если уж идти на восстание, то надо придать ему массовый характер и в решительный момент вызвать на улицу многотысячную массу рабочих. Эсеры считали, что можно обойтись и без этого. Они подготовляли взрыв и не сочли нужным ни полусловом уведомить социал–демократов о своих затеях. Большевики беспощадно критиковали эсеров, разоблачали их авантюризм перед массами. Отвергнув предложение эсеров войти в беспартийную организацию, большевики с разрешения вышестоящих партийных центров не отказались установить с ними контакт по отдельным вопросам подготовки и проведения восстаний. Этой своей тактикой большевики преследовали задачу не распылять силы революционно настроенных масс и сохранить влияние на них, чтобы в нужный момент удержать их от эсеровской авантюры. В то же время большевики упорно работали в массах, разъясняя им вред и недопустимость неорганизованных бунтов и выступлений. За десять дней до восстания большевики в № 5 газеты „Казарма“ писали, что нужны не военные бунты, а переход войск в решительный момент на сторону восставших масс. За три дня до восстания большевики Кронштадта выпустили специальную листовку, в которой предупреждали массы, что нужно приберечь силы для великого дела всеобщего восстания».
8 июля 1906 года Николай II распустил излишне политизированную I Государственную думу. Часть депутатов–радикалов разогнанной думы выехала в Финляндию, где 10 июля приняла «выборгское воззвание», в котором население России призывалось к пассивному сопротивлению — отказу платить налоги и давать новобранцев правительству.
Отметим, что эсеры попытались выступить с большевиками единым фронтом. В Финляндию прибыли их лидеры Евно Азеф и Чернов. И в Гельсингфорсе, и в Кронштадте эсеры предложили конкурентам вступить в соглашение для совместных действий. Но социал–демократы отклонили это предложение, заявив, что у них нет на это согласия вышестоящих партийных органов. Эсеры не отступали, и в конце концов все же была создана некая совместная информационная комиссия, толку от которой в реальности не было никакой. Но и после этого эсеры не успокоились. За несколько дней до восстания в Свеаборге эсеровская военная организация созвала в Гельсингфорсе экстренное совещание, пригласив на него социал–демократов. Представитель эсеров из Кронштадта заявил на совещании, что кронштадтцы, флот, особенно корабли «Цесаревич», «Богатырь» и «Слава», готовы к восстанию и начнут его немедленно и что от свеаборжцев требуется только поддержка. Но представитель большевиков выступил против, заявив, что без санкции ЦК его партии начать восстание нельзя. После долгих споров социал–демократы добились от эсеров заверения, что те не поднимут в Кронштадте восстания раньше, чем это произойдет в Свеаборге, причем представители обеих партий так и не договорились об объединении сил. Готовить восстание они решили независимо друг от друга.
Общее руководство мятежа от партии эсеров на Балтийском флоте осуществлял С. Ф. Михалевич по кличке Ян. В помощь ему отрядили Ф. М. Онипко, по кличке Трудовик. Оба они пользовались среди матросов популярностью, но были чрезмерно эмоциональны, больше доверяли порыву, чувствам, нежели кропотливому, осторожному, повседневному собиранию сил и трезвому учету обстоятельств. Занимались подготовкой мятежа и такие видные деятели партии эсеров, как И. И. Бунаков, В. М. Чернов. Известно, что в агитации матросов активно участвовала особая группа молодых женщин–эсерок. Смысл их «агитации» заключался в том, что дамы влюбляли в себя нужных им авторитетных матросов, которым очень льстило, что они сожительствуют с образованными столичными барышнями.
С конца марта эсеры регулярно предлагали социал–демократам консолидировать усилия, отбросить в сторону идейные распри, объединиться. Те долго сопротивлялись, но после арестов в марте — апреле получили согласие своего ЦК, и 23 апреля была основана объединенная, беспартийная военная организация, которая, увы, оказалась не слишком жизнеспособной.
Если год назад план восстания охватывал Севастополь и Одессу, то теперь одновременно должны были подняться Кронштадт и Свеаборг, а если повезет, то и Ревель. Роль же детонатора, которая отводилась на Черном море броненосцу «Потемкин», на Балтике должен был сыграть броненосный крейсер «Память Азова». Разумеется, устаревший «Память Азова» не шел ни в какое сравнение с новейшим «Потемкиным». Но все дело в том, что на Балтике планы революционеров–террористов были несколько иными, чем год назад на юге России. Если в 1905 году в Одессе расчет делался на мощь «Потемкина», то год спустя на Балтике все было несколько иначе.
Что нам говорят историки
Как и все без исключения революционные события, мятеж на «Памяти Азова» был впоследствии залегендирован. Многие происшедшие на нем события были «переосмыслены» в угоду времени и конъюнктуре, вследствие чего истинные герои стали негодяями, а негодяи — героями.
Вот как возвышенно описывали начало мятежа на «Памяти Азова» в советское время: «Объявив команде свое решение, штаб поднял над крейсером красный флаг. Раскаты громового „ура“ пронеслись над рейдом. Многие матросы плакали от счастья. Флаг осветили бортовым прожектором, и он переливался в лучах голубоватого света. И когда на заре на горизонте всплыло багровое, будто дымное солнце, оно было почти одного цвета с этим флагом…» Попробуй–ка написать лучше!
Не последнюю роль в этом сыграл наиболее авторитетный в 40–50–х годах XX века историк революционного движения в русском флоте генерал–майор С. Найда. Вот как описано С. Найдой восстание на «Памяти Азова» в его главном труде «Революционное движение в царском флоте»: «На крейсере „Память Азова“ и минном крейсере „Абрек“ существовали подпольные социал–демократические организации, на других кораблях были представители социал–демократической организации и везде имелись группы революционных матросов. Команды кораблей были однородны как по сроку службы, так и по классовому составу. На крейсере „Память Азова“ из 700 человек команды было только 200 матросов постоянного состава, в том числе часть сверхсрочников, 500 учеников явились переменным составом. Матросы постоянного состава почти все, за исключением некоторых сверхсрочников, были вовлечены в революционное движение. На сверхсрочную службу обычно оставались младшие и старшие унтер– офицеры и боцманы, пришедшие во флот из деревни. Сверхсрочнослужащие пользовались рядом льгот и в материальном отношении были обеспечены удовлетворительно. Это ставило их в привилегированное положение. Наконец, занимая низшие командные должности, они в массе были враждебны революционному движению и являлись опорой реакционного офицерства. На других учебных кораблях состав команд был примерно такой же.
Революционная пропаганда среди кадровой (постоянной) части команд велась еще с 1905 года. Пропаганду среди молодых учеников и новобранцев в 1906 г. вели сами же матросы, а на берегу им оказывали помощь местные партийные организации РСДРП и особенно Ревельская, действовавшая через подпольную военно–партийную организацию крейсера „Память Азова“. В состав организации на корабле „Память Азова“ входили артиллерийский квартирмейстер Лобадин, баталер Гаврилов, гальванер Колодин, минер Осадский, комендоры Кузьмин, Катихин, Болдырев, Ширяев, Пинкевич и др. Признанным руководителем матросов и до, и во время восстания был Лобадин. Всех революционных матросов на корабле объединял подпольный судовой комитет, во главе которого стояли Лобадин и другие большевики. Но были на крейсере „Память Азова“ и эсеры, и эсерствующие. Правда, организация эсеров и влияние ее среди команды крейсера были невелики, но эта небольшая группа, получая директивы от эсеровских комитетчиков, толкала матросов па бунт, нарушения дисциплины и преждевременное восстание. Постоянным представителем и связным от Ревельского комитета РСДРП и его военной организации с матросами отряда учебных кораблей был большевик–подпольщик Арсений Коптюх (он же Оскар Минее, Степан Петров, и он же Рязанов).
Под руководством неутомимого Коптюха и его товарищей из Ревельской организации РСДРП в июне и июле 1906 г. матросы отряда учебных кораблей устраивали на берегу сходки, митинги и собрания; посещали рабочие митинги и собрания; получали на берегу нелегальную литературу и широко распространяли ее на кораблях. Коптюх, руководя агитационно–пропагандистской работой среди матросов, по указанию Ревельского комитета РСДРП готовил восстание на кораблях. Подготовка шла быстрыми темпами. Матросы, руководствуясь указаниями Коптюха, разрабатывали планы захвата кораблей и создали своеобразные боевые дружины, которые должны были сыграть решающую роль в первый момент восстания и быть опорой в дальнейшей борьбе.
Рост стихийных одиночных выступлений в этот период являлся показателем растущих в массе матросов возбуждения и недовольства. Это понимали и офицеры. Особенно насторожиться заставил их имевший место в середине июня демонстративный отказ команды крейсера „Память Азова“ от плохого обеда. Чтобы лишить матросов возможности еще раз выступить с протестом по поводу плохой пищи, командир корабля капитан 1–го ранга Лозинский разрешил матросам избрать артельщиков, которым и было поручено питание команды. Чтобы „не позорить честь корабля“, командир корабля и офицеры решили сделать вид, что они не придают большого значения столкновению с командой, и пытались даже скрыть факт от вышестоящего начальства, но втайне начали зорко следить за матросами, надеясь раскрыть революционную организацию. Однако о выступлении матросов стало все же известно. В № 8 газеты „Мысль“ от 28 июня 1906 г. была помещена заметка, в которой сообщалось, что на корабле произошел бунт и что для наведения порядка прислан батальон Новочеркасского полка.
Командир корабля написал рапорт начальнику учебно–артиллерийского отряда и просил привлечь редактора газеты к ответственности за ложные сведения. Начальник отряда в свою очередь направил рапорт морскому министру. А в министерстве о напряженном положении на кораблях знали от осведомителя охранки кондуктора Лавриненко, который сумел проникнуть в подпольную организацию крейсера „Память Азова“.
Если командование отряда стремилось избавиться от революционных матросов втихомолку, путем списания с кораблей наиболее видных организаторов, чтобы затем арестовать их уже на берегу, то в министерстве, очевидно, стояли за массовые и открытые аресты. В начале июля с крейсера „Память Азова“ списали минера Жадского.
Матросы поняли, что это не случайное списание, и оказали сопротивление. Только вмешательство в конфликт всех офицеров дало возможность увезти его с корабля. Новое выступление уже нельзя было объяснить так, как объясняли случай отказа от обеда. К морскому министру полетели шифрованные телеграммы. Располагая сведениями о подготовке восстания на Балтике и в Финляндии, министр решил, что пришло время для рассредоточения флота, перегруппировки команд, арестов неблагонадежных, укрепления кораблей гардемаринами и т.д. Для проведения этих мероприятий министр выехал на флот и 14 июля 1906 г. устроил смотр учебно–артиллерийскому отряду.
После „смотра“ командование Балтийского флота рассредоточило весь флот и в том числе корабли учебного отряда направило в бухту Папонвик и другие места с целью, по возможности, изолировать их друг от друга, а команды оградить от влияния агитаторов. Учебный корабль „Рига“ был оставлен в Ревеле. Заподозренным в политической неблагонадежности, как, например, Лобадину, под разними предлогами запретили увольнение на берег. Усилили надзор, запретили встречи между матросами разных кораблей. Эти меры чрезвычайно затрудняли связи революционеров различных кораблей. Стало труднее собираться на кораблях, ухудшилась связь с Ревелем. На наиболее подготовленном к восстанию крейсере „Память Азова“ работа подпольщиков усложнялась еще и тем, что крутые меры командования взволновали часть матросов. Менее сдержанные могли выступить при малейшем толчке.
18 июля, в 10 часов вечера, баталер Гаврилов (один из участников подпольной организации на корабле) получил условную телеграмму о восстании в Свеаборге и сообщил ее содержание руководителю организации Лобадину. Телеграмма поставила азовцев в трудное положение. Из директив Ревельского комитета РСДРП они знали, что время для восстания не назрело; на учебных кораблях не была закончена подготовка к восстанию, и работу эту отчасти расстроил перевод кораблей из Ревеля. Азовцы приняли решение: от восстания воздержаться до выяснения обстановки, проверки фактов и подтверждения указаний о необходимости восстания от ревельской организации РСДРП. А в это время из Ревеля уже спешил к азовцам посланный Ревельским комитетом РСДРП Арсений Коптюх. Узнав, что в Ревель из бухты Папонвик пришел за провизией минный крейсер „Абрек“, Коптюх переоделся в матросскую форму и с помощью подпольщиков проник на корабль.
Вечером 19 июля „Абрек“ пришел в бухту Папонвик и начал разгружать провизию для кораблей отряда. Вместе с матросами с „Памяти Азова“, доставлявшими провизию на свой корабль, Коптюх перешел на крейсер, чтобы передать сообщение о начавшемся восстании в Свеаборге. Около 10 часов вечера 19 июля Лобадин и Коптюх в таранном отделении крейсера собрали заседание судового комитета и актив революционных матросов. Из материалов следствия и суда видно, что на этом заседании было около 50 человек. Коптюх сообщил, что в Свеаборге началось восстание, и поставил на обсуждение вопрос о восстании на кораблях учебно–артиллерийского отряда. Около часа ночи кто–то из присутствовавших внес предложение перейти в другое место, так как в таранном отделении от большого скопления людей стало трудно дышать. Предложение приняли и по группам начали выходить. Ученик Тильман, знавший о заседании, отправился в это время с доносом о происходящем собрании. Он сообщил также, что среди матросов находится посторонний человек.
По приказанию старшего офицера, капитана 2–го ранга Мазурова, на корабле начался обыск. Матросы быстро разошлись по кубрикам и легли в койки. В таранном отделении старший офицер застал еще нескольких матросов и переписал их. Потом начался обыск в жилой палубе. Коптюх лежал на койке с матросом Козловым. Здесь Мазуров и обнаружил его. На вопрос, кто он такой, Коптюх ответил: кочегар № 122. Такого номера по расписанию не было, и это сразу его выдало. Старший офицер приказал арестовать Коптюха. У него нашли браунинг и патроны. Начальник отряда кораблей, капитан 1–го ранга Дабич и командир корабля Лозинский учинили ему допрос, но, ничего не добившись, решили утром отправить его на крейсере „Воевода“ в ревельскую охранку.
Обыск на корабле и арест Коптюха вызвали сильное возбуждение среди революционной части команды. По инициативе Лобадина, Пинкевича, Кузькина и Осадчего наскоро был разработан план выступления. Во главе восстания стал Лобадин. По его приказанию минный машинист Осадчий остановил динамо–машину. Когда на корабле погас свет, группа матросов сняла часового, захватила несколько винтовок и ящик с патронами. Офицеры, поняв, что началось восстание, тоже бросились к винтовкам и начали их сносить в кают–компанию. Им помогали кондукторы. Однако у многих винтовок не оказалось затворов.
…Мазуров пошел к матросам, надеясь успокоить их. — Кто меня любит, — заявил он, — иди ко мне. Брось бунтовщиков! — Мазуров надеялся, что матросы по–старому заявят: „Вы наши отцы, мы ваши дети“. Но изменились времена, прозрел матрос. На зов Мазурова раздались крики: „Кто вас любит? Изверги! Кровопийцы! Злодеи!“ Началась суматоха.
В это время основная группа восставших матросов по приказанию Лобадина собралась на верхней палубе, и восставшие перешли в наступление. Около двух часов ночи на корабле затрещали выстрелы. Во время перестрелки был убит предатель Тильман, стоявший на посту у ванной комнаты, где сидел арестованный Коптюх, тяжело ранен и вскоре умер вахтенный начальник мичман Зборовский, убиты: инженер–механик подполковник Максимов, врач Соколовский, лейтенант Македонский и ранены: старший офицер Мазуров и иеромонах Клавдий, командир корабля капитан 1–го ранга Лозинский и лейтенанты Вердеревский и Селитренников.
Дружное и смелое выступление матросов вызвало подъем среди революционно настроенных матросов и посеяло панику среди офицеров и их приспешников. Начальник отряда Дабич приказал офицерам развести пары на баркасе и вместе со своим флаг–капитаном Римским-Корсаковым 1–м, частью здоровых и раненых офицеров (Лозинским, Вердеревским, Селитренниковым и др.) перешел на баркас и на предельной скорости ушел в море. Не успели бежать пять офицеров, в том числе старший офицер Мазуров. Матросы разоружили и арестовали их. В погоню за бежавшими матросы снарядили паровой катер, посадив на него 10 человек вооруженной команды и поставив 37–мм пушку. В перестрелке на баркасе были убиты командир крейсера капитан 1–го ранга Лозинский и мичман Погожин и ранен лейтенант С. И. Унковский. Вскоре, однако, погоню пришлось прекратить. По одним данным, катер матросов сел на мель, по другим — старший на катере фельдфебель Старостин намеренно дал задний ход, объяснив, что сел на мель. Воспользовавшись заминкой, преследуемые скрылись.
В это время на корабле уже взвился красный флаг, и люди собрались на митинг. Лобадин представил Коптюха как представителя Ревельского комитета РСДРП. По предложению Коптюха и Лобадина восставшие решили рано утром 20 июля поднять на восстание команды минных крейсеров „Абрек“ и „Воевода“ и миноносцев и вместе с ними двинуться в Ревель. В Ревеле, говорил Коптюх, прибытие кораблей явится сигналом к выступлению рабочих. На помощь рабочим матросы высадят десант, а с помощью рабочих получат провизию, и вместе будут продолжать борьбу. В случае если корабли не примкнут к восстанию, было решено также идти в Ревель. Решение о походе в Ревель было правильным. Ревельский комитет РСДРП не только послал к „азовцам“ Коптюха, но, чтобы объединить силы для общего удара, сделал все возможное, чтобы по прибытии восставших кораблей в Ревель оказать им поддержку пролетариата и всех других революционных элементов, боровшихся за свержение самодержавия. Накануне восстания на крейсере „Память Азова“ в Ревеле происходили бурные митинги рабочих. 17 июля рабочие угрожали полиции приходом в Ревель матросов. Власти готовились ко всяким неожиданностям. Полиция и войска были приведены в боевую готовность.
Ревельский комитет РСДРП считал необходимым при наличии неблагоприятных условий на кораблях или неблагоприятном развитии событий в Свеаборге не подымать восстания и приберечь силы к выступлению, когда этого потребует политическая обстановка в стране. Поэтому Коптюху были даны соответствующие указания. Любое решение Коптюха для матросов „Памяти Азова“, шедших за социал–демократами, было обязательным(!?). И когда восстание стало фактом, большевик Коптюх стал во главе его и руководил им до конца. После побудки (хотя никто в эту ночь не спал) вестовые матросы собрали на митинг всю команду корабля — около 700 человек. Лобадин призывал всех, кто ночью не принимал участия в борьбе, активно поддержать восстание. Коптюх рассказал о положении в стране и о восстании в Свеаборге. По его предложению матросы избрали комитет из 12 человек: 11 матросов и его, Коптюха. Во главе комитета стал Лобадин, человек огромной силы воли и больших способностей. Он же фактически стал и командиром крейсера.
В бухте Папонвик на виду у крейсера „Память Азова“ стоял минный крейсер „Воевода“. Невдалеке за островом стояли остальные корабли эскадры: минный крейсер „Абрек“, миноносцы „Послушный“, „Ретивый“, № 102, № 106, № 107; учебный корабль „Рига“ был в это время в Ревеле. Азовцы вначале решили поднять восстание на минном крейсере „Воевода“.
В 6 часов утра „Память Азова“ снялся с якоря и поднял сигнал „Воеводе“ следовать за ним. Минный крейсер „Воевода“ снялся с якоря с приготовленными к атаке торпедными аппаратами и начал разворачиваться в сторону „Памяти Азова“. Но, как видно, офицеры „Воеводы“ не решились что–либо предпринять против азовцев, ибо команда „Воеводы“ не внушала доверия офицерам, поэтому они приготовились выброситься на берег, чтобы тем самым не дать возможности восставшим захватить крейсер и использовать в революционных целях. Заметив подозрительные приготовления „Воеводы“, азовцы направили на него орудия и подняли сигнал: „Стать на якорь“. Но задуманный командиром „Воеводы“ план предотвратить не удалось. Корабль выбросился на берег, и офицеры окончательно привели его в негодность: испортили трубопроводы и машины, открыли кингстоны и краны затопления; команду же поспешно свели на берег.
Командир „Абрека“, узнав о восстании на крейсере „Память Азова“, поднял на ноги офицеров и надежную часть команды. Он приказал следить за матросами и усилить охрану оружия. Утром командир собрал матросов и спросил, останутся ли они верными долгу присяги и будут ли выполнять любое его приказание. Матросы угрюмо молчали, выжидая, несомненно, момента для присоединения к „азовцам“. Командир принял это молчание за угрозу и решил поступить так же, как поступил командир „Воеводы“.
С „Памяти Азова“ подняли „Абреку“ и миноносцам сигнал: „Следовать за мной“, что было призывом к восстанию. В ответ с „Абрека“ подняли сигнал: „Ясно вижу“, и в тоже время по приказанию командира корабль на полном ходу выбросился на берег. Команду его под конвоем унесли в лес. Восстания на миноносцах также не произошло. Крейсер „Память Азова“ сделал по миноносцам несколько выстрелов из орудий, после чего ушел в Ревель.
Азовцы не знали, что произошло за последнюю ночь на берегу, но они верили в успешный исход борьбы. Во время похода они по радиотелеграфу вызывали минный отряд, базировавшийся на Гельсингфорс, вызывали броненосец „Славу“, думая, что и там началось восстание, но на их вызовы не отвечали. Идя в Ревель, азовцы надеялись поднять восстание на учебном корабле „Рига“ и установить связь с рабочими. В пути комитет обсуждал план, как лучше и вернее этого добиться.
Уже в это время восставшие совершили ряд ошибок. Они избрали комитет, но не избрали единоначальника, командующего. Подняв восстание и посадив под арест оставшихся на корабле офицеров, они оставили на свободе контрреволюционно настроенных кондукторов. Не учли они также, что в составе команды корабля было много колеблющихся и частью даже враждебных восстанию элементов. Ошибкой было и то, что вместо офицеров командирами боевых частей и служб не были назначены верные революции люди; службу несли люди по своей инициативе, а на некоторых боевых постах командовали контрреволюционно настроенные кондукторы: Рудаков, Пленков, Левичев и предатель Лавриненко, выдававший себя за революционера. Восставшие по существу растворились среди колеблющихся и явно враждебных элементов. А главное, они недооценивали своих сил в управлении кораблем и переоценивали знания офицеров. Для усиления авторитета комитет предложил Коптюху надеть форму мичмана (?!). Коптюх согласился и переоделся в форменную одежду мичмана.
Ошибки революционеров использовали кондукторы, оставшиеся на корабле офицеры и другие контрреволюционные элементы. Кондукторы связались с офицерами и по их совету исподволь повели разлагающую агитацию среди колеблющейся переменной части команды. Вскоре результаты контрреволюционной агитации сказались: среди части матросов началось глухое брожение. Член комитета Баженов сообщил об этом Лобадину, Коптюху и другим членам комитета, находившимся в боевой рубке. Тогда комитет собрал на баке не занятых по расписанию матросов. Собрание уже подходило к концу (был час дня), как вдруг на горизонте был замечен учебный корабль „Рига“.
„Память Азова“ лег на курс „Риги“. Азовцы не знали, что командир Ревельского порта, не веря в благонадежность команды „Риги“, приказал командиру корабля предельным ходом идти в Либаву, избегая встречи с восставшим крейсером. Погоня за „Ригой“ продолжалась с часу дня до половины четвертого и оказалась безрезультатной.
„Рига“, имея более быстрый ход, оставила восставший крейсер далеко позади себя. Это был тяжелый удар. Столько надежд возлагали на крейсере на этот корабль, и вдруг план рушился! Контрреволюционным же элементам уход „Риги“ был на руку, и они усилили свою агитацию.
В 5 часов вечера 20 июля крейсер „Память Азова“ стал на якорь в Ревельском порту. К этому времени контрреволюционеры успели испортить орудия и привлечь на свою сторону часть команды. С подходом к Ревелю, как никогда, требовалась активная организационная деятельность комитета и всех восставших, члены же комитета без конца совещались. Это была еще одна крупная ошибка восставших.
В 6 часов вечера кондукторы–заговорщики Давыдов и Огурцов подняли мятеж. Гаврилов доложил Лобадину, что многие матросы из переменной части команды вооружаются винтовками. Лобадин приказал дудкой вызвать кондукторов наверх. Дудку дали, но она стала сигналом к мятежу. На корабле началась перестрелка.
Газета „Казарма“ так описывала это побоище и конец восстания: „Перед Ревелем на корабле произошла схватка, тут были матросы против матросов… Оставшиеся „верными“ матросы, т.е. желающие еще надолго оставаться рабами, вызвали из Ревеля пехоту, которая прибыла на судне „Беркут“; с ее помощью арестовали участников восстания“. Революционеры оказывали стойкое сопротивление. Однако теперь было уже поздно. Силы были далеко не равны. В перестрелке было убито 6 офицеров (частью из прибывших), кондуктор и 20 матросов. Ранено 6 офицеров и 48 матросов. Лобадин не перенес поражения и застрелился. Расправу с революционерами, начатую предателями, довершили пехота и жандармы. Раненых и здоровых жандармы и солдаты избивали прикладами и топтали ногами. Уже мертвого Лобадина искололи штыками. Арестовано было 223 человека, в том числе и Коптюх.
Изувеченных побоями, с залитыми кровью лицами и в изорванной одежде матросов отправили в тюрьмы Ревеля: часть — в Вышгородский замок, а особо опасных — в казематы тюрьмы „Маргарита“, из которой редко кто выходил живым. В знак солидарности и в целях облегчения участи арестованных матросов рабочие Ревеля объявили политическую забастовку. На учебном корабле „Рига“ также имела место попытка восстания. Когда крейсер „Память Азова“ погнался за „Ригой“, матросы поняли, что азовцы восстали. Революционные матросы „Риги“ решили присоединиться к крейсеру, но выполнить это было чрезвычайно трудно, так как офицеры и кондукторы зорко следили за каждым шагом матросов. Однако около 8 часов вечера, когда корабль находился у плавучего маяка Неймангруд, 60 матросов, захватив винтовки и патроны, выскочили на верхнюю палубу. Здесь их окружили вооруженные офицеры, кондукторы, унтер–офицеры и гардемарины. Не имея плана борьбы, матросы сдались».
Итак, перед нами классическая канонизированная в советское время версия восстания на «Памяти Азова». Оценки восстания на «Памяти Азова» не слишком разнятся и у других историков. Но все ли обстояло на самом деле именно так, как рассказал нам С. Найда? Есть ли какие–либо иные свидетельства? Оказывается, такие свидетельства есть!
Мятеж «Государева корабля»
В отличие от событий на «Потемкине», о которых оставили свои вспоминания исключительно участники мятежа, о восстании на «Памяти Азова» оставил воспоминания и представитель антиреволюционной стороны капитан 2–го ранга Николай Николаевич Крыжановский, опубликовавший их в журнале «Морские записки» в 1948–1949 годах в Нью-Йорке.
Чтобы не пересказывать воспоминания Н. Н. Крыжановского, дадим слово непосредственному участнику тех событий: «Бунт команды на крейсере „Память Азова“ произошел летом 1906 года в Балтийском море, в бухте Папонвик, близ Ревеля. При этом большинство офицеров было убито или ранено, корабль попал в руки мятежников и поднял красный флаг. Крейсер стрелял по военным судам, требуя их присоединения к „революции“, и намеревался бомбардировать города, принуждая „берег“ к тому же. Это вооруженное восстание идентично с мятежом на броненосце „Князь Потемкин-Таврический“ в Черном море: оно является крупным революционным актом в военной среде и представляет собой значительный исторический интерес.
Лично мне, тогда 19–летнему мичману, выпало на долю быть действующим лицом в этой тяжелой драме, и все происходящее оставило глубокий след в моей душе и сильно отпечаталось в молодой памяти, как только может отпечататься переживание в возрасте 19 лет. Впоследствии многие наши офицеры и некоторые иностранцы побуждали меня написать историю этого восстания, однако я это откладывал, из осторожности, так как в советской России еще сравнительно недавно преследовали и убивали участников и причастных к этому делу лиц.
Зиму с 1905 на 1906 год крейсер стоял на „паровом отоплении“ в Кронштадтской гавани. Это была новая форма зимовки судов со всей командой, вместо старого разоружения. Команда и офицеры жили на кораблях, отоплялись своими котлами. Вместо вахты несли дежурства. В город увольняли свободно. Молодые офицеры жили всегда на корабле и лишь „съезжали на берег“. Женатые же, старшие, уходили вечером домой, на берег. Конечно, командир и старший офицер чередовались.
Этой зимой революционные агенты и занялись командой „Азова“ вплотную. Для этого в Кронштадте было довольно агентов, были деньги, были женщины. На корабле находилась лишь, собственно, команда крейсера. Ученики артиллерийского класса в то время жили в артиллерийском отряде на берегу и занимались в классах.
Зимой, на паровом отоплении, команда жила неплохо. Пища выдавалась та же, что и в море. Во флоте команду всегда кормили хорошо, сытно. Редкий матрос дома мог иметь такую пищу. Будет довольно назвать только две цифры из рациона: три четверти фунта мяса в день на человека, хлеба неограниченно. Кроме того, овощи, крупа, макароны, масло, чай, сахар, табак и другие продукты. Вина, то есть водки, одна чарка в день: 1 чарки перед обедом, 1, перед ужином. В то время уже многие матросы, особенно бережливые крестьяне, водки систематически не пили и предпочитали получить „за непитое“ по 8 копеек в день, т.е. 2 рубля 40 копеек в месяц, как прибавка к жалованию.
Одевали матросов прекрасно. Уходя в запас, матросы увозили тюки одежды домой. Излюбленный козырь пропаганды „плохие харчи“, имели большой успех в среде русского крестьянства. Однако во флоте это звучало неубедительно. Зато чисто революционная пропаганда во флоте имела несравненно больший успех, чем, например, в армии. Большинство матросов современного флота являются людьми с некоторым образованием, специалистами, прошедшими школу на звание машиниста, кочегара, минера, электрика, телеграфиста, артиллериста, гальванера, сигнальщика и др. Некоторые из них уже до службы проходили техническую школу, работали на заводах. Неграмотные очень быстро выучивались грамоте, так как эти занятия производились каждую зиму, под руководством опытных нанятых учителей. Матросы могли читать книги, газеты. Стоя зиму в гавани у заводов, матросы были все время в общении и собеседовании с заводскими рабочими. Поэтому агенты политической пропаганды имели доступ на корабль и могли, не торопясь, вести свою работу. В течение зимы из среды команды выделился революционный комитет, а лидером всего движения стал артиллерийский квартирмейстер 1–й статьи Лобадин. Лобадин был типичный лидер в среде русского простого народа. Среднего роста, широкоплечий, „квадратный человек“, большой физической силы. Широкое лицо, белесоватые, исподлобья, глаза. Большого характера, с диктаторской повадкой…
С началом кампании революционное брожение на корабле стало чувствоваться явственно. Начались нарушения дисциплины.
„Память Азова“ и „Рига“ стояли на якорях посреди бухты (бухта Папонвик. — В.Ш.), а минные суда в глубине бухты, у берега. „Сообщение с берегом“, т.е. привоз провизии, почты, сношения с портом, госпиталем и прочее производились при посредстве посылки минных судов в Ревель. На берег спускали „погулять в лес“.
…19 июля (все даты по старому стилю.) я стоял вахту с 8 до 12 вечера и, сменившись, лег спать. В начале второго ночи меня разбудил вестовой: „старцер вас требуют“. Мазуров позвал меня и лейтенанта Селитренникова в каюту: „На корабле находится посторонний штатский человек. Мы его должны арестовать. Возьмите револьверы и идемте со мной“.
Втроем мы вышли в темную жилую палубу и, согнувшись под висячими койками, пробрались к носовой части корабля. У входа в таранное отделение палуба сужается. Люди спят на палубе, на рундуках и в подвесных койках. Тут же была моя „заведомая“ часть — малярные каюты, которыми я ведал как „окрасочный офицер“. На палубе мы заметили одного из спящих на койке матросов, к которому сбоку примостился кто–то второй, в рабочем платье. Мазуров приказал их поднять.
— Это кто? — спросил он меня.
— Это маляр Козлов, а другого я не знаю.
Другой был очень тщедушный молодой человек, небритый, не матросского вида. Мазуров спросил:
— Ты кто?
— Кочегар.
— Номер?
— Сто двадцать два, — была очевидная ерунда. Номер не кочегарный.
— Обыщите его.
В кармане у него я нашел заряженный браунинг, в другом патроны. Мы повели его в офицерское отделение и посадили в ванную каюту. Приставили часового, ученика комендора Тильмана. Тильман и доложил старшему офицеру ночью, что на корабле есть „посторонний“.
В это время разбудили всех офицеров.
Командир спустился в кают–компанию и открыл дверь в ванную комнату, где сидел арестованный. Он лежал на крышке ванны и при появлении командира не пошевелился, смотря на него спокойно и дерзко.
— Вы кто такой? — спросил командир. Неизвестный не ответил.
— Отвечайте, ведь мы все равно узнаем.
— Ну, когда узнаете, то и будете знать, — дерзко ответил „вольный“.
Его заперли снова, и он просидел арестованным всю ночь. По осмотре носового отсека оказалось, что в таранном отделении незадолго перед этим было сборище многих людей. Там был „надышенный“ и „накуренный“ воздух.
Дело оборачивалось „всерьез“.
Между тем в палубе, в пирамидах, стояли открыто ружья. Тогда офицеры и кондукторы стали таскать ружья в кают–компанию: тут же снимали и прятали затворы и отдельно штыки. Командир приказал доложить адмиралу о происшедшем. Я выбежал через батарейную палубу наверх и увидел Дабича, ходящего на юте. Я ему все доложил. Он выслушал, пожал плечами и сказал: „Я ничем тут помочь не могу. Пусть командир действует по усмотрению“. В это время остановилась динамо–машина, электричество погасло, и корабль погрузился во мрак внизу и в полумрак на верхней палубе (летняя ночь).
Кто–то доложил, что несколько человек напали на денежный сундук, ранили часового и разводящего и украли стоявший там ящик с патронами. Наверху, у светового люка в кают–компанию, раздался оружейный выстрел и вслед за выстрелом пронзительный крик. Стреляли и кричали революционные матросы. Спрятавшись за мачту, матрос Коротков и матрос Пелявин из коечной сетки стреляли почти в упор в вахтенного начальника мичмана Збаровского. Две пули попали в живот. Збаровский упал и долго потом валялся, корчась на палубе. Уже много позже его отнесли в лазарет, где он утром и умер в сильных мучениях и был выброшен за борт.
Вслед за первым выстрелом по всему кораблю начались какие–то крики, улюлюканья и выстрелы. Члены комитета и боевой дружины бегали по палубам и принуждали команду вставать и принимать участие в бунте. Большинство команды робко притаилось в койках. Их тыкали штыками и выгоняли. Из командирского помещения послышался голос командира:
— Офицеры наверх с револьверами.
Мы стали выбегать на ют через кормовое адмиральское помещение. Лейтенант Захаров вышел первым и что–то кричал команде. За ним вышел Македонский. Захаров был сразу убит. Македонский под обстрелом прыгнул с трапа за борт, но был застрелен в воде. Мы стояли на юте и никого не видели вдоль всей открытой палубы до самого полубака. Был полусвет белой ночи. Однако отовсюду шла стрельба из ружей. На кормовом мостике перед нами стояли вахтенные сигнальщики с биноклями в руках.
В это время с моря к нам на корму подходил миноносец „Ретивый“, нашего отряда, под командой капитана 2–го ранга П. Иванова. Он только что пришел из Ревеля. Подходя к крейсеру, он услышал выстрелы, увидел на корме офицеров. Миноносец обстреляли из ружей… Лозинский пробовал голосом что–то сказать Иванову. Однако миноносец дал задний ход и ушел.
Мы сделали несколько выстрелов, но цели не видели. Скоро „сели“ Селитренников и Вердеревский, оба раненные в ноги. Тогда мы спустились в адмиральское помещение и унесли туда раненых. Мазуров выходил с командиром из его помещения в батарейную палубу, и оба пробовали урезонить мятежников, которые с ружьями толпились у входа в командирское помещение. Мазурова ранили выстрелом в грудь. Он упал на палубу, но продолжал распоряжаться:
— Не сметь стрелять в лежачего.
Однако в „лежачего“ выстрелили и ранили Мазурова вторично в грудь навылет. Командир капитан 1–го ранга Лозинский смело вышел на мятежников и начал кричать и призывать к порядку. На него напирали с ружьями наперевес. Лозинский стал хватать руками ружья за штыки и кричал:
— Что вы делаете? Опомнитесь! Уберите ружья!
Несколько штыковых ударов в грудь свалили маленького Лозинского с ног. В это время мы вышли из командирского помещения в батарейную палубу и увидели лежачего командира. Мы сразу бросились его поднимать, и нас никто не тронул. Лозинский хрипел и харкал кровью и не мог говорить. Мы внесли его в командирское помещение, в спальню, и положили на кровать. Мазурова мы снесли в кают–компанию на диван. Кают–компания обстреливалась сверху через световой люк.
Когда таскали и разбирали винтовки из палубы в кают–компанию, старший механик Сергей Прокофьевич Максимов принимал самое деятельное участие, приносил охапки ружей из палубы. В кают–компании, я помню, он подошел ко мне и спросил:
— Как вынуть затвор из ружья? Он не идет.
— Нажмите курок.
Потом сказал:
— Яна минуту сбегаю в каюту.
Каюта старшего механика выходила в жилую палубу около кают–компании. Максимов ушел, и больше мы его никогда не видели.
Как потом оказалось, в каюте Максимов хотел что–то достать, или спрятать какие–то семейные реликвии или карточки. Может быть, что–нибудь самое дорогое. В это время в его каюту ворвалась ватага вооруженных мятежников во главе с машинистом Бортниковым. Наскочив на Максимова, Бортников начал бить его тяжелым рашпилем по голове. Другие тоже приняли участие, и Максимов был забит насмерть…
Офицерский состав таял. Мятежники наступали. Кают–компания и адмиральское помещение обстреливались со всех сторон. На бакштове, за кормой, стоял ревельский портовый таранный баркас (малый буксир). Инженер– механиков Высоцкого и Трофимова надоумили поднять на нем пары. Механики спустились на баркас и вместе с эстонской вольнонаемной командой стали лить керосин, жечь паклю и доски, поднимая пары. С кормового балкона мы стали спускать на баркас раненых. Спустили командира, Селитренникова, Вердеревского. Стали садиться остальные. Мы с Саковичем хотели вытащить раненого Мазурова и спустились в кают–компанию. Мятежники не дремали и стали с палубы стрелять по таранному барказу, стоящему на бакштове. Ждать было больше нельзя.
Баркас отдал бакштов и стал малым задним ходом отходить. Пару в котле еще было мало.
На верхней палубе опять начались крики и улюлюканье. Это бунтари пришли в ярость оттого, что часть офицеров может уйти. Началась беспорядочная ружейная стрельба. Вскоре присоединился пулемет с фальшборта.
Едва таранный баркас развернулся. как по нему начала стрелять кормовая 47–мм пушка с юта. Вскоре был спущен паровой катер, и мятежники на нем водрузили 37–мм пушку и пошли вдогонку. Таранный баркас медленно приближался к берегу. В него попало около 20 снарядов, и, не дойдя до берега, он затонул на мели. На баркасе снарядами были убиты командир капитан 1–го ранга Лозинский, флаг–офицер мичман Погожев, тяжело ранен лейтенант Унковский и ранен начальник отряда флигель–адъютант Дабич, легко контужены флаг–капитан, капитан 1–го ранга П. В. Римский-Корсаков и мичман Н. Я. Павлинов. Раненых вынесли на берег и торопились скрыться в лесу, так как сзади их настигал паровой катер с преследователями, стрелявшими из пушки и ружей. Однако паровой катер сел на мель на большом расстоянии от берега, и пока снимался, офицеры успели скрыться в лесу. Катер вернулся на крейсер».
Что же произошло с офицерами, которым удалось бежать с мятежного крейсера? Из объяснительной записки мичмана Николая Павлинова: «В ночь с 19 на 20 июля с. г., около 2 ч. ночи я был разбужен мичманом Крыжановским, который сказал, что на крейсере поймали агитатора и содержат его под арестом в кают–компании. Я тотчас оделся и вышел в кают–компанию, где в это время находились: старший офицер капитан 2–го ранга Мазуров, лейтенанты Захаров и Селитренников, мичман Сакович и корпуса инженер–механиков флота поручик Высоцкий. Старший офицер приказал мне взять револьвер и быть в кают–компании. Минут через 10 в кают–компанию пришел командир капитан 1–го ранга Лозинский и, подойдя к арестованному, приказал снять с него фуражку с надписью „Учебно–артиллерийский отряд“, раздеть его и приготовить для отправки на „Воеводу“. В это время к командиру пошел караульный начальник и доложил, что от денежного ящика украдены ружейные патроны. Командир со старшим офицером сейчас же вышли наверх. И приблизительно в это же время последовал первый выстрел, которым был ранен вахтенный начальник мичман Зборовский, а затем уже начались частые выстрелы из винтовок. По приказанию командира офицеры и кондукторы занялись переноской ружей из палуб в офицерское помещение. Я вынимал затворы у винтовок и клал их в свою каюту на койку под одеяло. Вскоре после этого электричество на крейсере потухло, и я вышел наверх, где находились начальник отряда флигель–адъютант Дабич и лейтенанты Вердеревский и Селитренников. По нас тотчас был открыт ружейный огонь. Первыми пулями были ранены лейтенанты Вердеревский и Селитренников. Я помог лейтенанту Вердеревскому спуститься вниз. Начальник отряда в это время стоял на балконе и давал приказание стоявшему на бакштове таранному баркасу разводить пары. Для этого на баркас были посланы лейтенант Унковский и корпуса инженер–механиков поручик Высоцкий. Когда пары были подняты, начальник отряда приказал офицерам садиться в баркас. Я ушел в кают–компанию, где услышал стоны старшего офицера. К нему подошел и.д. старшего врача коллежский асессор Соколовский, который был тотчас убит с верхней палубы через световой люк.
После этого я вышел на балкон, где помог передать на баркас смертельно раненного командира, раненых лейтенантов Вердеревского и Селитренникова и начальника отряда флигель–адъютанта Дабича, а затем сам сел. Как только мы отошли задним ходом от крейсера, по нам открыли сначала ружейный, а затем орудийный огонь. Стреляли из 47–мм пушек Гочкиса. Некоторые снаряды рвались в баркасе. Одним из снарядов был убит раненый командир, ранены флигель–адъютант Дабич и тяжело лейтенант Унковский, мичману Погожеву оторвало обе ступни, он вскоре умер.
Не доходя 0,5 кабельтова до берега, таранный баркас, имея подводные и надводные пробоины и крен на правый борт, стал на мель на глубине около 6 футов. Офицера начали бросаться в воду, чтобы вплавь достичь берега. Я с поручиками корпуса инженер–механиков флота Высоцким и Трофимовым помогли выбраться за борт раненому начальнику отряда и доплыть до берега. Во все это время по нам, не переставая, стреляли с крейсера и с парового катера, вооруженного орудием и посланного для преследования офицеров.
Предполагая дальнейшую погоню, я с помощью поручиков Высоцкого и Трофимова увел поглубже в лес раненого флигель–адъютанта Дабича, где ему сделали первую перевязку раны. Для этого были употреблены чехлы с фуражек, мой китель, разорванный на полосы, и носовые платки. В лесу мы сразу сбились с дороги. Начальник отряда сам идти не мог и уже решился остаться в лесу, а нам предложил идти одним искать дорогу. Его приходилось силой подымать и вести. Все время он был очень слаб. И всякое неловкое движение, и толчки вызывали большие страдания раненого.
Пробыв в лесу всю эту ночь, следующий день без воды и пищи, мы только к вечеру дошли до озера, на берегу которого переночевали, и утром дошли до селения, где нам дали молока, хлеба и одежду. Там же получили две подводы. На одну положили совсем уж потерявшего силы начальника отряда. Я сел на эту же подводу, а на другую поместились поручик Высоцкий с больным поручиком Трофимовым. В 11 часов утра выехали на станцию Разик, где благодаря участию начальника станции раненому начальнику отряда местным врачом была сделана первая промывка раны. Около 9 часов вечера мы прибыли в Ревель, где были встречены командиром порта, который приказал флигель–адъютанта Дабича везти в гостиницу „Диаконис“. Довезя его, я с поручиками Высоцким и Трофимовым по приказанию командира порта явились на крейсер „Память Азова“».
И снова обратимся к воспоминаниям Н. Крыжановского: «Когда мы с Саковичем спустились в кают–компанию за Мазуровым, там было темно. Мы ползком пробирались к дивану, где хрипел Мазуров. По дороге лежал убитый часовой у ванной комнаты Тильман. Под световым люком навзничь лежал убитый доктор Соколовский. Он, видимо, подходил к дивану, чтобы помочь раненому старшему офицеру, и был убит через световой люк. Белый китель доктора был хорошо виден в темноте. Наши белые кители сыграли вообще трагическую роль в эту ночь: их было прекрасно видно и ночью. Вынести живым дородного Мазурова на баркасе было невероятно трудно. Но выносить его нам не пришлось. Баркас отвалил. Мы с трудом перенесли Георгия Николаевича в его каюту на кровать и стали перевязывать полосами из простынь. Свет зажегся, но кают–компанию продолжали обстреливать. Попадали и в каюту старшего офицера. На старом „Азове“ почти все каюты выходили в кают–компанию. Каюта старшего офицера, где мы находились, была освещена и открыта.
Вдруг в каюту сразу вошла группа вооруженных матросов во главе с минером Осадчим и потребовала от нас сдать оружие. Мы отдали свои наганы.
— Мы вас не будем обыскивать. Но, если у вас окажется оружие, вы будете застрелены на месте!
Осадчий, член комитета, что–то еще говорил вроде того, что:
— Народ взял власть в свои руки, и мы пойдем на соединение с другими революционными кораблями. Везде восстание и революция!
Нас заперли и приставили часового. Однако один револьвер мы спрятали под матрас. До вторжения мятежников в каюту, когда мы перевязывали Мазурова, он на время пришел в сознание и сказал:
— Слушайте, мичмана, скоро вас обыщут и отберут оружие. Спрячьте под матрас один револьвер. Если вас потребуют к управлению кораблем, вы должны будете застрелиться. Обещайте мне это, — мы обещали.
Ночью, одно время, Мазурову стало худо. Но духом он не падал. Говорил: „Дайте мне зеркало. Хочу посмотреть. Говорят, перед смертью нос заостряется“. Сакович по телефону просил комитет прислать фельдшера и священника. Обоих прислали. Легко раненный в руку иеромонах был, однако, так напуган, что лепетал вздор, путал молитвы.
Утром играли побудку. Завтрак. Время от времени кто–то по телефону сообщал нам в каюту новости о происходящем на корабле:
— На баке митинг: товарищ Коптюх и Лобадин держали речь! Назначено следствие над оставшимися офицерами, будут их судить.
Минным крейсерам и миноносцам поднимали сигналы, требовали их присоединения. Однако минные суда уклонились, приткнулись к берегу, а команды с офицерами ушли в лес. По ним стреляли из 6–дм орудий, но безрезультатно. Было вообще много шума и беготни, горнисты играли то „тревогу“, то „две дроби–тревогу“, как на учении. Потом вызвали „всех наверх с якоря сниматься“.
В это время нашу каюту открыли. Пришел вооруженный наряд под начальством членов комитета, которые заявили нам, что нас требуют наверх. Мы поняли, что нас требуют на казнь, и попрощались с Мазуровым, поцеловали его. Он, очень слабый, как всегда твердый, лежа, прошептал нам что–то вроде:
— Ничего, бодритесь, мичмана!
Под конвоем нас с Саковичем повели через жилую и батарейную палубы на шканцы. По дороге, в батарейной палубе, у входа наверх трапа, мы сошлись с другим конвоем, который вел двух арестованных петухов (еще во времена парусного флота чиновников содержателей имущества почему–то называли „петухами“), чиновников — содержателей имущества артиллерийского отряда. Завидя нас, один „петух“, по имени Курашев, плаксивым голосом говорил своим конвойным:
— Я понимаю, что вы против них (показывая на нас), но нас–то за что же убивать?
Этот чиновник, конечно, не предполагал встретиться с нами на этом свете. Ему потом было не очень ловко. На шканцах было много команды. Когда нас вывели, то послышались голоса:
— Зачем их трогать! Довольно крови. — Из голосов я узнал один, квартирмейстер моей роты. Произошло некоторое замешательство. Нас повернули и отвели обратно в каюту. При этом нам было заявлено, что Лобадин сказал:
— Хорошо, пусть они останутся. Меньше крови, это будет лучше для России!
По телефону опять передали, что нас доставят в тюрьму в Гельсингфорс, где будет судить революционный суд. Позднее нам было неофициально сообщено, что до этого было решено комитетом меня расстрелять, а Саковича утопить.
Во время бунта „организация“ на корабле была следующая: командовал Лобадин, должность старшего офицера исполнял Колодин. Все члены комитета были переодеты „во все черное“, т.е. были одеты в синие фланелевые рубахи и черные брюки, тогда как остальная команда была в рабочем платье. При съемке с якоря на мостике был Лобадин, Колодин и „вольный“ Коптюх, все одетые в офицерские тужурки.
По некоторым „келейным“ сведениям, мы узнали, что большинство команды революционерам не сочувствуют, считают, что произведенный бунт есть страшное преступление и убийство. Многие при случае стараются сделать что–нибудь против успеха мятежа. При обстрелах судов из орудий снаряды цели не достигали. Были случаи „заклинивания“ орудий. Главари чувствовали эту затаенную ненависть и готовность противодействия. Но комитет держал власть страхом, террором, решительными, беспощадными действиями.
В 11 часов один из вестовых принес нам обед. Войдя в каюту и, увидя нас, он всхлипнул и тихо сказал:
— Что сделали, что сделали.
Это подслушал часовой, и вестовому попало. Хотели его убить, но не решились.
Выйдя в море, крейсер пошел по направлению к Ревелю. В море встретили миноносец „Летучий“, под командой лейтенанта Николая Вельцина. Миноносцу был поднят сигнал „присоединиться“. Красный флаг был спущен, и поднят снова Андреевский. Ничего не подозревая, миноносец приблизился, но когда он понял положение, то повернул и стал уходить полным ходом. По нему был открыт огонь из орудий, но безрезультатно.
Подходя ближе к Ревелю, встретили финский пассажирский пароход, идущий из Гельсингфорса. Заставили его остановиться, спустили и послали шестерку, потребовали капитана. Приехал финн и на расспросы ответил, что действительно в Свеаборге, крепости Гельсингфорса, было восстание гарнизона, были беспорядки и на кораблях. Но теперь все подавлено, т.к. броненосцы обстреляли крепость из 12–дм орудий. Финна отпустили. Комитет был сильно обескуражен, получив сведения из Гельсингфорса. Значит, революция там не удалась. Что делать дальше?
Коптюх говорил, что в Ревеле на корабль прибудет „важный революционер“ или „член Государственной Думы“, который и даст все указания. Приближаясь из оста к Ревельской бухте, „Память Азова“ придерживался близко к берегу. На мостике находилось „начальство“: „командир“ Лобадин, „старший офицер“ Колодин и „мичман“ Коптюх. Поставили также рулевого кондуктора, но штурманской помощи он оказать в море не мог по незнанию кораблевождения и, будучи сильно испуган. Был на мостике также финн, ученик лоцмана, почти мальчик, плававший для изучения русского языка. Флегматично стоял этот чужестранец на мостике, и, казалось, ничего его не трогает, не смущает. Уже вблизи знака Вульф, ограждавшего большую отмель и гряду подводных камней, лоцманский ученик как–то флегматично сказал, как будто ни к кому не обращаясь:
— Тут сейчас будут камни.
— Стоп машина. Полный назад. Где камни? Где?
„Начальство“ впало в панику. У самых камней корабль остановился, пошел назад. Банку обошли. Лоцманский ученик знал эту опасную гряду по плаванию еще мальчиком на лайбе.
На Ревельском рейде стали на якорь на обычном месте. Флаг был поднят опять красный. Кормовой Андреевский поднимался только в море для обмана встречных судов, которым сигналом приказывали приблизиться. По приходе в Ревель и постановке на якорь, делать было нечего. Команда начала приунывать, сознавая всю тяжесть ответственности за содеянное. Комитет и Коптюх пробовали „поддержать настроение“. Коптюх читал какие–то прокламации, пробовали петь революционные песни. С берега не было никаких вестей, никто не приходил. Надо было, кроме того, достать провизию, так как провизии на корабле было мало. Решили послать двух человек из комитета в штатском на берег. Обсуждали положение и склонились к тому, чтобы в случае нужды потребовать провизию от порта под угрозой бомбардировки. Также предполагали огнем судовой артиллерии заставить гарнизон города присоединиться.
В общем, не знали, что делать, на что решиться. Все ждали приезда „члена Государственной Думы“».
Последняя фраза Н. Крыжановского весьма примечательна. Она сразу же исключает все утверждения о «стихийности» мятежа на «Памяти Азова». Перед нами все тот же опробованный на «Потемкине» вариант восстания. Вначале, якобы обиженные командирами, матросы захватывают корабль. Затем на него прибывают профессиональные революционеры, которые сразу же берут всю власть в свои руки и направляют мятежный корабль в один из портов, где все уже готово к более масштабному мятежу. Приход корабля под красным флагом должен явиться детонатором восстания уже всего флота. Захватив же основные военно–морские базы, можно было уже диктовать свои условия беззащитному Санкт-Петербургу.
А вот описание восстания в изложении писателя П. Веселова. Разумеется, автор писал свое видение мятежа на «Памяти Азова» в советское время, а потому это не могло не нанести свой отпечаток на изложение событий: «…В мае 1906 года сознательная часть команды, „Памяти Азова“ избрала для руководства революционной работой на крейсере судовой комитет, в который вошли: артиллерийский квартирмейстер Нефед Лобадин, баталер Степан Гаврилов, гальванер Петр Колодин, минер Алексей Осадчий, комендоры Афанасий Ширяев, Григорий Болдырев, Дмитрий Котихин и другие. На заседания комитета приезжал член Ревельского комитета РСДРП большевик Арсений Коптюх, которому было поручено руководство подпольной работой на судах учебно–артиллерийского отряда.
На кораблях отряда все чаще и чаще стали появляться революционные прокламации и газеты. Большевистская пропаганда находила живой отклик среди матросов. Члены судового комитета исподволь начали вести подготовку восстания.
…На крейсер пожаловал морской министр Бирилев.
— Азовцы! — крикнул министр, выпячивая грудь и стараясь придать себе молодцеватый вид. — Ваше судно — георгиевское судно. Вы, азовцы, в 1905 году удостоились похвалы его императорского величества. На вас все надежды самодержавия. Внутренний враг становится все нахальней. наглей. нужны верные силы отечеству, и я верю, что вы, азовцы, будете верны присяге и военному долгу.
Бирилев перевел дух и, собрав силы, неистово взвизгнул:
— Да здравствует батюшка–царь и матушка–Русь. Ура–а! — Отозвались только офицеры. Команда безмолвствовала, она напряглась, ожидая сигнала к восстанию. Сигнала не было. Руки офицеров на револьверах. Офицеры бледны. У одного из мичманов дергается щека.
— Кто тут стоит? Русские люди? — восклицает министр и, быстро подойдя к матросской шеренге, тычет в грудь первого попавшегося моряка:
— Ты русский?
— Русский.
— Ты русский? — тычет он в соседа.
— Ты русский? — нервно перескакивает его палец в плечо стоящего во второй шеренге.
— Русский.
— Да здравствует русский народ. Ур–ра!
То же гробовое молчание. Министр побагровел. Мгновение казалось, что его хватит удар, и вдруг вся краска отхлынула с лица, он сгорбился и засеменил вниз по командирскому трапу.
Это произошло 14 июля, а 19–го…
На небольшую, окаймленную вековым сосновым бором бухту Папон-Вик (Хара-Лахт), что в 40 милях восточнее Ревеля, спустилась ночь. Безветренная, звездная, на редкость теплая для Балтики. На судах учебно–артиллерийского отряда загорелись корабельные сигнальные огни, прозвучал отбой.
Однако многим матросам крейсера „Память Азова“ не спалось. В душном тесном помещении, находившемся в носовой части жилой палубы, шло собрание корабельной большевистской организации. Прибывший нелегально на крейсер член Ревельского комитета РСДРП Арсений Коптюх привез известие о событиях в Свеаборге и Кронштадте и требование партийного центра поддержать восставших. Обсуждение создавшегося положения проходило горячо и взволнованно. Слишком неожиданна была весть. Говорили о том, что, по слухам, на боевых судах арестованы революционные матросы и заменены гардемаринами. „Память Азова“ мог остаться в одиночестве. Да и мыслимо ли овладеть судном, если все офицеры и кондукторы начеку?
Спор затянулся до полуночи. Не успели матросы разойтись, как появился старший офицер. Это ученик–комендор Тильман успел донести судовому священнику о собрании в таранном отсеке и присутствии постороннего человека. Тот немедля передал об этом корабельному начальству. Начался обыск. Вскоре Коптюх был обнаружен и арестован. При обыске у него нашли браунинг и патроны.
Пока командир отряда и командир крейсера совещались с офицерами, что делать дальше, руководитель большевистской группы крейсера Нефед Лобадин предлагал выступать немедленно.
— Не теряй времени, — заявил Петр Колодин. — Командуй!
— Правильно, — поддержал Дмитрий Котихин.
— Драконы не простят нам, — вставил Степан Гаврилов. — Нужно их опередить.
— Значит, к оружию, братцы! — твердо и уверенно сказал Лобадин. — Котихин, быстро на жилую палубу к ученикам! Костин пусть собирает артиллерию, Аникеев — машинную команду, Осадчий, вырубай динамо–машину!
На корабле погас свет. Воспользовавшись темнотой, матросы напали на часового, захватили несколько винтовок и ящик с патронами.
Тем временем командир крейсера приказал офицерам и кондукторам снести винтовки в кают–компанию. Но, когда около трех часов ночи они приблизились к пирамидам с оружием, матросы обстреляли их с верхней палубы из–за укрытий.
Хотя к восстанию готовились загодя, вспыхнуло оно преждевременно. Возбужденные арестом Коптюха, революционные матросы поднялись стихийно. Восставшие наступали с носовой части, укрываясь за машинными люками. Офицеры засели за штурманской рубкой. Пуля возмездия настигла предателя Тильмана, матросы освободили Коптюха. Вместе с Лобадиным он возглавил восставших.
Уже к четырем часам утра крейсер оказался в руках повстанцев. Захват его был произведен быстро и умело. В этом большую роль сыграли инициатива, смелость и недюжинные организаторские способности Нефеда Лухьяновича Лобадина.
С рассветом горнист сыграл „большой сбор“. На верхней палубе мгновенно возник бурный митинг.
— Сейчас наш крейсер — это маленькая революционная республика, целое государство, — сказал Коптюх. — Но республикой надо управлять, надо выбрать свое революционное правительство. Нашему крейсеру предстоит еще большое дело. Надо, чтобы все было в порядке. Выберем матросский совет для управления кораблем, он заменит нам разгромленное царское офицерье… Я предлагаю выбрать 12 человек. Долой царя, долой правительство, ура! — закончил он свою речь.
— Ура–а–а! — разнеслось над палубой. — Ур–ра! Будет „Память Азова“ памятна!
Матросы немедля избрали для управления крейсером командира — Нефеда Лобадина, и комитет, в который вошли Арсений Коптюх, Петр Колодин, Иван Аникеев, Тимофей Кузькин, Николай Баженов, Степан Гаврилов и еще пятеро. В Свеаборг, Кронштадт на корабли Балтийского флота полетели радиограммы, в которых крейсер извещал о восстании и призывал присоединиться другие суда. Под звуки „Интернационала“ медленно поползло вверх красное полотнище».
П. Веселов явно ненавидит не только царских офицеров, но и адмиралов. Поэтому Бирилев у него «визжит», а у мичмана с перепуга «дергается щека». Весьма неправдоподобно выглядит и вся сцена с призывом адмирала Бирилева крикнуть «ура» во славу русского народа и молчанием на это команды. Если в строю стояли русские люди, то почему бы им не крикнуть «ура» во славу своего рода? Здесь почти неприкрытая русофобия автора.
Воспоминания Н. Крыжановского дополняют объяснения других свидетелей мятежа, данные ими во время судебного процесса.
Из объяснительной записки мичмана Саковича: «Было 2 часа 20 минут ночи. Скоро началась стрельба и крики, Командир закричал: „Офицеры, наверх с револьверами“. Освещение прекратилось. Я выскочил наверх с писарем Евстафьевым. С бака из–за рубок сеток в нас стреляли, У среднего трапа лежал в крови мичман Зборовский. Спросил сигнальщиков, откуда стреляют. Они ответили: „Уйдите, вас убьют“. Ранили лейтенанта Вердеревского. Было ясно, что стрельба производилась только в офицеров…»
Из показания артиллерийского квартирмейстера Архипа Орехова: «На собрании команды вольный в матросской форме говорил речь. После этого Лобадин спросил, что делать со старшим офицером и Саковичем, вольный предложил команде на обсуждение. Лобадин предложил уничтожить их. Раздались голоса, что раньше надо пообедать. Котихин сказал: „А их на закуску!“ Потом стреляли по встречному миноносцу».
Из показаний артиллерийского квартирмейстера Гагарина: «Видел, как Лобадин приказывал стрелять комендору Песчанскому, но тот не туда целил. Лобадин его прогнал и стрелял потом сам. Вольный сказал на сходке: не пора ли прикончить старшего офицера и мичмана Саковича. Затем Лобадин приказал: „Вино наверх“». Что ж, спаивание команды — это верный способ удержать их как можно дольше во взвинченном и неадекватном состоянии.
Из показаний корабельного писаря Евстафьева: «…Видел мичмана Збровского плавающего в крови и подавал ему помощь. Я снес его в лазарет. На баке стал на шпиль неизвестный, рядом сел Лобадин. Он объяснил, почему это все произошло. Прочел выборгское воззвание. Сказал, что приедет один член Государственной думы и еще один товарищ, которые лучше его объяснят. Они должны были уже вчера прибыть. После некоторого времени жидкое „ура“».
Финал трагикомедии
Пока мятежники упивались властью и ждали профессиональных революционеров, которые бы направили их туда, куда надо, в недрах крейсера вот–вот должен был начаться контрмятеж. Матросы слишком хорошо помнили финал мятежного «Потемкина» и то, что нашли в Румынии никому не нужные и брошенные на произвол судьбы руководителями–революционерами рядовые потемкинцы. Решение отбить «Память Азова» созрело поэтому очень быстро, матросы же с унтер–офицерами действовали на редкость смело и решительно, а самое главное — совершенно неожиданно для мятежников.
Вот как описал финал мятежа в своем документальном рассказе–расследовании писатель–чекист Лев Шейнин: «В конце концов, Лавриненко (унтер–офицер, пойманный Шейниным в 30–х годах. — В.Ш.) и ставшие на его сторону кондукторы убедили молодых матросов. Сразу после ужина, ровно в шесть часов, на батарейной палубе Лавриненко крикнул:
— С подъемом столов!
Это был сигнал к нападению. Новобранцы с винтовками набросились на остальных матросов, для которых это явилось полной неожиданностью. Началась паника. Нападающие оттеснили матросов к фок–мачте. С мостика Лавриненко навел на них пулемет, со всех сторон их окружили вооруженные новобранцы.
— Сдавайся, пока не поздно! — кричал Лавриненко. Матросы сдались. Лобадин, увидев, что все, проиграно, тут же, на глазах всей команды, схватил детонатор и ударил по капсюлю. Ему разорвало живот. Часть матросов бросилась за борт, в море.
— Выловить всех до единого! — закричал Лавриненко.
И группа кондукторов спустила на воду моторный бот и пустилась в погоню за матросами. Кое–кого задержали. Остальные, не желая отдаваться в руки Лавриненко и властей, утопились».
Из описания дальнейшего развития восстания в изложении писателя П. Веселова: «Из Кронштадта и Свеаборга известий не поступало, отправляться туда без запасов угля и пищи было рискованно. Обсудив положение, судовой комитет решил, прежде всего, попытаться поднять восстание на других судах отряда, а затем двинуться в Ревель, чтобы соединиться с учебным кораблем „Рига“ и получить поддержку рабочих Ревеля. Если же суда не примкнут к восстанию, идти одним в Ревель, запастись там углем и продовольствием, связаться с революционными организациями на берегу.
Утром 20 июля крейсер снялся с якоря и встал у выхода из бухты, чтобы не выпустить „Воеводу“, „Абрека“ и миноносцы, если они не захотят присоединиться к восстанию. Орудия приготовили к бою, крейсер дал сигнал кораблям следовать за ним.
Однако поднять восстание на остальных судах отряда не удалось. Офицеры подавили попытку матросов поддержать „Память Азова“. Обстрел судов результата не дал. Механизмы их были приведены офицерами в негодность, команды спешно сведены на берег. Крейсер „Абрек“ на полном ходу выбросился на берег. То же сделал и „Воевода“.
Оставшись, в одиночестве, „Память Азова“ под красным флагом, повторив революционный подвиг потемкинцев, взял курс на Ревель. Днем на горизонте появился транспорт „Рига“. Крейсер устремился за ним. Но командир транспорта имел приказ, во что бы то ни стало, избежать встречи с мятежным крейсером, так как команда волновалась и сочувствовала азовцам. Около трех часов длилась погоня за „Ригой“, уходившей на запад.
Неудача удручающе подействовала на многих участников восстания, особенно на колеблющуюся массу учеников–комендоров. Усилились сомнения в успехе начатого дела. Пока судовой комитет совещался, оставленные на свободе унтер–офицеры–кондукторы, большинство которых были выходцами из зажиточных крестьян, мечтавших пробиться в „ваше благородие“, начали запугивать команду предстоящими расправами. Вместе с арестованными офицерами они исподволь стали готовить контрреволюционный мятеж.
В 5 часов вечера революционный крейсер бросил якорь на Ревельском рейде. Местные власти со страхом ждали его появления. Все войска и полиция города были приведены в боевую готовность. Вдоль побережья расставлены роты Царицынского полка, непрерывно патрулировали казаки. Власти запретили выход из порта судов и шлюпок, а рабочие и матросы, появляющиеся в порту, немедленно арестовывались.
Посовещавшись о дальнейших действиях, судовой комитет решил потребовать от властей под угрозой бомбардировки города присылки на крейсер продовольствия и угля. Кроме того, решено было отправить делегацию в Ревельский комитет РСДРП. В архиве сохранилась записка Коптюха Ревельскому комитету. В ней говорилось: „Дорогие товарищи! Сегодня в 3 часа мы восстали… Пока к нам никто не присоединился… Куда нам направляться, мы не знаем. Решили захватить город Ревель. Вы это решение хорошенько обсудите и дайте нам положительный ответ“.
Записка на многое проливает свет и объясняет причины, по которым члены комитета столь долго совещались в то время, когда были необходимы быстрые и энергичные действия.
В это время и начался поднятый кондукторами контрреволюционный мятеж. Испортив орудия и вооружившись, унтер–офицеры перетянули на свою сторону большинство учеников–комендоров и освободили арестованных офицеров. Революционеры дрались храбро и стойко, но они оказались в меньшинстве. В самом начале расправы был тяжело ранен Лобадин.
Кондукторы обратились к командиру порта с просьбой помочь им окончательно сломить сопротивление революционных матросов. Командир немедленно направил на крейсер две роты пехоты и отряд жандармов. Жандармы и солдаты избивали матросов прикладами, топтали ногами. Уже мертвого, Нефеда Лобадина искололи штыками».
А вот как вспоминал о тех же событиях Н. Н. Крыжановский: «В 6 часов вечера, во время ужина, настроение команды было подавленное и озлобленное. Кондуктор артиллерийского отряда Давыдов лежал у себя в каюте на койке, повернувшись лицом к переборке и, казалось, не жил. Вдруг он вскочил, выбежал по трапу наверх и стал громко призывать учеников к порядку, упрекая мятежников. Несколькими выстрелами бунтарей Давыдов был убит на месте. Лобадин немедленно решил расстрелять всех кондукторов и артиллерийских квартирмейстеров– инструкторов артиллерийского отряда. Была дана дудка: „артиллерийские кондукторы наверх во фронт“. Для кондукторов не было сомнения, зачем их зовут „наверх“. Они выскочили из кают и побежали в палубу. Команда сидела за ужином. Кондукторы прибежали к своим ученикам и стали их просить „не выдавайте“. Прибежали артиллерийские квартирмейстеры–инструкторы и стали понукать учеников: разбирайте винтовки. Ученики бросились к пирамидам.
Поднялся невообразимый шум, топот ног, крики и выстрелы. Это стреляли члены комитета из револьверов, кричали, грозили. Многие из команды, видя начавшуюся междоусобицу, начали хватать винтовки и присоединяться к ученикам или бунтарям.
Сидя под арестом в каюте, мы поняли, что происходит бой, повсюду был слышен нечеловеческий рев голосов. Комитет и боевая дружина держались соединенно и отступили на верхнюю палубу, заняв выходные люки. У люков завязалась ожесточенная перестрелка. Лобадин шепнул кому–то из своих, чтоб шли и убили меня и Саковича.
В это же время группа из учеников и артиллерийских квартирмейстеров, под командой артиллерийского кондуктора, бросилась в офицерскую кают–компанию, чтобы нас освободить. Было дано несколько выстрелов в кают–компанию. Часовой от нашей двери убежал.
Силач писарь схватил лежавшую в кают–компании 2–пудовую гирю для упражнений (наследие плававшего до этого на „Памяти Азова“ моего приятеля, известного атлета, инженер–механика И. Л. Франка) и легкими взмахами разбил в щепки деревянную дверь нашей каюты. Перед нами были до крайности возбужденные люди, с ружьями и револьверами. Впереди два кондуктора, один из них раненый. В общем шуме они кричали: „Крыжановский и Сакович, выходите, принимайте команду. мы боремся с бунтарями“. Мне дали револьвер, и я с ним вышел в батарейную палубу. Сакович распорядился поставить уже другой караулу каюты раненого старшего офицера.
В батарейной палубе я нашел вооруженных учеников, квартирмейстеров. Все были страшно возбуждены, все кричали. У люков стреляют наверх, а оттуда отвечают. Внизу, под батарейной палубой, также много бунтовавшей кадровой команды.
Когда мне сообщили ситуацию, я приказал остаться заслонам у люков и проиграл сбор. Собрав команду в батарее во фронт, я разбил ее на отряды. С большим отрядом послал Саковича „очищать низы“, т.е. жилую палубу, кубрики, машинное отделение, кочегарки и прочее. Другой отряд под начальством артиллерийского кондуктора послал в обход, через адмиральское помещение, брать верхнюю палубу. Мазуров прислал записку, написанную каракулями, требовал „списать“ всех главарей на берег. Но нужно было еще „взять корабль“.
Скоро мы услышали стрельбу на юте. Ко мне прибежали и сказали, что Лобадин убит. Огонь у люков несколько ослаб, и я с людьми выскочил наверх у кормовой рубки. Огонь стал наверху ослабевать, и мятежники начали сдаваться. Первым на меня выбежал матрос Кротков, член комитета, раненный в ногу, и поднял руки вверх. Несколько мятежников в это время прыгнули за борт и поплыли. Бросился и Коптюк, но все тотчас же были выловлены из воды. Комендор Крючков, член боевой дружины, быстро поплыл к берегу, но был застрелен в воде.
Пленных мятежников я сразу стал сажать в кормовую рубку. Проиграли снова „сбор“, и я скомандовал: „ученики с винтовками на правые шканцы, постоянный состав на левые, без оружия“. Ученикам я приказал ружья взять на изготовку: две половины команды стояли одна против другой. Некоторые мятежники, бросив ружья, оставили в одежде револьверы. Скомандовал „смирно“ и стал наизусть поименно выкликивать комитет и дружину и сажать всех в кормовую рубку. Многие мятежники поначалу попрятались в катерах на рострах, внизу, в коечных сетках. Их вылавливали и обезоруживали. Тянуть это положение было нельзя. Мятежники еще имели силу.
Чтобы сразу занять людей, я скомандовал: „Постоянному составу паровой катер и оба баркаса к спуску изготовить“. На „Памяти Азова“ все шлюпки спускались вручную, что требовало участия большого числа людей. Вооруженных учеников я перевел повыше, на мостики, ростры, коечные сетки. Пока я спускал шлюпки, был приготовлен наряд из артиллерийских квартирмейстеров и учеников для конвоирования главных мятежников на берег. Шлюпки спустили, на баркас в весла я посадил членов комитета и дружины и других главных мятежников, на которых команда указывала как на зачинщиков. На кормовом сиденье, транцевой доске и загребной банке сели вооруженные конвоиры с винтовками.
В общем, потери в команде не были большими. Я не помню точно цифры, но сдается мне, что убитых было не более десяти.
В это время ко мне прибежали снизу и сказали, что лейтенант Лосев просит дать ему шлюпку для съезда на берег. Я приказал подать вельбот № 2. На него с балкона сели Лосев, два артиллерийских квартирмейстера и еще кто–то и отвалили на берег. На берегу Лосев дал знать властям о положении на крейсере. В Ревеле в это время не без основания ожидали бомбардировки крейсером города. Пехотные части были рассыпаны возле берега бухты редкой цепью, „под артиллерийский огонь“. Никого с берега в море и обратно не пропускали.
Отправив на берег главных мятежников, я продолжал производить аресты. Дальше было невозможно в этой обстановке производить следствие и точно разбираться, кто был причастен к мятежу, и я решил просто свезти на берег и там арестовать весь постоянный состав команды, оставив на корабле лишь необходимое число людей, для поддержания паров и освещения, из наиболее надежных. Мичман Сакович занимался организацией службы в низах и установлением вахты в машинах и кочегарках.
В это время к нашему борту пришло первое судно из гавани. Это был крейсер пограничной стражи „Беркут“ под командой капитана I ранга Шульца. Он вооружил свою немногочисленную команду и предложил мне взять сколько угодно мятежников. На „Беркут“ я передал раненых на носилках. Снесли и тяжело раненного Мазурова. На „Беркут“ я сдал большую часть списываемого постоянного состава.
Наш корабль в это время представлял собой безобразный вид: верхняя палуба загромождена разнесенными гинями и талями. Почему–то разнесены были пожарные шланги, шлюпбалки вывалены за борт, на шканцах стояли носилки с ранеными. Команда была одета как попало. Я стоял на верхней площадке правого трапа с наганом в руках. Отсюда я распоряжался „ликвидацией“ бунта.
Одним из первых с берега прибыл полковник корпуса морской артиллерии Владимир Иванович Петров. Он был заведующим обучением на судах отряда и случайно отсутствовал на корабле по службе, в ночь восстания. Петров вбежал по трапу и горячо обнял меня. Владимир Иванович всегда благоволил ко мне и часто со мною беседовал. Я его обожал и всегда к нему прислушивался. Он был искренне рад видеть меня живым. Этот чудный человек, великан, похожий на Петра Великого, был точно сконфужен, что не был с нами ночью. „Я приехал помочь, распоряжайтесь мною“, — сказал он мне. Я, конечно, сразу же стал спрашивать его советы и указания».
Несколько комментариев к этой части воспоминаний Н. Крыжановского. Во–первых, настоящие имя Коптюха все же было Оскар Минее, а Коптюх — лишь «партийная» кличка. На самом деле трудно с еврейской фамилией поднимать русских матросов на бунт против русского царя, куда легче делать это, притворившись своим. Оскар Минее родился в Одессе. Вначале он работал слесарем, но, познакомившись с каким–то старым народовольцем, решил, что революция куда интересней, чем вкалывать с утра до ночи на заводе. Вскоре ставший социал– демократом, вчерашний слесарь уже вел революционную работу по всему Причерноморью, в т.ч. в Севастополе, Одессе и в Николаеве. Минее весьма удачно маскировался под этакого приблатненого «братишку», для чего переодевался в матросскую одежду, пересыпал речь солеными словечками. Минее был смел и неистово жесток. Больше всего ему нравилось расстреливать из револьвера зазевавшихся полицейских. Когда он «засветился» на Черном море, то был отправлен на отдых в благодатную Швейцарию. После заслуженного отдыха Оскар Минее был переброшен на новый участок работы — на Балтику. Именно там в наступающем 1906 году должен был состояться новый раунд битвы за флот.
При этом у Минеса-Коптюха, как и у его предшественников Фельдмана и Березовского (на «Потемкине») и лейтенанта Шмидта (на «Очакове»), была явная мания величия. Вспомним, что во время мятежа на броненосце «Потемкин» одесские «студенты» Фельдман и Березовский, прибыв на броненосец, тут же «для поднятия авторитета» облачились в унтер–офицерскую форму. Лейтенант Шмидт во время восстания на крейсере «Очаков» облачился в форму капитана 2–го ранга, а на следующий день вообще собирался нацепить на себя «для авторитета» вице–адмиральские эполеты. Правда, не успел! Точно так же действуют и главари мятежа на «Памяти Азова» и, прежде всего, Минес—Коптюх, самочинно напяливший на себя мичманскую тужурку. Любопытный нюанс: Минее, прибыв на «Память Азова», имел при себе портрет «красного лейтенанта» Шмидта и пачку листков с текстами революционных песен, так сказать, для поднятия духа масс.
Во время своих выступлений перед матросами Минее неизменно выносил портрет «красного лейтенанта» Шмидта. Сам Минее был при этом в мичманской тужурке. Он же, как «офицер», рассказал матросам о подвиге своего старшего товарища Шмидта. Портрет одного офицера и рассказ другого на матросов впечатление произвел. Раздались голоса:
— Уж ежели и офицеры с нами за революцию, значит, дело верное!
Тем временем активисты раздали матросам листки с текстами революционных песен. После этого Минее первым запел, а остальные присоединились, глядя в листки.
После окончания митинга Минее торжественно повесил портрет Шмидта в ходовой рубке крейсера, сказав оторопелым рулевым:
— Отныне это будет ваша икона!
Любопытно и еще одно свидетельство Н. Крыжановского, гласящее, что поводом к контрвосстанию на «Памяти Азова» послужила подготовка к массовому расстрелу не согласных с мятежниками кондукторов и матросов. Это говорит, прежде всего, об исключительной кровожадности мятежников. Им было мало уже пролитой крови, и они желали ее еще и еще! А чего стоит убийство корабельного механика рашпилем! Именно это запредельное зверство в конце концов оттолкнуло команду от садистов, а потом и подвигло на решительное сопротивление.
Одна из самых распространенных легенд о «Памяти Азова» — это легенда о том, что против революционеров выступили исключительно молодые матросы–ученики. Вот как описывал этих предателей писатель–чекист Лев Шейнин: «Но на крейсере около трехсот матросов служили недавно. Это были молодые крестьянские парни, только в прошлом году призванные во флот. Они еще робели перед начальством, многие из них были неграмотны, и все, что случилось в эту тревожную ночь, казалось им непонятным. Непонятны были речи, которые произносились на митингах. Непонятен новый красный флаг, который взвился над крейсером. Непонятен был восторг команды, с которым она встретила этот флаг. И уж совсем непонятно было будущее, которое ждет и крейсер, и его команду, и эту боевую дружину, которая теперь командовала крейсером». Такой же позиции придерживается и историк–генерал С. Найда.
В отличие от Л. Шейнина и С. Найды, которые невнятно писали о предателях артиллерийских учениках, которые вместе со «шкурами» — кондукторами предательски перебили и пленили всех сознательных матросов крейсера, Н. Крыжановский рисует совершенно иную картину. Практически без всякого участия оставшихся в живых офицеров и при минимальном участии кондукторов сами матросы (причем как артиллерийские ученики, так и часть штатной команды корабля!) дружно выступили против мятежников и подавили смуту. Подобного финала в ходе событий революции 1905 года еще не было. Без всяких карательных команд, без всякого влияния извне, даже без участия офицеров, которые примкнули к оставшимся верными матросам лишь на заключительном этапе схватки за крейсер, матросы сами навели порядок на своем корабле, показав, что в большей своей массе они остались верными России. Дело в том, что команда «Памяти Азова» прекрасно знала о судьбе одураченной и брошенной на произвол судьбы команде «Потемкина», о том, как бесследно исчезают профессиональные революционеры, когда пахнет жареным. Геройское поведение команды «Памяти Азова» означало, что с революцией в империи на данном этапе покончено.
Из воспоминаний Н. Н. Крыжановского: «Часа через полтора после списания на берег арестованных участников мятежа из гавани стал приближаться большой портовой ледокол. Вся верхняя палуба ледокола была заполнена стоящей пехотой в походном снаряжении. Ледокол подошел к нашему трапу. На палубе я увидел капитана, командира пехотной роты, и младших офицеров — все в боевом вооружении. Я тотчас же спустился на нижнюю площадку трапа. Капитан отдал честь и сказал, что прибыл помочь восстановить порядок на корабле и просит моих указаний, что делать. Я также отдал честь и сказал капитану, что очень благодарю его за желание помочь нам, но бунт на корабле уже прекращен верной командой, главные зачинщики сданы в тюрьму, а остальных мы постепенно передаем на берег. Поэтому я прошу его не беспокоиться. Ледокол отвалил. Вслед за пехотой прибыло из гавани портовое судно, на котором было несколько жандармов во главе с жандармским офицером. Я опять спустился на нижнюю площадку трапа, поблагодарил жандармского ротмистра за желание помочь, но на судно их не пригласил.
От командира порта контр–адмирала Вульфа я получил приказание сдать затворы от орудий в порт: все еще опасались возможной бомбардировки города. Хотя распоряжение это было уже не нужно, но все же выполнено, и подполковник Петров отослал в порт ударники от затворов 6–дм пушек.
На корабле мы с Саковичем восстановили вахтенную службу, поставив вахтенными начальниками кондукторов. В нижних палубах были парные патрули учеников с ружьями, вместо обыкновенных дневальных. Настроение команды в большинстве остававшихся учеников было очень нервное и обозленное самоуправством и террором главарей мятежа. На корабле еще оставались и скрывались вооруженные мятежники.
Уже в сумерках я сидел на диване в кормовой рубке на шканцах и чувствовал себя сильно уставшим. Но уйти спать было невозможно — каждую минуту что–то нужно было приказывать, разрешать, не разрешать, кого–то посылать.
Слышу, часовые у трапа и гюйса окликают шлюпку: „Кто гребет?“ Затем ко мне прибежали сразу несколько человек из команды и, почти задыхаясь от волнения, перебивая друг друга, говорили: там шлюпка, три вольных спрашивают Лобадина. Я сразу понял, что это визитеры к мятежникам, еще не знающие, что дело проиграно. Может быть, это тот член Государственной Думы. Я велел ответить, что их просят к борту. В это время вблизи показался наш баркас с конвоем, отвозившим мятежников. Я приказал им взять шлюпку и привести к трапу. На нижнюю площадку трапа я послал двух человек, чтобы сразу осмотреть и арестовать прибывших.
Когда первый из них поднялся на трап, ему скомандовали „руки вверх“ и обыскали. Бежать им, конечно, было некуда. Первым по трапу поднялся и вышел ко мне на палубу штатский, интеллигентного вида. Он был бледен, видимо, испуган, но держался спокойно.
— Вы кто такой?
— Я… я доктор Вельский.
— Ваш паспорт.
Паспорт был на имя доктора Вельского. Доктор Вельский был плохо выбрит, одет в пиджачную пару без белья. Однако было сразу видно, что он не из „простых“ и нарочно „вопростил“ свою видимость.
Вторым вышел человек из простого сословия, рабочий. На мой вопрос о фамилии он ответил: Иванов. Третьего я знал. Это был бывший матрос, плававший у нас на „Азове“, по фамилии Косарев. Выйдя в запас, он часто к нам приезжал в качестве торговца, привозил продавать съестное. Он–то и греб на своей шлюпке, его, по–видимому, наняли. Шлюпка пришла с восточного берега Ревельской бухты, от развалин монастыря Святая Бригитта, что далеко от города. Со стороны гавани и города шлюпку бы не пустили, так как весь берег был оцеплен войсками. Очевидно, что эта поездка была приготовлена заранее. Невольно я подумал, что это и есть тот обещанный „сановник революции“, член Государственной Думы, про которого говорили мятежники со слов Коптюха. Я теперь не помню, что мне сказал главный гость на вопрос: „зачем пожаловали?“ Кажется, что–то вроде: „приехали проведать знакомых“, или что–то в этом роде.
У трапа сгрудилась большая группа учеников. Когда „пленники“ вышли на палубу, то сзади я услышал полушепот, полусдавленный голос: „Вы уйдите, Ваше Благородие, мы это тут прикончим“. Я почувствовал и понял, что если я сейчас же не приму мер и не отошлю „гостей“ на берег, то они будут убиты на месте. Не отходя от арестованных, я вызвал одного артиллерийского кондуктора и приказал ему назначить взвод учеников с винтовками и выдать боевые патроны. В присутствии взвода я сказал кондуктору, что арестованные должны быть доставлены в город и сданы властям. При этом, имея в виду, что обозленные ученики смогут убить арестованных по дороге, я сказал кондуктору, что он отвечает мне за их сохранность: если кто их будет отбивать, немедленно стрелять. Всем троим связали „руки назад“. Доктора Вельского я связал сам, для скорости отрезав прядь от талей трапбалки. Все трое были в сохранности доставлены на берег и переданы властям.
Назвавшийся „доктором Вельским“ впоследствии оказался известный эсер Илья Исидорович Фундаминский– Бунаков. Интересно, как некоторые случайные детали иногда врезаются в память. Я помню, что когда я раскрыл паспорт на имя доктора Вельского, данный мне Фундаминским, то внутри, на переплете, было карандашом записано: „Швейцарская 17“. Какой–то адрес. В Ревеле такого не оказалось».
Если члены ЦК партии эсеров Азеф и Чернов «курировали» подготовку мятежа в Свеаборге, а в Кронштадте мутили воду эсеровские авторитеты Онипко и Михалевич, то их коллега эсер–боевик Фундаминский должен был стать в главе мятежа на «Памяти Азова» и привести его в Свеаборг.
Пикантность ситуации заключалась в том, что отличие от всех своих остальных подельников Фундаминский был к этому времени депутатом Государственной думы — главного законодательного органа империи! Согласитесь, неплохое прикрытие для организатора мятежа, боевика и террориста! Опыт кровавых дел у депутата уже был, в декабре 1905 года он активно участвовал в вооруженном мятеже в Москве и вовремя сумел оттуда удрать.
Из хроники восстания: «Арестованными оказались представитель Ревельского комитета РСДРП М. Костырев — матрос, служивший ранее на крейсере „Память Азова“, некто В. Иванов (в действительности это был посланец большевистской военной организации Кронштадта П. Леушев) и эсер П. Фундаминский».
Из показаний корабельного писаря Евстафьева: «…Косырев (спутник Фундаминского. — В.Ш.) …объяснил, что он товарищ всем матросам, другой (сам Фундаминский. — В.Ш.) сказал: я — представитель Кронштадта».
На этот раз депутату–боевику снова не повезло. Он не успел прибыть вовремя на борт мятежного крейсера и возглавить мятеж. Опоздал–то всего на пару часов! Впрочем, вскоре Фундаминский, возможно, был этому даже рад. Вместе с Фундаминским—Бунаковым в шлюпке были взяты еще два видных эсера — Косырев и Леушев. После допроса все трое были отправлены под конвоем на берег и посажены в башню Маргарита Вышегородского замка и содержались там до суда.
Из воспоминаний Н. Крыжановского: «Уже было темно, когда с берега прибыл какой–то капитан 1 или 2 ранга, служивший в Ревельском порту (это был капитан 1–го ранга князь Ливен. — В.Ш.), и сказал, что командир порта прислал его для временного командования крейсером. Новоприбывший капитан сказал мне, чтобы я продолжал налаживать все, как делал до него, а он посидит внизу. Ему я дал охрану из учеников и больше его не беспокоил.
Поздно вечером, часов, полагаю, около 11–ти, с моря показался идущий большим ходом эскадренный миноносец. Входя с моря на рейд, он позывных не делал. Я сейчас же приказал делать клотиком наши позывные. Ответа не последовало. Тогда я стал спрашивать: „Покажите ваши позывные“. Ответа опять нет. Мне это сразу показалось подозрительным. Или этот миноносец идет нас взрывать, не зная, что мятеж ликвидирован, или это „революционер“ идет взрывать нас за ликвидацию бунта.
Я проворно распорядился убрать команду с юта и кормовых помещений, так как миноносец держал нам под корму. Сам я встал на ют на фальшборт, под кормовым якорным огнем, чтобы меня в форме не было видно. В ночной тишине было четко слышно, как зазвенел машинный телеграф на мостике миноносца, который уменьшал ход, держа нам под корму. Теперь можно было различить, что минные аппараты стоят по траверзу, т.е. приготовлены для выстрела минами. На мостике и на палубе чернеет много народу. Много офицеров и корабельных гардемарин, с револьверными шнурами…
Ближе… ближе. Телеграф снова звонит. Задний ход. Миноносец остановился.
— Кто вы такой? — спрашивает голос с мостика.
— Мичман Крыжановский.
— А командир у вас есть?
— Командира нет, но есть временно замещающий. Бунт ликвидирован. У нас все в порядке.
— Есть у вас еще офицеры?
— Есть, мичман Сакович.
— Хорошо. Пришлите его ко мне.
Сакович на баркасе отвалил на миноносец. Я послал разбудить портового офицера. Он выскочил заспанный.
Баркас вернулся с миноносца. На нем прибыл капитан 1–го ранга Бострем, начальник гардемаринского отряда, с ним офицеры и корабельные гардемарины. Удостоверившись в том, что все на крейсере приведено в порядок, Бострем отбыл обратно на миноносец и ушел в море. Оказалось, что Бострем шел взрывать бунтующий „Азов“ и только, подходя к Ревельскому рейду, получил радио о том, что мятеж ликвидирован. Если бы радио сразу не разобрали, быть бы нам взорванными.
Ночь я почти не спал, сидя на диване в кормовой рубке. На вахте стояли кондукторы. В палубах были парные вооруженные дневальные. Мы с Саковичем бодрствовали поочередно и вместе спать не уходили. В жилой палубе, в парусной каюте, забаррикадировался баталер Гаврилов, член комитета, отстреливался и не сдавался. Рано утром он, видимо, уже пал духом, и стал кричать, что готов сдаться, но требовал офицера, а матросам не сдавался.
Я пошел к нему на переговоры. Гаврилов хотел сдаться, но боялся мести со стороны учеников. Я ему обещал, что если он сдастся, то его не тронут и я его передам властям на берег. Гаврилов выбросил ко мне револьвер, потом вышел и упал на колени. Вид у него был ужасный, очевидно он не спал уже двое суток, ожидая смерти, и был в истерике. Его я сейчас же под конвоем отправил на берег, в тюрьму.
С утра начали прибывать всевозможные власти, и отдыха для нас не предвиделось. Начались назначения. Командиром был назначен капитан 1–го ранга Александр Парфенович Курош. Только что перед этим, во время восстания Свеаборгской крепости в Гельсингфорсе, Курош своими решительными и смелыми действиями предотвратил революционные эксцессы на миноносцах.
Курош человек храбрый и решительный, и при этом громкий и „авральный“. Был он полон решимости бороться с революцией, и был в состоянии повышенной нервности. Прибыв на крейсер, он увидел полный хаос среди личного состава: офицеров нет, вместо команды ученики, комендоры и пр. Не было еще исправленных списков команды. И вот опять мне и Саковичу пришлось сидеть и составлять списки. Курош рвал и метал, нервничал. Так что выспаться удалось не скоро. С гардемаринского отряда были назначены офицеры для производства дознания. Из главного военно–морского судного управления приехал следователь Фелицын для общего руководства дознанием, следствием и судом.
В Ревеле на якоре стоял отряд судов, назначенных для плавания с корабельными гардемаринами, в составе: броненосцев „Цесаревич“, „Слава“ и крейсера „Богатырь“. Отрядом, под брейд–вымпелом, командовал капитан 1–го ранга Бострем. С этого отряда и был назначен суд особой комиссии над участниками восстания.
К концу июля следствие было окончено, и суду было передано 95 человек: 91 матрос и 4 штатских. Прочая команда постоянного состава была реабилитирована и возвращена на корабль.
Еще на второй день после бунта, вечером, на крейсер прибыл паровой катер командира порта и передал мне приглашение адмирала Вульфа прибыть к нему на дачу к чаю и лично сообщить обо всем происшедшем. Хотя я плохо держался на ногах от усталости, но немедленно же „чище переоделся“ и отвалил на катере в гавань. Приглашение адмирала равносильно приказанию. От пристани я поехал на извозчике на дачу адмирала, в парк Екатериненталь. Сам адмирал Вульф и его семья приняли меня как родного, расспрашивали обо всем, сочувствовали и всячески меня обласкали. Было так странно и необыкновенно сидеть в этой, столь мирной, обстановке, за уютным чайным столом, в кругу милой большой семьи. После жизни „начеку с револьвером“ даже не верилось, что такое бывает.
А на другой день мне было сказано жандармским офицером, чтобы я не очень „раскатывал по ночам“, если не хочу получить пулю. Местные ревельские революционеры нами усиленно занимались. Наши раненые боялись оставаться в береговом лазарете, т.к. им угрожали убийством.
Убитые в восстании были похоронены на ревельском кладбище. Через сутки после похорон обнаружилось, что могила кондуктора Давыдова растоптана, крест сорван, цветы унесены. Могила Лобадина была украшена цветами…
В бухте Папонвик выловили из воды тело убитого мичмана Збаровского. Его привезли в Ревель, и я был вызван на опознание. С „Азова“ была наряжена рота для отдания почестей при похоронах, и я был в наряде с этой ротой. Из полицейских и жандармских источников было передано, что на процессию может быть произведено покушение, т.е. могут бросить бомбу или обстрелять роту. С разрешения командира людям были розданы боевые патроны кроме холостых, для салюта. Слава Богу, все обошлось благополучно. Но „раскатывать“ по городу теперь вообще было опасно».
Известие о восстании на крейсере «Память Азова» пришло в морское министерство днем 20 июля. Телеграммы об этом прислали из бухты Папонвик командиры крейсеров «Абрек» и «Воевода». Они были немедленно доложены императору Николаю. Морской министр адмирал Бирилев также сообщил, что на поиски восставшего крейсера им направлена из Гельсингфорса эскадра капитана 1–го ранга Бострема с задачей принудить восставших сдаться или потопить корабль. «Одобряю данное вами приказание капитану I ранга Бострему», — написал в резолюции Николай II. Но ничего этого не понадобилось.
Винный путч в Свеаборге
Восстание летом 1906 года на Балтийском флоте, как мы знаем, готовилось тщательно и долго. Помимо «Памяти Азова», который должен был стать знаменем мятежа, должны были одновременно подняться Свеаборг и Кронштадт. Но революционный накал матросов был уже не тот, и всеобщее восстание распалось на отдельные независимые друг от друга спонтанные мятежи. Вначале попытался выступить «Память Азова», но там все закончилось, едва начавшись. Теперь была очередь за Свеаборгом, прикрывавшим на выходе из Финского залива подходы к Гельсингфорсу (ныне финские Хельсинки).
Свеаборгская крепость расположена на группе островов у Гельсингфорса, ставшего к этому времени главной базой российского Балтийского флота. Главные форты крепости были расположены на островах Михайловском, Артиллерийском, Лагерном, Александровском и Дегерэ. Острова Госпитальный, Договорный, Ключевой, Николаевский и Опасный также были хорошо укреплены. Комендант крепости и его управление находились на острове Комендантский. На 18 островах, составлявших единый комплекс оборонительных сооружений, размещались артиллерийские форты, пороховые погреба, арсеналы, казармы, резервуары пресной воды, склады продовольствия. Наиболее сильно укрепленными были Михайловский, Александровский, Артиллерийский и Инженерный острова. Крепость имела на вооружении около 300 артиллерийских орудий различных калибров, в том числе 32 11–дюймовых и 70 9–дюймовых нарезных орудий и мортир. За цепью островов, полукольцом отделявших гельсингфорский рейд от Финского залива, постоянно базировался отряд боевых кораблей. Рядом с ним на острове Скатуден находились 20–й флотский экипаж, флотская минная рота и портовое управление. В самом Гельсингфорсе и его окрестностях располагался 2–й Финляндский стрелковый полк. Общая численность сосредоточенных здесь пехотных, артиллерийских и морских частей превышала 10 тысяч человек.
Основная часть гарнизона крепости в обычное время находилась на Лагерном острове. В порту на момент мятежа находилось несколько миноносцев, а на рейде стояли минные крейсеры «Амурец», «Уссуриец», «Эмир Бухарский» и «Финн». Некоторые матросы находились под влиянием социал–демократов, часть под влиянием эсеров, но большинство, как и обычно, оставалось безучастно к революционной пропаганде.
Во главе всей работы по подготовке восстания в Свеаборге стоял комитет, в который входили: подпоручики крепостной артиллерии Емельянов и Коханский, солдаты–артиллеристы Тихонов, Иванов, Герасимов, Виноградов, солдаты крепостного пехотного полка Воробьев и Детинич. Наиболее видными руководителями комитета были члены Финляндской военной организации РСДРП прапорщики Емельянов и Коханский. Однако неизвестно, были они большевиками или меньшевиками. Скорее всего, прапорщики вообще были вне фракций, как и большинство тогдашних рядовых социал–демократов. Относительно наличия эсеров в Свеаборге точных данных нет. Они там, безусловно, были. Но социал–демократы перехватили у них инициативу выступления. По–видимому, именно из–за желания опередить конкурентов выступление было совершенно неподготовленным и на редкость бестолковым. К моменту начала восстания подготовка к нему еще не была закончена и на Скатуддене. Но восстание началось стихийно и преждевременно. Известно, что свеаборгский комитет входил в Финляндскую организацию РСДРП, откуда получал указания, газеты, листовки и брошюры.
Непосредственным же толчком к восстанию послужил инцидент с минерами Свеаборгской крепостной роты. Все началось с того, что 12 июля 1906 года приказом по гарнизонной минной роте была отменена выдача солдатам на руки денег вместо винных порций. Это вызвало недовольство части солдат, тогда как другие, наоборот, были довольны тем, что будут получать вместо денег вино. Повод, как мы теперь прекрасно понимаем, был самый пустячный и надуманный. Дело в том, что в финансовом отделе был просто дефицит наличности (последствие проигранной войны, революции и экономического спада). Заметим, что основное денежное довольствие минерам выплачивали исправно. Речь идет только о «винных» деньгах, которые, кстати, не просто так «простили», а просто на время заменили вином, которое в принципе и было положено выдавать. Если вспомнить наш флот и армию в 90–е годы XX века, когда не то что матросам и солдатам, а офицерам по несколько месяцев подряд не выплачивалось зарплат и они откровенно голодали со своими семьями, то возмущение свеаборгских минеров не может восприниматься иначе как блажь и первый попавшийся повод для выражения своего недовольства.
Итак, 15 июля возмущенные минеры собрались на митинг, куда пришли также артиллеристы, телеграфисты и солдаты специальных команд, которым, кстати, винные деньги выдали, как положено. Но у них душа болела за обиженных минеров. На митинге все сообща решали, что лучше — пить вино или получать за него деньги. Мнения сразу разделились, так как в большом количестве нашлись и желающие выпить, и трезвенники. Но тут, как нельзя кстати, появились социал–демократы и эсеры, которые, перебивая друг друга, разъяснили солдатам, что перебои с винными деньгами унижают их человеческое достоинство и во всем виноват кровавый царизм, и если его свергнуть, то винные деньги будут всем выдаваться всегда и вовремя. Ораторы принялись взвинчивать толпу и провоцировать солдат написать коллективную петицию. Суть провокации состояла в том, что в российской армии коллективные письма являлись незаконными (это положение, кстати, действует и в современных Вооруженных силах России!). Знали ли об этом свеаборгские минеры, мы не знаем, но то, что об этом прекрасно знали революционеры, работавшие с солдатами, это сомнению не подлежит. Суть затеваемой провокации состояла в том, чтобы подача коллективного письма спровоцировала командование на ответные меры, а это, в свою очередь, могло стать поводом к мятежу. Чтобы солдаты были сговорчивее, тут же на митинге революционеры зачитали им ложные письма, якобы от кронштадтских матросов и солдат, с просьбой к свеаборгцам не медлить и скорее начинать восстание. Они уже начали вместе с петербургским пролетариатом, и если свеаборгцы их не поддержат, то будут заклеймены позором, как предатели революции. Однако минеры все еще колебались, затевать большую бузу из–за вина они как–то хотели. Поэтому всю последующую ночь в казармах шла обработка сомневающихся. На следующий день, 16 июля, митинг был продолжен. Наконец минеры все же согласились попросить начальство отменить приказ.
16 июля, после вечерней поверки, минеры через дежурного по роте попросили к себе командира роты подполковника Неронова, чтобы он объяснил, чем вызван приказ об отмене винных денег. Командир роты приказал собрать взводных и отделенных унтер–офицеров и в присутствии офицеров роты объяснил, что приказ отменить не может, так как он издан на основе приказа свыше. Причина же его состоит в том, что пока в крепости мало наличных денег, когда же деньги привезут, их выдача будет немедленно возобновлена. Однако минеров эти объяснения не удовлетворили. Настаивая на отмене приказа, они стали жаловаться на тяжелую службу и предъявили командиру роты свои экономические требования. Эти разговоры слышали и солдаты, которые находились недалеко от сада, где были собраны их товарищи из среды младших командиров. Видя, что требования не будут выполнены, солдаты направились в сад и присоединились к своим младшим командирам. Вместе с ними туда же поспешили и революционеры–агитаторы. Командир роты теперь уже перед всеми солдатами повторил, что он не может отменить приказ. Начался шум. Агитаторы в толпе подзуживали солдат. В это время к роте подошел начальник Лагерного острова, командир Свеаборгского пехотного полка полковник Раевский, и потребовал прекратить шум. Однако солдаты не успокоились. В тот момент неожиданно для всех кто–то из агитаторов революционеров с криком: «К оружию!» бросился к баракам. Однако за провокатором никто так и не побежал. Солдаты все еще колебались. Вскоре к минерам явился комендант крепости генерал–лейтенант Лайминг. Он поздоровался с солдатами, те ему ответили. После этого якобы состоялся следующий разговор.
— Бунтуете, братцы? — спросил Лайминг.
— Никак нет, мы только просим о винных деньгах, просим вас разобрать это дело, — ответили минеры.
Комендант сказал, что они незаконным образом заявляют свою просьбу, на что унтер–офицер Федоров возразил:
— Ну, жалобу, как ни пиши по уставчикам, все равно ты же и виноват будешь, и тебя же вздуют!
Не желая слушать объяснений, комендант приказал разойтись. Но на это последовал ответ:
— Не разойдемся.
— Разойдитесь, ребятушки, — повторил комендант.
— Не разойдемся, — ответили солдаты минной роты.
— Я вас заставлю разойтись! — грозно ответил генерал Лайминг.
— Не заставите! — послышались голоса из толпы.
— Ребятушки, со мною пехота, стрелять будем! — снова сказал комендант.
Минеры опять ответили отказом, а рядовой Соловьев, как удостоверяет подпоручик Шестаков, кроме того, прибавил:
— Мы не боимся пехоты. Плохой солдат, который боится смерти.
Убедившись, что из этой перебранки ничего не выйдет, Лайминг заявил, что он готов выслушать солдат, если кто– нибудь один изложит претензии. Для переговоров выступил ефрейтор Черноусов. Но не успел он изложить претензии, как со всех сторон посыпались жалобы «на тягость службы, на то, что больше правды не стало», и т. п. В обвинительном акте сказано, что «рота держала себя весьма непочтительно». Солдат Лытиков говорил коменданту, что служба подобна каторге — нет ни одной свободной минуты, и его не пускают гулять в Гельсингфорс. В ответ Лайминг сказал собравшимся, что он сам старый солдат, хорошо понимает их нужды и постарается кое–что сделать. Свою речь генерал пересыпал остротами и шутками. Минеры начали смеяться, и напряженность начала спадать. После этого комендант пожелал солдатам спокойной ночи и уехал. Солдаты разошлись по баракам. Инцидент этим, казалось, был исчерпан.
Утром 17 июля комендант крепости приказал минной роте поставить на подступах к Свеаборгу минные заграждения. Этот приказ был вызван распоряжением из Петербурга о профилактических мерах в связи с угрозой мятежа на Балтийском флоте, а также чтобы минеры не маялись бездельем в казармах, а занялись своим непосредственным делом. Приказ был тут же разъяснен агитаторами, как злобный и вредный, и написанный лишь для того, чтобы минерам не давать отдыха, а заставлять работать и работать на проклятый царизм. Заниматься постановкой мин, которая была и сложна, и достаточно, опасна солдаты не слишком желали. Куда приятнее валяться на койках в казарме и слушать на митингах заезжих революционеров. На вопрос о том, что офицеры могут их наказать, агитаторы тут же доходчиво объяснили, что в свете недавних свобод октября 1905 года никто ни за что их не накажет. Да и вообще давно пора показать золотопогонникам, что у них, солдат, тоже есть человеческое достоинство, атои винных денег не дают, и заграждения ставить заставляют! Короче, под влиянием находившихся в казарме революционеров минеры отказались выполнить приказание, заявив, что не будут ничего исполнять, пока не будут удовлетворены их винные требования.
Это было уже открытое неповиновение. Взяв с собой две роты пехоты, комендант крепости немедленно прибыл на Лагерный остров и обезоружил минеров. Агитаторы предусмотрительно покинули казармы, поэтому никакого сопротивления оказано не было. Всех унтер–офицеров и ефрейторов он тут же разжаловал в рядовые, а 90 человек арестовал. Обезоруженную роту отправили под конвоем на остров Сигнальный и сдали под надзор пехотного батальона. Тем временем революционеры даром времени не теряли и поспешили в казармы других частей гарнизона со страшной вестью об аресте «восставших минеров». Теперь уже, выступая перед солдатами, социал–демократы кричали:
— Надо брать в руки винтовки и выручать наших товарищей! Неужели вы бросите их в беде!
Положение усугублялось тем, что самыми активными агитаторами выступили офицеры — эсер штабс–капитан Цион и социал–демократы подпоручики Емельянов и Коханский. Это производило на солдат особое впечатление.
Тридцатидвухлетний артиллерийский штабс–капитан Самуил Аронович (Сергей Анатольевич) Цион (из выкрестов) был достаточно заметной фигурой в партии эсеров. Он давно порывался бросить службу, но ЦК ему этого делать не разрешил, так как партии эсеров нужны были свои военные кадры, которых было не так–то густо. В Свеаборге Цион пользовался определенным авторитетом, причем гораздо большим, чем двое молоденьких подпоручиков социал–демократов. Да и поддержка в Гельсингфорсе у него была гораздо солиднее. Из–за неблагонадежности Цион уже был отстранен от должности и переведен в крепость Осовец, но упорно не ехал к месту службы и околачивался в Гелисингфорсе.
Аркадий Емельянов (партийная кличка «Филипп») в июле 1905 года окончил в Петербурге Михайловское артиллерийское училище, произведен в подпоручики и назначен на службу в Свеаборгскую крепость в 7–ю роту крепостной артиллерии. По прибытии в Свеаборг он был обработан местными революционерами и вскоре стал одним из видных работников Финляндской военной организации РСДРП. Евгений Коханский также окончил Михайловское артиллерийское училище, был назначен на службу в 10–ю роту Свеаборгской крепостной артиллерии. Вместе с Емельяновым он принимал активное участие в подготовке мятежа, а когда он начался, руководил им до самого конца.
Тогда же по инициативе революционеров был создан и некий революционный комитет из «наиболее сознательных» солдат.
Историк партии эсеров М. И. Леонов пишет: «В Свеаборге до лета 1906 г. успехи эсеров были не… значительны. Много влиятельнее здесь были социал–демократы. Однако незадолго до восстания один из самых авторитетных руководителей их военной организации штабс–капитан Свеаборгской крепостной артиллерии С. А. Цион рассорился с партийными функционерами, ушел к эсерам, а вместе с ним — и преданные ему революционно–настроенные артиллеристы и члены экипажей.
Действия Циона давно вызывали беспокойство начальства. Его даже собирались исключить из службы, после того, как он устроил и был распорядителем вечера с танцами в зале политехнического института Гельсингфорса, где входящих встречали прокламациями и призывали жертвовать „в пользу Красной гвардии и революционного комитета“. После восстания в Свеаборге в докладной записке по Генеральному штабу за № 195 от 10 сентября 1905 г. он именовался „беглым изменником и вождем бунтовщиков“, который имел при себе план крепости Свеаборг, секретные морские карты с указанием прилегающих к Свеаборгу шхер и мобилизационного плана войск, расположенных в Финляндии».
Историк Кардашев характеризовал штабс–капитана Циона с учетом отношения социал–демократов к эсерам: «В Свеаборге эсерам активно помогал штабс–капитан С. Цион, который до весны 1906 года входил в Финляндскую военную организацию РСДРП, а затем переметнулся к эсерам. Это был мелкобуржуазный интеллигент с анархическим уклоном, не привыкший к строгой партийной дисциплине. Используя старые связи с солдатами гарнизона, он начал вести среди них пропаганду за немедленное восстание». Именно потому, что Цион не был социал–демократом, а презренным эсером, он так и не вошел в анналы истории, как герой восстания, в отличие от социалистов Коханского и Емельянова.
… Революционеры приближали час бунта, но условия его вызрели объективно. В конце 20–х чисел июня, значительно укрепив свои ряды, эсеры предложили социал–демократам создать объединенную беспартийную военную организацию в Финляндии, но получили отказ. Для согласования действий была создана Информационная комиссия. 16 июля в Гельсингфорсе состоялось совещание эсеров («Дмитрий» из Кронштадта, С. А. Цион), Красной гвардии (капитан Кук), социал–демократов — для выработки общего плана восстания. Социал–демократы своего варианта не представили, но заявили о намерении готовиться к восстанию, оговариваясь, что «испросят разрешение у своего ЦК». Пришли к заключению, что выступление начнется в Кронштадте, а Свеаборг его поддержит. Кроме того, поскольку представителей от экипажей военных кораблей не оказалось (их вывели с Гельсингфорского рейда), свеаборгцы обещали с ними связаться. Был придуман чрезвычайно сложный план оповещения о порядке выступления. Через четыре–пять дней из Гельсингфорса должны были дать условную телеграмму, обозначавшую готовность флота к восстанию; затем революционеры Кронштадта, в свою очередь, должны были оповестить телеграммой о своей готовности. И лишь после этого флот начинал выступление, известив об этом Кронштадт, Свеаборг, все остальные гарнизоны побережья Финского залива, второй условной телеграммой.
Вся эта история с телеграммами повторялась в источниках и литературе бесчисленное количество раз. Но при этом нет ни одного конкретного указания (по крайней мере, мы такого не встретили), кто и как должен был оповестить революционные комитеты кораблей, рассредоточенных на нескольких рейдах. И как предполагалось поднять одновременно весь Балтийский флот? Ничего подобного ни в 1905, ни в 1906–1907 годах не было. Но те, кто готовил восстание, кто вспоминал и кто писал о нем, не выражали сомнения в реальности такого невиданного действа.
Пропаганда восстания вообще, не приуроченного к важному политическому событию, неустанная агитация среди солдат и матросов, недовольных службой, неразрешенными земельными отношениями, роспуском Думы, на которую они возлагали также особые надежды, приводила к нервическому возбуждению. В таких условиях восстание неизбежно должно было вспыхнуть стихийно. Так и случилось. Об этом писали все участники, очевидцы и исследователи, за исключением тех, кто искал виновных в том, почему все произошло не по социал– демократическому плану.
В. М. Чернов был прав, когда утверждал: «Вот перед вами совершенно конкретное явление — Свеаборгское восстание. За какой–нибудь час–полтора до этого восстания Совет выборных от воинских частей вместе с представителями с.-р. и с.-д. организаций решают, ввиду готовящегося плана общего выступления, не допускать преждевременных вспышек. А через два–три часа все Свеаборгские острова уже полны артиллерийской канонадой. Отчего все разгорелось? От копеечной свечки». М. А. Натансон также говорил о «„провокации“, подтолкнувшей восстание в Свеаборге».
К вечеру весть об аресте минеров стала известна всему гарнизону. Солдаты обсуждали положение минеров, но каких–либо признаков подготовки к восстанию не подавали до конца дня 17 июля. Вечером один из арестованных минеров бежал к артиллеристам и рассказал, что арестованные голодают. Это было ложью, так как обед минерам был выдан, хотя и с задержкой.
Кто именно пустил слух о «голодающих» минерах, неизвестно; скорее всего, это была провокация социалистов или эсеров, ухватившихся за арест минеров, как за новый повод к началу мятежа, и теперь стремившихся изо всех сил поднять на выступление солдат гарнизона. Известие о «оголодавших» минерах вызвало среди солдат– артиллеристов некоторое возбуждение. На вечерней поверке в нескольких ротах солдаты по своей инициативе предъявили командирам требования освободить минеров. Офицеры отказались это сделать. Тогда подстрекаемые социалистами и эсерами артиллеристы решили выручить минеров.
Вечером артиллеристы прислали своего представителя к членам революционного комитета, который от имени солдат заявил, что артиллеристами решено сегодня начать восстание. Члены комитета собрали представителей рот.
Снова начался митинг. Представители партии социал–демократов и социал–революционеров устроили между собой отчаянную перепалку. Одни требовали немедленного выступления, другие, наоборот, — не начинать восстания до получения сведений о степени готовности к восстанию флота Кронштадта и Ревеля. Представители рот склонялись к тому, чтобы как–то решить дело миром. Не было единства во взглядах и среди революционеров в Гельсингфорсе. Однако в ночь с 17 на 18 июля мятеж начался. Сегодня считается, что это сделали эсеры, стремясь перехватить инициативу у большевиков. Однако прямых доказательств этому нет. Вполне вероятно, что мятеж, наоборот, подняли социал–демократы, чтобы оставить с носом своих настырных конкурентов.
Правительственное сообщение об обстановке в Свеаборге: «В течение минувшей недели в Гельсингфорсе происходили митинги собравшихся здесь русских революционеров и финской Красной гвардии с участием подвергшихся влиянию революционной пропаганды нижних чинов Свеаборгского гарнизона. Отдельно от этих митингов устраивались заседания русского революционного комитета совместно с начальствующим составом Красной гвардии. 17 июля, т.е. когда возник конфликт с минерами, свеаборгская военная организация РСДРП послала в Гельсингфорс, в Центральную группу Финляндской военной организации, своих представителей — Емельянова и одного из солдат, которые получили указание временно воздержаться от выступления. Свеаборгская организация проводила эту линию до начала восстания. В ночь на 18 июля в крепости Свеаборг возникли беспорядки в минной роте, которая утром 17 июля была разоружена Свеаборгским крепостным пехотным полком и арестована комендантом крепости. В 10 часов вечера поднялась крепостная артиллерия, захватив винтовки и пулеметы, овладела Михайловским, Александровским, Артиллерийским и Инженерным островами и открыла огонь по Комендантскому и Лагерному островам, где находился комендант, имевший в своем распоряжении упомянутый крепостной полк и подоспевшие из Гельсингфорса 2 роты 2–го Финляндского стрелкового полка».
В обвинительном акте по делу о восстании в Свеаборге изложены дополнительные сведения о том, как шла подготовка к восстанию в Свеаборге и каковы были цели и планы военных организаций РСДРП, подготовлявших эти восстания. В этом акте сказано: «Выяснилось, что к восстанию нижних чинов свеаборгской крепостной артиллерии подготовили той же артиллерии штабс–капитан Цион, бежавший и до сего времени не разысканный, и подпоручики: Емельянов и Коханский, действуя в качестве агентов революционной организации, целью которой было захватить все крепости при помощи возмутившихся гарнизонов, а в приморских крепостях — и при участии флота, с тем, чтобы заставить тогда правительство исполнить требование социал–демократов… С целью подготовить к восстанию нижних чинов, подпоручики Емельянов и Коханский приглашали их к себе на квартиры, беседовали с ними и раздавали им запрещенные брошюры и прокламации. Когда же таким образом подготовленное ими восстание вспыхнуло, то они, при участии ближайших своих сообщников и помощников, нестроевого старшего разряда Детинина, фейерверкеров Тихонова, Макара Иванова, Герасимова, Виноградова и рядового Воробьева, руководили действиями восставших».
Все лица, указанные в обвинительном акте, входили в руководящий состав военной социал–демократической организации в Свеаборге. С. Найда пишет, что все они, наоборот, только и мечтали, как бы удержать солдат от выступления, но когда оное стало неизбежным, они, как истинные революционеры, возглавили восстание. В данной ситуации подпоручики Емельянов и Коханский явили собой двуединый образ «красного лейтенанта» Шмидта. Ситуация, почти зеркальная событиям ноября 1905 года в Севастополе.
Итак, первыми выступили солдаты 6–й, 8–й и 9–й рот крепостной артиллерии, находившиеся на Лагерном острове. Захватив оружие, они выстрелом из пушки дали сигнал к восстанию. Данный факт ясно говорит о том, что на самом деле ни о какой стихийности речи не было. Обо всем было обговорено заранее, в том числе и об условном сигнале к началу мятежа. Восставшие артиллеристы 6–й, 8–й и 9–й рот вначале двинулись освобождать запертую в казармах роту минеров, надеясь при этом, что караулившие минеров солдаты 1–го батальона крепостного Свеаборгского полка не будут стрелять в них. Однако солдаты по приказанию офицеров открыли по артиллеристам огонь.
После небольшой перестрелки артиллеристы, оставив посты и несколько боевых расчетов у батарей, ушли на Михайловский остров, чтобы поднять на восстание артиллеристов 7–й и 10–й рот. Но оказалось, что солдаты этих рот также восстали по орудийному сигналу, арестовали офицеров и захватили орудия и винтовки. Когда пехота на Михайловском острове открыла оружейный огонь, ее подавила артиллерия восставших. Затем по особому сигналу подняли восстание артиллеристы и на Александровском и Артиллерийском островах. На большинстве вывешенных революционных флагов было начертано эсерско–народническое: «Земля и воля», и всего несколько социал– демократических лозунгов: «В борьбе обретешь ты право свое!»
Одновременно некая команда в центральной части крепости сумела захватить из артиллерийского манежа 20 исправных пулеметов с патронами и доставила их в лагерь восставших. Речь, разумеется, идет о некой заранее выделенной спецкоманде, которая выполняла особые задания. И здесь говорить о стихийном выступлении не приходится. Все было продумано и спланировано заранее. В руках командования осталось только два пулемета, да и те без замков. Вскоре часть артиллеристов направилась к гауптвахте, где сидели 90 минеров, арестованных 17 июля, и разгромила ее. Минеров освободили, и они примкнули к восстанию. Здесь необходимо отметить одну особенность. Когда мятеж был подавлен, то из солдат минной роты к уголовной ответственности было привлечено всего несколько человек, да и те получили всего лишь по несколько лет тюремного заключения. Это говорит о том, что никакого активного участия в дальнейших событиях минеры не принимали. Выступая против начальства, они желали только одного — винных денег, но никак не всероссийской социальной революции.
В течение ночи в руках восставших оказалось шесть островов, почти вся крепостная артиллерия, значительные запасы снарядов, склады пороха. В восстании принимали участие 7 из 10 артиллерийских рот (три остальных были обезоружены). Артиллеристы захватили вспомогательные суда, обслуживавшие крепость: «Пушкарь», «Выстрел» и «Марс». На мостах, соединявших отдельные острова, были выставлены пулеметы и усиленные наряды часовых. Всего к 17 июля общее число восставших солдат доходило до двух тысяч человек. Во главе мятежников встали подпоручики Емельянов и Коханский. Среди солдат усиленно распространялся кем–то пущенный слух о готовности команд броненосцев «Цесаревич», «Слава» и крейсера «Богатырь» поддержать восстание в Свеаборге. Прибытие кораблей ожидалось в ближайшие два дня. Впоследствии социал–демократы винили в этом «провокационном» слухе эсеров, а те — социал–демократов. Всё как всегда…
Тем временем оправившись после первых ошеломляющих событий, командование крепости попыталось перейти к активным действиям. Генерал Лайминг стянул находившиеся поблизости крепостные пехотные части и в полном боевом порядке двинул их против артиллеристов. Артиллеристы попытались вначале привлечь пехоту на свою сторону и обратились к пехотинцам с призывом примкнуть к восстанию. Часть пехотинцев заколебалась. Из их рядов раздались голоса: «Мы стрелять не будем, не стреляйте и вы».
Во время переговоров из рядов артиллеристов неожиданно раздался выстрел. Пуля ранила пехотинца. Разъяренная пехота открыла огонь по артиллеристам. Началась перестрелка. Теперь ни о каком братании речи больше не было. С обеих сторон появились убитые и раненые. Когда огонь утих, артиллеристы, подобрав раненых и убитых, отошли на исходные позиции.
Пока успех был на стороне мятежников. В их руках находились острова: Сангольм, Михайловский, Александровский и часть других. В их руках была артиллерия, все крепостные пулеметы, ружейные склады и источники воды. В их распоряжении было и пять крепостных пароходов: «Выстрел», «Пушкарь», «Рабочий», «Инженер» и «Марс». У мятежников были реальные шансы на захват всей крепости. Надежда на успех увеличилась, когда войска, бывшие на Николаевском острове, сошли на берег и захватили с собой замки от орудий. Солдаты колебались, отказывались идти против революционеров и, в крайнем случае, решили соблюдать нейтралитет. Но вскоре генерал Лайминг взял бразды управления в свои руки и порядок в пехотных частях был наведен.
В конце концов восставшие закрепились на островах Михайловском, Александровском, Артиллерийском и Инженерном. На Комендантском, Лагерном и других островах закрепились верные правительству войска — пехотный и крепостной Свеаборгский полки, а также две роты Финляндского стрелкового полка, прибывшие из Гельсингфорса.
Тем временем подпоручику Емельянову удалось пробраться в Гельсингфорс на совещание в местную организацию РСДРП и за продовольствием для гарнизона. Финны пытались было направить в крепость продовольствие, медикаменты и врачей, но этому помешали действия правительственных войск. Любопытно, что революционному комитету в Гельсингфорсе, кроме заверений о поддержке местные социалисты никакой помощи не оказали, зато Емельянову вручили почетный красный флаг. Зато финские националисты выделили отряд своих боевиков, которому удалось пробраться в крепость. Вернулся туда и Емельянов.
Тем временем в крепости уже вовсю претворялся в жизнь план грандиозного мятежа. Была установлена связь между всеми местными военными организациями, находившимися на территории Финляндии между Свеаборгом и Красной гвардией Финляндии. По всей территории Финляндии началась лихорадочная организация отрядов боевиков, готовых по первому приказу вступить в бой. Правда, цель у них была несколько иная — не свержение царизма в России, а отделение Финляндии. Тот факт, что финские националисты действовали заодно с социал– демократами и эсерами, говорит о том, что вопрос отделения Финляндии от России был решен революционерами задолго до событий 1917 года.
В ряд пунктов для руководства намеченными восстаниями были посланы специально выделенные люди. Был установлен новый пароль по радио и телеграфу для начала восстания во флоте и на берегу. Телеграмма с содержанием «Торговля открыта, идет хорошо, открывайте и пересылайте» означала: «Восстание началось, начинайте и вы, выполняйте план». На случай неудачного развития событий в Свеаборге был установлен и другой пароль, а именно: «Торговля закрыта, закрывайте и вы». Это должно было означать, что обстановка не позволяет начать восстание. Прежний план восстания в связи с начавшимися событиями в Свеаборге был уточнен.
Основная же его идея оставалась прежней, а именно: восстание, начавшееся в одном месте, должно быть поддержано в других местах заранее подготовленными отрядами боевиков, затем всеобщая стачка и свержение правительства. Боевики, воинские части и флот должны были немедленно овладеть важнейшими стратегическими пунктами и быстро овладеть Петербургом. При этом организаторы не сомневались, что мятеж в Петербурге, Кронштадте и Финляндии будет немедленно поддержан по всей России.
Одновременно с восстанием в Свеаборгской крепости началось восстание матросов Свеаборгской флотской роты и 20–го флотского экипажа на полуострове Скатудден и волнение команд минных крейсеров, стоявших в Свеаборгском порту.
Морской комитет военной организации РСДРП решил утром 18 июля поднять восстание матросов. Вскоре было получено аналогичное указание и от центральной группы Финляндской военно–партийной организации. Морской комитет ставил своей задачей поднять мятеж матросов береговых частей и кораблей, стоявших в Свеаборгском порту и на рейде вблизи полуострова Скатудден. Предполагалось, объединив силы матросов с финскими боевиками, высадить отряд в Свеаборге для оказания помощи восставшим солдатам, а кораблям охранять подступы к Свеаборгу и служить для связи с берегом. Еще один отряд намечался для захвата Гельсингфорса и развития активных боевых действий в Финляндии.
В соответствии с этим планом, всю ночь втайне шла подготовка к новому мятежу. Утром 18 июля матросов, как обычно, построили во дворе казарм для развода на работы. Воспользовавшись тем, что все матросы и командиры ушли из казарм, члены Морского ревкомитета Поплавский, Гончаренко и другие (еще одна спецгруппа) с помощью караульных захватили несколько ящиков винтовочных и револьверных патронов. В это же время матрос Николайчук по заданию Морского комитета сыграл боевую тревогу. По сигналу тревоги подготовленные к восстанию матросы захватили винтовки и патроны. Первая часть плана была выполнена. Теперь нужно было соединиться с финскими боевиками, поднять восстание на кораблях, оказать помощь свеаборжцам и двинуть силы в Гельсингфорс.
Обвинительный акт по делу о восстании матросов на полуострове Скатудден так излагает начало и ход этого мятежа: «Агитаторы возбудили к восстанию нижних чинов морских команд. 18 июля около 6 часов утра матросы, вооружившись винтовками с боевыми патронами, дали три залпа из ружей, как условленный сигнал, чтобы сообщить крепостным артиллеристам о присоединении их к мятежу. Затем подняли на флагштоке в порту красный флаг, захватили портовой двор и морскими сигналами и голосами стали приглашать военные суда, стоявшие в гавани, присоединиться к ним, чтобы на этих судах переправиться в крепость, а судовою артиллерией действовать против крепостных частей, оставшихся верными… Офицеров же — лейтенанта Басова, капитана Карпова и фельдфебеля Черникова арестовали, чтобы они не препятствовали восстанию».
В это время из Гельсингфорса прибыли представители финских боевиков. Прибывших товарищей встретили криками «ура». Появление воинственных финнов еще больше повысило дух матросов. По предложению одного из членов Морского комитета матросы произвели троекратный залп из винтовок. Залп был произведен в честь восставших свеаборжцев, как сигнал к восстанию на кораблях, стоявших в гавани. Наступал момент истины.
В то же время матросы в порту спустили крепостной флаг и подняли красное знамя. После этого они выбежали на площадь, арестовали появившихся в пределах казармы офицеров и стали ждать восстания на кораблях, как было намечено по плану.
Согласно этому плану, по сигналу с берега должны были поднять восстание матросы минных крейсеров: «Эмир Бухарский», «Финн», «Казанец», миноносцев и других кораблей, базировавшихся на Свеаборгский порт. Руководители мятежа нисколько не сомневались в том, что корабельные команды их не подведут. Однако никакого восстания на кораблях так и не произошло. Наученные горьким опытом «Потемкина» офицеры минных крейсеров и эсминцев, получив ночью известие о восстании в Свеаборге, арестовали и заперли в трюмы всех заподозренных в неблагонадежности. Корабли же были срочно доукомплектованы кондукторами, гардемаринами и отчасти даже офицерами с других судов.
Прождав некоторое время и увидев, что мятеж на кораблях так и не начался, восставшие решили дать условный сигнал — «все готово», что означало: «Начинайте восстание, на берегу восстали». Прождав еще около часа и снова не дождавшись никакого ответа с кораблей, на берегу стали паниковать. От былой самонадеянности не осталось и следа! Часть солдат сразу же стала расходиться по казармам. Остальные собрались на митинг. Решено было послать в город представителей и просить финских боевиков как можно быстрее идти на помощь.
В это время минные крейсера «Финн» и «Эмир Бухарский» начали обстрел из пулеметов мятежных казармам. Впоследствии историки злословили, что это стреляли исключительно офицеры и гардемарины. Увы, как это ни прискорбно, но на самом деле стреляли обычные матросы из состава команд этих кораблей. Обстрел изначально был рассчитан исключительно на психологический эффект, и он превзошел все ожидания. Пули лишь разбили окна в казармах, побили кирпичные стены, не причинив никакого вреда, но среди мятежников началась уже всеобщая паника. Одно дело горланить на митингах, и совсем иное — сохранять выдержку под пулями! Паника усилилась еще больше, когда с «Финна» начался орудийный обстрел.
Тогда руководители мятежа Михеев, Приходько, Гончаренко, Большаков начали избивать разбегавшихся матросов. Какую–то часть из них удалось привести в чувства, и спустя некоторое время с берега был открыт ружейный огонь по кораблям. Толку от него не было никакого, и к полудню перестрелка стихла. Офицеры, предполагая, что мятежники разбежались, послали на берег на разведку мичмана де Ливрона. Сойдя на берег, мичман начал было спускать с флагштока красный флаг, в это время к нему бросилось несколько десятков матросов, спрятавшихся в ближайшем бункере. Выстрелом из винтовки мичман был тяжело ранен. С кораблей снова вынуждены были открыть орудийный и пулеметный огонь. Матросы снова разбежались.
Убийство офицеров в исторической литературе обставлялось отечественными писателями так, что они сами прямо–таки напрашивались на убийство. Вот как описывает убийство во время Свеаборгского мятежа «неправильного» полковника Нотара солдатами писатель–историк Кардашев: «В предрассветных сумерках короткой летней ночи на море лег туман. Стояла тишина. Гарнизон крепости разделился на два враждебных лагеря. Никто не спал. Караульные чутко прислушивались к звукам, доносившимся с соседних островов.
Неожиданно почти у самой пристани Михайловского острова раздался всплеск воды.
— Кто гребет? — окликнул часовой.
Всплески прекратились, затем кто–то энергично стал грести в сторону Комендантского острова.
— Кто гребет, стрелять буду! — вновь крикнул он и выстрелил в показавшуюся на миг в молочной мгле лодку.
На выстрел выбежало несколько солдат. Они открыли огонь по лодке, которая вскоре вынуждена была повернуть к берегу. Когда она причалила, солдаты увидели в ней начальника артиллерии крепости генерала Агеева и раненого полковника Нотару.
— Сволочи, — ругался Нотара, — обе ноги мне прострелили. Что стоите, несите немедленно в лазарет. Да поживее!
Солдаты подняли полковника и понесли.
— Живее, мерзавцы, живее, — не переставал ругаться полковник. — Ах, подлецы, на виселицу вас всех! Я с вами еще не так поговорю…
— Замолчи, если не хочешь получить пулю в лоб, — сказали ему возмущенные солдаты. Но офицер не унимался.
— А ну его к черту, ребята! Он нас и за людей–то не считает!
Солдаты вернулись к пристани. Раздалось несколько выстрелов, труп полковника был выброшен в море».
Кто документально засвидетельствовал писателю Кардашеву, что полковник ругал солдат, непонятно. Рассказать об этом могли только сами обиженные солдаты. Никто не знает, ругал ли полковник Нотара солдат, которые несли его на руках, или нет, но то, что они вдруг передумали его нести (да и несли ли вообще на руках эти «добрые» солдаты!) и тут же пристрелили, — это факт. Но почему убийство офицера — это благо и заслуженная кара, а суд и заслуженное наказание убийц — высшая несправедливость? Вполне допускаю, что раненый офицер от боли и отчаяния действительно мог материться, но это ли повод для его зверского убийства? Ответа на эти вопросы мне до сих пор не дал никто.
Тем временем на помощь мятежникам из Гельсингфорса прибыл отряд финских боевиков численностью в сто человек. Но задержаться в Свеаборге, в котором стало уже небезопасно, финны не захотели. Вскрыв склады, боевики вооружились винтовками и револьверами и вместе с матросами направились обратно в Гельсингфорс, чтобы попытать счастья там. Захват Гельсингфорса был одной из главных задач свеаборгского мятежа. Именно на этом настаивали, как социал–демократы, так и эсеры. Свеаборг Свеаборгом, но захват столицы Финляндии имел бы всемирный резонанс и навсегда бы прославил руководителей этой акции.
Мятежники быстро дошли до моста, соединявшего полуостров Скатуддек с городом, но там их уже ожидали пехота и казаки. Разумеется, мятежники не были готовы к настоящему бою. Со стороны правительственных войск еще не было сделано ни одного выстрела, когда среди повстанцев началась паника, и они разбежались. Первыми, кстати, дали деру храбрые финны. Так бездарно и позорно провалился задуманный поход на Гельсингфорс.
Историк С. Найда, стараясь, хоть как–то обелить струсивших революционеров, пишет: «Более же смелые и решительные матросы вместе с красногвардейцами обходным путем пробрались в город в расположение красногвардейских частей и переоделись в гражданское платье. Часть матросов так и осталась в городе». Говоря другими словами, самые умные и дальновидные, поняв, что из мятежа ничего путного не выйдет, предпочли вовремя переодеться и спрятаться.
Впрочем, около двухсот человек еще не теряли надежды на победу. В ночь с 18 на 19 июля этот отряд на пароходе переправился на Михайловский остров и соединился с восставшими солдатами.
18 июля матросы и боевики в Гельсингфорсе вступили в перестрелку с отрядами правительственных войск и местным ополчением. Разумеется, что и в этом случае мятежники долго не сопротивлялись. Среди них снова началась паника, и они начали бросать оружие и сдаваться. Небольшая часть сумела скрыться в лесах. Их выловили спустя несколько дней.
Тем временем в самом Свеаборге 18 и 19 июля продолжались бои. Шла ожесточенная артиллерийская и ружейно–пулеметная перестрелка. С обеих сторон были убитые и много раненых. Среди мятежников росла растерянность. Теперь даже самым «сознательным» было очевидно, что мятеж обречен.
С. Найда, критикуя повстанцев за пассивность, пишет: «Переход к наступлению днем 18 июля обеспечил бы восставшим захват Комендантского острова, а это в свою очередь облегчило бы соединение свеаборжцев с восставшими матросами на полуострове Скатудден. Правительственные войска в Свеаборге были бы изолированы, а революционным войскам был бы открыт путь в Гельсингфорс, где их поддержали бы 25 000 красногвардейцев и рабочих. Это, безусловно, послужило бы толчком к восстанию в других воинских частях, расположенных в Финляндии. Между тем восставшие ждали, когда восстанут флот и войска в других местах. Правительство же, использовав эту пассивность и промедление, быстро стянуло войска и флот для подавления восстания». Увы, мечты историка и реальность не имели ничего общего. О каком наступлении вообще можно говорить, когда в Свеаборге к этому времени царила полная анархия и растерянность! Эйфория вседозволенности и упоения мнимой свободы давно прошла, и теперь все мечтали лишь об одном — как бы остаться в живых. Никто никого уже не слушал. Большинство проклинало зачинщиков мятежа и пряталось от снарядов в бункерах.
19 июля друзья демократы Емельянов и Коханский решились хоть как–то навести порядок. Ободряя солдат и матросов, они открыли огонь из 11–дюймовых орудий, стремясь разрушить все здания на Комендантском острове и лишить пехоту возможности укрыться там от пулеметного огня, с Инженерного и Артиллерийского островов, а затем, если повезет, выбить и пехоту с Комендантского острова. Но бомбардировка вызвала яростный ответный огонь правительственных батарей. Получив достойный отпор, Емельянов и Коханский быстро прекратили обстрел.
В поисках выхода из создавшейся ситуации подпоручики предложили захваченному в плен в начале восстания начальнику артиллерии генерал–майору Агееву написать письмо коменданту крепости с требованием сдаться восставшим. Агеев писать о сдаче отказался, но письмо все же написал, говоря о возможности переговоров.
Письмо генерала отправили и начало перемирия для переговоров назначили на 2 часа дня. Каждая из сторон при этом преследовала свои цели. Емельянов и Коханский хотели за это время хоть как–то привести в чувство свое приунывшее воинство. Командование крепости ждало подхода эскадры. Но перемирия не получилось, не выдержав напряжения и заподозрив обман, подпоручики нарушили его, снова открыв ураганный огонь по практически беззащитной пехоте. Генерал Лапминг держался из последних сил. Мятежники опять было приободрились, но именно в это время в море показались дымы эскадры. Одновременно на помощь правительственным войскам подошло сразу несколько пехотных полков, пулеметные роты и полевая артиллерия. Ну а дальше произошло то, что и должно было произойти.
Предоставим слово историку С. Найде: «Около полудня от неосторожной стрельбы на Михайловском острове взорвался пороховой погреб, в котором было свыше трех тысяч пудов пороха. Этот взрыв повлек за собой взрыв приготовленных к стрельбе снарядов. Было ранено и убито до 60 артиллеристов, в результате чего несколько тяжелых орудий лишились прислуги. Осколком снаряда, разорвавшегося во время взрыва, был ранен подпоручик Емельянов. Рана Емельянова была не слишком серьезной, но более участия в руководстве мятежом он уже не принимал. Кроме того, у восставших было на исходе продовольствие. Беспрерывные бои 18 и 19 июля изнурили людей. Кое–где на исходе был боезапас, а доставить его из других мест было чрезвычайно трудно, а часто и просто невозможно. Было много убитых и еще больше раненых, последним не оказывалось никакой помощи, так каку восставших не было ни врачей, ни медикаментов. От отправки раненых на шлюпках в город пришлось отказаться, так как пехота расстреливала шлюпки. Гражданских врачей, изъявивших желание помочь раненым, гельсингфорские власти не пустили в район восстания. Однако восставшие верили в своих руководителей и в то, что флот придет им на помощь, и продолжали борьбу. Увидев приближающиеся корабли, они радостно приветствовали их, решив, что флот восстал и спешит к ним на помощь».
А к крепости тем временем уже подходили линейные корабли «Слава», «Цесаревич» и крейсер «Богатырь». Впоследствии немало писалось, что их команды тоже якобы были готовы к мятежу. Да, восставшие ждали эскадру и, прежде всего, как было предусмотрено планом, они ждали прихода восставшего крейсера «Память Азова». Но «Память Азова» на горизонте так и не появился. К этому времени на нем все было уже кончено. Это значило, что на флоте мятеж полностью провалился. Подошедшие же к Свеаборгу корабли были укомплектованы ветеранами русско–японской войны. Это были опытные и преданные власти команды. Помимо этого, перед выходом в море все матросы, в которых у командования имелись хоть какие–то сомнения, были списаны на берег. На всякий случай увеличили количество офицеров, были привлечены и гардемарины — выпускники Морского корпуса.
Дойдя до маяка Грохару, отряд кораблей остановился и произвел несколько предупредительных холостых выстрелов, которые мятежники почему–то приняли их за салют революционных кораблей. Однако вскоре наступило отрезвление. С подходом эскадры даже самым твердолобым стало ясно, что мятеж подошел к своему логическому концу. Теперь оставалось только спасаться и разбегаться.
Пытаясь спастись, подпоручик Коханский с группой солдат, артиллеристов и матросов хотел проскочить мимо кораблей на крепостном пароходе «Выстрел» и уйти в Швецию. Но это не удалось — пароход был остановлен, а мятежники захвачены в плен. При аресте они даже не пытались сопротивляться и сразу дружно выдали Коханского, указав на него, как на своего вожака.
Около 6 часов вечера корабли открыли огонь по крепости, стреляя с дальних дистанций. Крепостная артиллерия мятежников несколько минут пыталась отвечать, но потом замолчала. Обстрел островов, занятых восставшими, продолжался с моря и с суши до 9 вечера. За это время было выпущено около четырехсот 12– и 6–дюймовых снарядов, которые произвели серьезные разрушения. Одновременно с обстрелом под прикрытием артиллерии на Лагерный остров высадился лейб–гвардии Финляндский полк, а в других местах — пулеметные роты и полевая артиллерия, прибывшие вечером 19 июля из Петербурга.
В среде мятежников уже царил полный разброд. Эсеры поставили было вопрос о взрыве огромных пироксилиновых складов на острове Договорном, но их предложение было отвергнуто. Идея взорвать склады казалась заманчивой, так как взрывом могли быть уничтожены постройки и укрепления Комендантского острова, где находился штаб правительственных войск. Но этот взрыв уничтожил бы строения и укрепления находившегося в руках восставших Александровского острова, разрушил бы строения Скатуддена и прибрежной части Гельсингфорса и повлек бы неминуемые жертвы среди самих мятежников.
На рассвете 20 июля корабли и сухопутная артиллерия возобновили бомбардировку занятых восставшими островов. Одновременно началось наступление пехоты. Часть мятежников какое–то время еще вяло отстреливалась. Раненый Емельянов собрал рано утром 20 июля военный совет и потребовал сложить оружие.
Немедленно после решения военного совета на Михайловском острове был поднят белый флаг. Вслед за Михайловским островом белые флаги взвились на других островах, занятых мятежными солдатами, матросами и финскими боевиками.
Одновременно часть восставших попыталась бежать в море на лодках. Некоторые из них хотели переправиться на берег, а некоторые решили шхерами ночью уйти в Швецию. Началась охота за уходившими лодками, в результате много лодок было потоплено. И только немногие достигли берега и укрылись в Финляндии, либо пробрались в Швецию. В крепости тем временем шел арест сдавшихся. Раненых отправляли в госпитали, здоровых — в тюрьму.
Всего в Свеаборге восстали солдаты 9 артиллерийских рот крепостной артиллерии, лабораторная и рабочая команды. На стороне правительства осталось примерно столько же частей, в их числе — две артиллерийские роты, все пехотные роты и… рота крепостных минеров. Это поразительно: ведь именно с винной претензии минеров и началась вся свеаборгская буча. Но в отличие от крепостных артиллеристов, минеры вовремя поняли, что играют с огнем, и отработали назад. Более того, «замаливая» свои грехи, они стали самыми активными борцами с мятежниками. Из приказа по Свеаборгскому гарнизону № 198 от 17 июля 1906 года: «Крепостная минная рота судовыми своими средствами и в качестве гребцов способствовала быстрому занятию острова Михайловского, где находилось главное гнездо мятежников; минная рота и до сего времени принимает участие в обследовании ближайших к крепости островов». Что ж, в жизни бывает и так.
Всю вину за поражение восстания в Свеаборге эсеры возложили на «предателей» эсдеков, а социал–демократы, разумеется, во всем обвинили эсеров и своих оппонентов по внутрипартийным делам — меньшевиков. Из официальной истории революции 1905 года: «Оппортунистическое руководство Финской социал–демократической партии нанесло удар в спину восставшим. Оно отказалось начать всеобщую забастовку. Под нажимом масс им пришлось все же объявить начало всеобщей стачки, но сделали они это на третий день восстания, когда было слишком поздно. Но Красная гвардия, объединяющая лучшую часть финского пролетариата, с оружием в руках выступила на стороне восставших. Им удалось взорвать мост на железной дороге Гельсингфорс — Петербург, отстрочив присылку правительственных войск. Финские белогвардейцы также активно выступили, но на стороне властей. Им удалось подавить забастовку вожатых трамваев. Но противостояния с Красной гвардией эти банды не выдерживали и отыгрывались на безоружных рабочих».
Ожидая суда, арестованные мятежники прислали в газету социал–демократов «Казарма» ругательное письмо: «Из–за тюремной решетки. Флот, на который мы возлагали столько надежд, оказался для нас предателем. Дела шли у нас хорошо, и мы не думали сдаваться. Три острова были организованы отлично — Инженерный, Александровский и Михайловский, — они–то и начали действие. Комендант, видя свое плохое положение, вытребовал на помощь 2 роты 2–го Финляндского стрелкового полка. Эти роты были против нас. Но это ничего! Мы бы выгнали их из крепости артиллерийским огнем. Мы открыли огонь из всех почти орудий, и дело клонилось к хорошему, но вдруг взорвался пороховой погреб, 3400 пудов пороху. Убило много борцов, но и это ничего. Затем разнесся слух, что пришел флот. А флот, подойдя поближе, открыл огонь по Михайловскому и Александровскому островам. Сопротивление с нашей стороны, конечно, было немыслимо при таких условиях. Мы стали сдаваться. Флот изменил потому, что на этих судах мало было матросов, их заменили кадеты (на „Славе“ и „Цесаревиче“), а свеаборгская пехота отличалась больше, чем семеновцы во главе с Риманом и Мином. Она стреляла в нас без промаха, стараясь как можно больше убить, и когда артиллерия сдалась, то обращение их с нами было самое подлое: наши сундучки все были поломаны и вещи, сапоги, белье, деньги, одним словом, все хорошие вещи были расхищены пехотой. Чайники поколоты штыками. Суд над нами будет строгий. но мы не боимся этого суда. У нас семь лучших товарищей. расстреляны».
Письмо удивительное! «Убило много борцов, но. это ничего»!? Зато несколькими строками ниже автор сокрушается по поводу поломанных сундучков и проколотых штыками чайников!?
Из этого письма совершенно ясно и то, что основные надежды свеаборгские мятежники возлагали на корабли Балтийского флота, и прежде всего на «запал» всего флотского мятежа — «Память Азова». Но они его так и не дождались.
Всего по делу о восстании в Свеаборге к суду было привлечено 694 человека артиллеристов и до 300 солдат других родов оружия: минеров, саперов, технической команды и т. п. По делу о восстании на полуострове Скатудден — 98 матросов и других лиц. Часть руководителей мятежа на полуострове Скатудден, как Михеев, Гончаренко, Приходько, Петров, Поплавский, скрылась от ареста и суда.
В начале августа в Свеаборге началось заседание Временного военного суда. Первым разбиралось дело артиллеристов. К смертной казни суд приговорил 22 человека, в том числе и руководителей мятежа — подпоручиков Емельянова и Коханского, фейерверкеров Детинина, Иванова, Виноградова и Герасимова. Руководителей расстреляли 10 августа, остальных — через несколько дней. К каторге на срок от 12 до 15 лет было приговорено 33 человека и 33 — к отдаче в арестантские отделения. Солдат минной роты, из числа принявших участие в восстании, судили во вторую очередь. По приговору суда, вынесенному 9 сентября, 4 человека были приговорены к смертной казни, 23 — к каторге, из них 5 — к бессрочной и 8 на срок от 15 до 20 лет, и 92 — в арестантские отделения на срок от 3 до 6 лет. Приговор над осужденными к смертной казни минерами был приведен в исполнение 12 сентября.
Матросов, участников восстания на полуострове Скатудден, судили также в августе, но отдельно от солдат. По приговору Временного военного суда, вынесенному 1 сентября 1906 года, 17 человек было присуждено к расстрелу, 53 человека к каторге, из них 7 — к бессрочной, и 18 — в исправительные арестантские отделения на срок от 5 до 6 лет. Приговор над осужденными к расстрелу матросами был приведен в исполнение 5 сентября. Артиллеристов, так же как и матросов, расстреливали свои же товарищи–артиллеристы. Отказов от участия в расстрелах не было.
В сентябре Кронштадтский военно–морской суд дополнительно разбирал дело 25 матросов, участников восстания на полуострове Скатудден. По приговору суда 1 человек был осужден на каторгу и 24 — в дисциплинарный батальон «без освобождения от телесного наказания». Эти, как говорится, отделались лишь испугом.
Большевистский «Вестник казармы» № 7 написал о подавлении свеаборгского мятежа так: «Царское правительство убило этих лучших сынов России по всем правилам искусства, „по уставу“, даже с барабанным боем, чтобы заглушить последние слова крамольников… Не для наград, не для крестов, не для денег, не из–за личных выгод и желания „отличиться“ шли они в бой с народным врагом — царским правительством. Нет! Они встали и погибли за ваше же собственное дело, солдаты и матросы! Они умерли за интересы рабочего класса и крестьянства».
На этом «героическое» восстание в Свеаборге закончилось, но не закончилось на Балтийском флоте. В запасе у революционеров оставался их последний козырь — Кронштадт. Держать его в рукаве больше не имело смысла, и Кронштадт также был брошен в топку догорающей революции.
Кронштадтская вакханалия
В неразрывной связи с восстанием в Свеаборге и на полуострове Скатудден был и последующий мятеж в Кронштадте. К моменту восстания в Свеаборге Кронштадт находился уже на военном положении. В гарнизоне города числилось до 25 тысяч матросов и солдат. Охватить такую массу матросов и солдат революционным влиянием было чрезвычайно трудно, тем более что в гарнизоне каждый человек был на виду, особенно же чужой. Как всегда, мешала подготовке и всегдашняя конкуренция эсдеков с эсерами.
Социалист Д.З. Мануильский (обладатель уникальных и красноречивых партийных псевдонимов «Фома Неверующий» и «Иван Безграмотный») в своих воспоминаниях так рассказывает о работе социал–демократов в Кронштадте в период подготовки восстания: «…С рядом воинских частей у нас были очень слабые связи, в частности с пехотой. Наилучшая связь была с минной ротой и моряками. Работа парторганизации особенно активной стала с весны 1906 г. Митинги по праздникам, сначала в Ораниенбауме, затем в Сестрорецке, собирали по нескольку сот участников. Из работников того времени могу назвать: студента Михаила Климновского, умершего в городе Остроге, бывшей Волынской губернии, студента медика Алексея Носкова, почтового чиновника Козенкраниуса, квартира которого служила главным образом для явок и свиданий, убитого в 1908 году при вооруженном сопротивлении в Новгородской губернии. Из военных работников могу назвать товарища под кличкой „Гражданин“, который находится в эмиграции в Южной Америке. Затем провокатора по кличке „Арсеньев“, провалившего организацию. Из военных особенно активную роль играл унтер–офицер минной роты Иванов, по кличке „Борис“. С военной организацией от имени Кронштадтского комитета РСДРП большевиков поддерживал связь Мануильский (о себе автор пишет в третьем лице. — В.Ш.), кличка „Фома“».
Накануне июльского восстания партийной организации, как и в мае 1906 года, был нанесен удар. В ночь на 9 июля был арестован почти весь актив как военной, так и рабочей организации РСДРП. Но работа продолжалась. Уцелела часть руководящего актива Кронштадтской организации, а также «уцелели после провала члены Петербургского комитета от Кронштадтской организации т. Мануильский и т. Егор Канопул, расстрелянный после восстания на форту „Константин“. Вскоре после этого на работу прибыли новые товарищи: товарищ под кличкой „Ванька Каин“, впоследствии оказавшийся меньшевиком, и Атабеков, а также, уже когда я сидел в тюрьме, т. Попов, убитый впоследствии в империалистической войне…»
Итак, большевики продолжали готовить восстание, несмотря на аресты, и продолжали вести борьбу против эсеров, которые, не считаясь с обстановкой в стране, со степенью подготовки масс к восстанию, провоцировали преждевременное выступление. Да и что можно ожидать хорошего, когда тобой руководят «Иван Безграмотный» да «Ванька Каин»!
В июне 1906 года срок службы матросов был уменьшен с 7 лет до 5, значительно были увеличены и без того неплохие нормы довольствия. Эти меры вызвали вполне понятную радость среди матросов и во многом способствовали резкому снижению их революционной активности. Поэтому планирование мятежа в Кронштадте в начале июля вполне объяснимо. Если бы его назначили на более поздний срок, обрадованные существенным снижением срока службы и улучшением своего быта матросы революционеров просто бы не поддержали. Из воспоминаний Л.А. Ленцера: «В начале июня мы узнали, что правительство решило сократить срок службы для нижних чинов флота с семи лет до пяти. Таким образом, перепуганное самодержавие решило избавиться от своих самых опасных врагов во флоте. В результате этого мероприятия в Кронштадте увольнялось в запас около четырех тысяч матросов. Приказ о сокращении срока службы во флоте ударил и по Кронштадтской организации большевиков, так как много опытных подпольщиков и рядовых членов организации должны были уйти в запас не только из экипажей, но и с кораблей». И все этим революционерам не так: и большой срок службы матросов — плохо, и малый тоже плохо. Что же им хорошо, в конце концов?
Почти в каждой роте были созданы боевые дружины, достигавшие порой до 100 человек. Заманивали в свои сети матросов революционные активисты со знанием дела. Из воспоминаний Л.А. Ленцера: «После короткого митинга дружинники пригласили гостей к берегу. Здесь на большой поляне на газетах было разложено угощение, стояли бутылки с вином, стаканы и кружки. Дружинники усаживали на землю окончательно изумленных гостей. Шумное матросское веселье понеслось над поляной и волнами залива».
Кандидат исторических наук В. А. Краснояров так написал об особенностях Кронштадтского мятежа 1906 года: «Весной 1906 года была создана Кронштадтская социал–демократическая партийная организация. В мае в Кронштадт прибыл Мануильский Д. З. Под непосредственным руководством Петербургского комитета и в контакте с военными организациями Финляндии и Прибалтики большевики, воссоздав Кронштадтскую военную организацию в несколько сот человек, развернули подготовку к вооруженному восстанию. Однако наличие в городе организаций других революционных партий внесло коренное изменение в ход предполагаемых событий. 18 июля стало известно о восстании в Свеаборге, которое началось ранее намеченного срока. Эсеры, активно действовавшие в Кронштадте, выступили за немедленное восстание; большевики были против этого, т.к. подготовка восстания еще не была завершена. Несмотря на это, утром 19 июля, эсеры ультимативно заявили: „Присоединяйтесь к нам; если не присоединитесь, то мы начнем одни“. Когда стало ясно, что удержать массы невозможно, большевики, по указанию Петербургского комитета, попытались возглавить выступление матросов и солдат, стремясь придать ему организованный характер. Утром 19 июля состоялось гарнизонное собрание представителей воинских частей и рабочих организаций. Большевики и на этом собрании высказались против немедленного вооруженного восстания. Выступивший Мануильский Д. З. заявил: „Если действительно вспыхнет Россия, тогда, но только тогда, мы присоединимся. Не нам начинать, а народу. Нам надо стать на сторону народа. Надо сначала создать общероссийский центр для руководства восстанием и тогда в общем движении найдется место и Кронштадту“. Неопределенность в рядах большевиков позволила доминировать эсерам. Они имели план восстания, который и был положен в основу дальнейших действий».
Утром 18 июля в Кронштадте из официальных телеграмм стало известно о восстании в Свеаборге. В этот же день около часа дня была получена условная телеграмма из Гельсингфорса о восстании в Свеаборге и на флоте. Поздно вечером эсеры собрали нелегальное заседание, в котором приняли участие некоторые представители воинских частей и рабочих. Влияние социал–демократов было большим у крепостных минеров, саперов. Эсеры первенствовали в матросских казармах. Заседание было созвано эсерами якобы, с целью выработать окончательное решение о выступлении. Но, просидев до четырех часов утра, собравшиеся так и не пришли к определенному решению. Уже из этого факта можно заключить, что эсеры явно боялись выступления, так как уже не верили в его успех. Не лучше была ситуация и у конкурентов.
В тех же воспоминаниях Мануильский рассказывает: «Большевики до самого последнего момента были против восстания. Только 19–го утром Петербургский комитет при участии представителя ЦК, ввиду происшедшего перед тем Свеаборгского восстания, дал директиву принять участие в восстании. Директива Петербургского комитета была немедленно передана воинским частям и была встречена весьма сочувственно».
Таким образом, после получения указания от ЦК о необходимости возглавить восстание, большевики сделали все возможное, чтобы придать восстанию организованный характер.
«Рассуждать, спорить, критиковать было некогда, — писали кронштадтские социал–демократы об этих днях в своей прокламации после восстания. — Что можно было сделать для поддержания товарищей, то было сделано. Но времени было мало: многих матросов мы просто физически не успели известить, другие приняли наши призывы холодно и недоверчиво; ведь ничего не было подготовлено, ведь мы накануне доказывали неразумность такого шага».
С прибытием из Петербурга представителей ЦК, привезших директиву о восстании, большевики начали извещать своих людей, готовить их к бою, наскоро уточнять, корректировать на местах план выступления.
В Кронштадте утром 19 июля на конспиративной квартире состоялось расширенное совещание представителей воинских частей и военно–боевых рабочих организаций. На совещании, как обычно, вдрызг переругались эсдеки с эсерами: и те и другие обвиняли соперников в предательстве дела революции. После долгих споров все же решили мятеж поднимать.
Согласно плану, восстание должно было начаться в 23 часа 19 июля по условному сигналу: три пушечных выстрела, либо, если сигналов не последует, то просто в установленное время. Мятежники должны были захватить оружие, обезвредить офицеров, а потом поднять на восстание весь гарнизон и флот. Провоцируя немедленное восстание, кто–то пустил слух о том, что флот уже восстал и что к 12 часам ночи флот будет у Кронштадта в распоряжении восставших. Впоследствии эсдеки обвинили в распространении этого слуха эсеров, а те, в свою очередь, эсдеков. На самом деле пустить слух могли и те и другие, так как обман наивных солдат и матросов в начале восстания был старым и испытанным средством поднятия боевого духа и решительности.
Поразительно, что пустив слух о приближении к Кронштадту революционного флота, руководители мятежа затем сами в него поверили! Фантазии их не было предела. Они уже составляли указания, что флот двинется в Невскую губу и начнет обстрел столицы и окружавший ее фортов.
Обстрел флотом Петербурга должен был вызвать выступление рабочих, после чего предполагалось уже захватить и сам Петербург. При этом составленный план даже не предполагал, что противная сторона будет хоть как–то противодействовать.
Матросы 1–й дивизии должны были поднять на выступление солдат Енисейского пехотного полка. К этому времени на гауптвахте полка сидело уже четыре сотни арестованных матросов — авангард будущего мятежа.
Позднее будут писать, что все они были бойцами революции. На самом же деле это были заурядные нарушители воинской дисциплины: пьяницы, самовольщики, воры, хулиганьe, т.е. откровенный местный люмпен, отбывавший срок за свои прегрешения перед законом и моралью. На эту шпану был расчет особый. Как «испытанные враги царизма», пьяницы и хулиганы должны были напасть на караул, обезоружить его, а потом уже силой кулаков и оружия выгнать солдат Енисейского полка на улицы захватывать арсенал и оружейные склады, громить почту, телеграф и полицейские участки, грабить банк и попавшиеся по дороге лавки.
Матросы 2–й дивизии во главе с матросом Егоровым должны были высадить десант на кронштадтские форты и захватить их.
Членов повстанческого комитета раздражало, что на стоявшие в гавани корабли — крейсер «Громовой», броненосец «Император Александр II» и учебный корабль «Океан» — у них не было никакого влияния. Но они утешали себя тем, что корабельные матросы и сами к ним примкнут, когда увидят, что повстанцы берут верх.
Но сохранить в тайне подготовку к мятежу все же не удалось. Было ли это целенаправленное предательство или кто–то просто проболтался, в точности не известно, но факт остается фактом.
11 июня 1906 года министр внутренних дел Столыпин обратился к морскому министру адмиралу Бирилеву с письмом: «В Министерстве внутренних дел… получены сведения, в среде матросов Кронштадтского порта готовится возмущение и матросы ведут переговоры с сухопутными нижними чинами относительно присоединения их к бунтовщикам, но в среде последних замысел этот мало встречает сочувствия: со стороны же рабочих ожидается полное присоединение к восставшим».
15 июня 1906 года Столыпин прислал еще одну записку адмиралу Бирилеву. Морской министр дал «соответствующие указания и приказания».
Предупредительные распоряжения были даны коменданту крепости и командирам частей. Еще накануне 19 июля была приведена в боевую готовность и полиция. Однако, как это обычно бывает, большинство начальников ограничилось лишь формальными мероприятиями и бодрыми докладами наверх.
С момента окончания первого мятежа в Кронштадте командование находилось в весьма нервном состоянии, видя в каждом заурядном происшествии начало нового бунта. Из заявления главного командира Кронштадта вице–адмирала К. П. Никонова: «2 апреля с.г. на Павловской ул. произошла самая обыкновенная драка между несколькими матросами из–за проституток, которая, тем не менее была принята комендантом крепости за безусловный бунт».
Любопытно, что самую точную информацию о времени начала мятежа дала властям именно хозяйка публичного дома «Золотой корабль», что располагался на улице Нарвской. Рано утром к ней забежали два матроса и предупредили, что в 19 июля будет бунт, и матросы придут брать ее девочек даром. Испуганная бандерша тут же позвонила кронштадтскому полицмейстеру Садовскому. Тот обещал помочь…
Мятеж начался 24 часа, в установленный срок. Оговоримся сразу, что из всех военных мятежей, этот был самым организованным и подготовленным, а потому и самым опасным. Почти одновременно выступили минеры, саперы, солдаты электроминной роты и матросы двух флотских дивизий. Но затем, как следовало ожидать, эсдеки и эсеры начали тянуть одеяло на себя.
Историк партии эсеров М. И. Леонов пишет: «О восстании в Свеаборге в Кронштадте узнали из утренних газет 18 июля. В середине дня пришла телеграмма из Гельсингфорса „Отец болен, нужны деньги“, означавшая, что восставший флот якобы идет к Кронштадту. По предварительному договору, о чем речь шла выше, это должна была быть третья условленная телеграмма. Эсеры много и оживленно дебатировали, кто и почему нарушил уговор? Высказывались мнения о случайности, о провокации. Не остались в стороне и исследователи. Что произошло на самом деле, пока не ясно.
Поздно вечером 18 июля на квартире Ю. Зубилевич состоялось экстренное собрание, на которое пришли представители только от некоторых частей. Договорились отложить решение до утра, а пока срочно собирать силы. В 8 часов утра 19 июля на той же квартире началось „огромное собрание“ представителей частей, приезжих. Присутствовали и совершенно неизвестные. Ф. М. Онипко ратовал за восстание. С. Ф. Михалевич доложил, что он нашел–таки ЦК РСДРП, где ему обещали — в случае восстания — поддержку социал–демократов Кронштадта, до последнего времени противников активных выступлений. Правда, 8–9 июля почти вся кронштадтская военная организация РСДРП была арестована. Восстание назначили на 11 часов вечера 19 июля.
Хотя на собрании сообщали самые благоприятные вести, не все у революционеров обстояло ладно. Енисейский полк, на который так надеялись, уже не хотел восставать, колебались артиллеристы, не были доставлены револьверы, бомбы, гранаты; до последнего часа корректировался план действий. Основная масса восставших — матросы — осталась без оружия.
Безумно храбрые люди выступили, как и намечали, в 23 часа. Матросы, по давней традиции, перед боем переоделись во все чистое. Восстание с первых минут пошло не по плану, раздробилось; изолированно действовали несколько отрядов, во главе которых шли эсеры Недотрогин, Т. Герасимов, Н. Егоров, Н. Светлов. С моряками 1–й дивизии шли Онипко и Зубилевич».
В начале мятежа дружинники предварительно сняли со своих бескозырок ленточки, чтобы их нельзя было опознать. Мятежники не останавливались перед тем, чтобы убивать тех, кто отказывался примкнуть к мятежу или не выполнял их требования. Из воспоминаний Л. А. Ленцера: «У ворот дежурил богатырь–стрелок Ильин, который свободно поднимал одной рукой шесть пудов. Когда отряд Бакланова подошел к воротам, Ильин отказался выпустить дружинников на улицу. На решительное требование Бакланова Ильин ответил грубой бранью и бросился на него с винтовкой, но был убит дружинниками».
Активный участник мятежа Л. А. Ленцер хвастался впоследствии своими «подвигами»: «Из экипажной канцелярии, находившейся на втором этаже, вышел во двор и подошел к нам дежурный офицер капитан 2–го ранга Фонтон–де–Веррайон. Поднявшись на табуретку, неизвестно как оказавшуюся здесь, он громко произнес:
— Братцы, опомнитесь! Вы напрасно губите свою молодую жизнь за деньги, которыми подкуплены ваши вожаки.
Его слова потонули в шуме возмущения матросов. Не раздумывая и не целясь, я выстрелил в него и тяжело ранил в правое плечо. Двое матросов, очевидно переодетые фельдфебели, подхватили и унесли его в экипажную канцелярию, где, как потом оказалось, находился экипажный врач. Суду и охранке так и не удалось установить, кто стрелял в него».
Из хроники мятежа: «Главари восстания входили в казармы, тушили лампы там, где они еще горели, будили спящих и звали на улицы. На любителей „порядка и тишины“ действовали угрозой и даже силой. У дверей казармы поставили специальные караулы, дабы не пропускать никого обратно». Называя вещи своими именами, боевики просто силой выгоняли матросов на улицы, избивая упорствующих. Обещали все что угодно: землю, демобилизацию, дармовую водку в лавках и бесплатных проституток. Обещали все, лишь бы вывести толпу на улицу. А там уж будет видно.
В силу разногласий эсдеков и эсеров сразу же началось выяснение отношений и даже драки между матросами, сторонниками различных политических партий. Между тем минеры, заперев своих офицеров в сарае, уже шли поднимать саперов. Без всякого сопротивления они заняли форт «Литке», обезоружили пехотный караул в минном городке, захватив патроны. Здесь мятежникам оказали сопротивление и были убиты полковник Александров и капитан Ворочинский. Другие офицеры были избиты. После этого мятежники направились к форту «Константин».
Там тоже никакого сопротивления оказано не было, и форт был быстро захвачен. Но офицеры успели известить по телефону командование о мятеже в форту. А два крепостных пехотных батальона сразу же выгнали агитаторов и наотрез отказались участвовать в мятеже.
Возглавлявшие минеров и саперов революционеры тут же пытались заставить артиллеристов открыть огонь по улицам Кронштадта. Но те отказались наотрез, а потом и вообще отказались от участия в мятеже. А чтобы мятежники не могли воспользоваться их орудиями, вывели их из строя. Впрочем, минеры все же раздобыли заряды к 57–мм пушке и сделали один выстрел по городу. На счастье, снаряд разорвался на городском кронштадтском кладбище, никого не убив. Совершенно непонятно, зачем мятежникам вообще было обстреливать городские кварталы. Запугать обывателей?
Одновременно начались убийства и в самом городе. Из хроники мятежа: «…К толпе подошел командир 5–го экипажа капитан 2–го ранга Добровольский. Он уговаривал опомниться и вернуться к присяге. Кто–то из толпы сказал: „Много вы нашей крови попили, теперь попьем вашей!“ Добровольский возвысил голос и один из матросов ударил его по лицу, остальные бросились на капитана и начали его бить. Некоторые каменьями. Вырвавшись из рук матросов, Добровольский бросился к 5–му экипажу, но упал и сильно застонал. По нему дали несколько выстрелов и стоны смолкли. Когда рассвело, матросы вынесли тело капитана за ворота на Павловскую улицу. По заключению врача, смерть Добровольского признана от ушибленно–разорванной раны левой половины груди и живота. После этого был заколот капитан 2–го ранга Шумов, более пяти десятка штыковых ран. Чудом остался жив герой Порт–Артура Георгиевский кавалер капитан 2–го ранга Криницкий. Он случайно попался навстречу толпе матросов. У офицера была возможность спрятаться в ближайшем подъезде, но он посчитал это не достойным. Смело выйдя перед толпой, герой войны призвал матросов разойтись по казармам, призывал к совести и долгу. Его зверски избили прикладами, сорвали погоны и поставил на расстрел. Но в это время вдалеке покажутся солдаты Енисейского полка и убийцы разбегутся. Увы, через 11 лет его сын лейтенант эсминца „Гайдамак“ будет убит матросами в Гельсингфорсе.
В 2 часа ночи 20 июля к форту „Константин“ подошли пехотные батальоны правительственных войск. Около 3 часов утра мятежникам передали ультиматум о сдаче. Форт не ответил. После этого начался обстрел форта из орудий и пулеметов. Мятежники отвечали ружейным огнем. Перестрелка с перерывами длилась больше часа. После этого среди мятежников в форте началась паника. Часть минеров и саперов бросились к пароходу „Минер“, на котором и пытались сбежать. Остальные подняли белый флаг и освободили офицеров. Затем в форт вошла пехота и аттестовала всех мятежников. Перехвачен был и пароход „Минер“.
Тем временем в Кронштадте группа матросов 1–й флотской дивизии разбила цейхгауз и захватила винтовки и патроны, арестовали офицеров. Затем все собрались на митинг во дворе, идти или не идти им поднимать Енисейский полк и захватывать город. Затем кто–то крикнул, что енисейцы предали революцию и уже идут подавлять мятеж. Опять начался митинг. Одни кричали, что надо идти убивать предателей, другие, что пока не поздно, надо кончать бузу. Во время митинга эсеры оттеснили эсдеков и стали во главе мятежной дивизии. Наконец матросы решили идти к казармам 2–й флотской дивизии, чтобы вместе решить, что делать дальше.
Во 2–й дивизии мятеж также началось в назначенное время. Вначале группа боевиков ворвалась в канцелярию. Оказавший сопротивление дежурный офицер был убит. Сняв посты, матросы взломали ящики с револьверами и патронами. Скоро во дворе собрались почти все матросы дивизии, но у большинства не было оружия. Оно было предусмотрительно вывезено. Так же, как и в 1–й дивизии, все собрались на митинг. Глава боевой группы эсдек матрос Егоров призывал к решительным действиям — идти захватывать форты, но многие побаивались.
Именно в это время во дворе казарм появились контр–адмирал Беклемишев и капитан 1–го ранга Родионов и начали отговаривать матросов от выступления. Выстрелами из толпы Родионов был убит, а Беклемишев тяжело ранен.
Капитан 1–го ранга Родионов был одним из лучших моряков отечественного флота. Командуя старым броненосным крейсером „Адмирал Нахимов“, он проделал весь многотрудный путь 2–й Тихоокеанской эскадры вице–адмирала Рожественского к Цусиме. Входя в состав 3–го броненосного отряда, в первый день сражения крейсер Родионова действовал вполне успешно, избежав серьезных повреждений. Однако к исходу 14 мая главные силы Тихоокеанской эскадры были разгромлены. С наступлением сумерек остатки эскадры рассеялись, пять кораблей шли с контр–адмиралом Небогатовым на норд, три с контр–адмиралом Энквистом на зюйд, остальные по одиночке следовали самостоятельно в разных направлениях. Среди пробивавшихся во Владивосток кораблей был и старый броненосный крейсер „Адмирал Нахимов“ под командой капитана 1–го ранга Родионова. В сумерках японцы предприняли массированные торпедные атаки своими миноносцами. Даже если бы все японские торпеды прошли мимо, то, все равно, главная цель ими была достигнута: русская эскадра прекратила свое существование как единая организованная сила. Первой жертвой этой ночи стал броненосный крейсер „Адмирал Нахимов“. Торпеда попала в носовую часть с правого борта вскоре после 20.00. Пробоина оказалась у второй водонепроницаемой переборки. Вода затопила таранное отделение, малярную, шкиперскую, водяной трюм, стала поступать в отделение носовых динамо–машин и погреба. Крейсер получил крен на правый борт около 9° и дифферент на нос. Чтобы уменьшить крен, стали перетаскивать уголь на левый борт. Спустя некоторое время корабль выровнялся, но продолжал садиться в воду. „Адмирал Нахимов“ выключил прожектора, уменьшил ход. Началась упорная работа по подведению на пробоину пластыря, подкреплению переборок. Командир решил идти к корейскому берегу, а затем вдоль него пройти до Владивостока. Плохо управляемый „Адмирал Нахимов“ менял курсы, уклоняясь от отрядов миноносцев, и к 1.30 15 мая вышел из района их действия. Около 2.00 взошла луна, и при ее свете стали ремонтировать катера и шлюпки и продолжали попытки подвести пластырь. Командир капитан 1–го ранга А. А. Родионов, видя безнадежное положение корабля, направил крейсер к показавшемуся на западе высокому берегу северной оконечности острова Цусима. В 5 милях от берега командир приказал остановить машины, не желая, чтобы корабль затонул на мелком месте и мог быть поднят впоследствии врагом. Шлюпок крейсера на всех не хватало, и офицеры в них не садились, уступая место матросам.
Корабельный священник отец Виталий бросился в воду в полном облачении с крестом и иконой. Командир и лейтенант В. В. Клочковский остались на тонущем крейсере и после его потопления длительное время находились в воде, пока не были спасены японскими рыбаками. 523 члена экипажа были приняты на подошедший вспомогательный крейсер „Садо-Мару“, 101 человек подошли на шлюпках к острову Цусима и высадились на берег. Согласно японскому описанию, старший лейтенант Инадзука прибыл на шлюпке на „Адмирала Нахимова“ и поднял на фок–мачте флаг страны Восходящего Солнца. Русские источники этот факт отрицают. „Адмирал Нахимов“ пошел ко дну около 8.00 15 мая. Снимая с тонущего крейсера людей, японцы не отказали себе в удовольствии, между делом, сорвать Андреевский флаг и поднять над „Адмиралом Нахимовым“ свой. Но ненадолго. Отправляясь восвояси, они впопыхах не заметили, что на крейсере остались двое людей, практически, обрекших себя на смерть: командир капитан 1–го ранга Родионов и старший штурман — лейтенант Клочковский. Оба офицера решили разделить судьбу родного крейсера. Но до того, как оказаться в холодной воде, командир и штурман выбрались из своего укрытия, незаметно пробрались на корму. Там они сорвали с флагштока и выбросили за борт японское белое полотнище с красным кругом и подняли флаг Андреевский… С ним и пошли ко дну. Так утром 15 мая 1905 года погиб броненосный крейсер „Адмирал Нахимов“. Тонущего Родионова спас староста маленькой рыбацкой деревни. Несколько дней командир крейсера провел у него, пока не был передан властям. В госпитале лагеря военнопленных Родионов быстро пошел на поправку, а спустя полгода после Цусимского боя он вместе с другими офицерами прибыл во Владивосток на пароходе „Киев“. После возвращения на родину герой Цусимы получил назначение в Кронштадт. Там его и застал мятеж».
Из исследования историка Виталия Гузанова: «Восстание готовилось социал–демократами и эсерами и началось в час „икс“ с захвата оружия 2–й дивизии, куда пришел служить после японского плена капитан 1–го ранга Александр Андреевич Родионов, зачинщикам отводилась роль диверсантов. На фортах об этом знали и с часу на час ждали помощи. Родионову 2–му доложили, что в канцелярию дивизии вероломно ворвалась буйная ватага матросов. Убили дежурного офицера, оказавшего сопротивление, взломали сейфы и металлические ящики, в которых хранились оружие и боеприпасы. Капитан 1–го ранга сообщил о ЧП контр–адмиралу Беклемишеву, вдвоем они пошли в казармы, где проходил митинг.
…Появившись в казарме, капитан 1–го ранга Родионов приказал построить матросов в одну шеренгу. Но его спокойный и даже несколько равнодушный голос утонул в выкриках. Родионов и Беклемишев видели, что на лицах матросов написана злоба. Офицеров передернуло. Повернуть назад — значит, проявить позорную слабость.
Александр Андреевич повторил свое приказание. Он, славно послуживший Отчизне, не мог стыдливо потупить взор, как человек, знавший за собой что–то дурное. Он нашел в себе силы остаться. Кто–то из митингующих крикнул:
— Офицеры без оружия! Бей их!
Призыв не смутил Родионова, он пошел к самодельной трибуне, сооруженной из двух столов, где ораторствовал очкарик в студенческой тужурке. Он шел, твердо ступая, и было во всей его фигуре что–то такое, чему нельзя было преградить дорогу. Матросы, разрывая круг, расступились, но вдруг — для всех неожиданно — раздался выстрел. Родионов побледнел, медленно качнулся и стал опускаться на грязный, затоптанный пол. Контр–адмирал Беклемишев кинулся на помощь, но его порывистое движение опередил второй выстрел. Несмотря на то, что матросы были сильно возбуждены, предательские выстрелы внесли в их ряды замешательство».
В этот момент подошли и мятежники 1–й дивизии. Возглавлявшие колонну эсеры, начали звать матросов 2–й дивизии к совместным действиям в городе. Против них тут же выступил социал–демократ Егоров и его окружение. Началась словесная перепалка. Пока революционеры ругались, матросы обеих дивизий самостоятельно двинулись в город. По дороге к ним присоединилась группа прибывших в город боевиков–эсеров. Боевики пытались возглавить шествие революционных матросских масс, но были посланы куда подальше.
Один из участников боевой дружины впоследствии так описывает этот момент: «Подготовка восстания была так плоха, что даже наша рабочая пружина не знала, что делать и на что употребить имевшиеся у нас бомбы. Было решено, что восстание начнется по сигналу, но условленных пушечных выстрелов никто не слышал. Между тем, неожиданно послышалась пальба в разных местах. На улицах показались растерянные группы матросов с винтовками и безоружные. Мы спрашивали их, а они нас — куда идти и что делать? Никто ничего определенного не знал, и узнать было негде. Циркулировали разнообразные слухи… Сообщили, что форт „Константин“ восстал, но тут же говорили обратное. А стрельба слышалась всюду. Один сообщил, что навстречу нам идут енисейцы для усмирения, другой передавал, что часть их отказалась стрелять, пристрелила офицеров. Неразбериха была невообразимая. Рабочие и часть матросов бросились строить баррикады».
По дороге матросы взломали несколько винных лавок. Этого оказалось достаточно, чтобы часть из них сразу же навсегда забыло о революции.
Часть матросов 2–й дивизии все же двинулась к енисейцам, чтобы усовестить их и присоединить к мятежу. По пути захватили городскую электростанцию. Затем дорогу матросской толпе перегородила 10–я рота Енисейского полка с ружьями на руку. Матросы начали кричать солдатам, чтобы шли с ними. В ответ раздался залп. И хотя мятежников было в десять раз больше, они сразу кинулись прочь. Но на соседней улице их снова встретили изготовившиеся к стрельбе две роты енисейцев. При приближении мятежников они также дали несколько залпов. Теперь матросы кинулись бежать в центр города.
К этому времени в Кронштадт уже вошел лейб–гвардейский Финляндский полк. Вскоре гвардейцы уже гнали прикладами и штыками перепившихся матросов 1–й дивизии. Одновременно начали движение к центру и енисейцы. Часть матросов сразу же начала сдаваться, другие бросились к Пороховому заводу, неподалеку от которого стоял броненосный крейсер «Громобой», чтобы поднять команду на мятеж, третьи побежали на Красную улицу к почте и телеграфу. Но ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. Команда крейсера, видя, что все уже кончено, отказалась примкнуть к мятежу. Более того, по команде «к орудиям» команда разбежалась по боевым постам в готовности отстрелять мятежников. Ротами Енисейского полка были уже заняты и почта с телеграфом.
Теперь финляндцы и енисейцы занимались тем, что вылавливали по всему Кронштадту разбежавшихся и прятавшихся мятежников. Сразу же исчезли, будто их и не было в городе, и боевая дружина, и агитаторы эсдеки с эсерами.
В 3 часа дня были заняты казармы обеих флотских дивизий. Начались массовые аресты. Всего было арестовано 2500 человек. По улицам патрулировали усиленные наряды полиции и солдат.
Из воспоминаний одного из вожаков Кронштадтского мятежа эсера матроса Николая Егорова: «В 10 часов в свободном помещении было собрано 50 человек самых решительных товарищей из трех экипажей, стоявших в нашем дворе (11–й, 16–й, 20–й). Им объявили о восстании, познакомили с общим планом действия и распределили между ними обязанности. Затем выбрали предводителя и разошлись по экипажам. Каждый представитель собрал свою команду и стал разъяснять, что должно произойти. Что тут было, сказать трудно!
Необыкновенное воодушевление охватило всех матросов. Лица загорелись победой и решимостью. Все заходило ходуном. Один матрос в безмерном восторге воскликнул:
— Наконец–то заря занимается. Скоро наступит день. Довольно мы походили в потемках. Не нужны нам прожекторы, они освещают нам путь гибели.
— Товарищи, — прервал я оратора, — времени остается не много, надо спешить, идем переодеваться.
В один миг весь двор покрылся матросами в темных фланелевых форменках. Пробило одиннадцать часов. Настало время действий. Назначенные заранее для захвата оружия люди выстроились во дворе с предводителем (этим предводителем был сам матрос Н. Егоров. — В.Ш.) в стройном порядке, двинулись со двора в канцелярию нашего экипажа. У входа в пирамидах стояли винтовки. Немного поодаль, у денежного ящика — часовой, а у окна с газетой сидел дежурный офицер Стояновский. Войти в помещение и схватить винтовки было делом одной минуты. С винтовкой в руках я подбежал к Стояновскому и прежде, чем он успел крикнуть, нанес ему несколько штыковых ран. Несмотря на раны, он подбежал вплотную к окну, очевидно, с намерением кричать о помощи, но еще несколько штыковых ударов положили его. Так погиб первый из встретившихся нам врагов».
Относительно Стояновского на суде матросы жалились, что «погорячились». Из объяснительной записки комендора Онуфриева: «Человек он (штабс–капитан Стояновский. — В.Ш.) был хороший и все к нему хорошо относились. Все мы его любили как отца родного».
«Пока мы расправлялись со Стояновским, — продолжает Н. Егоров, — другие взламывали ящики с патронами и револьверами. Разобрав патроны, мы по команде выстроились и зарядили винтовки. В полном порядке мы вышли на двор, где к нам начали пристраиваться безоружные. В это время к нам приблизился младший флагман 2–й дивизии контр–адмирал Беклемишев в сопровождении капитана 1–го ранга Родионова. Подойдя к нам, Беклемишев строго спросил о причине сборища и приказал немедленно разойтись по казармам. Не успел он кончить, как раздался револьверный выстрел, и пуля поразила обоих офицеров. Родионов повернулся назад, а Беклемишев сделал еще несколько шагов по направлению к коридору 2–го экипажа. Вслед им обоим разом раздалось несколько ружейных выстрелов, которыми Родионов был убит наповал, а Беклемишев серьезно ранен. Не дойдя до коридора, он повалился.
Между тем к воротам подошли матросы 1–й дивизии. Ворота были заперты на замок, ключ от которых находился у дежурного офицера. За ключом, впрочем, остановки не было. Один из товарищей ломом вырвал скобу и ворота, таким образом, были открыты.
Прибывшие стали кричать, чтобы мы немедля пристраивались к ним. По плану этого не должно было быть. Мы должны были захватить с собой машинистов, отправиться на катерах на форты. Поэтому очень удивились новому распоряжению и решили, что первоначальный план отменен, так как предводитель 1–й дивизии требовал подчинения. Было неудобно ослушаться еще и потому, что пререкания двух предводителей дурно бы подействовали на дисциплину.
Я скомандовал своему отряду строиться, и мы двинулись за первой дивизией на Широкую улицу, где и остановились.
— Что же дальше? Зачем нас привели сюда? — спрашивали матросы, видя, что на Широкой улице делать нам решительно нечего и что мы стоим без толку.
Видно было, что предводитель 1–й дивизии растерялся и сам хорошо не знал, что надо делать (этим предводителем был член Государственной думы эсер Онипко). Правда, что растеряться было немудрено: все надежды на получение оружия рухнули, так как предполагалось, что присоединившиеся енисейцы снабдят нас оружием, а они не только не восстали, но стояли в полной боевой готовности для усмирения. Однако, моему отряду надо было выполнить свое дело. Я подошел к предводителю 1–й дивизии и решительно потребовал объяснений относительно действий. Он, видимо, на что–то решился, так как стал строить свой отряд, а нам приказал идти по своему назначению.
Что мне было делать? Возвращаться назад за машинистами? Это скверно подействовало на людей. Я решил немедленно вести дальше. Но у нас было мало оружия (всего 50 человек вооруженных), так что выполнить свое дело было трудно. Я просил помощи у первой дивизии, но получил отказ, так как и у них самих чувствовался не меньший недостаток оружия.
Мы двинулись к арсеналу, где должны были ожидать рабочие и матросы, но, ни тех, ни других не нашли. Решено было оставить арсенал и идти к енисейцам, чтобы попытаться поднять их. По пути зашли на электрическую станцию, взяли без сопротивления караул (10 человек) и оставили свой. В это время все были полны веры в победу и шли вперед бодрые, воодушевленные. Подходим к казармам Енисейского полка, видим — боевой знак (красный фонарь). Приходилось действовать осторожно, и мы двинулись в обход. Выйдя на эту же улицу с противоположной стороны, мы заметили выстроенных енисейцев, которые при нашем приближении отошли в угол. Мы стали кричать им:
— Товарищи! Присоединяйтесь к нам! Будем вместе биться за свободу!
Тотчас же загремели по нас выстрелы. Было ясно, перед нами, во всяком случае, не союзники. Отстреливаясь, мы стали отходить назад. В то же время и с другой стороны зарокотали пулеметы. Началась беспрерывная трескотня; пули, ударяясь в камни мостовой, с визгом отлетали в сторону. Плохо, видно, целили. Большого вреда эта пальба нам не приносила, но все же приходилось круто. Мы пользовались всяким прикрытием, занимали дворы, стреляли из–за заборов, прятались за углы зданий, в канавки. Положение наше становилось скверным: впереди — енисейцы, с боку — пулеметы, с тыла подходили тоже енисейцы. А нас небольшая кучка и притом почти без патронов. Дело прогорало.
— Куда хочешь, веди нас. Мы на все готовы, — говорили матросы.
Куда же мог повести я их, как не на верную смерть?
Идти к арсеналу не было смысла, так как, еще подходя к енисейским казармам, мы узнали от вольных, что арсенал взят отрядом матросов, но что теперь там действуют пулеметы. Пальба оттуда была слышна нам, а кроме того, мы были отрезаны енисейцами от центра города. Оставался один выход — бежать.
— Придется уступить, товарищи, — сказал я. — Хотя и досадно, но другого выхода нет.
И мы… побежали…»
Матрос Николай Егоров на деле оказался никудышным предводителем. Единственно, что он умел — это безжалостно и с упоением убивать безоружных людей. В этом Егоров был весьма схож со знаменитым Афанасием Матюшенко с броненосца «Потемкин», который с упоением крушил ружейным прикладом черепа раненым офицерам да вспарывал штыком живот раненому врачу. В неразберихе подавления мятежа эсеру Егорову удалось скрыться — помогли товарищи по партии. Вскоре после этого Егоров отличился тем, что застрелил главного военного прокурора Павлова.
Однако был схвачен на месте преступлении, судим военным трибуналом и расстрелян как террорист.
Другой вожак кронштадтских мятежников, эсер Федот Онипко, за участие в мятеже будет приговорен к смертной казни, которая в самый последний момент будет заменена на ссылку в Туруханск. Оттуда Онипко бежал, жил в эмиграции во Франции. Любопытно, что Онипко, как и его собрат Фундаминский, являлся на тот момент депутатом Государственной думы, т.е. представителем высшего законодательного органа государства, против которого же сам и поднимал мятеж. Впоследствии Онипко воевал во французском иностранном легионе. Вернулся он в Россию после Февральской революции. Был генеральным комиссаром Балтийского флота. Являлся одним из лидеров эсеровской боевой организации за что был арестован ЧК, но потом прощен. Работал в советских учреждениях, являлся членом общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Вновь был арестован в 1938 году органами НКВД и в том же году расстрелян. То, что не довершила с эсером–боевиком Онипко власть царская, завершила власть советская.
Вот как выглядит картина мятежа в воспоминаниях активного участника событий матроса Леонарда Ленцнера: «Окна нашей казармы были открыты, и мы чутко прислушивались к бою склянок на кораблях, с волнением ожидая условных сигналов из пушки. Время тянулось томительно долго. Вдруг ночную тишину разорвал пушечный выстрел. Не ожидая остальных двух выстрелов, все повскакивали с коек, сорвали с бескозырок белые чехлы, кокарды и ленточки, запихали их под матрацы и с криками „ура“, „долой самодержавие“ побежали через малый двор на главный экипажный двор.
Когда мы подбежали к караульному помещению, здесь уже хозяйничали дружинники „азиатской“ команды (с крейсера „Азия“. — В.Ш.) во главе с Дементьевым. Караульные и часовые с деланным сопротивлением отдавали дружинникам винтовки и патроны… Посовещавшись мы решили, что Дементьев с его дружинниками останутся во дворе за укрытиями, чтобы не позволить „почетной охране“ (верным правительству матросам. — В.Ш.) выйти из казармы во двор. А мы с Лобовым и 80 дружинниками направились к главному морскому арсеналу. Когда мы подошли к Княжеской улице и свернули к арсеналу, к нам присоединились дружинники 12–го и 14–го экипажей. Руководителем восстания матросов 12–го экипажа был матрос Филипп Малиновский. Организатором восстания матросов 19–го экипажа и членом Ревкома крепости был старший квартирмейстер Бакланов, а в береговой команде крейсера „Азия“ большую работу вел Игнатий Демин.
Когда восставшие матросы подошли к арсеналу, к ним присоединись рабочая боевая дружина в количестве 30 человек (на самом деле боевики–эсеры. — В.Ш.), все вооруженные револьверами. Матросы радостно приветствовали рабочих–дружинников и их вожаков Дряничева и Федорова. Всего в рядах восставших было около 220 человек. Оружие составляли 22 винтовки и 30 револьверов. Убедившись, что арсенал никем не охраняется, решено было часть вооруженных дружинников оставить у запертых ворот, а всем остальным перелезть через железную ограду, которой был обнесен арсенал.
После первого орудийного выстрела одновременно с 12, 14 и 19–м экипажами восстали матросы еще одиннадцати флотских экипажей (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 16 и 20), находившиеся в Кронштадте.
Вначале восстание носило острый характер. На Павловской (ныне Флотская) улице находилось десять экипажей и два учебных отряда. Командир 5–го экипажа капитан 2–го ранга Добровольский вооружил своих стрелков, квартирмейстеров и фельдфебелей и. пытался оказать сопротивление. Угрожая открыть огонь, Добровольский предложил восставшим сдаться, но в ответ услышал: „Город и крепость в наших руках“. В свою очередь матросы предложили Добровольскому сложить оружие, но он отказался. После короткой перестрелки сторонники Добровольского были разбиты, а сам Добровольский захвачен восставшими и расстрелян.
Когда командир 7–го экипажа капитан 2–го ранга Шумов узнал о восстании матросов его экипажа, он, разгневанный, явился в экипаж и пытался заставить восставших матросов ложиться спать, но был убит возмущенными матросами.
Временно командовавший 4–м экипажем капитан 1–го ранга Митурич был арестован восставшими матросами и посажен в карцер. Захватив двадцать винтовок, матросы с возгласами „Да здравствует вооруженное восстание!“ вышли на улицу и присоединились к восставшим матросам других экипажей.
Командир 10–го флотского экипажа капитан 2–го ранга Николаев вместе с фельдфебелем Рака возглавили группу квартирмейстеров, фельдфебелей и кондукторов, вооружили их и пытались оказать сопротивление восставшим, но были обезоружены.
В это же время раскрылись ворота, ведущие в 11–й и 20–й экипажи. Здесь были слышны одиночные выстрелы. Вскоре из ворот вышло около 400 человек и направилось к воротам 94–го Енисейского полка.
Около 12 часов ночи минеры из учебного отряда перелезли через забор во двор соседнего артиллерийского отряда, чтобы помочь артиллеристам справиться с сопротивлением офицеров и примкнувшим к ним фельдфебелей, квартирмейстеров и стрелков. Вместе с восставшими артиллеристами они ворвались в казармы отряда и захватили оружие. Дежурным офицером сводной роты 11, 16 и 20–го экипажей в эту ночь был штабс–капитан Стояновский. которому вынесли смертный приговор.
Восставшие вышли во двор и начали строиться в ротную колонну. К этой колонне вскоре подошли взводы восставших из соседних экипажей. Всего выстроилось здесь около 400 человек.
Когда вооруженное столкновение восставших с оставшимися верными самодержавию частями, происходившее на Павловской улице, закончилось, все восставшие (около 1500 человек) по приказу руководителя восстания Ивана Никифорова разделились на три группы: первая группа (800 человек) во главе с Никифоровым пошла к Енисейским казармам; вторая группа (500 человек) под командой Никитина направилась к главному морскому арсеналу и к пристаням; третью группу (200 человек) возглавил Сорокин и повел ее для захвата электростанции.
Когда первая группа. подошла к воротам Енисейского полка, и Никифоров предложил часовому открыть ворота и впустить матросов во двор, оказавшийся у ворот офицер в очень строгой форме приказал восставшим немедленно удалиться, указав при этом на стоявших у ворот роты вооруженных солдат. Всем стало ясно, что без оружия на успех восстания рассчитывать нельзя. И Никифоров повел восставших к арсеналу. Но на пути к арсеналу восставших матросов ожидал Иркутский полк и пять рот матросов школы строевых квартирмейстеров. На Офицерской улице вскоре завязался жестокий бой.
…В это время к арсеналу подошел отряд восставших матросов во главе с членами военно–революционного центра Сорокиным и Никитиным. Начались поиски винтовок, пулеметов и патронов к ним. Патронов вообще обнаружить не удалось.
В разгар поисков в арсенал прибежал со своими дружинниками Бакланов. Он рассказал, что в Енисейском полку солдаты выдали всех подпольных революционных работников и выступили на подавление восстания, что на Петербургской пристани высадился лейб–гвардии Финляндский полк.
В это время к арсеналу подошли восставшие матросы учебно–артиллерийского и учебно–минного отрядов, а также матросы других экипажей. Из собравшихся у арсенала 700 матросов осталось не более 300, остальные стали расходиться в разных направлениях.
Вскоре со стороны Петровской и Княжеской улиц послышались мерные шаги пехоты, а в конце Поморской улицы замелькали гимнастерки солдат роты Енисейского полка. Когда они почти вплотную подошли к засаде, раздался залп и рота почти полностью была уничтожена. Через несколько минут подошедшая со стороны Княжеской улицы рота лейб–гвардии Измайловского полка открыла огонь по дружинникам. Мы ответили на выстрелы двумя залпами. Противник занервничал и открыл огонь из двух пулеметов, заставив нас прижаться к земле. Когда пулеметы смолкли, гвардейцы с ружьями наперевес бросились на нас в атаку. Подпустив их на близкое расстояние, мы дали по ним три залпа и они побежали назад. Но у нас кончились патроны. Мы быстро перебежали улицу и через открытое окно проникли на первый этаж нашей казармы. Со стороны Павловской улицы также не слышно было больше выстрелов, но там шли аресты матросов солдатами лейб–гвардии Семеновского и лейб–гвардии Финляндского полков. Затем мы все одели на бескозырки белые чехлы и ленты, прикрепили кокарды, спрятали в рундуки сапоги. После этого все разделись и легли на свои койки.
Вошел Бакланов и, приведя в порядок бескозырку, обратился ко всем матросам с такими словами:
— Будут аресты и допросы, во время которых нас будут бить и пытать. Никто не должен выдавать своих товарищей. А если кто выдаст, такого наказать самой строгой матросской казнью. Согласны?
— Согласны, — дружно ответили матросы».
Из воспоминаний прибывшего в Кронштадт эсеровского боевика А. Пискарева: «Было приступлено к организации боевого штаба из представителей партий. Конечно, партии не сговорились; никто на уступки не шел, каждый хотел быть главным руководителем. Тратились целые часы драгоценного времени на обсуждение вопроса, например, о том, что делать с офицерами: убить или только арестовать. Особенное человеколюбие при этом проявляли меньшевики. Своей. защитой они вызвали недовольство матросов и рабочих (надо понимать, что большевики и эсеры требовали офицеров убивать). Вообще поведение интеллигенции было ниже всякой критики. Будь матросы предоставлены сами себе, они проявили бы больше организованности. Подготовка восстания была так плоха, что даже наша боевая дружина не знала, что делать и на что употребить имевшиеся у нее бомбы.
Было решено, что восстание начнется по сигналу. Но условленных четырех пушечных выстрелов никто не слышал. Между тем в разных местах неожиданно послышалась пальба. На улицах показались растерянные группы матросов с винтовками и безоружные. Мы спрашивали их, а они нас: куда идти и что делать? Никто ничего определенного не знал, и узнать было негде. Циркулировали разнообразные слухи. Сообщали, что форт „Константин“ восстал, другие опровергали. А стрельба слышалась всюду.
Мы, новички в Кронштадте, не знали города и были беспомощны. Один сообщал, что навстречу нам идут енисейцы для усмирения, другой передавал, что часть их, отказавшись стрелять, пристрелила офицеров.
Неразбериха царила невообразимая. Рабочие и часть матросов бросились строить баррикады. Кажется, это послужило сигналом к погрому. Начали громить лавки, магазины; появилось вино. Винтовки бросали, чтобы принять участие в погроме. Это делалось не из корысти, а просто потому, что убедились в бестолковщине: овладело отчаяние, рассудок помутился, жажда деятельности искала выхода и находила в разрушении. Уже задолго до утра стало ясно, что восстание не удалось. Приходилось думать о спасении. Арестовывали всюду».
Несмотря на неуклюжие попытки оправдать погромы «разочарованием в высоких идеалах», эсер А. Пискарев признает, что если в начале восстания были высокие слова и идейные споры о высоких материях, то закончилось все банальным погромом и всеобщей попойкой. Винтовки и револьверы солдаты собирали прямо на мостовых, там же валялись и пьяные «революционеры».
Полицмейстер Богаевский докладывал: «…Руководители не сумели овладеть движением, и все шло вразброд; предполагаемое политическое движение благодаря разбитым винным лавкам и грабежу обратилось в бессмысленное пьяное буйство». В те дни говорили, что Кронштадт спасла водка. Массовых погромов и грабежей обывательских квартир, отличавших восстание 1905 года, на этот раз, правда, не было. Просто не хватило времени. Мятеж 1905 года в отличие от предыдущего был весьма скоротечен, а потому наименее сознательные матросы ограничились лишь погромом винных лавок.
Едва стало ясно, что мятеж обречен, начались схватки между самими матросами. Большая часть уже стремилась вернуться в казармы, чтобы не пришлось отвечать за содеянное. Активисты, исчерпав аргументы, начали просто– напросто резать ножами своих ненадежных сотоварищей, пытаясь оставить толпу на улицах. Но было уже поздно… Из хроники мятежа: «В экипажный лазарет набралось много раненых матросов. Большинство из них молчало, некоторые же заявили, что ранены большими ножами, которые якобы раздавали вольные».
К 5 часам утра 20 июля восстание было в основном подавлено, ак 10 часам — обезоружены последние его участники. В подвале одного из зданий собрались жалкие остатки военной эсеровской организации. Растерянные, они уже не столько переживали поражение, сколько обдумывали пути собственного спасения. Делили деньги, фальшивые паспорта и переодевались.
Член ЦК РСДРП большевик Л. Красин жаловался на негодяев эсеров в Америку А. М. Горькому, традиционно обвиняя их во всех грехах: «… Немедленно после роспуска Думы социалисты–революционеры заявили, что поднимут Кронштадт, что связи у них там великолепны, план выработан, что, с другой стороны, ждать больше нельзя. и прочее и прочее. Наши сведения отнюдь не подтверждали этих оптимистических надежд; правда, настроение солдат после думы было страшно приподнятое, но, говорили наши, форты берут не настроением, военно же техническая подготовка восстания оставляла желать еще очень многого. Решение эсеров относительно Кронштадта привело к преждевременной вспышке в Свеаборге. Тут работу вели исключительно социал–демократы, но социалисты–революционеры прислали несколько эмиссаров–солдат (своих) из Кронштадта, которые, пользуясь фактической возможностью проникнуть в крепость, накалили местную публику эсеровским враньем о Кронштадте, обещанием поддержки оттуда с броненосцев и прочее и прочее».
Революционная пресса обвинила в предательстве солдат Енисейского полка. Те оправдывались через большевистскую газету «Казарма»: «Матросы теперь очень злы на кронштадтских солдат, что мы их не только не поддержали, но даже усмиряли. Правда, у нас в полку Енисейском много черной сотни, но есть и сознательные, и их большинство в некоторых ротах, так что можно было рассчитывать на поддержку. Но беда в том, что о восстании ничего не знали, а уж как вывели — шум, стрельба, кого–то убивают — тут трудно вести агитацию: если есть время, можно перетянуть колеблющихся, а раз началось столкновение, дело кончено, — солдат стал как машина, знай, щелкай затвором, и особенно ночью, когда ничего толком не разберешь. Остановить стрельбу тогда почти невозможно. Надо еще знать, что солдаты еще плохо разбирают и не пойдут усмирять только в том случае, когда будут знать, в чем дело, а для этого надо пошире связь заводить».
Один из руководителей мятежа, Иван Безграмотный (он же т. Мануильский), впоследствии вспоминал: «По делу Кронштадтской военной организации после восстания захвачено было очень много людей, в том числе был арестован и я. Предавали провокаторы, из которых особенно выделялся рабочий Вельдерман, впоследствии, как мне передавали, в 1919 году опознанный и убитый в Донбассе».
Любопытно, что дружинники уже после ареста запугивали основную массу арестованных матросов, угрожая им убийством за сотрудничество со следствием, выгоняли приходящих священников. Уже известный нам Л.А. Ленцер: «…После ухода нашего защитника мы собрали всех своих прежних агитаторов и агитаторов соседней казармы и договорились, что нужно разъяснить всем арестованным товарищам, что защитники. подосланы охранкой и что нужно отказаться от их услуг. Через неделю к нам в казарму явился седенький священник с Евангелием.
Оказывается, священника прислал к нам Иоанн Кронштадтский, который больше всего заботился о том, чтобы мы, как христиане, немедленно покаялись в совершенных грехах. К священнику подошел Гуцаков и весьма добродушно сказал, что мы сегодня кушали скоромную пищу и поэтому никак не можем исповедоваться. Как только священник ушел, Суслов, Гуцаков, Астахов, Гусев (все члены боевых дружин. — В.Ш.) и я, обсудив создавшееся положение, пришли к выводу, что если мы легко отделались от защитника, то от священника отделаться будет труднее, ибо подавляющее большинство арестованных — люди религиозные, считающие Иоанна Кронштадского святым человеком, поэтому они пойдут на исповедь к этому сыщику в рясе (?!). Нужно принимать меры против возможных провокаций и предательства. Я предложил провести с арестованными беседу, в которой все объяснить им.
Суслов предложил усилить матросскую разведку, которая должна была узнать о недостойном поведении матросов на допросах и на суде и принимать в отношении этих трусов и предателей наши матросские меры. Начальником разведки назначили Суслова. Перед ужином Гуцаков и я пошли в соседние с нами помещения, где было около 200 арестованных матросов из разных экипажей. Мы предложили матросам выслушать нас и рассказали им о том, что нас посетил „добренький“ священник и о том, кто и для чего придумал исповедовать нас. На вопрос, как быть, если среди нас найдутся провокаторы и выдадут своих товарищей священнику, а тот прокурору, матросы гневно заявили:
— Сами казним!
После этого мы попрощались и ушли. После поверки Суслов и Астахов также провели такое собрание».
Любопытно, что когда к арестованным кронштадским мятежникам поместили несколько участников мятежа на «Памяти Азова», то первые, заподозрив последних в излишнем любопытстве, избили их до полусмерти.
Непросто проходил и сам суд. Из воспоминаний Л. А. Ленцера: «…Наша разведка сообщила следующее: по решению ЦК партии эсеров в Кронштадт приехали четыре террориста ивих числе две девушки. Они привезли несколько специально изготовленных бомб и должны были передать их дежурному матросу–эсеру у ворот машинной школы, а тот, в свою очередь, — подсудимым матросам. чтобы они во время судебного заседания бросили их в судей. И когда террористы, приехав в Кронштадт, подошли к дежурному матросу и хотели передать ему бомбы, находившиеся в засаде охранники набросились на террористов и арестовали их. В тот же день военнополевой суд приговорил всех террористов к смертной казни и ночью они были повешены».
Утром 20 июля город был объявлен на осадном положении. В этот же день последовало «высочайшее повеление»: участников восстания судить военно–полевым судом.
Из отчета коменданта гарнизона генерала Адлерберга: «Я с начальником штаба крепости генерал–майором Шульманом, командиром 1–го крепостного пехотного батальона полковником Гулиным и другими офицерами отправился на поезде на Косу в 8 часов утра 20–го. В это время вели уже арестованных в город, — встретили их у разъезда загородных сараев. Приказал повернуть обратно, к лагерю инженерных войск. Здесь начали расследование опросом офицеров, которые затем давали письменные показания, вызвал начальника электротехнической школы генерал–майора Павлова, опросил его. Мною генерал Павлов был приглашен помочь производить расследование, а затем членом суда. На полковника Гулина была возложена обязанность прокурора, а защищать предложено было подпоручику 1–го крепостного пехотного батальона Сидорову; делопроизводителем я назначил поручика минной роты Беляева. Все расследование и суд происходили в присутствии товарища прокурора Кронштадтского военноморского суда штабс–капитана Твердого. Опросы нижних чинов и составление списка их было поручено офицерам пехотных батальонов, саперной и минной рот, под руководством полковника Гулина. Видя, что дело туго подвигается, я вошел в круг арестованных, обратился к ним с увещаниями выдать зачинщиков и убийц своих начальников, пригрозив при запирательстве массовым расстрелянием, — немедленно нижние чины минеры начали выдавать зачинщиков и убийц, фамилии таковых записывались. После того были сняты показания, кто на кого указывает, что и записано в две таблицы; в заголовке имена убийц, в другой — зачинщиков, а в вертикальных столбцах собственноручно расписывался указывающий; снято показание с убийц; было указано 8 минеров, на восьмого, рядового Павла Александрова, было только одно показание, почему полевой суд не нашел возможным по наскоро собранным данным предать его смертной казни сейчас же».
В присутствии членов суда и солдат из усиленного наряда саперы и минеры, принимавшие участие в восстании, рыли семерым приговоренным к смертной казни мятежникам могилы и вкапывали у могил столбы для привязывания к ним осужденных. По рассказам очевидцев казни, могилы рыли и сами смертники. Среди кронштадтских матросов ходили слухи, что когда осужденные к смертной казни минеры копали себе могилы, комендант крепости генерал Адлерберг подошел к ним и якобы сказал: «Копайте, ребята! Копайте, копайте! Вы хотели земли, так вот вам земля, а волю найдете в небесах». Но никаких документальных свидетельств этому ни в воспоминаниях свидетелей казни, ни в документах нет. Вполне возможно, что перед нами еще одна легенда о мучениках свободы и генерале–палаче.
Через несколько дней состоялся второй судебный процесс еще над 147 участниками мятежа, в их числе были Мануильский и сын армянского народа эсер и «студент» Абрам Рафаилович , непонятно как и когда появившийся в Кронштадте. Из них к расстрелу были приговорены 10 человек. Остальные — к разным срокам каторги.
Затем начались судебные процессы и над матросами. Из 760 человек, привлеченных к суду, к смертной казни были приговорены 19 человек. Всего по четырем процессам участников восстания в Кронштадте было казнено 36 человек, на каторгу сослано 130 человек, в тюрьмы гражданского и военного ведомства заключено 316 человек, отдано в исправительно–арестантские отделения — 935 человек. Более тысячи арестованных были оправданы.
Казнь матросов состоялась 21 сентября на форту «Литке». Вот как описывал эту казнь историк С. Найда: «За полтора часа до казни матросов портовое судно „Работник“ доставил их на батарею „Литке“. На месте, предназначенном для казни, было вкопано два столба на расстоянии 20 сажен один от другого. Между столбами был натянут канат на высоте в половину человеческого роста. Осужденных подвели к канату и привязали.
Матросы стрелковой роты, которая должна была расстрелять осужденных, стояли, понурив головы. Им было стыдно и страшно встретиться глазами со своими товарищами, осужденными на казнь и теперь стоявшими у каната. Впрочем, командование мало надеялось на матросов стрелковой роты: им выдали только по два патрона. Причем они были окружены стоявшими с винтовками наперевес ротами Егерского, Финляндского и Енисейского полков. Сзади же солдат были установлены заряженные пулеметы, у которых находились офицеры.
За полчаса до казни началось чтение смертного приговора, но кто–то из осужденных на первых же словах оборвал чтение возгласом: „Довольно! Долго вы будете нас мучить?“ — и запел „Вы жертвою пали в борьбе роковой“…
Песню подхватили все осужденные, и мощные звуки революционного похоронного марша, как раскаты грома, разнес над старым фортом предрассветный ветер. Песня смертников оживила окаменелые лица стрелков. Ряды на мгновенье заколебались, а песня все громче и громче вырывалась из самого сердца обреченных. Песней они прощались с жизнью и звали живых к борьбе с самодержавием.
Заметив, что мужество и революционная песня осужденных внесли колебания в ряды солдат, начальство прекратило чтение приговора и поспешно послало к осужденным попа. Матросы отказались от его услуг. Они же наотрез отказывались надевать мешки и требовали не завязывать глаза перед расстрелом. Но им в этой последней просьбе отказали, ссылаясь на закон.
В последние минуты приговоренные призывали матросов и солдат отомстить за них. Матросы, надевавшие мешки на своих товарищей, преодолев чувство страха перед начальством, плакали. Расстрелом руководил палач комендант Кронштадтской крепости генерал Адлерберг. Первым залпом были убиты только 3–4 человека, многие были ранены, несколько человек остались невредимы. Исполнители казни едва держались на ногах от волнения и не могли метко целиться. Убитые и тяжелораненые, падая, тянули канат к земле. Легкораненые пытались подняться. Но канат притягивал их к земле. Раздавались стоны, крики и проклятия. После второго залпа несколько человек еще были живы. Тогда Адлерберг приказал выдать матросам патроны и добивать осужденных поодиночке. Началась беспорядочная стрельба. Наконец, крики и стоны замерли. Побоище окончилось. Казненных стали укладывать в парусиновые мешки, чтобы сбросить с грузом в море. Но мешков оказалось мало, и тогда в один мешок стали запихивать по нескольку трупов. Вдруг раздался крик умирающего: „Братцы! Добейте, ведь я еще жив“. Выстрелом в упор покончили и с этим несчастным. Мешки с расстрелянными погрузили на пароход, отвезли за Толбухин маяк и сбросили в море».
«Кронштадтские рыбаки, — сообщалось в газете „Казарма“, — стали все чаще и чаще вылавливать сетями трупы матросов. Одежда на них матросская, ноги босые. Рыбаки боятся ответственности и, выловивши труп, бросают его снова в море. Несколько трупов расстрелянных моряков прибило к берегу у царского дворца в Петергофе».
Разумеется, описание любой казни всегда тяжело читать, казнь она и есть казнь. То, что казнимые вели себя достойно перед лицом смерти, вполне реально, ведь они были все же русскими людьми. То, что казнили неумело, тоже похоже на правду, так как стреляли в мятежников не профессиональные палачи, а назначенные караульные матросы. Не верится лишь в то, что тела погибших просто кидались в море, чтобы их потом прибивало к берегу или их вылавливали рыбаки. Последнее — это очередная легенда–страшилка для обывателей.
Как и после событий в Свеаборге, в поражении эсеры обвинили эсдеков, а эсдеки — эсеров. Из хроники восстания, написанной в советское время: «Власти заранее знали о выступлении и подготовились к нему. Эсеры обещали поддержку солдат–енисейцев, также они обещали, что их сторонник надзиратель следственной тюрьмы Петрушкевич выпустит из тюрьмы 400 арестованных матросов и солдат, которые поднимут енисейцев. Впоследствии этот Петрушкевич оказался провокатором, который все рассказал начальству».
Поразительно, но вождь партии большевиков В. И. Ленин почему–то в отличие от всех остальной России не понял, что Свеаборг и Кронштадт — это последние искры затухающей революции. В газете «Пролетарий» № 1, 21 августа 1906 года в своей статье «Перед бурей» (которую куда правильней было бы назвать «После бури») он писал: «Свеаборг и Кронштадт показали настроение войска. Настроение, по всем признакам, нарастает. Взрыв неминуем и, может быть, недалек. Мы стоим, по всем признакам, накануне великой борьбы». Но кто когда–нибудь не ошибался.
Пожалуй, самая длинная улица в сегодняшнем Кронштадте — улица Восстания. Бывая в Кронштадте, я всегда прохожу по ней. В честь какого восстания названа улица, в точности не ясно. Может, в честь мятежа 1905 года, может, в честь восстания 1906 года, может, в честь событий года 1912 года, может, в честь кровавых событий февраля 1917 года, а может, и в честь трагедии февраля 1921 года. Против кого только ни восставали в Кронштадте: против царя, против Временного правительства и, наконец, против советской власти! Скорее всего, улица названа в честь всех восстаний сразу. Это памятник и участникам всех мятежей и их жертвам.
Суд над мятежниками
Однако нам пора вернуться к главной теме нашего повествования — к мятежу на броненосном крейсере «Память Азова». Корабли эскадры капитана 1–го ранга И. Ф. Бострема только закончили подавление мятежа в Свеаборге, когда было получено тревожное сообщение о новом мятеже, на этот раз на «Памяти Азова». На всех порах корабли немедленно устремились навстречу мятежному крейсеру. Но все закончилось раньше подхода кораблей. Придя на рейд Ревеля, они окружили «Память Азова». Тогда же Иван Федорович Бострем получил и указание организовать следствие и суд над мятежниками. Бострем ответил телеграммой, что не может этого сделать, так как «Память Азова» не входит в состав его эскадры, а является флагманом учебно–артиллерийского отряда. Бирилев немедленно шлет ответ — приказ о включении крейсера в состав практической эскадры Бострема. Теперь командующий эскадрой уже имел право привлекать мятежников к ответственности за содеянное. Судить мятежников было решено на основании 90–й статьи военно–морского устава о наказаниях, которой предусматривал суд «особой комиссии». Эта комиссия назначалась командующим эскадрой из числа корабельных офицеров. По сути, это был военно–полевой суд, который проводился в сжатые сроки, да и приговоры выносились такими судами нешуточные. Утверждение приговоров осуществлялось на месте командующим эскадрой. При этом не предусматривалось и никакой кассации. Получив все полномочия, Бострем немедленно приступил к дознанию. Сначала планировали всех арестованных доставить на один из кораблей эскадры, но потом от этого отказались. Численность арестованных составляла 260 человек (в ходе дознания большую часть матросов сразу освободили), разместить такое количество подследственных на одном корабле не представлялось возможным. По этой причине и дознание, и суд было решено проводить в Ревеле. Зачинщиков разместили в губернской тюрьме в замке на Вышгороде и в башне Толстая Маргарита, менее виновных — в казармах 90–го пехотного Онежского полка. Дознание велось ускоренными темпами, и было закончено уже через неделю. Вина мятежников была столь очевидна, свидетелей также хватало. Руководил следствием срочно прибывший из Петербурга главный военно–морской прокурор. После проведения следствия были освобождены еще 169 человек, чья вина не была доказана. В суд были переданы дела на 91 человека. Остальным было велено забрать свои личные вещи с корабля, после чего их отправили на транспорте «Лахта» в Кронштадт.
Еще вылавливали последних боевиков в окрестностях Свеаборга, еще звучали последние выстрелы провалившегося мятежа в Кронштадте, а в Ревеле уже начался судебный процесс над участниками мятежа на броненосном крейсере «Память Азова». В конце июля власти закончили следствие по делу о восстании на крейсере «Память Азова», и 30 июля начался суд особой комиссии, под председательством командира броненосца «Слава», капитана 1–го ранга Русина. Членами суда были командир крейсера «Богатырь» Гире и несколько офицеров с других кораблей.
Из воспоминаний Н. Крыжановского: «1 августа начался суд особой комиссии в старом губернаторском доме на Вышгороде, в старой части Ревеля. Рядом с этим домом была небольшая военная тюрьма. Губернатор в этом доме не жил. Заседания суда, продолжавшиеся до поздней ночи, охранялись пехотным караулом и прилегающие улицы — конными казачьими разъездами. Как главному свидетелю, мне пришлось присутствовать на всех заседаниях и по окончании их, поздно ночью, возвращаться в порт на катер и на корабль.
Состав суда особой комиссии был назначен из офицеров гардемаринского отряда судов и заседал ежедневно в гардемаринском доме с 1 по 4 августа. Суду было предано 95 человек по обвинению в вооруженном восстании. Самая тяжкая статья военно–уголовного кодекса гласит приблизительно следующее: (цитирую по памяти) „вооруженное восстание в числе 8 и более человек, поставившее своей целью ниспровержение государственного строя или порядка престолонаследия, карается смертной казнью через повешение“. На следствии и суде мало кто из подсудимых держал себя твердо. Врали, оправдывались, сбивались и противоречили, обвиняли во всем убитых. Но несколько человек было твердых, выдержавших марку до конца. Было совершенно изумительно смотреть на „вольного“ Коптюха. Тощий, тщедушный, бледный, он выглядел ребенком среди дородных матросов с шеями, на которых „дугу гнуть можно“. Коптюх был вытащен из воды и наскоро одет: полосатая матросская тельняшка и клеенчатые брюки дождевого платья. Так он просидел весь суд. Вот этот слабый с виду человек брал на себя все преступления: он стрелял, он убивал всех офицеров. На самом деле он просидел арестованным, в ванне, весь бунт.
Во время суда арестованные, кроме трех штатских „гостей“, содержались вместе. В маленьком зале заседания 95 подсудимых сидели внушительной толпой против суда. Пехотных часовых было мало, и по тесноте они стояли вплотную к подсудимым, сидящим на скамейках. И вот начался заговор подсудимых: бросится на суд, на стражу, вырвать ружья, перебить всех и бежать. Однако один ученик, арестованный по ошибке, услыхал такой разговор и сообщил по начальству. Караул усилили.
К 3–му августа следствие и делопроизводство были закончены, и суд предоставил подсудимым последнее слово в свое оправдание. За исключением нескольких главарей, большинство участников мятежа начали опять жалобными голосами рассказывать, как „от выстрелов сильно испугался“ и „пошел в гальюны“, и там просидел все время, ничего не видел. А потом Лобадин их потребовал и заставил делать то или другое, угрожая револьвером.
Во время бунта было убито: 6 офицеров, тяжело ранено 2, ранено 4, контужено 2, взято в плен 3; кондукторов: убит 1, ранено 2. Убито много нижних чинов. По рассказам подсудимых на суде, можно было получить впечатление, что всех убили и ранили Лобадин и Коптюх.
Последнему слово было предоставлено Фундаминскому. Фундаминский — великолепный оратор. Он совершенно владел собой и произвел большое впечатление на аудиторию. Он говорил долго, убедительно, логично, спокойно, располагающе. Была в этом „последнем слове“ такая разительная разница от примитивных слов матросов…
В 1 час ночи 4–го августа приговор суда был объявлен. Первыми в зале заседания были вызваны 17 главных мятежников и Коптюх. Для этих было ясно, что их ждет смерть. 18 человек были приговорены к повешению, с заменой казни расстрелом. (Если говорить о ныне модных двойных стандартах, то следует отметить, что суд над адмиралом Небогатовым, сдавшим в плен за 14 месяцев до этого целую эскадру, был совсем другим. Небогатов так и не был наказан и окончил жизнь дома, в своей кровати. По тому, как кого судили ясно видно, что у царя главным врагом был все же собственный народ.)
Все осужденные к смерти были люди, стрелявшие в офицеров или кондукторов, и являлись главарями и вдохновителями мятежа. Не все члены комитета и дружины были приговорены к смерти, так же как не все те, кто действовал с оружием в руках. Я помню, что маляр Козлов был замечен стрелявшим из ружья в среде мятежников. Однако ему присудили 12 лет каторжных работ.
Из 95 подсудимых 18 были приговорены к смертной казни; около 40 человек к различным наказаниям, от 12 лет каторжных работ до простого дисциплинарного взыскания. Остальные оправданы. Штатские: Фундаминский, Иванов и Косарев были нашим судом переданы прокурорской власти и отправлены в Петербург для разбора их дела в военно–окружном суде.
По прочтении приговора некоторые из осужденных к смерти стали просить о пощаде, а баталер Гаврилов упал на колени и стал жалобно всхлипывать и просить. Часть держалась твердо. И, конечно, не моргнул „вольный“ Коптюх.
Затем ко мне пришел солдат из караула и сказал, что подсудимые просят меня прийти к ним. Бывший тут же жандармский офицер запротестовал, опасаясь за меня, но я все же пошел. В комнате, где были подсудимые, ко мне подошли несколько человек. Они просили исполнить их последние завещания. Один просил записать адрес брата и послать ему серебряные часы — „лежат в моем малом чемодане“. У другого — новые сапоги. Я все записал, и поручения были исполнены. Свидание было тяжелое. Вскоре их вывели из подъезда в сад. Несколько голосов затянуло: „мы жертвою пали в борьбе роковой…“
Через четверть часа был залп. Расстреливала местная сотня казаков. Между начальниками местных властей был брошен жребий, кому производить экзекуцию. Жребий пал на казаков. Позже командир и эстонская команда ледокола получили много угроз за вывоз тел в море от местных революционеров.
Дело трех „вольных“ подсудимых: Фундаминского, Иванова и Косарева было перенесено в Санкт-Петербургский военно–окружной суд, и слушание началось осенью в здании окружного суда. Этот суд был военный, но отнюдь не „полевой“. На суде была первоклассная частная защита, допускались любые свидетели. Защитниками Фундаминского были присяжные поверенные Плансон, Зарудный, Малянтович, Соколов и Булат.
Казалось, кто мог быть свидетелем на этом процессе. Я, Сакович, пара кондукторов флота и несколько матросов. Для меня этот суд тогда был необыкновенно интересным. Я никогда не видел судопроизводства, а тут все было так „умно“ и неожиданно для неискушенного 19–летнего мичмана. Суд расспрашивал меня обо всей истории сначала, самым подробным образом. Оглашались всевозможные документы. Было комично слушать чтение записей чернового вахтенного журнала, веденного сигнальщиками в ночь восстания. Сигнальщики, несмотря ни на что, продолжали писать черновой журнал аккуратно:
„12 час. 30 мин. пополуночи. Прекратили пары на баркасе и паровом катере.
2 час. 30 мин. Открыли огонь из ружей по офицерам.
3 час. 00 мин. Подняли пары на паровом катере.
3 час. 30 мин. Раненые офицеры отвалили на берег. Дали в камбуз огня“. И так далее. (Часы даны только приблизительно).
На суде меня поражала способность адвокатов в короткий срок разбираться с морской обстановкой и, в особенности, с терминологией, столь отличной от общегражданской».
Год назад, после печального исхода команды мятежного броненосца «Потемкин» в Румынии, она была брошена всеми революционными партиями на произвол судьбы. Помощь была оказана лишь «своим» — одесским эсерам Фельдману и Березовскому. Для них нашлись и деньги, и связи. Все остальные же были просто забыты за полной ненадобностью.
То же самое случилось и во время судебного процесса над матросами «Память Азова». Судьба рядовых мятежников абсолютно никого не интересовала. Поразительно, но ни одна из революционных партий даже не попыталась нанять серьезных адвокатов для матросов. Всем им были предоставлены лишь казенные адвокаты от государства, которые на суде, разумеется, просто отбывали номер. При этом уже с самого начала всем было ясно, что приговоры по делу «Памяти Азова» будут весьма суровыми. Но это устраивало всех! Пощаженные матросы революционерам были абсолютно неинтересны, а вот казненные — даже очень! Как и в истории с «мучеником Шмидтом», из них можно было вылепить образы страдальцев за народное дело, расписать все перипетии казни, вызвав этим ненависть к власти остальной матросской массы, и обеспечить себе этим хороший задел на будущее.
Узнав из газет о провале мятежа на «Памяти Азова», в Ревель немедленно примчался друг Фундаминского эсер Зензинов, чтобы оказать посильную помощь товарищу. Начала подготовку к суду и жена Фундаминского Амалия совместно с местным присяжным поверенным Булатом. ЦК партии эсеров провел специальный «экс», чтобы добыть деньги на покупку самых дорогих адвокатов для своих соратников. Больше всего эсеры боялись, чтобы Фундаминский с дружками не попал в военно–полевой суд, так как оттуда им была одна дорога — на каторгу. Ценой огромных денег Фундаминский, Леушев и Косырев были переданы гражданским властям города Ревеля якобы, «за недоказанностью вины». Обвиняемы нагло врали, что просто катались на лодке в районе крейсера и, заблудившись, подошли к борту, чтобы уточнить свое местонахождение. Суд вынес оправдательный приговор. Однако, несмотря на положительное решение гражданского суда, всех трех снова взяли в оборот. Второй раз эсеров–боевиков судили уже в военно–окружном суде Санкт-Петербурга. И снова партия эсеров не осталась безучастной к своим товарищам. От партии снова были наняты лучшие адвокаты. Велась определенная работа и с судьями. Как следствие, вторично был вынесен оправдательный приговор. В итоге все трое оказались на свободе. В воспоминаниях современников о Фундаминском можно встретить утверждение, что революционер оба раза «непостижимым образом был оправдан царским судом». Поразительно: все в точности знали, что Фундаминский спешил, чтобы возглавить антиправительственный мятеж, налицо были и все доказательства. Но два суда подряд его оправдали! Увы, коррупция, взятки и наплевательское отношение к безопасности государства имели место у нас во все времена!
Газеты потом писали, будто, выйдя из суда, Фундаминский остановил извозчика, взобрался в пролетку и картинно крикнул, взмахнув тростью, в расчете на публику:
— Извозчик, за границу!
Публика была в полном восторге…
«Штаб войск гвардии Петербургского военного округа, управление окружного генерал–квартирмейстера, отделение военно–судное. 3 июля 1906 года. № 1374. Красное Село. Секретно. Ревельскому временному военному генерал–губернатору. По соглашению с Морским министром, его императорское высочество главнокомандующий приказал вашему превосходительству, по окончании суда над мятежными матросами крейсера „Память Азова“, принять к руководству следующие указания:
1) Тех мятежников, которых суд приговорит к смертной казни, по конфирмации таковых капитаном 1–го ранга Бостремом расстрелять на указанном Морским Министром острове Карлос. Приговоренных доставить туда под сильным пехотным конвоем ночью, когда замрет городская уличная жизнь, а самый приговор привести в исполнение на рассвете. Для расстреляния назначить матросов того же крейсера „Память Азова“ из числа приговоренных к другим наказаниям.
2) Место казни должно быть оцеплено вышеупомянутым конвоем; с трех сторон силою, примерно, батальон, причем, если матросы, назначенные для приведения в исполнение приговора отказались бы, то эта пехотная часть должна заставить выполнить возложенную на них задачу силою оружия. Место казни тщательно оцепить и вообще принять все меры, чтобы ни на самом острове Карлос, ни поблизости не было никаких посторонних лиц.
Тела расстрелянных похоронить на том же острове или предать морю, по усмотрению Морского начальства, с тем, чтобы необходимые для сего рабочие были назначены из числа матросов крейсера „Память Азова“, присужденные к другим наказаниям. Место погребения надлежит тщательно сравнять. Рассчитать время так, чтобы известие о смертном приговоре и приведении его в исполнение стало общеизвестным уже тогда, когда все кончено и все прочие осужденные уже отправлены в Кронштадт. О том, когда и сколько матросов казнено, донести те особенности из состава сохранивших верность присяге команды крейсера „Память Азова“, никого ни к какому участию в экзекуции не привлекать.
3) Тех мятежников крейсера „Память Азова“, которые будут приговорены к различным другим наказаниям, отправить немедленно, по приведении смертной казни в исполнение, на особом транспортном судне в Кронштадт, под конвоем роты вверенных Вам войск, и сдать их там, в распоряжение Коменданта крепости. Транспортное судно для этой цели должно быть прислано заблаговременно по распоряжению Морского Министерства. К какому именно времени (в зависимости от времени окончания суда над мятежниками), Ваше Превосходительство имеете условиться телеграммою с Начальником Главного Морского Штаба, а о времени прибытия в Ревель и отправления в Кронштадт транспортного судна донести телеграммой Августейшему Главнокомандующему и предупредить телеграммою же Кронштадтского Коменданта для его распоряжений по встрече и приему осужденных к аресту в Кронштадте.
Для сведения сообщается, что эскадра капитана 1–го ранга Бострема остается на Ревельском рейде до окончания суда над мятежниками и затем непосредственно уйдет на два–три дня в море, после чего направится в Кронштадт и уже оттуда отбудет в продолжительное заграничное плавание.
Об изложенном, по приказанию его императорского высочества, главнокомандующего, уведомляю для надлежащих распоряжений.
Начальнику Главного Морского Штаба вместе с сим послана копия с настоящего отзыва для сведения.
Подписал: окружный генерал–квартирмейстер свиты его величества генерал–майор Раух.
Верно: заведующий военно–судной частью капитан (подпись неразборчива)».
4 августа 1906 года был вынесен приговор. Отметим, что по решению суда приговоренные к смертной казни должны были быть повешены. Однако командующий отрядом судов капитан 1–го ранга Дабич (сам едва не ставший жертвой мятежа) своей властью заменил позорную казнь повешением на расстрел. На следующий день семнадцать матросов и мичман–самозванец Минес-Коптюх были расстреляны своими же подельниками по мятежу. Ни один из определенных на казнь не отказался стрелять в своих вчерашних товарищей…
И снова предоставим слово генерал–майору С. Найде, который весьма ярко описал казнь мятежников «Памяти Азова»: «4 августа суд вынес жестокий приговор. Арсений Коптюх и 17 матросов — машинист Аникеев, старший комендор А. Богданов, квартирмейстер Н. Баженов, баталер С. Гаврилов, гальванер–квартирмейстер П. Колодин, артиллерийский квартирмейстер М. Костин, хозяин трюмных отсеков Д. Григорьев, гальванер А. Кузнецов, строевой квартирмейстер Щилин, матрос И. Коротков, машинист И. Бортников, комендор А. Крючков и ученики–матросы П. Пинкевич, Г. Болдырев, А. Кудряшев, Г. Потапов и Д. Потихин — были приговорены к смертной казни через повешение. В ночь с 4 на 5 августа, как уже было сказано, командир отдельного отряда судов утвердил приговор суда, „милостиво“ заменив казнь через повешение расстрелом. Поэтому же приговору 5 человек были осуждены на 20 лет каторги каждый, 2 — на 12 лет, 4 — на 8 лет, 1 — на 6 лет, 13 — в дисциплинарные батальоны и 15 — к другим мерам наказания; остальные арестованные матросы были наказаны без суда. Подсудимые молча выслушали приговор. Никто из них не просил пощады. Казнь была назначена на утро 5 августа.
Власти спешили привести приговор в исполнение, так как в городе бастовали рабочие и были охвачены брожением стоявшие в Ревеле Царицынский, Иркутский и Новочеркасский пехотные полки. Солдаты этих полков заявили, что не будут выполнять обязанности палачей. Для расстрела осужденных назначили казаков, а исполнением казни руководил жандармский ротмистр. На рассвете 5 августа осужденных одели в парусиновые лохмотья и связали им руки. Матросы протестовали, но напрасно. Во дворе тюрьмы, когда матросов привязали друг к другу, они запели похоронный марш. Звуки марша разбудили заключенных, начался шум, крики, камера за камерой — вся тюрьма стала петь похоронный марш. Просыпался и город. Палачи заторопились и под усиленным конвоем повели матросов к месту казни в губернаторский сад. У городского собора между двух столбов был протянут канат. Осужденных начали привязывать к канату. В это время один из них крикнул: „Товарищи, надо прощаться, ведь больше“. Не имея возможности пожать друг другу руки, матросы произносили простые и трогательные слова: „прощай. прощай. прощай“. Резкий окрик жандармского ротмистра прервал прощание. Дежурный офицер спросил, не хочет ли кто–нибудь сообщить что–либо духовному пастырю. Но все осужденные отвергли услуги священника. Когда осужденным хотели завязать глаза, этому воспротивился Коптюх. Его поддержали товарищи.
Начали читать приговор. Но докончить его не удалось. Коптюх крикнул казакам: „Цельтесь в нас лучше, мы умираем за вас и за весь народ! Когда–нибудь и вы вспомните о нас!“ Другие матросы кричали „Довольно читать! Знаем! Зачем издеваться! Стреляйте! Стреляйте хорошо, в самое сердце! Стреляя в нас, вы стреляете в народ, в революцию!“ Раздались залпы. Люди повалились на землю. Но многие оказались только ранеными. Город просыпался. Убитых и раненых второпях свалили на телегу, прикрыли рогожами и повезли к гавани. Здесь трупы погрузили на баржу, и буксир „Карлос“ увел ее к острову Нарген, где тела казненных бросили в море».
По другой версии, казненные были закопаны в безымянных могилах. Впрочем, вполне возможно, что история с утоплением расстрелянных в море — это лишь специально пущенный слух, чтобы пресечь поиски могил единомышленниками мятежников. Отметим, что практика захоронения преступников в безымянных могилах применяется и сейчас. И в советское, и в постсоветское время тела приговоренных за преступления к смертной казни никогда не выдавались родственникам. Так же поступают и сейчас российские власти по отношению к убитым в ходе спецопераций террористам и боевикам. Так что сетования наших историков на отсутствие торжественных похорон убитых и казненных мятежников совершенно напрасны. Это вовсе не изощренное надругательство, как это пытаются представить, а общемировая практика.
Остальные наказания распределились так: 12 человек к каторжным работам, на сроки от 6 до 12 лет, 13 матросов разослали по дисциплинарным батальонам и тюрьмам, 15 присудили к дисциплинарным наказаниям, 34 матроса были оправданы. Учитывая опасность вооруженного мятежа на боевом корабле и большое число жертв (более двух десятков убитых и полсотни раненых), следует признать, что приговор суда мог быть куда более суровым.
Восстания на кораблях казались правительству значительно более опасными, чем восстания на берегу. Восстание могло перекинуться с одного корабля на другие; с восставшими кораблями труднее вести борьбу: они могут в любом пункте Приморья поднять на борьбу население, могут, наконец, уйти за границу, как это сделали потемкинцы.
Трудно поверить, но даже тогда, когда стало возможным тщательно изучить все обстоятельства событий на Балтике в 1906 году, этого никто не сделал. Почему? Ответ на этот вопрос лежит, прежде всего, в политической плоскости. Во–первых, никто из историков не желал оспаривать оценки В. И. Ленина о событиях 1906 года, даже если они и не соответствовали истине. Во–вторых, все фантастические рассказы о зверствах царской власти служили оправданием тех реальных зверств, которые творили сами мятежники. Вот типичный образчик откровенной лжи из книги С. Найды «Революционное движение в царском флоте»: «О позиции правительства и морского командования газета „Казарма“ писала: „Морское начальство, узнав о восстании на крейсере „Память Азова“, так перепугалось, что снарядило против крейсера целую эскадру: броненосцы „Слава“, „Цесаревич“ и крейсер „Богатырь“. Судам этим был дан приказ расстрелять и потопить восставший крейсер. Такой же приказ дан фортам крепости Кронштадт. Тут правительство не разобрало, кто за него, кто против, и те матросы „переменного состава“, которые в Ревеле предали своих товарищей правительству, так же были бы расстреляны потерявшим голову от страха и злобы правительством, как и восставшие за свободу всей России матросы“».
На самом деле, разумеется, никто никогда без разбора матросов не расстреливал. Об этом прекрасно знали и социалисты в 1906 году, и историк С. Найда. Документально известно, кто, когда и за что был приговорен к смертной казни. Кроме этого известны фамилии и судей, и адвокатов. Несомненно, С. Найда понимал, что в приведенной им цитате нет ни слова правды. Именно поэтому он и снял с себя ответственность, отослав читателя к неизвестной газете «Казарма». Ну а то, что революционная пресса всеми силами, не останавливаясь даже перед откровенной ложью, всегда стремилась опорочить официальную власть, хорошо известно.
А вот как описывает известный подводник капитан 1–го ранга В. А. Меркушев ситуацию во время мятежа на «Памяти Азова» на первых отечественных подводных лодках: «Лето 1906 года было очень тревожным; как в армии, так и на флоте постоянно вспыхивали беспорядки и бунты.
В июле восстал гарнизон крепости Свеаборг, а через день после подавления восстания взбунтовалась команда крейсера „Память Азова“, стоявшего в бухте Папонвик около Ревеля. Перебив и переранив часть своих офицеров, крейсер вернулся в Ревель, где оставшейся верной присяге части команды удалось после краткого боя взять верх над бунтовщиками и снова вместо красного поднять Андреевский флаг.
Весть о восстании в Свеаборге и бунте на „Памяти Азова“ взбудоражила матросов стоявшего в Тверминэ (около Ганге) Учебно–минного отряда, причем транспорт „Европа“ отказался передать на находившиеся тут же лодки Учебного отряда подводного плавания боевые зарядные отделения для самодвижущихся мин.
После долгих и утомительных переговоров начальству все же удалось настоять на передаче зарядных отделений, которые немедленно были присоединены к минам Уайтхеда. Подводные лодки получили оружие и теперь являлись грозной силой в руках командного состава.
Тем временем на берегу у пристани шли бесконечные митинги с участием заезжих гастролеров. Многие из команды подводных лодок были тут же.
Взобравшись на большой камень, никому не ведомый приезжий агитатор всячески старался возбудить команду и понудить ее к действиям.
— Товарищи! — надрывался взлохмаченный, невзрачного вида человек в штатском. — Вас все время держат в неволе! Не позволяют курить на улицах и в общественных местах! Не пускают в рестораны и сады! Запрещают съезжать на берег! Заставляют надрываться на тяжелой, никому не нужной работе! Кормят негодной пищей! Поминутно бьют, всячески унижают ваше человеческое достоинство! И это будет продолжаться, пока существует проклятое самодержавие! Чего вы смотрите? Чего ждете? Только свергнув царя, вы добьетесь равноправия, откроете путь к социализму, равенству, братству и свободе!
— Правильно! Правильно! — послышались голоса.
Ободренный сочувствием оратор еще больше воодушевился.
— Долой самодержавие! Долой офицеров! Только в борьбе обретете вы право свое!
Толпа электризовалась все больше и больше. В этот момент один из артельщиков подводных лодок пробился к стоявшему в первых рядах боцману подводной лодки „Лосось“ — высокому, вечно угрюмому латышу Розену.
— Господин боцман, мы только что привезли из города провизию, и, пока выгружали ее на пристань, какая–то сволочь сперла французскую булку.
Розен возмутился.
— Вот сукин сын! А вы чего смотрели?
— Да разве доглядишь, когда столько народу!
Суд боцмана был скор и не лишен остроумия.
— Идем! — обратился он к стоявшим рядом матросам подводного плавания и медленно направился к оратору.
— Да здравствует российская социалистическая республика! — надрывался агитатор.
Вдруг мощная боцманская рука стащила его с камня.
— Чего зря разоряешься? Сволочь ты эдакая! Так тебя перетак! Держи его, ребята!
— Что? В чем дело? — полепетал не на шутку перетрусивший оратор…
— А то, что у нас французские булки украли! А все ты виноват! Так твою перетак! Вали его на камень, ребята, да всыпьте побольше горячих! Так его перетак!
Настроение толпы резко изменилось. Под громкий хохот и прибаутки аудитории оратора разложили и выпороли на славу.
По окончании экзекуции незадачливый агитатор дрожащими руками подхватил свои брюки и юркнул в толпу.
— Го–го–го, — надрывалась команда.
— Держи его, держи!
Унтер–офицерские дудки заливались вовсю пронзительными свистками, ускоряя бегство революционера, единомышленники которого давным–давно уже скрылись из виду».
О чем молчат историки
Одним из наиболее темных вопросов истории мятежа на «Памяти Азова» является вопрос: был ли он стихийным и случайным? Если в случае с мятежом 1905 года на черноморском броненосце «Князь Потемкин» все же имелся повод — борщ из несвежего мяса, то на «Памяти Азова» ничего подобного не было. При этом в советское время историки были поставлены в нелегкое положение. С одной стороны, надо было объяснить восстание на боевом корабле издевательствами офицеров, плохой кормежкой, невыносимыми условиями жизни. С другой же стороны, надо было показать решающую роль партии большевиков и провокационную роль их извечных конкурентов — эсеров. Все эти три оставляющие — стихийность выступления, провокационную сущность эсеров и руководящую роль РСДРП (б), несмотря на их полную взаимную противоречивость, надо было как–то увязать между собой. Из–за этого и приходилось историкам во главе с С. Найдой писать на одной странице о стихийности выступлений матросских масс, а уже на следующей — о руководящей и направляющей роли эсдеков.
В связи с этим весьма режет глаза частое упоминание в описаниях мятежа на крейсере некой особой боевой дружине, которая к моменту мятежа на крейсере была уже давно сформирована и сразу же активно и со знанием дела начала действовать. Если боевая дружина готовилась к захвату власти на корабле, то о какой стихийности бунта вообще можно говорить! Во–вторых, кто руководил этой дружиной — эсеры или социал–демократы? То что захватившие власть на «Памяти Азова» власть боевики ждали прибытия на борт известного эсера Фундаминского с еще двумя эсерами, а не какого–нибудь видного социал–демократа, наводит на мысль, что именно эсеры и готовили весь мятеж, именно им подчинялась и боевая дружина — некий прообраз современного корабельного спецназа.
Весьма примечательная фраза на этот счет есть в документальном рассказе Льва Шейнина «Карьера Кирилла Лавриненко»: «Крейсер оказался в руках восставших. Командование крейсером приняла на себя боевая дружина (выделено мной. — В.Ш.)». Что это еще за боевая дружина? А это ни что иное, как заранее специально подготовленная для насильственного захвата крейсера группа боевиков во главе с профессиональным террористом Коптюхом—Минесом! Следователю Шейнину о боевой дружине рассказал непосредственный участник событий Лавриненко. После этого все разговоры о некой стихийности и неком революционном порыве матросских масс просто смешны. Захват корабля и убийство офицеров совершали заранее подготовленные для этого люди. Каждый из них четко знал, когда и что ему делать, кого именно и как он должен убить. Говоря современным языком, это была хорошо спланированная спецоперация, которую готовили не дилетанты, а профессионалы. Еще более странным выглядит то, что, оказывается, охранное отделение прекрасно знало состав этой боевой дружины и даже место обитания ее руководителя.
Из доклада в охранное отделение Санкт-Петербурга от Ревельского жандармского управления: «Со времени прихода летом сего года судов Балтийской эскадры в Ревельский рейд, как и в минувший год, установлено было наблюдение за поведением судовых команд и их сношениями с неблагонадежными на берегу. Установлено было, что на судах „Память Азова“, „Рига“, „Рында“, „Николаев“, отчасти „Слава“, среди нижних чинов имелись лица, составлявшие как бы группу (вроде боевой дружины), которая руководила революционной пропагандой среди матросов, в свою очередь, будучи направляема к тому посторонними агитаторами. Получены были сведения, что с „Памяти Азова“ и „Риги“ чаще других имели сношение с частными лицами: 1) минный квартирмейстер Сидоров, 2) артиллерийский квартирмейстер Лобадин, 3) артиллерийский унтер–офицер Костин, 4) Трофим Тухин, 5) минер Осадчий, 6) Иванов, 7) Шевчук („Рига“), 8) Колодин (боцман), 9) Аникеев, 10) Гаврилов (боцман), 11) Рукавишников (машинист), 12) Крючков (гальванер) и 13) Рубайлов (боцман). Из них крупным главарем, влиявшим очень сильно на других, был Лобадин, ближайшими помощниками его — Костин, Осадчий, Аникеев и Гаврилов. Все означенные матросы главным образом сносились с неким Оскаром Минесом, известным у них под кличкой „Оська“. Личность эта подлежит точному установлению. У этого лица или через его посредство составлялись сходки и, между прочим, по агентурным указаниям, в доме 19 кв. 13 по М. Юрьевской улице в Ревеле, где, по справкам, оказался проживавшим студент Эрнест Грюнберг с женой Александрой Артемьевой и сестрой Урлиной Грюнберг».
Сразу же возникает законный вопрос: если о существовании боевой дружины было прекрасно известно, то почему сразу же не были приняты необходимые предупредительные меры? Возможно, в охранном отделении полагали, что все на самом деле не столь серьезно, как докладывают ревельские жандармы. Во–вторых, возможно, там просто не справились с тем потоком информации о беспорядках, которые в то время буквально захлестнули Россию. Наконец, в–третьих, возможно, просто понадеялись на извечное русское «авось». А вдруг пронесет и ничего страшного не случится? Увы, не пронесло, и случилось! Самое печальное, что своей информацией жандармы не поделились ни с командованием флота, ни с командиром «Памяти Азова», и те ничего не смогли противопоставить захвату корабля боевой дружиной.
Еще один неудобный эпизод событий на «Памяти Азова» — это эпизод контрвосстания. Абсолютно понятно, что переменная и часть постоянной команды сами схватили главарей мятежа и освободили офицеров. Но написать правду об этом значило поставить под сомнение саму классовую теорию. Как же могут классово близкие зачинщикам восстания матросы отбить у них корабль и передать его царским властям? Поэтому историки и писатели, освещавшие тему мятежа на «Памяти Азова», изворачивались кто как мог. Вот писатель–историк Кардашев: «Офицеры призвали на помощь кондукторов, гардемаринов и учеников, проходивших на корабле морскую практику. Завязались схватки. Восставшие матросы были обезоружены. Только из–за их неорганизованности офицерам удалось подавить восстание в самом его начале». Здесь все обман. Офицеры (а на борту оставался только тяжело раненный старший офицер и два мальчишки–мичмана) сидели под арестом и никого никуда призывать не могли. Смехотворно звучит и утверждение, что мятежники были неорганизованны и только потом обезоружены. Но ведь они до этого уже сутки властвовали над крейсером, что же помешало им организоваться? И как могли оказаться более организованными выступившие против них кондукторы и матросы, все действия которых были откровенным экспромтом?
Камертоном написания всех историй мятежа на «Памяти Азова» в советское время следует считать статью одного из первых исследователей этого вопроса И. В. Егорова. В Ленинграде в 1926 году (почти по свежим следам) вышла книга «Восстания в Балтийском флоте в 1905–06 гг. Сборник статей и документов». Составитель И. В. Егоров. Все последующие советские историки в той или иной мере всегда опирались на этот «классический» труд по истории мятежа на балтийском крейсере.
Но и это не все! В революционной историографии произошел поистине уникальный случай. С работой И. В. Егорова ознакомился активнейший участник событий на «Памяти Азова» Н. Н. Крыжановский, проживавший к тому времени в США. А ознакомившись, написал свое видение этих событий (с ними мы уже ознакомились выше), в конце же своего повествования он вступил в открытую полемику со своим советским оппонентом.
Думается, читателю было бы интересно познакомиться с этими двумя точками зрения на одно историческое событие и самим сделать выводы.
Итак, вначале мы предоставляем слово И. В. Егорову. Вот его видение хода событий на «Памяти Азова»: «В кампанию 1906 года крейсер „Память Азова“ был флагманским кораблем Учебно-Артиллерийского отряда Балтийского моря. Он плавал под брейд–вымпелом начальника отряда, флигель–адъютанта капитана 1–го ранга Дабича. В самом начале кампании из команды и переменного состава учеников выделилось несколько революционно настроенных людей: артиллерийский квартирмейстер 1–й статьи Лобадин, баталер 1–й статьи Гаврилов, гальванерный квартирмейстер 1–й статьи Колодин, минер Осадский, матросы 1–й статьи: Кузьмин, Котихин, Болдырев, Шеряев и Пенкевич.
Они вели с матросами разговоры политического характера, читали им газеты левого направления, например, „Мысль“, „Волгу“, „Страну“, и даже прокламации Российской Социал–демократической партии. Основная мысль всех этих разговоров и чтений сводилась к осуждению правительства и к необходимости Учредительного Собрания.
К квартирмейстеру Лобадину заходили в арсенал для каких–то тайных переговоров писарь 2–й статьи Кулицкий, машинный содержатель 2–й статьи Аникеев и квартирмейстер Колодин. Наиболее осторожные и начальству послушные матросы предостерегали своих товарищей против „политических“. Но квартирмейстер Лобадин прямо сказал, что не потерпит никакого подглядывания, противоречий и доносов. А кто будет восстанавливать матросов против Лобадина и его товарищей, того недолго выбросить за борт. У Лобадина слово не расходилось с делом, и комендор Смолянский был здорово избит: его подозревали в том, что он написал команде письмо о дисциплине и верности присяге.
На берегу велась пропаганда: в лесу, под открытом небом, устраивались митинги матросов. На них выступал агитатор, которого матросы привыкли называть „студентом Оськой“. На самом деле это был одесский мещанин Арсений Коптюх; он жил в Ревеле по подложному паспорту мещанина Степана Петрова. „Студент Оська“ был неутомим: он не только привлекал матросов на свидания в частной квартире в Ревеле, но в июне даже приехал на сам крейсер и участвовал в заседании судового комитета. Этот комитет состоял из нижних чинов, избранных путем тайной подачи голосов. Среди матросов собирали пожертвования на Ревельский революционный комитет. Одним словом, агитация и пропаганда шли с большим успехом.
В конце июня был небольшой конфликт. Команде не понравился суп, она вышла из–за стола и собралась на баке. Как–то все улеглось, лишь некоторые офицеры начали поговаривать, что в команде неблагополучно. Особенно ревизор мичман Дорогов часто указывал командиру крейсера капитану 1–го ранга Лозинскому, что необходимо списать с корабля наиболее неблагонадежных. Командир долго не соглашался. Но в начале июля начальство получило сведения о противоправительственной деятельности минера Осадского. Только тут Лозинский раскачался и отдал приказ арестовать его и передать на берег судебной власти. Команда сильно взволновалась. Особенно были возбуждены машинный содержатель Аникеев и машинный квартирмейстер Черноусов. Ученики Болдырев и Пенкевич собрали вокруг себя толпу нижних чинов и агитировали, что надо освободить арестованного, а главное, не допускать его с воза на берег.
Дело на этот раз кончилось только шумом, но внутри команды шла большая революционная работа. Один из комендоров донес артиллерийскому кондуктору, что команда постоянного состава назначила на 14 июля бунт. Кондуктор доложил начальству, и 14 июля крейсер посетил морской министр. День прошел совершенно спокойно, но для большей предосторожности весь учебно–артиллерийский отряд перевели в бухту Панонвик.
19 июля вечером из Ревеля пришел минный крейсер „Абрек“ и привез провизию для „Памяти Азова“, и, главное, на нем приехал „студент Оська“, переодетый матросом. Вместе с артельщиками, принимавшими провизию, Коптюх незаметно перешел на „Память Азова“. Около 11 часов ночи в таранном отделении началось заседание судового комитета, которое собрало до 50 человек. Долго и подробно обсуждали телеграмму, полученную баталером Гавриловым о восстании в Свеаборге. Многие сомневались в достоверности сообщений, и поэтому вопрос — должен ли крейсер примкнуть к восставшим, обсуждался очень долго. Был уже 1 час ночи, когда участники собрания стали прямо задыхаться от духоты.
Жизнь на крейсере шла своим порядком. Отпущенная на берег команда вернулась вовремя. Как всегда, прекратили пары на паровом, минном катерах и на баркасе. Закончилась спешная работа в носовой кочегарке, и ушли наблюдавшие за ней механики. Может быть, необычны, странны были бродившие по палубе кучки матросов и их настороженный шепот. Еще страннее вел себя в этот день ученик Тильман. А около полуночи этот старательный молодой человек подошел к судовому священнику, прося предупредить старшего офицера, что в час ночи он, Тильман, доложит ему наедине секретное дело первостепенной важности.
Действительно, во втором часу ночи старший офицер капитан 2–го ранга Мазуров узнал от Тильмана, что на крейсере есть „посторонний“ человек. Младший механик поручик Высоцкий тотчас же получил приказ обойти машинное и кочегарное отделения и записать „лишних“ людей. А сам старший офицер с лейтенантом Захаровым прошел по батарейной палубе. В носовом отделении жилой палубы он приказал позвать лейтенанта Селитренникова, мичмана Кржижановского и караул.
Наконец переносная лампочка в руках Мазурова осветила горловину таранного отделения и обнаружила шесть матросов, которые не успели еще разойтись с заседания. Однако среди них постороннего человека не было. Посторонний человек, „студент Оська“, издали увидал Мазурова, входящего в жилую палубу, и быстро прилег к маляру Козлову. Так офицер его долго не замечал. Он переписал находившихся в таранном отделении и выслушал доклад поручика Высоцкого о том, что в осмотренном им отделении никого из посторонних нет. Наконец взгляд старшего офицера упал на Коптюха, лежавшего на одной подушке с Козловым.
Коптюха спросили: „Кто ты такой?“ Он назвался кочегаром № 122; такого номера не было на корабле, и стало ясно, что это не матрос, а посторонний. Его посадили в офицерскую ванну, за кают–компанией, на корме, по правому борту. Около открытой двери поставили четырех часовых. В случае малейшей попытки Коптюха к бегству, они должны были заколоть арестанта.
На допросе Коптюх держался самоуверенно и грубо; давал ответы командиру, развалясь на ванне. Командир отдал приказ снять с Коптюха матросское платье, фуражку и немедленно отправить на минный крейсер „Воевода“, который утром уходил за провизией в Ревель.
Наступало время действовать. Лобадин распорядился, и на батарейной палубе погасли лампочки, в темноте забегали матросы. На часового у денежного сундука бросились несколько человек, требуя патроны. Часовой кое–как отбился штыком, но через несколько минут погасло электричество. Неизвестные избили часового и разводящего и утащили ящик с патронами. По приказу командира в кают–компанию принесли из жилой палубы винтовки и оставшиеся около денежного сундука четыре ящика патронов. Офицеры и кондукторы вынимали из винтовок затворы и прятали их по офицерским каютам.
Квартирмейстер Лобадин живо раздал патроны, приказал зарядить ружья и с криком: „выходи за мной!“ выскочил из темноты батарейной палубы наверх. Было 3 часа 40 минут ночи, когда на палубе раздался первый выстрел. Неизвестно, кто начал, но Лобадин пробежал по батарее с криком: „выходи наверх, нас офицеры бьют!“ Его поддержали Колодин и Котихин. Началась стрельба на верхней палубе.
Сразу были ранены: смертельно вахтенный начальник и тяжело старший офицер. Командир крикнул: „Господа офицеры, с револьверами наверх!“ и навстречу восставшим матросам поднялись штурманский офицер Захаров и лейтенант Македонский. Лейтенант Захаров был убит сразу, а Македонский бросился за борт, и его пристрелили в воде. Командир, кончив раздачу патронов офицерам и кондукторам, поднялся наверх и нашел здесь смертельно раненного мичмана Сборовского.
Матросы из–за прикрытий обстреливали люк и через люки стреляли в кают–компанию; при этом убили старшего судового врача Соколовского и ученика Тильмана, стоявшего часовым у арестованного.
Офицерам приходил конец. Они прошли в кормовую батарею и спустились на баркас, стоявший на бакштове под кормой. На баркасе уже разводились пары; туда были спущены раненый Вердеревский и Селитренников. Когда пары были подняты, баркас отвалил. На крейсере остались только три офицера, судовой священник, артиллерийский содержатель, делопроизводитель штаба и штурманский подполковник.
В погоню за бежавшими матросы послали паровой катер, куда погрузили 37–мм пушку. Выстрелом из нее были убиты Вердеревский, мичман Погожев и тяжело ранен лейтенант Унковский. Но паровой катер сел на мель, и ему пришлось вернуться на крейсер.
Матросы долго обстреливали кают–компанию. Но офицеры не отвечали, и команда прекратила огонь. В 4 часа 30 мин. утра матросы арестовали офицеров, заперли их по каютам, приставив надежных часовых, и освободили Коптюха. После побудки команда собралась на баке. Первый начал Лобадин: „Ребята, вчера с провизией к нам на крейсер прибыл вольный, который вместе с нами сидел в трюме; ночью его нашел старший офицер и переписал нас. Из–за этого все и вышло. Офицеры хотели его застрелить, но Бог миловал!“.
Коптюх предложил выбрать комитет для управления кораблем. Впоследствии некоторые свидетели показывали, что он предложил выбрать совет. В члены этого комитета или совета Коптюх предложил себя, Лобадина и еще нескольких матросов. Остальных кандидатов указывал Лобадин, спрашивая мнение команды о каждом из них. Сколько выбрали в комитет, точно не определено. Коптюх и некоторые свидетели говорят, что было 12 выборных, а другие настаивают, что комитет состоял из 18–20 человек. Все члены комитета переоделись в черное, а командиром крейсера выбрали Лобадина. Лобадин заявил, что все судовые расписания остаются в силе и служба должна идти по установленному порядку. После завтрака команда получила приказание сняться с якоря и поднять сигнал прочим судам, стоявшим в Панон вике.
Тогда же обыскали всех арестованных и снова заперли по каютам. Команда показала пример редкого благородства к побежденному врагу. К раненому старшему офицеру беспрепятственно ходил фельдшер, дважды делавший ему перевязки. Священнику тоже не было отказано в посещении больного. Из каюты лейтенанта Селитренникова больному принесли вина. Матросы, которые приносили офицерам и кондукторам чай и командный обед, говорили, как бы извиняясь: „Это Лобадина распоряжение, чтобы для всех была одна пища“. На мостике набирали сигналы „Воеводе“ „сняться с якоря и подойти к борту“. „Воевода“ приказание исполнил, но „Памяти Азова“ показалось, что он подходил с открытым минным аппаратом. Пришлось поднять вновь сигнал „стать на якорь“, а минный крейсер „Абрек“, миноносец „Ретивый“ получили приказание присоединиться к „Азову“. Оба корабля подняли ответ „ясно вижу“, но с места не двигались.
Лобадин приказал правому борту открыть огонь по „Абреку“ и миноносцам орудий. Была сыграна короткая тревога, но никто не расходился по местам. Было приказано сыграть в две дроби тревогу. Прислуга встала по расписанию, но не стреляла. Только один комендор навел орудие, да и то мимо. Одним словом, Лобадин со своими единомышленниками сделали только два выстрела орудия, ибо вследствие неумелого обращения орудие заклинивалось.
После обстрела крейсер вышел в море, взяв курс на Ревель. На мостике стояли Коптюх, одетый мичманом, Лобадин, Колодин, ученики Котихин и Кузнецов. Во время хода лейтенант Лосев попросил, чтобы к нему в каюту позвали „того из нижних чинов, кто распоряжается всем“. Минут через двадцать к арестованному спустился Колодин, следователь комитета. Он успокоил офицера, что арестованным бояться нечего. Избиение офицеров произошло потому, что лейтенант Захаров первый убил матроса. Колодин предложил даже Лосеву присоединиться к восставшим, объясняя причины восстания.
Как интересно было бы послушать разговор этих совершенно разных людей. Один — офицер, выкормок буржуазии, другой — революционер, бросающий пламенные слова: Мы желаем возрождения России и флота. Мы уверены в победе, ибо в наших рядах минный отряд, броненосцы „Цесаревич“, „Слава“, крейсер „Богатырь“ и транспорт „Рига“. Затем Колодин сообщил, что в Ревеле на „Память Азова“ приведут двоих: один видный революционер, а другой трудовик, член Государственной Думы. Команда крейсера сплотилась еще до выхода из Кронштадта, разделясь на несколько революционных групп: социал–демократов, социал–революционеров и трудовиков.
В боевой рубке состоялось краткое совещание, на которое пригласили кондукторов; им даже разрешили надеть свою форму. Лобадин обратился к ним, прося поддержать революционное восстание и распределил между ними обязанности. Один из кондукторов, не надеясь на успех восставших, благоразумно попросил запереть их снова в каюту.
Вообще, между верными собаками офицеров — кондукторами и революционерами была пропасть. Кондукторам говорили о борьбе за правду и свободу, они продолжали спрашивать: „как же приниматься за дело, не зная, что делать?“. Тщетно Коптюх напоминал о восстаниях на броненосце „Князь Потемкин Таврический“ в Севастополе, о лейтенанте Шмидте и кондукторе Частнике. В заключение он стал читать революционный манифест о необходимости помочь рабочим и о 9 января.
Во время заседания в рубку вбежал телеграфный квартирмейстер Баженов и сказал: „Товарищи, команда пала духом. Нужно ее воодушевить“. Заседание было прервано, команду собрали на баке. Коптюх стал на шпиль и обратился к команде с речью. Причиной восстания был роспуск Государственной Думы и массовый арест лучших людей. Далее он упомянул о постановлении думской социал–демократической фракции и трудовой группы передать всю землю крестьянам. Вместе с „Ригой“ крейсер должен уйти из Ревеля в Свеаборг и там присоединиться к учебно–минному отряду, тоже поднявшему восстание. В заключение Коптюх прочитал команде выборгское воззвание, а также воззвание трудовиков и думской социал–демократической фракции.
Он предложил даже провозгласить „ура“ за свободу, но настроение команды действительно сильно понизилось; только после вторичного крика квартирмейстера Баженова: „ура“ его подхватили, и то очень немногие. Затем спросили команду, что делать с арестованными офицерами. Сторонников убийства оказалось мало, и вопрос был отложен. Команда получила по полчарки вина и разошлась обедать.
Около двух часов дня восставшие встретили в море „Летучий“. Миноносец, в ответ на сигнал „присоединиться“, начал быстро уходить. Тогда по нему сделали два выстрела из 6–дм орудия и несколько из 47–мм пушек. Близ Ревеля „Память Азова“ встретил какой–то коммерческий иностранный пароход. На него была отправлена шлюпка, которая привезла газеты и радостное известие, что в Свеаборге даже лайбы ходят под красным флагом.
В 5 часов дня крейсер стал на якорь на ревельском рейде. Лобадин остановил портовый пароход „Карлос“, который вел на буксире баржу. Команда пересадила на пароход раненого судового священника и двух вольных поваров, служивших на корабле. Одному из этих сомнительных людей Лобадин поручил все–таки зайти в лавочку и передать человеку в форменной фуражке и очках, которого он там найдет, приказание прислать шлюпку. Очень остро стоял вопрос с провизией. Характерно для честности революционного моряка, что Лобадин не велел трогать денежный сундук и сказал Коптюху, что „деньги на провизию надо достать с берега“.
Коптюх написал записку, но почему–то ее не доставили, она так и осталась на крейсере. Эту записку собирались везти на берег машинный содержатель Аникеев и баталер Гаврилов. Они уже переоделись в штатские костюмы одного из вольных поваров, но Коптюх колебался, не убегут ли они. В записке Коптюх писал, что к „Памяти Азова“ пока еще никто не присоединился, а Свеаборг в руках восставших матросов и солдат. Сообщал Коптюх о плане захватить Ревель и просил по этому поводу прислать положительный ответ. Он звал также на корабль члена Государственной Думы, если он уже приехал. Главное же, надо было позаботиться о провизии для крейсера.
Настроение восставших падало, потому что они чувствовали себя изолированными от масс флота. Кондуктора, которые никак не могли сочувствовать революции, намотали на ус упадок настроения большинства команды. Они задумали черное дело: овладеть крейсером и, так или иначе, подавить восстание. Действовали с подходцем, с хитрецой. Всячески обхаживали учеников перед ужином и наводили их осторожненько на мысль об ужасных последствиях мятежа.
Один из единомышленников Лобадина случайно подслушал эти переговоры и побежал на бак, где собрались члены комитета. Команда села ужинать, но членам комитета было не до ужина. Получив сообщение, что кондуктора мутят команду, Лобадин приказал дать дудку: „кондукторам наверх“. Один из кондукторов выскочил с револьвером наверх и крикнул: „Переменный и постоянный состав, кто не желает бунтовать, становись по правую сторону, а кто желает — по левую“. Кондуктор был положен на месте, успев дать один или два выстрела из револьвера.
Тем временем внизу дали команду: в ружье! Ученики, разагитированные кондукторами, расхватали винтовки, патроны, и началась стрельба. Почти все революционеры собрались на баке, несколько из них бросились за борт, остальные отстреливались от наступавших учеников. Один из революционеров пытался навести на учеников пулемет, но его сбили с ног, избили и связали. На беду смертельно ранили Лобадина. Когда его убийца торжествующе крикнул об этом команде, революционные матросы совершенно пали духом. Они быстро спустились в машину и в батарейную палубу, где смешались с учениками. Когда ученики прорвались на верхнюю палубу, революционеры бросили винтовки.
Еще в самом начале борьбы один кондуктор с несколькими учениками спустился вниз и освободил арестованных офицеров. Два мичмана сейчас же поднялись наверх и стали распоряжаться подавлением мятежа. По их приказанию обезоруженных арестованных революционеров начали свозить на берег на шлюпках и портовых пароходах. На первых двух шлюпках отправили главарей: Баженова, Колодина, Болдырева, Котихина, Пенкевича, Григорьева, Кроткова, Осадского и др. Весь постоянный состав тоже свезли на берег, и на крейсере оставили лишь часть машинной команды, необходимой для поддержания паров.
Коптюха выловили из воды, где он проплыл саженей десять, баталера Гаврилова нашли в машине лишь на следующий день.
Около десяти вечера со стороны моря к крейсеру подошла шлюпка со спущенными парусами. Часовой окликнул шлюпку и получил ответ: „Косарев. К Лобадину и Колодину“. Мичман Кржижановский, распоряжавшийся на крейсере, велел ответить: „Лобадин и Колодин принимают“.
В это время с берега возвращался баркас, отвозивший арестованных. Писарю Евстафееву, старшему в патруле, было приказано задержать шлюпку. А люди из шлюпки доверчиво кричали: „Здорово, товарищи!.“.
Евстафеев предложил им перейти на баркас. Таким образом, удалось арестовать и обезоружить запасного гальванера Косарева, ранее служившего на „Памяти Азова“, и двух неизвестных. Во время мятежа было убито 6 офицеров, ранено 3 офицера, судовой священник, два кондуктора, и матросов убито 20 и ранено 48».
А вот мнение участника событий на мятежном крейсере бывшего мичмана Н. Крыжановского: «Хотя Егоров и говорит, что история восстания им написана на основании архивных материалов главного военно–судного управления, однако, он вставил в описание много отсебятины, и нет уверенности, что цифры его взяты из архивных материалов. По моим воспоминаниям, потери в команде были наполовину меньше. У Егорова потери офицерского состава, намеренно или по ошибке, уменьшены. Вообще можно сомневаться, что Егоров внимательно читал материалы суда. Я лично был очень удивлен, что он „полонизировал“ мою фамилию и сделал меня Кржижановским из русской фамилии Крыжановского. В архивных материалах суда, конечно, моя фамилия написана правильно. Вероятно, Егоров считал, что для варварской роли „усмирителя“ лучше подсунуть человека иностранного происхождения.
Весь процесс восстания на крейсере „Память Азова“ был по характеру своему, по поступкам и выполнению чисто большевистским. Теперь, после революции, особенно бросается в глаза, насколько действия, организованные тогда социал–демократической рабочей партией, были идентичны с позднейшими действиями большевиков.
Надо признать, что расправа во время мятежа с офицерами была довольно жестокая. Когда часть офицеров убили и ранили, и оставшаяся в живых горсточка стала отступать на баркасе, то вдогонку по баркасу стреляли из пушек и сделали снарядами 20 пробоин. С затонувшего у берега баркаса остатки офицеров, почти все раненые, старались добраться до леса. Мятежники на катере с пушкой преследовали баркас, стреляли из пушек и ружей и хотели высадиться на берег, чтобы перебить раненых в лесу, но не могли высадиться, т.к. катер сел на мель.
На корабле, пока офицеры были здоровы и вооружены, избиение происходило из–за угла: стреляли из коечных сеток, из катеров и шлюпок с ростр, из–за всяких укрытий.
Взятых в плен мичманов и тяжело раненного старшего офицера хотели убить, но не убили лишь благодаря протесту части команды. После избиения офицеров Лобадин решил расстрелять кондукторов и за ними артиллерийских квартирмейстеров–инструкторов артиллерийского класса. Последнее не вышло, и успели убить лишь одного кондуктора Давыдова и проиграли все дело сами.
Комитет стрелял по своим судам, требуя их присоединения: „Кто не с нами, тот против нас“.
Команду терроризировали уже задолго до главного восстания. Казалось бы, будет несправедливым упрекнуть мятежников в излишней мягкости. Однако Ленин, анализируя революционные действия на флоте, сказал, что широкие массы матросов и солдат были „слишком мирно, слишком благодушно, слишком по–христиански настроены…“
Обман своих применялся революционерами очень широко: испортили суп — никому не сказали; подняли Андреевский флаг, подманили миноносец; переодевались в офицерское платье. В советском описании восстания Егоров говорит, что ночью Лобадин закричал: „выходи наверх, нас офицеры бьют“. Лобадин отлично знал, что стреляли матросы по вахтенному начальнику.
Тот же Егоров приводит пример террора, в виде угроз убить, избиений: „комендор Смолянский был здорово избит, его подозревали в том, что он написал команде письмо о дисциплине и верности присяге“. Также Лобадин объявил: „а кто будет восстанавливать матросов против Лобадина и его товарищей, того недолго выбросить за борт“. Террор применяется к судам, которые колеблются. Мятежники намеревались стрелять по Ревелю, требуя провизии и присоединения гарнизона к революции.
В ночь восстания обстановка террора и страха была создана искусственно: стреляли, пронзительно кричали, кололи штыками в темноте спящих, гасили свет. Казалось бы, что члены комитета состоят из „преданных революции товарищей“. Однако, когда в Ревеле решили послать за провизией на берег двух членов комитета, Гаврилова и Аникеева, в штатском платье, то тут–то усомнились: а не убегут ли. Недоверие к своей среде проявляется и после. Гаврилов готов сдаться, но требует офицера, своим не доверяет. Приговоренные к расстрелу вызвали меня для написания завещаний.
В офицерской среде того периода не было никакого сомнения, что восстание матросов есть лишь мятеж. Мятеж мог быть подготовлен во многих портах, на многих кораблях, городах, в среде армии и флота, но все же, это был только мятеж, а не революция. Офицеры уговаривали матросов, приказывали, наконец, стреляли и умирали на посту. За очень редкими исключениями не было мысли искать какого–либо компромисса.
Со времени восстания на „Памяти Азова“ прошло 42 года до написания этой статьи. Я пишу все по памяти, без каких–либо записей, а потому не могу претендовать на полноту изложения и уверен, что в описании есть неверности. В эмиграции есть еще много бывших морских офицеров Императорского флота, которые помнят 1906 год и происходящие в нем события. Будет справедливым почтить добрым словом имена рядовых офицеров, исполнявших свой долг в тяжелой и безотрадной обстановке ненормальных взаимоотношений того периода между офицером и матросом. Убитые офицеры крейсера „Память Азова“ отдали свою жизнь Родине, пытаясь восстановить порядок на корабле. Имена их не должны быть преданы забвению в анналах морской истории».
В ноябре 1908 года Ленин в статье «По поводу двух писем» с нескрываемой досадой признал, что Свеаборгский, Кронштадтский и «Азовский» мятежи матросов «были как бы завершением солдатских и крестьянских бунтов». Революция полностью провалилась, и Россия вступила в полосу относительной стабильности. Теперь на повестке дня было возрождение морской мощи империи.
Послесловие
Отгремели страсти 1906 года. Затем были годы спокойной жизни, Первая мировая, еще две революции, Гражданская война, эпоха мирного строительства и еще одна страшная война, на этот раз Отечественная. О «Памяти Азова» как–то забылось. Годы и политические вихри, пронесшиеся над Россией, не обошли стороной практически никого, кто имел то или иное отношение к мятежу на знаменитом крейсере, к мятежам в Кронштадте и Свеаборге.
События на «Памяти Азова» потрясли Николая II. С тех пор он ни разу не ступал на его палубу. 12 февраля 1909 года «Память Азова» становится учебным судном «Двина» и лишается Георгиевского флага. Одновременно с него снимают и все вооружение, оставив лишь четыре 47–мм пушки.
С осени 1915 года окончательно устаревшая «Двина» становится плавбазой английских подводных лодок, действующих совместно с нашим флотом на Балтике. Места демонтированных устройств и механизмов, погребов и угольных ям заняли стеллажи для запасов и дельных торпед. Часть внутренних помещений судна переоборудовали для хранения торпед, другие — для кубриков для английских подводников. Особенно довольны плавбазой были английские офицеры, которым достались богато отделанные каюты.
Уже в первый день февральской революции 1917 года команда потребовала возвращения судну старого имени. Никто против не был, всем было не до какой–то старой плавбазы. Что касается «Память Азова», то он стал флагманским кораблем русского морского начальника при обеспечении Ледового похода флота из Гельсингфорса в Кронштадт. Обеспечив выход кораблей и судов из Гельсингфорса, «Память Азова» покинул Гельсингфорс. В Кронштадте из–за недостатка средств «Памяти Азова» был законсервирован и поставлен на прикол у причальной стенки.
В ночь на 18 августа 1919 года англичане провели операцию по уничтожению боевых кораблей в Кронштадтской гавани. С рассветом в Кронштадтскую гавань ворвались торпедные катера. Операция была не слишком успешной. Одной из немногочисленных жертв торпедной атаки стал «Память Азова». Плавбаза стояла у выхода из гавани, развернутая бортом в сторону атаки. Это был первый и последний бой в жизни «Памяти Азова». Судно получило в борт две торпеды. Сокращенная команда даже не пыталось спасти старое судно, и через какой–то час «Память Азова» лег на грунт, оставив над поверхностью воды верхнюю палубу и надстройки. Последующие шесть лет до остова некогда знаменитого корабля никому не было никакого дела. Только в ноябре 1924 года «Память Азова» был поднят и после докового ремонта превращен в плавсклад. Но состояние судна было столь удручающим, что уже год спустя его исключили из списка кораблей РККФ, а еще два года спустя разобрали «на иголки».
Командир учебно–артиллерийского отряда капитан 1–го ранга Дабич был назначен в распоряжение морского министра. Затем произведен в контр–адмиралы, стал начальником отдела заготовлений Главного управления кораблестроения и снабжений. В 1908 году Дабич был уволен в отставку с производством в вице–адмиралы «за болезнью и вследствие контузий и ран в Японскую войну» и через несколько лет умер от старых ран.
Командир минного крейсера «Абрек» и старший офицер были предан суду за уклонения от участия в подавлении мятежа на «Памяти Азова». Впрочем, оба были оправданы и на их дальнейшей карьере данное обстоятельство не сказалось. Что касается старшего офицера «Абрека» лейтенанта Вилькена, то он впоследствии даже командовал дредноутом «Севастополь», а во время Гражданской войны воевал в армии Юденича.
Сразу же после восстания новым командиром «Памяти Азова» был назначен капитан 1–го ранга Александр Парфенович Курош, а старшим офицером — капитан 2–го ранга князь Трубецкой. Именно Курош, командуя во время Свеаборгского мятежа минным крейсером «Финн», первым открыл огонь по мятежной крепости. Эсеры этого ему не простили. Месть их была изощренной и страшной. В 1911 году ими был убит его сын — ученик пятого класса Кронштадтского реального училища Павел Курош. 30 июля на имя Павла Куроша пришло по почте письмо, содержавшее угрозу убить его. На следующий день сын адмирала был найден в саду дачи повешенным. Ответственность за расправу над мальчиком взяли на себя эсеры. Так они отомстили офицеру за его участие в подавлении мятежа. Что касается самого капитана 1–го ранга Куроша, то он впоследствии был комендантом Кронштадтской крепости и вице–адмиралом. Уже находясь в отставке, в 1918 году Курош был арестован ЧК и расстрелян все за то же участие в свеаборгских событиях и участие в событиях на «Памяти Азова». У Александра Парфеновича был брат Николай, который участвовал в походе 2–й Тихоокеанской эскадры вторым флагманским артиллеристом, в Цусимском сражении. Писатель Новиков-Прибой в своем романе «Цусима» описал Николая Куроша как отъявленного негодяя. Да как же иначе, ведь он был брат отъявленного контрреволюционера! Впрочем, дальнейшая судьба Николая Куроша также сложилась трагически. Он был убит мятежными матросами в 1907 году во Владивостоке.
Большое количество адмиралов и офицеров, имевших хотя бы косвенное отношение к событиям 1905–1906 годов на Балтике, были казнены сразу же после провозглашения политики «красного террора» в сентябре 1918 года. Так, к примеру, адмирал В. В. Веселкин был расстрелян только за то, что в 1905 году стал флигель–адъютантом Николая II. Заодно, уже как друга Веселкина, расстреляли и флотского генерал–майора А.Н. Рыкова. Ни тот ни другой никакого отношения к подавлению мятежей, их расследованию и к судебным процессам не имели, но какое это уже имело значение…
Председатель суда над матросами «Памяти Азова» капитан 1–го ранга А. Н. Русин впоследствии дослужится до должности начальника Главного морского штаба и чина полного адмирала. После октября 1917 года — в эмиграции. Умер в 1956 году в возрасте 95 лет в далекой Касабланке.
Секретарь того же суда В. К. Тирс впоследствии стал начальником Главного управления кораблестроения и вице–адмиралом. По одним данным, был утоплен в августе 1918 года большевиками на барже в Финском заливе. По другим данным, умер в это же время в Петрограде от тифа.
Что касается князя Трубецкого, ставшего после мятежа старшим офицером «Памяти Азова», то он в последующем командовал миноносцем «Сильный». В 1912 году он переводится на Черное море. С января 1914 года он начальник 1–го дивизиона эсминцев. 15 октября 1914 года князь Трубецкой находился в дозоре на «Лейтенанте Пущине» с «Жарким» и «Живым». Во время атаки линейным крейсером «Гебен» Севастополя и расстрела минного заградителя «Прут» Трубецкой в безумной по отваге атаке вражеского корабля стяжал себе известность во всей России. Командуя затем дивизионом новейших эсминцев — «новиков», Трубецкой устроил настоящий погром на приморских турецких коммуникациях, заслужив у турок прозвище «шайтан–капитан». Затем он будет командовать новейшим линейным кораблем–дредноутом «Императрица Мария», бригадой эсминцев и Балтийской морской десантной дивизией, готовившейся к десантной операции на Босфор.
После Октябрьской революции контр–адмирал князь Трубецкой не присоединился ни к красным, ни к белым. Вместе с семьей он уезжает во Францию. На чужбине, в суровых условиях повседневной борьбы за существование, князь не изменил ни своим взглядам, ни своим убеждениям, сохранив горячий и вспыльчивый характер. Скончался князь Трубецкой в 1931 году в Шато–де–Тан под Парижем.
Что касается мичмана Николая Крыжановского, то он честно отвоевал Первую мировую войну, затем дрался в Белой армии. С 1921 года был в эмиграции. Жил Крыжановский вначале в Румынии, потом в Югославии и, наконец, в США в Нью-Йорке. Работал картографом. Уже в Америке он написал свои воспоминания об обстоятельствах мятежа на «Памяти Азова». Умер старейший член экипажа «Памяти Азова» капитан 2–го ранга Крыжановский в Нью-Йорке в 1964 году.
Командующий практической эскадрой Балтийского флота, который сыграл решающую роль в подавлении мятежа в Свеаборге, а затем организовал следствие и суд над мятежниками, капитан 1–го ранга Иван Федорович Бострем впоследствии сделал неплохую карьеру. Через несколько лет он будет уже старшим флагманом Черноморского флота и вице–адмиралом. Но навигационная авария двух вверенных ему броненосцев поставит крест на дальнейшей карьере. После выхода в отставку Бострем будет начальствовать Николаевскими судостроительными заводами, которые именно тогда приступили к строительству мощнейших линкоров–дредноутов. В годы Гражданской войны Бострем так же будет весьма деятельно заниматься ремонтом кораблей белого флота. После эмиграции во Францию он станет председателем офицерской кают–компании в Париже. Умрет старый адмирал в городке Медоне в 1934 году.
Флаг–капитан учебно–артиллерийского отряда капитан 1–го ранга П. В. Римский-Корсаков после Октябрьской революции служил в РККФ. Умер в Ленинграде в 1927 году.
Флагманский артиллерист лейтенант Д. Н. Вердеревский в 1917 году был морским министром временного правительства. Во время Октябрьской революции был арестован в Зимнем дворце. Впоследствии эмигрировал во Францию. В 1947 году умер в Париже.
Старший артиллерийский офицер «Памяти Азова» лейтенант В. В. Селитренников уволился с флота в 1918 году в чине капитана 2–го ранга. Но вскоре, как военный специалист, был призван в РККФ. В 1924–1926 годах он был начальником Морских сил Дальнего Востока и Амурской военной флотилии. В 1931 году его арестовали и осудили на 10 лет, но амнистировали. В 1937 году Селитренников вторично был арестован и в 1938 году умер в тюрьме.
Вахтенный начальник крейсера мичман П. Я. Павлинов после революции остался в Таллине. Был там же арестован в 1940 году, отправлен в Соловецкий лагерь, где вскоре и умер.
Отметим, что император Николай II не остался безучастным к тем, кто отдал жизнь, защищая от мятежников его любимый корабль. Семьи погибших офицеров получили помимо пенсий и одновременные денежные выплаты. Кроме этого император повелел лично известного ему артиллерийского кондуктора Ивана Давыдова, «за воздание честного исполнения воинского долга и присяги и убитого при усмирении мятежа на крейсере», посмертно произвести в подпоручики по Адмиралтейству. Вдове и детям погибшего это давало существенные льготы.
Кроме этого «за отличие по службе при усмирении мятежа на крейсере „Память Азова“», были произведены в подпоручики артиллерийские кондукторы учебно–артиллерийского отряда Егор Огурцов и Кирилл Лавриненко и в коллежские регистраторы — писарь 3–й статьи Василий Евстафьев, а артиллерийские квартирмейстеры Памфил Ершов и Степан Точелавич — переведены в артиллерийские кондуктора. Доблесть в бою с врагами внутренними была приравнена к доблести в боях с врагами внешними. По–моему, это справедливо.
В императорском приказе по Морскому министерству было опубликовано: «Государь император в воздаяние честно исполненного долга и присяги при подавлении мятежа на крейсере 1–го ранга „Память Азова“ всемилостивейше соизволил пожаловать серебряную медаль с надписью „За храбрость“ артиллерийскому кондуктору Кириллу Лавриненко». Помимо этого, Лавриненко был произведен в подпоручики по Адмиралтейству. А через несколько лет он уже был штабс–капитаном флота на учебном корабле «Петр Великий».
Однако судьба бывшего артиллерийского кондуктора «Памяти Азова» закончилась печально. В 1933 году он был арестован и доставлен в Московское следственное управление, где ему было предъявлено обвинение, как активному участнику подавления мятежа на крейсере. Следствие по делу Лавриненко вел знаменитый в прошлом следователь–писатель Лев Шейнин. В своей известной книге «Записки следователя» этому делу он посвятил целый рассказ «Карьера Кирилла Лавриненко».
Выходец из зажиточной еврейской семьи Лев Шейнин после революции стал весьма активным комсомольским вожаком, потом чекистом и прокурором, участвовал во многих процессах 1937–1938 годов, отличаясь завидным умением выбивать показания из невиновных. На досуге писал рассказы и пьесы. Уже после войны он сам попадет в тюрьму за организацию тайного союза еврейских националистов. Прокурор–писатель останется жив только благодаря смерти Сталина, но в органах восстановлен уже никогда больше не будет. Волею судьбы в 1928 году именно Лев Шейнин соприкоснулся с делом «Памяти Азова». Шейнин подробно рассказывает о том, как был задержан унтер–офицер «Памяти Азова» Лавриненко, который в 1906 году одним из первых храбро выступил против мятежников. Разумеется, бывший прокурор описывает Лавриненко как ничтожного и трусливого человека:
«Наутро следующего дня я получил дело, ознакомился с ним, и в середине дня ко мне доставили арестованного. Это был пожилой человек, небольшого роста, с седенькой, клинышком, бородкой, маленькими, глубоко сидящими серыми глазами и угодливой, какой–то елейной улыбочкой…
Как только его ввели в мой кабинет, он еще с порога отвесил поклон, произнес: „Здравия желаю!“. Старшим судовым кондуктором крейсера был Кирилл Лавриненко. Этот невысокий молчаливый человек был известен как черносотенец, наушник и подхалим. Матросы, знавшие его давно, относились к нему с презрением и называли его „шкурой“».
Или вот еще пассаж: «Матросы могли меня убить, — отвечает Лавриненко. — Я ведь с „Памяти Азова“, потому и перешел на другое судно. Злы на меня матросы были, чего там говорить!.. А тут еще этакое секретное задание, сами понимаете. Пятерых завербуешь, а шестой тебя ножом пырнет — и за борт. Сколько этих революционеров ни сажали, а их с каждым годом все больше становилось. И они все друг за друга стеной стояли. Эх, гражданин следователь, вы думаете, легко мне дались эти погоны да медали?.. Будь они прокляты!..
И он заплакал — заплакал совсем по–старчески, всхлипывая и не вытирая слез.
Я протянул ему стакан с водой. Он только махнул рукой.
Страшным путем заработал он свои медали и погоны. Его сделали штабс–капитаном. Но среда, из которой он вышел и которую предал, ненавидела его, и он ее боялся. А общество, в которое он вошел ценою предательства, не стало его обществом. Офицеры презирали его, потому что в глубине души тоже считали его предателем. И никакие царские указы не в силах были стереть со лба этого человека страшное, как бы выжженное на всю жизнь и всеми презираемое клеймо — предатель!»
Писатель–чекист Лев Шейнин с делом «Памяти Азова» разобрался быстро, и вскоре старик Лавриненко был расстрелян, как отъявленный контрреволюционер.
Неудавшийся вожак «Памяти Азова» эсер Фундаминский, тот самый, что опоздал с приездом на крейсер, а потом прямо из зала суда умчался кутить за границу, до 1917 года безбедно жил в Париже и числился героем в эмигрантских кругах. Едва же в феврале 1917 года опять запахло жареным, он вновь объявился в России. Как «специалист» по революционным преобразованиям на флоте и герой прошлой революции, он сразу был определен в комиссары Черноморского флота. Там бывший депутат Государственной думы отличился в массовых расстрелах морских офицеров, чем подтвердил свой статус героя–революционера. Однако затем революционное чутье почему– то подвело опытного авантюриста. Поставив на партию эсеров, он ошибся в раскладе сил, вследствие чего был объявлен врагом новой власти и бежал из Советской России опять в Париж. Там чета Фундаминских весьма тесно дружила с Иваном Буниным и его супругой. Что объединяло знаменитого писателя и проходимца Фундаминского, я, право, не знаю. Из растерзанной Гражданской войной России Фундаминский вернулся во Францию весьма небедным человеком. Известен факт, когда его жена Адель, проснувшись как–то утром, закапризничала: «Хочу, чтобы меня обсыпали бриллиантами!» Ни больше, ни меньше! Верный супруг тотчас помчался в ближайший ювелирный магазин и уже вскоре обсыпал капризную Адель жменями купленных бриллиантов… Так вот и жили…
С началом Второй мировой войны и захватом немцами Парижа Фундаминский немедленно решает перековаться и порвать со своим иудейским прошлым. По этой причине он срочно принимает православие. Но гестапо обмануть было не так–то легко. В 1941 году, как еврей и активный масон, Фундаминский был арестован немцами и отправлен в Освенцим. Оттуда он уже не вышел.
Казалось бы, на этом можно было в биографии этого международного авантюриста поставить точку, но не тут–то было! Спустя много лет о Фундаминском вспомнили его парижские единомышленники–масоны, и в 2004 году он был торжественно канонизирован константинопольским патриархом как. святой мученик. Наверное, это единственный святой из всех революционеров, эсеров и боевиков, комиссаров и депутатов Госдум всех созывов! В этом он, кажется, переплюнул всех! Раньше фотографии Фундаминского висели в полицейских участках, как опасного террориста, находящегося в розыске, теперь же его светлый лик взирает на нас с икон. Что и говорить, чудны дела твои, Господи!
Пожалуй, лучше всех сложилась судьба одного из зачинщиков мятежа в Свеаборге штабс–капитана Сергея Циона, который вовремя сбежал из Свеаборга вначале в Швецию, а оттуда в Англию. В Лондоне он устроился журналистом в одну из газет, как специалист по России, и принялся активно разоблачать «кровавый царизм». В 1917 году, сразу после февральской революции, эсер Цион неожиданно объявился в Петрограде в ближайшем окружении Керенского. Но после октября 1917 года снова бежал, так как боялся мести большевиков за свои былые прегрешения. Но на этот раз Цион бежал уже не в Англию, где за ним тоже водились кое–какие грешки, а в Швецию, где и проживал до самой смерти в 1947 году.
Отметим одну любопытную деталь. Цион был весьма дружен с уже известным нам святым эсером Фундаминским, который в свою очередь дружил с Иваном Буниным. Состоял в переписке с Буниным и сам Цион. Может, именно поэтому Цион и возглавил шведское общество друзей Бунина. Честно говоря, я не могу сказать, что за отношения связывали Ивана Бунина с двумя отъявленными негодяями эсерами.
О Кронштадтском восстании 1906 году по свежим следам были сложены песни «Мы сами копали могилу свою», «Царские гости» («Трупы блуждают в морской ширине») — обе на стихи В. Богораза-Тана, — и «Море в ярости стонало» на стихи некоего Г. Ривкина. Глубоко сомневаюсь, чтобы очень уж близки были флотские дела и Богоразу, и Ривкину. Еврейские поэты просто выполнили социальный заказ. В течение последующих ста лет больше никаких песен о мятежниках с «Памяти Азова» уже никто не сочинял. Если потом о «Памяти Азова» иногда и вспоминали, то в основном, смакуя обстоятельства казни участников мятежа и «зверства» царских властей.
Как всегда, вокруг истории мятежа на «Памяти Азова», и в особенности вокруг казни его зачинщиков, родилось немало легенд, причем порой весьма экзотических.
В свое время кем–то была запущена легенда о том, что перед расстрелом матрос Дмитрий Григорьев якобы завещал свои часы тому, кто его расстреляет. Возвышенно! Романтично! Но нереально!
Уже в послевоенные годы журналист Б. Котельников додумал эту легенду своими домыслами. Вот как выглядит эта история в изложении уже знакомого нам писателя Кардашева: «Советскому корреспонденту Б. Котельникову довелось за рубежом случайно встретиться с вдовой донского казака, бежавшего из России в годы гражданской войны. Ее муж, старый уже человек, умер, как она рассказывала, когда ее не было дома. Умер, сидя за столом. Когда жена вернулась, он уже похолодел. На столе перед ним лежали серебряные часы, которые он привез с собой из России. Казак не любил эти часы и никогда их не носил; хотел выбросить, но приберег на черный день для продажи. Однако так и не продал. Корреспондент заинтересовался часами. На внутренней стороне их крышки была выгравирована эмблема Ревеля — фигурка средневекового воина, держащего в отставленной в сторону руке копье с флажком. Это был Старый Томас, и ныне возвышающийся над зданием таллинской ратуши. Под фигуркой готическим шрифтом по–эстонски было написано: „Помни Ревель“. В памяти Котельникова всплыла некогда слышанная им легенда о серебряных часах, завещанных палачу приговоренным к расстрелу матросом. Позже он рассказал о ней на страницах своей книги „Балтийская легенда“».
Почему обычные часы с надписью «Помни Ревель» у старого казака должны быть именно часами расстрелянного матроса? Ведь сам–то казак об этом ничего корреспонденту не говорил, а рассказывала его старуха жена, что он просто умер с этими часами, и всё! Какие основания были у журналиста для утверждения, что именно этот казак был некогда палачом матросов и именно ему завещал свои часы один из расстреливаемых, кроме его воспаленного воображения? Да никаких! Перед нами не что иное, как еще один образчик мифотворчества.
Любопытно, что ближайшим соратником небезызвестной Фанни Каплан в организации покушения на В. И. Ленина в 1918 году был активный участник мятежа на «Памяти Азова» бывший каторжанин эсер П. Н. Пелевин.
Современники описывают его, как «братишку в клешах с Балтийское море шириной и с татуировкой». При этом Пелевин отличался совершенно дикими планами покушения на Ленина, предлагая, к примеру, его отравить. После ранения Ленина и ареста Каплан бывшему «азовцу», однако, удалось скрыться. В последующем он принимал активное участие в различных экспроприациях против советских учреждений и частных лиц, т.е. фактически занялся заурядным бандитизмом. Дальнейшая судьба клешника Пелевина автору неизвестна.
Что касается самого восстания «Памяти Азова», то такого широкого резонанса в России и за рубежом, как мятеж на «Потемкине», оно так и не получило. К 1906 году удивить кого–то очередным мятежом на российском корабле было уже невозможно. К тому же революционный угар в стране быстро сходил на нет, а сами революционеры выходили из моды. Именно поэтому мятеж на «Памяти Азова» никогда особо не привлекал ни историков, ни писателей. Именно поэтому никто никогда не искал ветеранов этого мятежа и не заставлял их писать воспоминания. Именно поэтому азовцам не ставили таких монументальных памятников, как потемкинцам, и, наконец, именно поэтому в 1955 году их, в отличие от доживших до этого времени потемкинцев, так ничем и не наградили, словно их и не было.
С разгромом последних мятежей в Свеаборге, в Кронштадте и на крейсере «Память Азова» первая русская революция подошла к своему логическому завершению. Всем наконец–то стало очевидно, что пока императорская Россия оказалась нигилистам всех мастей не по зубам. Она пошатнулась, но устояла. И революционеры, и правительство занялись анализом своих ошибок, делая из них определенные выводы. Одни для того, чтобы знать, как спасти государство в будущем, другие — чтобы, наоборот, сокрушить его, как только представится соответствующая возможность.
Следующий социальный взрыв в России произойдет только через 11 лет. Все эти годы противоборствующие стороны будут кропотливо и деятельно к этому готовиться. При этом революционеры уже твердо знали, что свою новую атаку они начнут именно с нового удара по Российскому императорскому флоту. Это произойдет в марте 1917 года, и этот удар будет всесокрушающ…
ДЕЛО О ДВУХ ЭСМИНЦАХ
Мне снился блеск форштевня миноносца, Которым крейсер к молу был прижат. Николай ТихоновПериод между 1917 и 1921 годами был, пожалуй, самым трудным в 300–летней истории российского Балтийского флота. Первая мировая и Гражданская война не прошли даром. За это время на Балтике произошло немало драматических и трагических событий. Одним из таковых было и дело о сдаче врагу двух новейших эскадренных миноносцев. Ни до, ни после этого случая корабли под красным флагом никогда больше не сдавались врагу. Тот трагический случай явился первым и последним. При этом в плен эскадренные миноносцы сдал не кто–нибудь, а человек, фактически исполнявший в то время должность главнокомандующего военно–морскими силами страны. Подобного история мировых флотов вообще никогда не знала!
В советское время о «деле двух эсминцев» писали мало и неохотно. Понять историков можно, ибо гордиться в данном случае действительно особенно нечем. Однако, как это часто бывает в критические моменты, трусость и подлость одних соседствует с героизмом и доблестью других. История трагедии двух эсминцев не была исключением из этого правила. А потому, наверное, сегодня нам нелишне будет вспомнить еще раз эту трагическую страницу отечественной истории, вспомнить, чтобы попытаться разобраться в событиях декабря 1918 года, вспомнить, чтобы еще раз помянуть поименно тех, кто до конца остался верен своему воинскому долгу и воинской чести.
Балтика. Осень 1918 года
…Заканчивался год 1918–й. На территории России все больше и больше разгоралась беспощадная и кровавая Гражданская война. Наряду с ней ширилась и иностранная военная интервенция. Если еще вчера главной опасностью для страны являлось наступление кайзеровских армий, то к концу года все изменилось.
В результате ноябрьской революции 1918 года в Германии была свергнута монархия и немцы покинули оккупированные территории Украины и Прибалтики. Но свято место пусто не бывает! И вместо германских войск в Прибалтику вступили войска Антанты.
В ближайшей к Петрограду Эстонии сразу же после ухода немцев власть захватили местные националисты, сформировавшие для борьбы с Советской Россией «Эсти Кайтселит» (Эстонский охранный корпус).
Одновременно, воспользовавшись эвакуацией германских войск, 7–я Красная армия под лозунгом «мировой революции» в конце ноября 1918 года перешла в наступление на Нарву, занятую частями Эстонской армии.
Между тем в ноябре Морской Генеральный штаб известил командование Балтфлота о том, что «английская эскадра прошла Каттеат по пути в Балтику, предполагаемая цель — высадить десант в Ревель». Это подтвердила и агентурная разведка, а потому 18 ноября 1918 года начальник Морских сил Балтийского моря Зарубаев доложил в Москву, что начинает ставить мины на подступах к Кронштадту.
2 декабря флотские радиоразведчики перехватили шифрограмму из Ревеля следующего содержания: «Командующему союзным флотом в Балтике. Наши летчики будут встречать вас у Суропа и Оденсхольма». Об этом сразу известили Москву. Позже поймали еще несколько сообщений подобного рода. Судя по ним, на Балтику прибыло не менее 9 британских боевых кораблей. Известный историк английского флота Вильсон, в свою очередь, позже написал: «Сразу по заключении перемирия (с Германией. — В.Ш.) в Балтийское море вышли 1–я эскадра легких крейсеров и три флотилии эсминцев».
Общие силы англичан составляли пять крейсеров, девять эскадренных миноносцев и семь минных тральщиков под командованием контр–адмирала Э. Александер-Синклера.
28 ноября 1918 года с крейсера «Олег», эсминца «Меткий» и трех транспортов был высажен десант на левый берег реки Наровы. Красные моряки заняли Гунгербург (ныне Нарва-Иысту) и, соединившись с частями 7–й Красной армии, 29 ноября 1918 года освободили Нарву. В этот же день была провозглашена Эстляндская Трудовая Коммуна (Эстляндская Советская Республика). После этого войска 7–й Красной армии начали дальнейшее наступление на Ревель.
12 декабря 1918 году в Ревель, для усиления обороны, пришел отряд английских кораблей в составе двух легких крейсеров и пяти эсминцев.
На тот момент времени состояние Балтийского флота было весьма плачевным. После ледового перехода из Гельсингфорса в Кронштадт в апреле 1918 года лишь одна треть кораблей могла быть приведена в боевую готовность после сравнительно небольшого ремонта. Помимо этого тысячи моряков ушли на сухопутные фронты и на многочисленные речные флотилии. В результате, по свидетельству комиссара Балтийского флота Флеровского, к августу 1918 года «на больших кораблях почти не осталось личного состава: на броненосном крейсере „Рюрике“ — 170 человек вместо 939 моряков, на линкоре „Петропавловск“ — меньше 200 (положено 1120), на линкоре „Республика“ — около 200 (должно быть 930 моряков)».
Из характеристики Балтийского флота в 1918 году: «Полгода никаких плаваний и работ не проводилось. К ничтожным остаткам обученных матросов добавились совершенно неопытные в морском деле люди, нанявшиеся служить часто ради того, чтобы куда–то пристроиться».
По Брестскому миру, заключенному с немцами, флот должен был оставаться в портах. Начальника морских сил Балтийского моря бывшего капитана 1–го ранга Алексея Щастного, проведшего через лед из Гельсингфорса (Хельсинки) почти 200 кораблей, в мае, вызвав в Москву, арестовали, а в июле расстреляли по приговору Ревтрибунала, науськанного Львом Троцким. Конфликт начался после того, как начморси (так теперь сокращенно называлась должность командующего) довел до Советов комиссаров и флагманов «тайное ему поручение из Кремля» о подготовке групп моряков для подрыва фортов и кораблей «в случае необходимости». Главный военный начальник большевиков на заседании трибунала (он выступал единственным свидетелем) подтвердил, что взрывникам наркомат поместил вклады в банке. «За деньги революции не служат», — вынес постановление Совет комиссаров еще до суда над Щастным. Расстрел командующего и вовсе поубавил Льву Давидовичу авторитета на Балтике. Матросы и штабы начали демонстративно собирать средства семье покойного начморси. Надо было любой ценой сломить «балтийское неподчинение». А это можно было сделать, только назначив туда руководителем лично преданного Троцкому человека, причем такого, над кем бы витал ореол героя революции.
Появление английского флота в Ревеле вызвало закономерную тревогу у командования Балтийского флота. Для начала необходимо было уточнить ситуацию вокруг Ревеля, и в сложившейся ситуации лучше всего можно было бы использовать подводные лодки.
Дивизия подводного плавания (подплава) Балтийского флота к этому моменту имела в своем составе девятнадцать подводных лодок. Но по техническому состоянию большинство из них были небоеспособны. Выбор разведать Ревельский рейд пал на наиболее боеготовую в тот момент подводную лодку «Тур». Команду на нее собрали со всей дивизии.
26 ноября командир «Тура» Николай Коль и комиссар латыш Ян Гаевский были вызваны в штаб действующего отряда Балтийского флота на крейсер «Адмирал Макаров». Однако принял их не начальник Морских сил Балтийского моря, а член Реввоенсовета Республики Федор Раскольников.
Явление «Красного лорда»
В нашем повествовании Федор Раскольников — это центральная фигура, а потому остановимся на этой личности подробнее.
Настоящая фамилия Раскольникова — Ильин, а революционный псевдоним «Раскольников» он дал себе сам. Согласитесь, что псевдоним многозначительный. Считавший всю жизнь себя большим интеллектуалом Ильин взял именно такой псевдоним не случайно. Как мы помним, Раскольников Достоевского считал себя избранным, а потому с легкостью убил топором «ничтожную» старуху–процентщицу, после чего, однако, осознал содеянное и раскаялся. Что же хотел сказать миру недоучившийся студент Ильин, беря себе столь одиозный псевдоним? Скорее всего, то, что во имя своей идеи — идеи мировой революции — он готов, как и Раскольников, крушить топором стоящих на его пути ничтожных людей, не испытывая при этом, как его литературный предшественник, никаких душевных мук. Помните, как у Достоевского: «Тварь я дрожащая или право имею?» Ильин—Раскольников сам присвоил себе право взять в руки революционный топор.
Мало кто знает, но в начале своей революционной карьеры будущий Раскольников придумал себе совсем иную кличку — Немо, в честь знаменитого жюльверновского капитана. Но вскоре понял, что с кличкой ошибся. Матросы и солдаты слыхом ничего не слыхивали о литературном герое — борце за свободу Индии от английских поработителей, гениальном изобретателе и первом великом моряке–подводнике (именно так был подан образ капитана Немо Жюль Верном в его знаменитых «80 тысяч лье под водой»), к тому же само имя «Немо» ассоциировалось у окружающих с понятием «немой». Более неудачного прозвища для начинающего оратора и трибуна придумать было нельзя. Поэтому неперспективный Ильин-Немо вскоре исчез, зато появился многозначительный Ильин-Раскольников.
Жажда славы у Ильина-Раскольникова была прямо маниакальная. Псевдонима убийцы ему было явно мало. Уже после революции он неожиданно для всех объявил, что является праправнуком знаменитого лейтенанта Дмитрия Ильина — героя Чесменского сражения 1770 года и национального героя России. Увы, даже самые преданные поклонники Ильина—Раскольникова до сих пор так и не смогли найти никаких документальных подтверждений этому, что весьма странно. В дворянских генеалогических книгах (которые скрупулезно велись в каждой губернии) проследить родословную любого дворянского рода России достаточно просто. Но восходящей линии от Ильина–Чесменского к Ильину–Раскольникову никто так и не нашел. Почему? Да потому, что ее не существует в природе! Вообще, фантазии Федора Ильина удивительны. Для чего ему понадобилось выдумывать героическую родословную? Скорее всего, из непомерного тщеславия. Кроме этого, таким образом, пламенный революционер желал поднять свой авторитет среди кадровых офицеров флота.
С началом Первой мировой войны, спасаясь от фронта, студент Ильин поступает на отдельные гардемаринские классы. Расчет оказывается верным. К моменту окончания классов начинается революция, в которой Ильин– Раскольников принимает самое непосредственное участие. Раскольников редактирует газету «Голос правды», ведет пропаганду среди матросов Балтики. В июле 1917 года он возглавляет в Петрограде провокационную демонстрацию моряков, которая была обстреляна из пулеметов. До сих пор среди историков нет единого мнения относительно того, кто же стрелял в моряков. Есть предположение, что это была провокация самих организаторов демонстрации, имевшая целью озлобление матросов против существующей власти. Мало кто знает, что в момент октябрьского переворота в октябре 1917 года, когда судьба восстания и большевиков висела на волоске, Раскольников самовольно покинул Смольный и скрылся в неизвестном направлении. Впоследствии свое неучастие в этом историческом событии он оправдывал внезапной «инфлюэнцей». После Октябрьской революции Раскольников снова на коне и вместе с матросом Железняковым разгоняет Учредительное собрание. «Там действовал товарищ Раскольников, которого прекрасно знают московские и питерские рабочие по его агитации, по его партийной работе». Эти слова принадлежат Ленину.
С этого времени у Раскольникова устанавливаются особо близкие и доверительные отношения и с Львом Троцким, которого Раскольников считает своим единомышленником и наставником. Вскоре после октября 1917 года за особые заслуги в революционизации Балтфлота именно Троцкий на флотском съезде присваивает ему почетное звание лейтенанта (и это притом, что все чины к тому времени уже были отменены!) с формулировкой «за преданность народу и революции, как истинный борец и защитник прав угнетенного народа».
И Раскольников полностью оправдывает доверие Троцкого, активно участвуя в судебном фарсе с командующим флотом Щастным, первым голосует за его казнь. Сегодня доказано, что вины перед Отечеством у Щастного не было никакой, кроме той, что вопреки желанию Троцкого он спас в ледовом походе Балтийский флот и потому стал его личным врагом.
После процесса со Щастным Раскольников становится настоящим любимцем Троцкого (теперь он «избранный»!) и карьера его поэтому стремительна. Уже в сентябре 1918 года Раскольников назначается членом Реввоенсовета Республики, став там правой рукой Троцкого. В Реввоенсовете Раскольников (как большой военно–морской специалист) отвечал за морские вопросы, то есть, по существу, являлся на тот момент главным начальствующим лицом в ВМФ страны. Себя он, не без гордости, любил в это время именовать себя «красным лордом», намекая тем самым, что он, вчерашний недоучившийся мичман, ныне, волею судеб, вознесся до вершин власти лордов британского Адмиралтейства.
Впрочем, у Раскольникова был серьезный конкурент — матрос Николай Маркин. При всей расположенности Троцкого к Раскольникову, к Маркину он благоволил намного больше. Причины для этого были! Во–первых, Маркин в отличие от Раскольникова был настоящим матросом, а значит, своим в матросской среде, которая с недоверием относилась к невесть откуда появившемуся мичману–оратору. Во–вторых, Маркин не на словах, а на деле, уже доказал свою незаменимость. Он был настоящим «серым кардиналом» кронштадцев, хотя мало говорил и еще меньше кричал на митингах. Еще до октября 1917 года Маркин оказал Троцкому огромную услугу. По свидетельству самого Троцкого, Маркин, зная «секрет прямого действия», после избрания его председателем Петросовета заменил квартирную блокаду в доме, где жила семья Троцкого, на «диктатуру пролетариата». Именно он затем наладил выпуск газет в Совете «Рабочий и солдат». После октября Маркин фактически возглавил Министерство иностранных дел, прекратил саботаж чиновников МИДа и опубликовал тайные международные договоры царского правительства. Помимо этого Маркин возглавил еще и Наркомфин и некоторое время регулировал финансовые потоки новой власти. Все это подняло его популярность и авторитет на недосягаемую для Раскольникова высоту. Разумеется, что это не могло не вызвать у честолюбивого «красного мичмана» зависти и жажды реванша. Но пока с матросом Маркиным ему приходилось считаться и числиться во втором ряду любимцев Троцкого.
В ноябре 1917 года Раскольников назначается комиссаром Морского Генерального штаба. Мало кто знает, но в это время именно Раскольников спровоцировал массовые казни офицеров в Севастополе 16–17 декабря 1917 года, когда было расстреляно несколько сотен офицеров. Вслед за известным воззванием Совнаркома «Социалистическое Отечество в опасности» с призывом расстреливать всех «шпионов» на месте он послал в Севастополь разъяснение, что шпионами следует считать всю контру и расправляться с ней безжалостно. Именно Раскольников являлся автором «разъяснений» по поводу «красного террора», требуя повсеместных расстрелов представителей чуждых классов и введения института заложников.
В январе 1918 года Раскольников уже член Коллегии Народного комиссариата по морским делам. На этом посту Раскольников снова отличился, возглавив в Новороссийске уничтожение лучших кораблей Черноморского флота. Затем 25–летний Раскольников отбыл на Волгу в составе свиты Троцкого. Вместе с ним прибыла и 22–летняя Лариса Рейснер.
В 1933 году бывший пулеметчик Волжской флотилии, а впоследствии известный писатель Всеволод Вишневский сделает Ларису Рейснер прототипом своей героини в известной пьесе «Оптимистическая трагедия». Увы, реальная Рейснер не имела ничего общего с женщиной–комиссаром в кожанке и с маузером за поясом. Никаких комиссарских кожанок она не носила, предпочитая до конца жизни все дорогое и элегантное, особенно меха и бриллианты. В Свияжске Лариса становится любовницей Троцкого. Лев Давидович публично называет ее «античной богиней». После отъезда Троцкого Рейснер становится любовницей, а потом и женой Раскольникова.
В августе 1918 года Раскольников уже командующий Волжской военной флотилией. Нашлась должность при штабе и Рейснер. На посту командующего флотилией Раскольников, разумеется, ничем себя не проявил. Впрочем, под его началом было проведено похищение баржи с пленными красноармейцами и арестованными уголовниками у белых под Сарапаулом. Этот, в общем–то, заурядный случай, не имеющий никакого отношения к боевой деятельности флотилии, был разрекламирован на всю страну, как необычайная по смелости и дерзости операция. Чтобы увеличить эффект пиара, Раскольников сам писал статьи о себе, без всякого стеснения прославляя в них собственный героизм. На самом деле ничего подобного не было. Баржу с арестованными охраняли всего несколько старых солдат, которые без всякого сопротивления сами подали буксирные концы на пароход Раскольникова. Надо отдать должное, что, будучи, неплохим журналистом, Раскольников прекрасно понимал значение газетного слова (то есть рекламы) и умело этим пользовался. Пленение баржи было возведено им и Троцким в ранг блестящей оперативной операции. Награда — орден Красного Знамени — не замедлила себя ждать.
В целом же деятельность Раскольникова на Волге была, увы, совсем не столь героическая, как пишут его биографы. Помимо захвата баржи с пленными, ничего героического там не было. Весьма подозрительным выглядит и очень уж своевременная смерть главного конкурента Раскольникова, любимца Троцкого — матроса Маркина. Именно после гибели Маркина Троцкий окончательно приблизил к себе «красного мичмана» и тот начал делать быструю карьеру.
Неудачным оказался и устроенный Раскольниковым боевой поход с участием Троцкого. Миноносец с наркомвоенмором и командующим флотилией потерял управление и был снесен к казанскому берегу. Историк капитан 1–го ранга М. А. Елизаров пишет: «Главной причиной этой ситуации, очевидно, явился авантюризм Л. Д. Троцкого и Ф. Ф. Раскольникова, а также отсутствие квалифицированного руководства со стороны командиров из бывших офицеров, запуганных репрессиями во время перехода из Петрограда на Волгу (в частности, арестом командира дивизиона и некоторых других военспецов). Спасло горе–флотоводцев лишь случайность — белые не ожидали такого выверта от неприятельского миноносца и на берегу у них не оказалось артиллерии».
Апофеоз службы Раскольникова на Волжской флотилии вообще получился скандальным. В августе 1918 года, после падения Казани, флотилия, возглавляемая Раскольниковым, не оказав никакого сопротивления белым, самовольно покинула боевые позиции и ушла в тыл. Что касается самого Раскольникова, то он, бросив на произвол свою флотилию, вообще постыдно сбежал, да так, что его долго не мог найти ни главком Вацетис, ни штаб 5–й армии в Свияжске, ни собственная жена Лариса Рейснер, отправившаяся на поиски мужа в Казань под видом жены офицера. За трусость и бегство с поля боя Раскольнику грозил расстрел. Однако его спас Троцкий, вняв просьбам своей любовницы Ларисы Рейснер, которую он к этому времени уже пристроил замуж за Раскольникова.
Зато когда линия фронта двинулась с запада на восток и белая флотилия сама начала отходить вместе с линией фронта, Раскольников начал слать выспренные победные телеграммы, расхваливая самого себя. На деле никакого реального руководства флотилией он не осуществлял. Раскольников занимался совсем другими делами. Верный слуга Троцкого, именно он сочиняет в это время приказ о провозглашении красного террора на Восточном фронте, в котором заявляет: «Каждый по справедливости получает то, что он заслужил своей ролью в революции и контрреволюции».
Что стояло за словами «красный террор» думается, объяснять не надо: это и массовые расстрелы не только пленных, но и заложников из числа представителей чуждых классов, и знаменитые жуткие децимации Троцкого, и многое другое. Ко всему этому самое непосредственное отношение имел и Раскольников. Ведь недаром его жена Лариса Рейснер с гордостью говорила о тех днях, что «мы (т.е. она и ее супруг. — В.Ш.) расстреливали красноармейцев как собак». Хлеще, пожалуй, и не скажешь! При этом сами Раскольников и Рейснер жили во время пребывания на Волге на широкую ногу, не отказывая себе ни в чем. Писательница Васильева в своей книге «Кремлевские жены» утверждает, что они с легкостью реквизировали в свою личную пользу имущество ближайших усадеб, в том числе и наряды. Сопровождавшего их сына питерского вождя Каменева они вообще нарядили в одежду цесаревича Алексея. Перед нами самая настоящая мания величия и упивание безграничной властью.
Но и этого Раскольникову было мало. С подачи своего благодетеля Льва Троцкого, он решает обрушить красный террор уже на весь военно–морской флот. 20 августа 1918 года Раскольников телеграфирует из Нижнего Новгорода в Москву еще одному известному троцкисту, Антонову-Овсеенко: «Всех военных моряков, отказывающихся идти на Чехословацкий фронт, следует незамедлительно увольнять со службы и отправлять в Свияжск в распоряжение товарища Троцкого для предания суду Революционного трибунала».
Даже на фоне всех ужасов Гражданской войны кровавые расправы Троцкого над красноармейцами в 1918 году в Свияжске стоят на особом месте. Ни до, ни после этого в Красной армии не было таких жутких массовых казней. А потому приказ Раскольникова присылать провинившихся военных моряков к Троцкому в Свияжск на расправу был равносилен подписанию им смертного приговора.
Волга — все же далеко не Балтика, вооруженный колесный пароход «Ваня Коммунист» — не боевой корабль, а потому реальных военно–морских навыков новоиспеченный «красный лорд» получил за время пребывания на флотилии не много. Разумеется, Раскольников понимал, что его авторитет, как специалиста, даже после угона неохраняемой баржи, не слишком вырос в глазах настоящих моряков. При этом, как журналист и опытный пиарщик, он знал, что в данном случае следует предпринять, — необходим еще один подвиг, на этот раз на море, который при соответствующей рекламе создаст ему уже настоящую славу первого флотоводца революции. Того же мнения придерживался и Троцкий. Недоброжелателей у «демона революции» хватало, а потому преданных людей он не только ценил, но и окружал ими себя, упорно выдвигая их на руководящие посты. Раскольников свою преданность Троцкому уже доказал, а потому мог быть уверенным, что Лев Давидович будет делать ему карьеру и дальше.
Вообще, к этому времени Раскольников (полностью оправдывая свой псевдоним) показал себя как незаменимый специалист по самым деликатным делам: организация расстрелянной демонстрации, разгон Учредительного собрания, уничтожение Черноморского флота, незаконное осуждение и казнь командующего Балтийским флотом. Такие «спецы» нужны всегда, ибо они действительно «штучный товар». А потому председатель Реввоенсовета Республики был весьма заинтересован в том, чтобы авторитет его выдвиженца был непререкаем во флотских кругах. Приобрести же популярность там можно было, только возглавив какую–нибудь удачную морскую операцию, при этом обязательно на Балтике, где еще оставался настоящий флот.
Комиссары Балтийского флота С. Сакс и И. Флеровский телеграммой докладывали Троцкому: «Считаем необходимым доложить, что даже в наиболее надежных командах проявляется резкое недовольство частью первоначального состава Морской коллегии, чрезвычайно непопулярны Раскольников и Вахрамеев. Эта непопулярность дает великолепную возможность демагогам вести нить против Советской власти, прикрываясь тем, что они выступают лишь якобы против отдельных лиц». Комиссары однозначно дают понять Троцкому, что «чрезвычайно непопулярного» Раскольникова надо убирать подальше от флота, и чем скорее, тем лучше и для флота, и для революции. Что же Троцкий? А плевать ему на непопулярность своего любимца! Главное, что Раскольников предан лично ему, а все остальное уже не так для Троцкого и важно!
Из воспоминаний эмигранта контр–адмирала Дмитрия Вердеревского. «Раскольникова офицеры не любили, если не сказать больше. Он платил тем же. Сбежав от прямых мичманских дел, выступил одним из организаторов беспорядков, названных потом восстанием. Многие офицеры были убиты без какого–либо суда…»
Сам Раскольников в своей нашумевшей в свое время книге «Кронштадт и Питер в 1917 году» писал: «Происходил отнюдь не поголовный офицерский погром, а лишь репрессии по отношению к отдельным лицам». При этом сегодня документально известно, что Балтийском флоте было убито тогда более 120 офицеров и чиновников, арестовано еще свыше 600 человек. У Раскольникова — это только «отдельные лица»; что и говорить, «революционный топор» был в надежных руках.
Тем временем Балтийский флот, собранный к концу 1918 года в Кронштадте и Петрограде, стремительно деградировал, превращаясь в ржавую груду железа из–за нехватки начальников, команд и угля. Впоследствии Раскольников дал ему свою уничижительную характеристику: «Полгода никаких плаваний и работ не проводилось. К ничтожным остаткам обученных матросов добавились совершенно неопытные в морском деле люди, нанявшиеся служить часто ради того, чтобы куда–то пристроиться». Кто же в том был виноват, как не сам Раскольников, изгонявший опытных руководителей с флота и лично подписавший смертный приговор командующему флотом Щастному!
Казнь Щастного, разумеется, не прибавила авторитета на Балтике ни Раскольникову, ни его шефу Троцкому. Матросы и штабы начали демонстративно собирать средства семье покойного начморси. В руководстве флотом оставались соратники и единомышленники казненного комфлота. Сломить «балтийское неподчинение» Троцкий и задумал, назначив туда Раскольникова, чтобы тот «почистил конюшни». Поэтому поводом для приезда Раскольникова в Кронштадт и явилась очередная перетряска руководства Балтийским флотом, затеянная в конце 1918 года Троцким. Предреввоенсовета в очередной раз избавлялся от инакомыслящих, приводя к рычагам военной власти своих приверженцев.
Почти одновременно Раскольников получает и самый большой политический пост в РККФ — председателя бюро морских комиссаров, а заодно дополнительно и еще две должности — члена РВС Балтики и помощника командующего 7–й армией по морской части.
Телеграмма Полевого штаба Реввоенсовета Республики Е. А. Беренсу о роспуске Совкомбалта и учреждении Реввоенсовета Балтийского флота: «3 декабря 1918 г. Реввоенсовет Республики 2 декабря постановил во главе Балтийского флота поставить Реввоенсовет Балтийского флота в составе начальника Морских сил Зарубаева и членов тт. Позерна и Нацаренуса. Вместе с тем Совкомбалт, как учреждение, является распущенным. Реввоенсовету флота вменяется в обязанность на каждый действующий корабль наряду с начальником его назначить одного комиссара, привлекши к этому по возможности членов нынешнего Совкомбалта. Наштареввоенсоветресп (вот это должность!) Костяев, Член Реввоенсовета Республики Аралов».
Появившись в Кронштадте, Раскольников сразу же принялся командовать всеми, по существу, отстранив начальника Морских сил Зарубаева. Для этого у него имелись все полномочия, данные ему Троцким. По приказу Троцкого новым членом Реввоенсовета флота был назначен еще один видный троцкист — Крунштейн. Затем посланец Троцкого провел митинг по случаю переименования эсминца «Капитан 1–го ранга Миклухо-Маклай» в «Спартак», заявив, что это позволит «действовать решительнее и революционнее». Почему древний гладиатор– фракиец Спартак, дравшийся со столь же древними римлянами, показался бывшему гардемарину Раскольникову ближе, чем его героически погибший в Цусиме соотечественник, я, честно говоря, не знаю. Впрочем, все, что не делается, к лучшему, а потому имя Миклухо-Маклая так и осталось незапятнанным в военно–морской истории.
В тот же день Раскольников дал пространное интервью «Петроградской правде»: «С горечью в голосе товарищ Раскольников говорит о том, что он увидел на Балтике, когда вернулся с Волги в Питер. Он выразил уверенность, что прибытие красных боевых моряков с Волжского фронта позволит оздоровить Балтийский флот». Итак, «красный лейтенант» взялся за оздоровление Балтийского флота со всей революционной решимостью.
Поход «Тура»
Как член Реввоенсовета Республики, Раскольников в данный момент олицетворял в Кронштадте высшую власть, а потому лично поставил перед командиром и комиссаром подводной лодки «Тур» боевую задачу: через 48 часов выйти в Финский залив и, не обнаруживая себя, произвести разведку до Ревеля, а если повезет, то и до Либавы.
— После ледового похода это первый выход в море! Задача не столько боевая, сколько политическая! Вы должны показать, что красные военморы могут прорывать морскую блокаду Антанты и действовать в открытом море! Товарищ Троцкий верит вам и надеется на вас! Наш поход будет мощным ударом по мировой буржуазии в лице английских империалистов! — патетически выступал член Реввоенсовета.
Ничего конкретного при этом Раскольников больше не сказал, ограничившись общими призывами и лозунгами.
Тем временем на подводной лодке «Тур» уже прогревали моторы, готовясь к выходу в море.
После общения с членом Реввоенсовета командир «Тура» Коль зашел в оперативный отдел штаба, где ему удалось немного уяснить ситуацию. А обстановка была не из легких. Штаб флота никаких сведений о противнике не имел вообще. Карта минных постановок на маршруте перехода была лишь приблизительная, к тому же ожидался шторм. От операторов Коль узнал и то, что по результатам разведки будут спланированы действия возможного десанта.
Командир «Тура» был из кадровых офицеров, окончил Морской корпус, участвовал в походах штурманом на «Тигре», затем старшим офицером на «Единороге». Как и многие офицеры, остался на Красном флоте из–за преданности своему делу, не испытывая, по известным причинам, особой любви к новой власти.
Комиссар лодки Гаевский был из батраков, бывший эсер. В октябре 1918 года, взвесив все «за» и «против», он перешел в большевики и сразу же был назначен комиссаром на «Тур».
Предписание С. В. Зарубаева командиру подводной лодки «Тур» Н. А. Колю о выходе на разведку в район Либавы: «7 декабря 1918 г. Секретно. Предлагаю вам по готовности идти в море, на разведку в Балтийское море, в район Либавы и Виндавы. Вы должны, руководствуясь навигационными материалами, данными командиром „Океана“, пройти Суропским проходом и далее следовать курсами, рекомендованными датской картой. Во все время плавания вы должны принимать все от вас зависящие меры к тому, чтобы не обнаруживать себя, поэтому предлагаю вам следовать треком в погруженном состоянии или ночью.
Вы должны осмотреть Либавский и Виндавский порты. В случае встречи с английскими военными судами — их атаковать. Ежесуточно между 0 и 2 часами вы должны радиотелеграммой кратко давать знать о себе и обо всем замеченном. Я считаю, что до Оденсхольма наши станции будут вас слышать, и полагаю, что дальнейший ваш поход (от Оденсхольма — Либава — Виндава до Оденсхольма всего около 550 миль) вы совершите в 5 суток, следовательно, через 5 суток после вашего последнего донесения от Оденсхольма я буду рассчитывать. получить новое уже при вашем возвращении. Зарубаев Член Военно–революционного Совета флота Крунштейн».
Телеграмма С. В. Зарубаева В. М. Альтфатеру о тяжелых условиях плавания в связи с ледовой обстановкой: «11 декабря 1918 г. Состояние льда и связанное с ним отсутствие предостерегательных знаков создало крайне тяжелые условия плавания. Бывший сегодня в море линкор „Андрей Первозванный“, имевший заданием уничтожить батарею на Нерве, сел на мель у Толбухина маяка и все имеемые средства направлены к его снятию. Подлодку „Тур“, идущую в разведку к Либаве, только сегодня, т.е. на третий день работы ледоколов, удалось вывести из Петрограда. „Ягуар“ и „Китобой“ затерты льдом в Морском канале. „Сухона“ затерта льдом между Шлиссельбургом и Петроградом. Более двадцати пароходов и даже ледоколов, как например „Черноморский“ № 3, затерты льдом в разных местах Невы и Морском канале. „Ермак“ будет готов через три недели, а „Трувор“ сломал себе руль и требует ввода в док. Сейчас (шедший) в Ревель переданный германцам пароход „Аркона“ взорвался и погиб за нашими минными заграждениями, что дает основание предполагать существование нового заграждения, поставленного противником, возможно, теми подлодками, о присутствии которых в наших водах сообщает агентура. При таких условиях, считаю невозможным, какое бы то ни было, оперативное задание. Наморен Зарубаев».
Вернувшись на лодку, Коль, построив экипаж, распорядился:
— Привести корабль в полную боевую готовность. Все работы должны быть закончены через 48 часов!
Штаб флота командировал на «Тур» опытного штурмана — старшего офицера с эсминца «Константин» — Юрия Шельтинга.
27 ноября, в 10 часов, «Тур» покинул Кронштадт, взял курс на запад. Утром 28 ноября «Тур» вышел на створ Екатеринентальских маяков. Здесь лодка погрузилась и в подводном положении обошла Ревельский рейд, пробыв на нем три часа. Подвсплыли под перископ. На рейде и в гавани военных кораблей обнаружено не было. Лодка повернула на обратный курс. Всплыли у траверза мыса Ревельштейн. Связались по радио с базой: доложили оперативную обстановку в районе Ревеля. Английских кораблей на Ревельском рейде с «Тура» не обнаружили, зато на берегу обнаружили сразу несколько неприятельских батарей. Впоследствии, правда, оказалось, что за береговые батареи и орудийные дворики были приняты… рыбацкие дома на берегу. После этого, отказавшись от похода к Либаве, «Тур» повернул обратно в Кронштадт.
В тот же день в Москву ушла телеграмма: «Морскому Генеральному штабу. Копия: Главкому Вацетису. Копия: Ленину. Подлодка „Тур“, высланная на разведку в Ревель, сегодня, 29 ноября, в 16 часов возвратилась в Петроград, выполнив задачу. На Ревельском рейде „Тур“ был 28 ноября с рассвета до 11 часов утра. На Ревельском рейде никаких военных судов не было. В гавани, по–видимому, больших судов тоже нет. Но выяснить присутствие там эсминцев не представилось возможным из–за высоты стенки северного больверка. Все маяки горели. 28–го утром „Тур“ у Ревельштейна видел прошедших из Ревеля в Гельсингфорс два малых парохода и яхту финляндского лоцманского ведомства „Элекен“. На обратном пути в море ничего не обнаружено. Альтфатер, Раскольников».
29 ноября «Тур» благополучно вернулся.
В эти дни 7–я армия, вытесняя деморализованных немцев, двигалась к Ревелю и нуждалась в поддержке с моря.
Начморси Сергей Зарубаев, понимая, что прямое столкновение с прибывшим на Балтику английским флотом ничего, кроме потерь, не сулит, решил просто закидать Финский залив минами, что было в той ситуации вполне логично. Отметим, что англичане сразу же начали нести серьезные потери от наших мин. Но Троцкому нужны были громкие подвиги его любимцев, а не неприметная и скрытая минная война!
Председатель Реввоенсовета Республики сразу же пишет телеграмму Раскольникову: «Адмиральские указания (имеется в виду Зарубаев. — В.Ш.) ничего общего не имеют с нашими задачами. Меняйте задачи самостоятельно. Известно, что англичане уже в Ревеле. Но нет точных сведений. Берите ревельские дела под свой контроль».
Два раза «красному лейтенанту» повторять было не надо. Он сразу же «взял дела под контроль» и начал «менять задачи».
Для начала Раскольников тут же вызвал к себе на ковер начморси и устроил ему нагоняй за неудачную разведку ревельского рейда и района Либавы «Туром»…
В своей объяснительной чрезвычайной комиссии, определенной РВС Республики для расследования обстоятельства пленения Раскольникова, Зарубаев впоследствии написал следующее: «В то же время он (Раскольников) сам прекрасно понимал, что техническое состояние „Тура“, „Пантеры“ и прочих далеко от нормального, а море быстро затягивается льдом. Операция с самого начала уповала на случайность. Вот почему Т. и П. не дошли. Опять же член РВС никаких новых разведывательных сведений, кроме тех, что я сам располагал, не представил, хотя ему подчинялся морской контроль (разведка. — В.Ш.). Сводки из ревельских газет, дошедшие до Москвы, мне еще ранее донесли из 7–й армии. Вызов закончился вопросом, какие суда сейчас в линии и какие команды могут составить разведку. Я заметил, что бросаться в омут нет смысла. Англичане хорошо воюют, все заранее изучают, а теперь следят за Финским заливом, что важно учитывать. Член РВС ответил в том смысле, что теперь он несет полную ответственность, а моя роль начальника флота состоит исключительно в подмоге ему, так как готовые решения наступательного характера уже есть. Я опять ответил, что к наступлению ничего подготовленного нет».
Тем временем командование Балтийским флотом осуществило запланированную ранее десантную операцию. 28 ноября крейсер «Олег», эсминцы «Меткий», «Автроил» и три транспорта высадили десант в устье реки Нарвы. Дальше кораблям идти было опасно, так как о местонахождении английской эскадры никакой информации по–прежнему не было. Вместе с начальником Морских сил Республики Альтфатером Раскольников поприсутствовал при высадке десанта на эстонский берег, которая прошла на редкость бестолково и неорганизованно. При этом Раскольников даже не пытался вступить в командование, хотя выдавал себя в Москве именно за специалиста по десантам, которые, он якобы великолепно организовывал на Волге. Десантирование еще раз наглядно показало, что революционность и профессионализм — суть разные вещи и первым второго никак не заменишь. Но вопрос привлечения «спецов» к планированию военно–морских операций Раскольников отложил для обсуждения на январском заседании РВС.
Несмотря на всю несуразицу, десантирование прошло успешно из–за полного отсутствия какого–либо противодействия. При этом десантники захватили три парохода, много оружия и военного имущества. В Нарве была восстановлена советская власть. Поддерживаемые артиллерией крейсера «Олег» и эсминцев, части 7–й армии повели наступление на запад.
4 декабря главком Вооруженными силами Республики Вацетис и член РВС Данишевский телеграфировали Зарубаеву, что ввиду скорого освобождения Красной армией Ревеля от немцев флоту надлежит занять находящийся неподалеку от него остров Нарген. Одновременно командование Балтфлота непрерывно подстегивал председатель РВС Троцкий, требуя «более решительных и энергичных действий». Состояние и возможности флота Троцкий особо при этом во внимание не принимал. Все, по его мнению, должен был решить революционный порыв и большевистский натиск под руководством его любимца Раскольникова.
К этому времени англичане уже заявили о своем присутствии. 15 декабря четыре британских корабля обстреляли советские войска, а 23–го с них высадили эстонских националистов в бухте Кунда. Правда, этот десант быстро сбросили в море.
Теперь стало ясно, что разведка «Тура» была проведена некачественно и на Ревель действительно базируются англичане.
Любопытно, что неудачный поход «Тура» до Великой Отечественной войны описывался в нашей военно–морской литературе как «героический и победный». Ежегодно эту дату отмечали на Балтийском флоте как самый настоящий праздник. Подвигу «Тура» посвящали передовые статьи в газетах и праздничные приказы, ветераны «Тура» постоянно выступали перед молодыми краснофлотцами, рассказывая о своих подвигах, которые с каждым годом обрастали все новыми и новыми героическими деталями. Все это, впрочем, не помешало в 1937 году арестовать и расстрелять бывшего командира «Тура», как врага народа.
Мечты и планы
А тогда, в середине декабря 1918 года, обстановка была такова, что об англичанах в Ревеле командование Балтийским флотом не знало ровным счетом ничего. Вот в таких условиях по личному указанию народного комиссара по военным и морским делам Льва Троцкого в штабе морских сил Балтийского моря и началось планирование набеговой операции на Ревель. Руководить ею Лев Давидович поручил своему любимцу.
Говорят, что когда Альтфатер якобы заикнулся Троцкому о необходимости повременить с походом отряда кораблей к Ревелю, так как следует все же провести доразведку, тот гневно его осадил:
— Мы, большевики, не боимся трудностей! Бывшие офицеры не способны вести за собой на подвиг революционных матросов, а потому их поведет настоящий большевик!
В тот же день на связь по телеграфу Раскольникова вызвала из Москвы Лариса Рейснер. На тот момент она была комиссаром Морского Генерального штаба, любовницей Троцкого и по совместительству супругой Раскольникова.
Рьяная троцкистка Рейснер чутко уловила последние настроения в «верхах» и сразу же решила оповестить о них мужа. Переговоры супругов были впоследствии подшиты в дело и потому дошли до нас. Они весьма любопытны.
«Лариса Рейснер:
— Председатель Реввоенсовета поручил передать: операция у… Ревеля помимо оперативной задачи имеет, несомненно, своей целью показать англичанам, что пребывание в Балтийском море совершенно безопасно (так на ленте). Посему представляется необходимым доказать англичанам противное, при помощи мер самого энергичного характера. Он высказал мнение, что для успешности операции ты бы должен принять в ней личное участие. Прошу ответа.
Раскольников:
— В какой же роли я должен принять участие? Очевидно, в качестве политического комиссара, имея целью поднять настроение команды, и не вмешиваясь в распоряжения оперативного характера. Так ли я понял?
Рейснер:
— Сейчас я справлюсь по телефону. Троцкий не видит причины, почему бы тебе прямо не принять на себя командование этой операцией?»
В ходе дальнейшего разговора Раскольников просит время для совета с Альтфатером. Как видим, его все же одолевали сомнения в своей компетентности. Впрочем, возможно, он просто струсил, так как никогда не был храбрецом. Через час из Москвы приходит указание Троцкого: «Прошу передать председателю РВС, что завтра на рассвете я на миноносце „Спартак“ вместе с двумя другими миноносцами отправляюсь бомбардировать Ревель и атаковать неприятельские суда, если повстречаются».
Почти как Юлий Цезарь: пришел, увидел, победил! Ну не герой ли после этого член РВС Федор Раскольников? Затем по прямому проводу свои соображения Раскольников передает в Москву, и там утверждается план набега:
«1. Три миноносца пойдут на разведку — „Азард“ (он уже в море), „Спартак“ (выйдет на рассвете 26 декабря), „Автроил“ (выйдет на уступе (!?) на поддержку). Крейсер „Олег“ выйдет к острову Готланд, линкор „Андрей Первозванный“ будет у Шепелевского маяка в качестве глубокого резерва.
2. Миноносцы обстреляют порт и гавани Ревеля, вызовут на себя неприятельские суда. При явном перевесе сил противника уйдут под прикрытие „Олега“, а если потребуется, то и под защиту „Андрея Первозванного“».
Поразительно, но Зарубаев и другие флагманы знакомятся с этим документом только поздним вечером. Думаю, от прочитанного они были далеко не в восторге. Но их мнения никто особо не спрашивал.
Из объяснения Зарубаева, написанного им впоследствии: «Увидев план, чины штаба сразу обратили членов РВС к следующим моментам. „Азард“ уже в порту, у него полностью отсутствует топливный запас. „Автроил“ еще не завершил ремонтные работы, требуется не менее суток, хотя я собрал все имеющиеся рабочие бригады, о чем рапортом докладывал Альтфатеру: Задачи командирам крейсера и линкора еще не доведены, опыта стрельбы команды ЭМ не имеют никакого, так, что при настаивании на плане легче ограничиться разведкой, если вовсе есть резон поспешно выходить на операцию». Альтфатер на следственной комиссии, кстати, подтвердил показания начальника Морских сил.
В тот же день, закончив чистку руководства Балтийского флота, Раскольников приступил к решению второй своей задачи — организации собственного подвига.
Почему был назначен именно Раскольников? Да потому, что именно он являлся одним из ближайших соратников и любимцев «злого демона революции». Верным «ленинцем» его сделают позднее историки, а пока именно Раскольников, как никто другой, ревностно исполнял указания своего кумира. Как представлялось Троцкому, операция, во главе которой он поставил своего любимца, была обречена на успех — это повышало авторитет его ставленников, а значит, и его самого.
Небольшой лихой рейд к Ревелю и перестрелка с английскими кораблями была, по их мнению, тем, чем надо.
Надо отметить, что подобная операция командованием флота действительно планировалась, но на более позднее время, когда сведения об английском флоте будут более достоверными, а корабли и команды — более подготовлены. Но Раскольников не мог долго ждать. В Москве его ждали другие дела. Того же мнения был и Троцкий. По его плану, Раскольников должен был как можно быстрее совершить свой очередной подвиг, получить за него очередной орден и заняться другими более важными для Троцкого делами. Таковой была прелюдия к последующей трагедии.
По составленному Раскольниковым с Альтфатером плану для проведения набеговой операции сформировали отряд особого назначения. Мы уже никогда не узнаем, каков был действительный вклад Раскольникова в разработку плана. Учитывая тактическую подготовку члена Реввоенсовета Республики, все разработали без его участия, а затем, как могли, втолковали общие положения, после чего Раскольников просто поставил свою подпись под планом. Согласно этому плану, линкор «Андрей Первозванный» должен был выйти к Шепелевскому маяку, а крейсер «Олег» — выдвинуться несколько западнее к острову Гогланд. Оба корабля должны были в случае необходимости поддержать огнем отходящие к ним легкие силы. Эсминцы «Спартак», «Автроил» и «Азард» должны были подойти к Ревелю, обстрелять ревельские укрепления. В случае обнаружения английских кораблей им следовало отойти под прикрытие «Олега» и, если понадобится, вместе с ним — к «Андрею Первозванному». План утвердили Троцкий и начальник Морского Генерального штаба Евгений Беренс, уточнив цель предприятия: «Выявить силы противника в Ревеле, вступить с ними в бой, уничтожить его, если окажется возможным».
Разумеется, Зарубаев с Альтфатером на Балтике, и Беренс в Москве прекрасно понимали, что решить такую задачу изношенным кораблям с неукомплектованными командами и при недостатке топлива будет не по силам. Но еще свежи были воспоминания о расправе с Щастным, который лишь пытался отстаивать свою точку зрения, а потому все промолчали. Беренс, надо полагать, пытался отменить операцию через главкома Вацетиса, но было уже поздно.
В последний момент Раскольников струсил и попросился идти в море не командиром отряда, как предполагалось ранее, а лишь комиссаром, но тут уже его не понял Троцкий. Телеграммой своему любимцу Троцкий заявил, что «не видит причины, почему бы ему (Раскольникову. — В.Ш.) не взять на себя командование операцией, взяв в помощь опытного специалиста». После этого Раскольников приступил к выполнению своего «подвига».
Вот как описывал возникшую ситуацию в своих позднейших воспоминаниях сам Раскольников: «В декабре 1918 года в Питере упорно циркулировал слух о приходе в Финский залив судов английского флота. Усиленно говорили, что в Ревель пришла английская военная эскадра. Но так как обывательские сплетни в то время вообще достигали геркулесовых столбов, то ко всем сенсациям приходилось относиться с большой осторожностью.
Толком никто ничего не знал. Командование Балтфлота несколько раз высылало в море подводные лодки, которым давалось задание пройти в Ревельскую гавань и произвести тщательную разведку. Однако плохое техническое состояние лодок мешало им справиться с этой задачей. Вследствие неисправностей механизмов подлодки возвращались с пути, не доведя дела до конца. Однажды нашей радиостанцией были перехвачены английские радиотелеграммы с требованием о присылке из Ревеля лоцманов. Передавались они открытым текстом, и потому им никто не придал значения. Истолковали как очередную провокацию „союзников“, предпринятую для запугивания нашего флота и удержания его в Кронштадтской гавани.
Вспыхнувшая 9 ноября германская революция повлекла за собой аннулирование ВЦИКом Брестского мира. Красной Армией были заняты Нарва и Псков. Немецкие солдаты оказывали слабое сопротивление. Приходилось воевать главным образом с русскими белогвардейскими офицерами.
Вот тогда–то Реввоенсовет Республики и решил провести более основательную разведывательную операцию для выяснения сил английского флота в Финском заливе. Как член Реввоенсовета Республики, я был поставлен во главе отряда особого назначения. Накануне похода, вечером 24 декабря, в кабинете начальника морских сил Балтийского моря под золоченым адмиралтейским шпицем состоялось заседание, на котором мы разработали конкретный план действий. В заседании участвовали В. М. Альтфатер, начальник морских сил Балтийского моря С. В. Зарубаев, его начальник штаба А. К. Вейс, начальник оперативной части С. П. Блинов и я.
По техническому состоянию кораблей, находившихся в зимнем ремонте, командование Балтфлота смогло выделить для операции небольшие силы. Линейный корабль „Андрей Первозванный“, крейсер „Олег“ и три миноносца — „Спартак“ (бывший „Миклухо-Маклай“), „Автроил“ и „Азард“ — вот то немногое, что поступало в мое распоряжение.
Не зная численности английского флота, ворвавшегося в балтийские воды, нам нельзя было ставить себе задачи полного уничтожения противника. Участники военно–морского совещания в Адмиралтействе пришли к выводу, что моему отряду поручается только глубокая разведка, которая может закончиться боем и уничтожением противника лишь в том случае, если выяснится наш определенный перевес над силами англичан.
По предложению тов. Альтфатера единогласно был принят следующий план операции: „Андрей Первозванный“ под командой Загуляева остается в тылу у Шепелевского маяка, сравнительно недалеко от Кронштадта, крейсер „Олег“ под командой Салтанова выдвигается к острову Гогланд, а два миноносца — „Спартак“ и „Автроил“ — проникают к Ревелю, выясняют численность английского флота и обстреливают острова Нарген и Вульф, чтобы определить, имеются ли там батареи. В случае встречи с превосходящими силами противника миноносцам надлежало отходить к Гогланду под прикрытие тяжелой артиллерии „Олега“, а при недостаточности его зашиты, всем следовало отступать на восток, к Кронштадту, заманивая противника к Шепелевскому маяку, где его поджидали 12–дюймовые орудия „Андрея“.
Весь риск операции падал на миноносцы, которые обладали таким неоценимым преимуществом, как 30–узловая скорость хода».
Известный флотский историк капитан 1–го ранга М. А. Елизаров пишет: «На волне революционного энтузиазма, желания показать английским кораблям, вошедшим в Финский залив, что их пребывание здесь не безопасно и, очевидно, не без расчета на поддержку эстонского пролетариата… была спланирована и проведена разведывательно–набеговая операция на Ревель».
Отметим, что решение о набеговой операции было принято лично Троцким и готовилось на месте его «протеже» Раскольниковым. Любопытно, что при этом Троцкий не поставил в известность даже главкома И. И. Вацетиса, о чем свидетельствует содержание телеграммы последнего В. М. Альтфатеру от 30 декабря 1918 года. В ней Вацетис просит сообщить, «почему об этой морской операции. не было заблаговременно донесено мне». Главком считал, что задача, поставленная отряду особого назначения, «не могла иметь места, так как. она не отвечает состоянию наших малочисленных морских сил, которые необходимы для прикрытия правого фланга наших войск, наступающих от Нарвы на Везенберг и Ревель, а также и для обороны Кронштадта». Другой документ — уже знакомая нам лента разговора по прямому проводу комиссара Морского Генерального штаба Ларисы Рейснер с Федором Раскольниковым — свидетельствует, что Троцкий всячески торопил морское командование с проведением операции и именно он приказал Раскольникову лично самому возглавить отряд особого назначения.
Начморси бывший контр–адмирал Зарубаев, понимая, что прямое столкновение с королевскими ВМС ничего, кроме потерь, не сулит, выбрал другой путь. Герой русско–японской войны, в войну с немцами командовавший бригадой крейсеров, из последних сил ввел «в первую линию без каких–либо сомнений» заградитель, несколько миноносок и тральщиков и закидал минами угрожаемые участки, чтобы обезопасить Кронштадт от внезапных набегов. Троцкому этого оказалось мало. Ему передают выдержки из ревельских газет, суть которых сводилась к следующему: 5 декабря на мине подорвался идущий на помощь эстонскому правительству легкий крейсер «Кассандра», но в целом английский отряд взял под защиту «наши берега». Председатель Реввоенсовета Республики сразу же подписывает депешу–разнос Раскольникову: «Адмиральские указания (видимо, Зарубаева) ничего общего не имеют с нашими задачами. Меняйте задачи самостоятельно. Известно, что англичане уже в Ревеле. Но нет точных сведений. Берите ревельские дела под свой контроль». Раскольников вызывает начморси и отчитывает, почему не удалась разведка ревельского рейда и района Либавы подлодками «Пантера» и «Тур». Впоследствии в объяснении чрезвычайной комиссии, определенной РВС Республики для расследования обстоятельства пленения председателя бюро морских комиссаров, Зарубаев написал: «В то же время он (Раскольников) сам прекрасно понимал, что техническое состояние „Тура“, „Пантеры“ и прочих далеко от нормального, а море быстро затягивается льдом. Операция с самого начала уповала на случайность. Вот почему „Тур“ и „Пантера“ не дошли. Опять же член РВС никаких новых разведывательных сведений, кроме тех, что я сам располагал, не представил, хотя ему подчинялся морской контроль (разведка. — В.Ш.). Сводки из ревельских газет, дошедшие до Москвы, мне еще ранее донесли из 7–й армии. Вызов закончился вопросом, какие суда сейчас в линии и какие команды могут составить разведку. Я заметил, что бросаться в омут нет смысла. Англичане хорошо воюют, все заранее изучают, а теперь следят за Финским заливом, что важно учитывать. Член РВС ответил в том смысле, что теперь он несет полную ответственность, а моя роль начальника флота состоит исключительно в подмоге ему, так как готовые решения наступательного характера уже есть. Я опять ответил, что к наступлению ничего подготовленного нет».
По техническому состоянию кораблей Действующего отряда, находившихся к тому времени в зимнем ремонте, командование Балтийским флотом смогло выделить для участия в операции весьма скромные силы: старый линейный корабль «Андрей Первозванный», еще более старый крейсер «Олег» и три новейших эсминца типа «Новик» — «Азард», «Автроил» и «Спартак» (бывший «Миклухо-Маклай»). Однако «Азард» в операцииучастия так и не принял, так как из–за сложных гидрометеоусловий отстаивался на якоре в Нарвском заливе. Участвующие в операции корабли были названы отрядом особого назначения. Увы, силы этого отряда были слишком малы для выполнения задач, на него возложенных.
Донесение С. В. Зарубаева в Морской Генеральный штаб о высадке англичанами десанта в бухте Кунда и о выходе наших кораблей в район Ревеля: «24 декабря 1918 г. Вследствие сообщения начдива–6 Иванова из Нарвы о высаженном противником десанте в Кунде высылаются в море крейсер „Олег“ и эсминцы „Азард“ и „Спартак“ с приказанием выяснить силы противника и в случае благоприятной обстановки атаковать его. Наморен Зарубаев. Член Реввоенсовета Раскольников».
На следующий день начальнику отряда особого назначения Раскольникову и командирам кораблей были вручены предписания начальника Морских сил Балтийского моря Зарубаева с указанием состава сил отряда особого назначения, задач и плана проведения операции: «Отряду, назначенному в операцию 25 декабря, в составе линейного корабля „Андрей Первозванный“, крейсера „Олег“ и ЭМЭМ „Автроил“, „Азард“ и „Спартак“ дается задание:
1. Выяснить силы противника в Ревеле.
2. Вступить с ними в бой.
3. Уничтожить силы противника, если это представляется возможным.
Для этого: эсминец „Спартак“ выходит в море в 10 часов утра с расчетом быть у входного маяка Ревельштейн с рассветом 26 декабря. К этому времени к маяку подходит эсминец „Автроил“, выходящий из Петрограда с рассветом 25 декабря.
Эсминцы выходят на Ревельский рейд и, выяснив, кто находится на рейде, обстреливают гавань и рейд; в случае же отпора и выхода против них превосходящих сил противника, отступают к Готланду, где держится „Олег“ в качестве ближнего резерва, и телеграфируют ему и „Андрею Первозванному“, держащемуся у Шепелевского маяка в качестве глубокого резерва, о силе противника и ходе операции. Судам в море иметь в виду, что на Ревельском рейде дежурит наша подводная лодка „Пантера“. Курсы надлежит выбирать таким образом, чтобы проходить по наибольшим глубинам, где менее вероятны возможные минные заграждения».
Начало операции
23 декабря для доразведки Ревельского рейда из Кронштадта вышла подводная лодка «Пантера», а 24 декабря — эсминец «Азард», вынужденный из–за тумана отстаиваться на якоре в Нарвской губе.
Ледоколы вывели «Пантеру» из Кронштадта в Финский залив. Утром следующего дня она в погруженном положении проникла на ревельский рейд, где с нею сразу же начались неприятности. То внезапно перестали поворачиваться и подниматься и опускаться перископы, то в корпусе появилась серьезная течь. Лодка вынуждена была всплыть. Ее командир А. Бахтин все же решил продолжить разведку.
«В 19 часов мы вышли на Екатеринентальский створ, выводящий на ревельский рейд, — вспоминал впоследствии командир „Пантеры“. — На одно мгновение нам приветливо блеснули огни маяков, но тотчас непроницаемая снежная стена закрыла нас. Началась пурга. Нужно было скорее выбираться из неприятельского логова. Я скомандовал „лево на борт“. Хлопья снега били нас в лицо так, что с трудом можно было смотреть. Впрочем, ничего, кроме снега и воды, не было видно».
24 декабря, всего за сутки похода, Альтфатер, Зарубаев, и начальник штаба Морских сил Балтийского флота Вейс, начальник оперативного отдела Блиш и Раскольников уточнили детали, и в тот же день Раскольников решительно доложил в Морской Генеральный штаб: «Завтра на рассвете я на миноносце „Спартак“ вместе с двумя другими миноносцами отправлюсь бомбардировать Ревель и атаковать неприятельские суда, если они повстречаются». Поразительно, но эту телеграмму Раскольников отправляет, еще не имея никаких результатов разведки! Это означает, что решение о набеговой операции Троцкого должно было состояться в любом случае и уже ничто не могло не только отменить ее проведение, но хотя бы отложить до получения результатов разведки. Маховик авантюры был уже запущен.
Разведка «Пантеры» была безрезультатной. Проникнуть к Ревелю из–за льда не удалось, а следовательно, никаких англичан Бахтин не видел. Что касается «Азарда», то он вообще даже не пытался выполнить поставленную ему задачу. Переждав непогоду в Нарвской губе, он лишь утром 25 декабря вернулся в Кронштадт и присоединился к отряду особого назначения, так никого в море и не встретив.
Таким образом, к моменту начала набеговой операции командование флота и командование отряда особого назначения не знали о противнике абсолютно ничего. В таких условиях, разумеется, следовало перенести сроки операции и еще раз доразведать ситуацию в районе Ревеля. Но Раскольников, ревностно выполняя указание своего шефа, отверг слабые попытки Зарубаева с Альтфатером отговорить его от выхода в море.
— Жребий брошен! — заявил он. — А кто против нашего революционного похода, тот контрреволюционер и саботажник! Товарищ Троцкий уже извещен о начале операции!
После таких слов приумолкли даже самые отважные.
Впоследствии Раскольников вспоминал: «Ранним утром 25 декабря Альтфатер, Зарубаев ияв холодном, нетопленном вагоне выехали в Ораниенбаум, где пересели на ледокол, идущий в Кронштадт. Разговор вращался только вокруг предстоящего похода.
— Особенно остерегайтесь английских легких крейсеров, вооруженных шестидюймовой артиллерией и обладающих 35–узловым ходом, — напутствовал меня Василий Михайлович Альтфатер.
В Кронштадте мы застали отряд кораблей, предназначенных для операции, вполне готовым к походу. Исключение составлял миноносец „Автроил“, где обнаружилась неисправность машины. Мы решили не откладывать поход и условились, что „Автроил“ в кратчайший срок закончит приготовления, нагонит нас и присоединится к нашей эскадре.
Альтфатер и Зарубаев проводили меня на миноносец „Спартак“, где я поднял свой вымпел».
Почему Раскольников избрал местом своего пребывания именно «Спартак»? Для того у него было несколько причин.
Во–первых, на «Спартаке» был достаточно опытный и грамотный командир лейтенант Павлинов. Имя Павлинова было хорошо известно на всем флоте, не только как представителя старой морской династии, но и хорошего моряка. Николай Павлинов (согласно флотской фамильной традиции Павлинов–4–й) был сыном генерал–лейтенанта. По окончании Морского корпуса служил на Балтике. Один из немногих офицеров, уцелевших во время мятежа на крейсере «Память Азова» в 1906 году. Прошел обучение в водолазной школе, закончил минный офицерский класс. Считался лучшим специалистом водолазного дела на Балтике. Во время Первой мировой войны был минным офицером эсминца «Внимательный», затем им командовал, исполнял должность флагманского минного офицера дивизии траления, участвовал в Ледовом походе. Затем был назначен командиром на вошедший в строй эсминец «Капитан 1–го ранга Миклухо-Маклай». 16 декабря 1918 года приказом по флоту Балтийского моря одновременно назначался начальником дивизиона эсминцев отряда судов особого назначения. В профессионализме Павлинова можно было не сомневаться.
Во–вторых, в отличие от других «старорежимных» названий кораблей Балтийского флота, «Спартак» имел самое революционнейшее имя из всех возможных, и не шел ни в какое сравнение, к примеру, с апостолом Андреем Первозванным или с варяжским князем Олегом. На кораблях с такими именами пылкому революционеру и находиться было, как–то не слишком прилично. Кроме этого имя «Спартаку» (бывшему еще несколько дней назад «Миклухо-Маклаем») Раскольников придумал самолично, а это придавало еще большую весомость сделанному им выбору. Наконец, после проведенного несколько дней назад на корабле митинга Раскольников пребывал в уверенности в полнейшей революционной преданности новоиспеченых «спартаковцев» как делу революции, так и ему лично. Он почему–то твердо верил, что смена названия корабля с «Капитана 1 ранга Миклухо-Маклая» на «Спартак» позволит «действовать решительнее». Увы, вскоре ему придется в этом разочароваться.
Но была, однако, у отряда и другая секретная задача, которую Раскольников, свято веруя в беспредельный революционный энтузиазм моряков и всесокрушающую силу солидарности пролетариев всех стран мира, тщательно таил от окружающих. Это была его общая тайна с другом и покровителем Троцким. Вожделенно и вот–вот, оба ожидали всемирного восстания пролетариата. Для этого свою жертву должен был принести и Балтийский флот. В свое время в сборнике статей и документов «Морская война на Балтике, 1918–1919 гг»., было высказано предположение, что целью операции флота в декабре 1918 года против Ревеля под предводительством Раскольникова было ни много ни мало, а «спровоцировать там пролетарскую революцию». Не чем иным, как печально знаменитой теорией перманентной революции, объяснить этот воспаленный бред Троцкого и его верного оруженосца Раскольникова невозможно!
Все было на редкость странно и необъяснимо в этой операции, руководимой недоучкой–мичманом и снаряженной во всем ему покорными, но втайне, видимо, надеявшимися на ее провал военспецами. Не зная или не желая знать даже о наличии запаса топлива на кораблях, назначенных в операцию, Альтфатер и Зарубаев проводили Раскольникова на «Спартак». Там он поднял свой, изготовленный специально для этого похода, вымпел. К сожалению, история не сохранила нам описания именного флага, но, думается, оформлен он был со знанием дела и должен был произвести впечатление на весь Балтийский флот.
Итак, получив донесение эсминца «Азард» о невозможности выполнения разведки, отряд особого назначения, за исключением эсминца «Автроил» (задержавшегося в Петрограде из–за мелкого ремонта машин), вышел по назначению. По другим сведениям «Автроил», при выходе из гавани при маневрировании в плотном льду, получил повреждения корпуса и вернулся для починки.
Тем временем с помощью ледокола отряд добрался до чистой воды. Узнав о поломке «Автроила», Раскольников вздумал было отменить операцию (что было бы в сложившейся ситуации вполне разумно). Он даже доложил об этом командованию флотом по радио. Однако вскоре у острова Сескар «Спартак» встретил возвращавшуюся из разведки «Пантеру». Бахтин поднялся на борт эсминца и доложил Раскольникову о результатах разведки, которые позднее повторил командиру крейсера «Олег».
В целом разведка «Пантеры», как и разведка «Тура», никаких реальных результатов не дала. Однако на Раскольникова доклад Бахтина почему–то произвел совершенно необъяснимое впечатление. Рассказ командира лодки о том, что провести разведку ему помешали льды, и никаких англичан он не видел, Раскольников, по какой–то только ему ведомой причине, воспринял как отсутствие англичан у Ревеля вообще! После этого, весьма довольный собой, он приказал продолжить поход. При этом Раскольников совершает еще один вопиющий по безграмотности поступок. Он почему–то считает излишним извещать командование флотом о том, что операция продолжается! Таким образом, в то время как Зарубаев с Альтфатером считали, что Раскольников уже отказался от набега на Ревель и отводит свои корабли к Кронштадту, тот, наплевав на всех, шел к Ревелю.
Совершенно непонятно почему, но Раскольников считал, что «Автроил» в кратчайший срок введет машину в строй и нагонит отряд на переходе к острову Готланд. Таким образом, с самого начала силы отряда особого назначения были доведены вообще до ничтожного состава. По сути дела, из трех намеченных эсминцев набег на Ревель и стоявшую там английскую эскадру должны были совершать всего два эскадренных миноносца, вместо намеченных трех. Ситуация становилась совершенно абсурдной, но Раскольникова это нисколько не смущало. Привыкший к политическим авантюрам, он, по–видимому, полагал, что и на море можно действовать так же…
У Шепелевского маяка от отряда отделился линейный корабль «Андрей Первозванный» и занял назначенную позицию, согласно плану операции, остальные корабли пошли дальше на запад, к острову Готланд.
Неожиданно эсминец «Азард» дал семафор, что он погрузил мало топлива. Раскольников вынужден был отпустить эсминец в Кронштадт на дозаправку. История с топливом «Азарда» весьма знаковая. Потрясает сам факт: на идущем в бой корабле внезапно обнаруживают, что у них, оказывается, нет топлива! Для людей, имеющих хоть какое–то представление о ВМФ, такая ситуация вообще непостижима. В истории нашего флота подобного случая просто не было.
Как же такое могло произойти на «Азарде»? Возможно, команда эсминца во главе с его командиром просто откровенно не желала участвовать в операции, а потому инсценировала недостачу топлива, в надежде, что их отстранят от участия в начавшейся авантюре. Возможно, что уровень организации и на эсминце, и в штабе отряда был таков, что донесение командира «Азарда» стало для всех настоящим откровением. В любом случае, «внезапное» обнаружение недостачи топлива явилось следствием уровня руководства операцией со стороны Раскольникова. Одно дело — изображать из себя Нельсона на ходовом мостике с биноклем на груди, и совсем другое — готовить к боевой операции вверенные тебе корабли и людей, вникая во все детали. Как можно было вообще выходить в море на боевую операцию, не имея предварительной информации о состоянии запаса топлива на вверенных тебе кораблях? Это «азы» военно–морского дела. Но «азы», которые Раскольникову были, судя по всему, неведомы. Члену Реввоенсовета было не до подобных мелочей, он торопился совершить очередной подвиг. «Революционный топор» в руках «красного Раскольникова» должен был крушить врагов направо и налево.
Тем временем неподготовленность операции снова дала о себе знать. Внезапно засемафорил крейсер «Олег», который, как оказалось, также имел недостаточный запас угля. Из–за этого он снялся с якоря с изрядным опозданием и прибыл к Готланду только вечером. Необходимый уголь к этому времени на крейсер, разумеется, не погрузили, а потому использовать «Олег» в операции можно было весьма ограниченно: при интенсивном маневрировании он бы просто остался без хода. Теперь из всего отряда помимо стоящего на тыловой позиции «Андрея Первозванного» остался лишь крейсер «Олег» с весьма ограниченным запасом угля и всего один эсминец! Ситуация становилась уже абсолютно абсурдной!
Только ночью 25 декабря крейсер «Олег» и эсминец «Спартак» подошли к Готланду, где встали на якоря, ожидая с утра 26 декабря подхода «Автроила». Успешному переходу по Финскому заливу в сложных навигационных условиях способствовало то обстоятельство, что маяки на финских островах Сескар и Лавенсаари работали, как в мирное время.
Вот как выглядело начало похода в воспоминаниях Раскольникова: «Последние рукопожатия, советы, пожелания удачи. Кронштадт весь во льду. Командир миноносца Павлинов умело руководит съемкой с якоря. Наконец якорь поднят, и под предводительством мощного ледокола мы тихо пробиваемся среди огромных, с треском ломающихся льдин, сильно ударяющих в тонкие, гибкие борта миноносца. От шума и грохота неприятно сидеть в каюте. Вместе с моим помощником по оперативной части Николаем Николаевичем Струйским я поднимаюсь на мостик. Стоит сильный мороз. На западе виден конец ледяного поля и чернеющая полоска воды. По мере нашего приближения эта полоска становится шире. Наконец скрежет за бортом прекращается: мы выходим в открытое море, свободное от ледяного покрова. Сопровождавший нас ледокол, густо дымя, возвращается в красный Кронштадт. У Шепелевского маяка мы расстаемся с „Андреем“.
„Азард“ неожиданно семафорит, что он погрузил мало топлива. С болью в сердце приходится отпустить его за нефтью в Кронштадт. Только в условиях разрухи 1918 года были возможны такие вопиющие непорядки!
Незадолго до захода солнца в открытом заливе встречается подводная лодка „Пантера“. Я приказываю ей подойти к борту. На мой запрос о результатах разведки командир „Пантеры“ сухо докладывает, что в Ревельской гавани не замечено ни одного дыма.
Сгустилась тьма. Наступил ранний декабрьский вечер. Идя с потушенными огнями, мы старались не терять из виду „Олега“. Неожиданно вдали, справа по носу, мелькнул тусклый, далекий свет. Мы пристально вгляделись и по равномерным вспышкам узнали мерцание маяка. Вскоре впереди открылся новый маяк. Мы едва не закричали „ура“. На финских островах Сескар и Лавенсаари маяки действовали, словно для нашего удобства. Эта иллюминация в сильной степени облегчила нам тяжелые условия плавания среди многочисленных островов, мелей и подводных камней Финского залива.
Поздно вечером подошли к заросшему хвойным лесом скалистому Готланду. Обойдя его вокруг и осмотрев все бухточки, мы не нашли ничего подозрительного и, решив переночевать здесь, стали на якорь у восточного берега. Комсостав миноносца спустился с палубы вниз. В уютной, залитой электрическим светом кают–компании с большим столом посредине и черным лакированным пианино в углу долго сидели за чаем и разговаривали — скромный и сдержанный командир Павлинов, неутомимый рассказчик анекдотов веселый штурман Зыбин, несколько замкнутый артиллерист Ведерников, всегда чем–то неудовлетворенный инженер–механик Нейман, умный, общительный, жизнерадостный Струйский и я. Наша беседа, как пишут репортеры, „затянулась далеко за полночь“. Наконец мы разошлись по каютам и легли спать.
Спокойно переночевав под прикрытием Готланда, с рассветом старательно принялись шарить биноклями по всем направлениям, с нетерпением ища запоздавшего „Автроила“. Но тщетно. Погода стояла ясная. Видимость была хорошей. Однако нигде в море не обнаруживалось ни одного дымка.
Вдруг из Кронштадта пришла шифровка, извещавшая нас о неготовности „Автроила“ к выходу. Его техническая неисправность оказалась значительно большей, чем можно было предполагать. Не было ни малейшей уверенности, что он присоединится к нам хотя бы на следующий день. По моему приказанию миноносец „Спартак“ снялся с якоря и одиноко направился в разведку, а крейсер „Олег“ под командой военмора Салтанова остался на месте ночной стоянки. На мостике „Спартака“ находились Струйский, командир миноносца Павлинов и я.
Стоял ясный, безоблачный зимний день. Ярко сияло солнце, но его холодные, негреющие лучи не могли умерить мороза. Дул острый, пронизывающий, ледяной ветер, заставлявший нас на мостике ежиться, поднимать воротники и потирать уши. На мне была кожаная куртка, изнутри отороченная мехом, но я все же насквозь продрог. Море было спокойно, что редко случается в этих широтах в конце декабря».
На подступах к Ревелю
…Утро 26 декабря было ясным и тихим. «Спартак» беспрепятственно обстрелял остров Вульф, чтобы проверить, есть ли там неприятель, но никто не отвечал. Потом пошли к Наргену, открыли огонь — остров молчал. Никаких батарей там не было и в помине.
Затем со «Спартака» заметили финский пароход, шедший в Ревель с грузом бумаги. Его захватили, высадили на него двух военморов и отправили в Кронштадт. Не сохранилось документов, отвечающих на вопрос, кто давал команду открывать огонь по островам. Однако гадать здесь не стоит — команду на обстрел дал Раскольников. Почему? Да потому, что уже больно не терпелось «красному лейтенанту» почувствовать себя в настоящем морском сражении. Незапланированный обстрел островов имел самые катастрофические последствия. Дело в том, что военный комендант Наргена сразу передал информацию об обстреле в Ревель по телеграфу. С этого момента скрытность операции была полностью утрачена. С этого момента англичане могли действовать на опережение, что они и не преминули сделать. Диву даешься, но Раскольников в достаточно простой обстановке нарушил самые элементарные правила проведения разведки на море!
Так случилось, что в те же минуты «эстонский флот», состоящий из трех кораблей (бывшие российская канонерская лодка и два сторожевика, брошенные в Ревеле в феврале 1918 года), высаживал свой десант. В открытом море эстонцев прикрывали англичане: два легких крейсера и миноносец. А «Спартак» всего в 20 милях от противника, непонятно для чего, ошалело палил по пустынным островам.
В 1921 году в Таллине вышли в свет мемуары адмирала И. Питке, возглавлявшего в 1918–1919 годах эстонский флот. И. Питке пишет: «Когда мы были заняты высадкой десанта, со стороны Готланда показались дымки. Появление дымков вызвало среди офицеров и матросов тревогу. Я смотрел на свое положение так: уйти со своими кораблями с 6–7 узлами хода я не смогу, этим мы только покажем себя неприятелю и привлечем его внимание. Если же продолжать высадку десанта и стоять в середине залива, то они нас и не заметят. Так и случилось. Комендант Наргена телеграфировал тип русского корабля и его курс. С берега донесение о противнике, попавшем в наши воды, отправили на крейсер „Калипсо“. Они (британцы) перекрыли русским путь к отходу». Поразительно, но Раскольников с каким–то маниакальным упорством делал все от него зависящее для краха затеянной им самим операции.
В 13 часов, когда «Спартак» приближался к Ревелю, сигнальщики заметили в порту дымы пяти кораблей. Это были те самые англичане, которых так и не обнаружили подводники. Получив информацию о появлении одинокого эсминца у Наргена, английская эскадра спешила ему на пересечку. Раскольников не рискнул «атаковать неприятельские суда» и велел отходить к Кронштадту. «Спартак» развернулся, дал полный ход в 25 узлов, хотя эсминцы типа «Новик», к которым он принадлежал, свободно выжимали 35 — именно с такой скоростью его нагоняли преследователи. Началась перестрелка.
Из воспоминаний Раскольникова: «Мы открыли по Вульфу огонь из 100–мм орудий. Наш вызов (!?) остался безответным. По–видимому, на Вульфе не было артиллерии. Это придало нам большую смелость (!?), и мы с увлечением продолжали смелую разведку. Но едва поравнялись с траверзом Ревельской бухты, как в глубине гавани показался дымок, затем другой, третий, четвертый, пятый. Мы развернулись на 180 градусов и, взяв курс на Ост, полным ходом направились в сторону Кронштадта. Но пять зловещих дымков приближались к нам с большой быстротой. Вскоре показались резкие очертания военных кораблей.
Мы без труда определили, что нас преследуют пять английских легких крейсеров, вооруженных 6–дюймовой артиллерией (152–мм) и обладающих скоростью хода, превышающей 30 узлов. Послали радио „Олегу“ с призывом о помощи. Но англичане уже сблизились с нами до пределов орудийного выстрела и первыми открыли огонь. Мы отвечали залпами всех орудий, за исключением носового, у которого предельный угол поворота не позволял стрелять по настигающим нас английским кораблям.
Боевая тревога обнаружила, что наш миноносец был совершенно разлажен. Пристрелка велась до такой степени скверно, что нам самим не было видно падения собственных снарядов. Однако и англичане стреляли не лучше. Они лишний раз подтвердили свою старую славу хороших мореплавателей, но плохих артиллеристов.
Чувствуя, что дела наши плохи, мы пустили обе турбины на самый полный ход. Машинисты и кочегары работали не за страх, а за совесть. На пробном испытании, когда миноносец принимался от завода, он дал максимальную скорость в 28 узлов, а теперь под угрозой смертельной опасности его механизмы выжали 32 узла.
Дистанция между нами и вражескими кораблями как бы стабилизировалась. На душе сразу отлегло. Значит, есть шансы благополучно вернуться в Кронштадт и привезти ценные сведения о силах английского флота».
Вышеприведенные откровения Раскольникова нуждаются в комментариях. Итак, в начале своего повествования командир отряда особого назначения описывает неискушенному читателю почти идиллическую картину своего пребывания на эсминце «Спартак». Он, стоя на мостике, любуется морем и островами. Затем Раскольников гоняет «чаи» и слушает анекдоты в течение всей ночи в кают–компании в кругу командного состава корабля (все они весьма приятные и занятные люди!), а утром внезапно для себя обнаруживает, что корабль–то «совершенно разложен».
В рассказе Раскольникова что ни строка, то перл! Если ты настоящий моряк (а Раскольников все же, худо–бедно, но закончил гардемаринские классы и имел чин лейтенанта!), то неужели ты не почувствуешь, прибыв на корабль, уровень его организации! Для опытного моряка для этого достаточно нескольких часов, атои минут. Допустим, что команда «Спартака» была действительно разложена. Но неужели об этом не знало командование флота, ведь боевых кораблей у них было всего раз–два и обчелся! Неужели об этом не знали командир корабля и комиссар? Неужели об этом не знал сам Раскольников? Если не знал, то он полный болван и идиот, а если знал? Почему тогда, вместо того чтобы гонять «чаи» и слушать скабрезности штурмана, он не приказал провести ночные ученья, не выступил хотя бы перед людьми с революционной речью, чтобы поднять их не слишком высокий боевой дух?
Не могу утверждать, но думаю, что в ту ночь на «Спартаке» происходили несколько иные события. В кают– компании, скорее всего, была организованна попойка командного состава во главе с самим Раскольниковым, которого «посвящали в боевые моряки». Что касается матросских кубриков, то там, вполне вероятно, происходило то же самое.
Итак, англичане преследуют убегающий от них «Спартак». По мнению Раскольникова, он уже выполнил свою боевую задачу (?!!). Если мы еще раз внимательно посмотрим боевое распоряжение, которое давалось командиру отряда, то сразу же поймем, что Раскольников в своих воспоминаниях нагло врет. Никакой задачи «Спартак» не выполнил. Да, он обнаружил английские корабли (вернее, они обнаружили его). Но о том, что английский флот подошел к Ревелю, знал весь мир, и для этого вовсе не надо было посылать к нему наши корабли. Операция, как мы знаем, организовывалась совершенно с другими целями. Напомним о них еще раз:
«1. Выяснить силы противника в Ревеле.
2. Вступить с ними в бой.
3. Уничтожить силы противника, если это представляется возможным».
По первому пункту: английские корабли были обнаружены вдалеке от Ревеля, а потому определить, сколько еще кораблей стоит в настоящее время в Ревеле, никакой возможности не было.
По второму пункту: в бой вступают, преследуя всегда вполне определенную цель, в данном случае в боевом распоряжении приказывалось вступить в бой с целью уничтожения сил противника. Бегство «Спартака» и стрельба по англичанам из кормового орудия — это несколько иной вид боя.
Трагедия «Спартака»
Увы, но с момента обнаружения англичанами «Спартака» вся операция была полностью провалена. Впрочем, при такой организации и руководстве было бы странно, если бы она закончилась по–другому. Теперь Раскольникову оставалось одно — спасаться бегством, ведя бой кормовыми орудиями. При большой скорости и маневренности эсминца это было возможно. Больше того, опыт боев на Балтике показывал, что при грамотном маневрировании вполне возможно завлечь противника на одну из многочисленных отмелей, и тем самым сразу же изменить соотношение сил, атои вовсе переломить ход боя. Именно так в свое время одержал победу над тремя германскими эсминцами однотипный со «Спартаком» эсминец «Новик». Но такой бой надо было планировать и готовить заранее. Секрет успеха здесь крылся в ювелирной работе штурмана и рулевого, а также в отработанности орудийных расчетов.
Думаю, что ни о чем этом «красный лорд» не имел ни малейшего представления.
Никакого боя на отходе Раскольников принимать не хотел. Все мысли начальника отряда теперь сводились к одному — как бы побыстрее удрать от англичан.
И снова предоставим слово Федору Раскольникову: «Вдруг случайный, шальной снаряд, низко пролетев над мостиком, шлепнулся в воду вблизи от нашего борта. Он слегка контузил Струйского и сильным давлением воздуха скомкал, разорвал и привел в негодность карту, по которой велась прокладка. Это временно дезорганизовало штурманскую часть. Рулевой, стоявший у штурвального колеса, начал непрестанно оборачиваться назад, следя, где ложатся неприятельские снаряды.
Раздался оглушительный треск, и наш миноносец резко подбросило кверху. Он завибрировал и внезапно остановился. Мы наскочили на подводную каменную гряду. Все лопасти винтов отлетели к черту.
Позади нас торчала высокая веха, обозначавшая опасное место.
— Да ведь это же известная банка Девельсей, я ее отлично знаю. Она имеется на любой карте. Какая безумная обида! — с горечью восклицал Струйский.
Осознав полную безвыходность нашего положения, я послал „Олегу“ радиограмму с приказанием возвращаться в Кронштадт.
Английские матросы рассказывали потом, что адмирал, находившийся на головном корабле, уже поднял сигнал к отступлению: отогнав наш миноносец от Ревеля, он считал свою миссию законченной. Но при виде нашей аварии английские суда опять пошли на сближение. Ни на минуту не прекращая огня, они не сделали ни одного попадания, хотя расстреливали нас почти в упор. Сидя на подводных камнях, наш миноносец продолжал отстреливаться из кормового орудия. Но никакого вреда неприятельскому флоту тоже не причинил.
Заметив наше беспомощное положение, английская эскадра решила захватить миноносец „живьем“. Я предложил открыть кингстоны, но это приказание не было выполнено. Инженер–механик Нейман ответил, что кингстоны не действуют».
Еще раз проанализируем эту часть воспоминаний Раскольникова. Оно того стоит! «…Вдруг случайный, шальной (это при прицельной–то в бою стрельбе? — В.Ш.) снаряд, низко пролетев над мостиком, шлепнулся в воду вблизи от нашего борта. Он слегка контузил тов. Струйского (помощника Раскольникова по оперативной части… — В.Ш.) и сильным давлением воздуха скомкал, разорвал и привел в негодность карту, по которой велась прокладка».
Увы, как ни прискорбно говорить, но Раскольников снова беспардонно врет. На самом деле в тот момент (в 13.30) произошло вот что: комендоры вздумали ввести в дело одно из носовых орудий, развернув его в корму. Чуть ли не при первом выстреле вырвавшиеся из его ствола пороховые газы пронеслись над мостиком, сметя за борт карты и контузив не Струйского, а штурмана. Короче говоря, англичане тут были совершенно ни при чем.
Несмотря на присутствие командира отряда, командира эсминца, комиссара, «случившееся, — по словам Раскольникова, — временно дезорганизовало штурманскую часть. Рулевой, стоявший у штурвального колеса, начал непрерывно оборачиваться, не столько смотря вперед, сколько следя за тем, где ложатся неприятельские снаряды». Результат не замедлил сказаться — «Спартак» с ходу вылетел на камни, сорвав гребные винты.
— Да ведь это же известная банка Девельсей, я ее отлично знаю! — изумился Струйский.
Было чему изумляться — за кормой «Спартака» раскачивалась веха, предупреждавшая мореплавателей об опасности. Никто из находившихся на эсминце просто не обратил на нее внимания.
Отметим, что среди организаторов посадки эсминца на мель мы видим всех участников ночного «чаепития». Здесь и «скромный и сдержанный» командир Павлинов, который вместе с «неутомимым рассказчиком анекдотов веселым» штурманом Зыбиным в элементарных условиях, при наличии ограждающих вех, посадил корабль на мель. Здесь и «несколько замкнутый» артиллерист Ведерников, который оказался не в состоянии организовать сколько– нибудь действенный огонь по врагу и, судя по всему, вообще не руководил артиллерией корабля. Здесь и «умный, общительный, жизнерадостный» помощник Раскольникова по оперативной части Струйский. К слову сказать, на тот момент Струйский занимал должность флагманского штурмана Балтийского флота и фактически являлся одним из лучших штурманов отечественного флота. И вдруг именно он сажал эсминец на прекрасно всем известную банку? Ну и, разумеется, сам руководитель и вдохновитель всего происходящего Федор Раскольников.
Вся эта веселая «гоп–компания» и сдала врагу новейший эсминец без всякого сопротивления. Скажу честно, что, собирая материалы по трагедии 26 декабря 1918 года, я не мог отделаться от мысли, что поведение командного состава «Спартака» было в тот день на редкость неадекватным. Только личной трусостью и нежеланием драться за новую власть его не объяснить. Причем весьма странно вели себя практически все участники ночного «чаепития». А потому у меня и сложилось твердое убеждение, что пьянка в ночь с 25 на 26 в кают–компании «Спартака» была настолько грандиозной, что даже к обеду следующего дня ее участники все еще находились под воздействием спиртных паров и мало что вообще соображали в происходящем вокруг них.
Именно поэтому предоставленные сами себе артиллеристы наводили баковое орудие прямо через ходовой мостик, а глазеющие на англичан и не ведущие наблюдение в своих секторах сигнальщики попросту «не заметили» ограждающую мель веху прямо перед своим носом.
Самое поразительное в посадке «Спартака» на мель состоит в том, что посадили его люди, которые должны были как «Отче наш» знать все местные мели, около которых плавали всю свою жизнь.
Но они умудрились посадить, в то время как англичане, плававшие на Балтике всего какую–то неделю и не изучившие к этому времени даже лоции, ни на какие мели не садились. Надо понимать, что «Спартаком», скорее всего, вообще никто не управлял. Раскольников с собутыльниками пучил бессмысленные глаза на мостике, штурман умудрился «потерять» навигационную карту, а перепуганные рулевые рулили туда, куда бог на душу положит…
После посадки «Спартака» на мель противники некоторое время обменивались безрезультатными выстрелами. Потом британцы прекратили огонь, послушно замолчал и «Спартак». Почему не получивший ни одного попадания корабль вдруг столь внезапно прекратил сопротивление? Можно было бы понять, если бы просил пощады уже тонущий эсминец с выбитой командой. Но в «Спартак» не было ни одного попадания, не было ни погибших, ни раненых! Объяснение только одно — на корабле царили полная паника и безвластие, и ни командир, ни Раскольников не владели ситуацией, а может, и сами не хотели ей владеть.
Позднее Раскольников нагло утверждал, что он якобы велел радировать на «Олег», чтобы тот уходил в Кронштадт. Этим он между строк утверждал, что до конца думал о деле и других людях, не потерял трезвости ума, а держался настоящим орлом. Во все это не слишком верится. Если бы Раскольников действительно известил в 14.00 26 декабря командование флотом о происшедшем, то вся трагедия и ограничилась бы только потерей «Спартака», и тогда, разумеется, не произошла бы еще одна трагедия. Поэтому можно утверждать, что никаких радиограмм Раскольников в тот момент никуда не отправлял. Не до того было насмерть перепуганному любимцу Троцкого.
Судя по всему, Раскольников вообще потерял рассудок из–за происходящего вокруг, и в тот момент члена Реввоенсовета Республики не волновали более никакие дела, кроме спасения своей собственной шкуры.
В одном из документов значится, что сигнал со «Спартака» якобы передавали на «Олег» флажковым семафором. Но ведь это полное вранье! Флажковый семафор можно передать лишь в пределах прямой видимости. Но в момент посадки «Спартака» на мель в пределах прямой видимости были только английские корабли. Кому же тогда семафорил своими флажками сигнальщик?
Самое интересное заключается в том, что, когда «Спартак» стал уходить, англичане действительно решили прекратить погоню, полагая, что, отогнав советский эсминец, свою задачу они выполнили. Внезапная остановка эсминца из–за посадки на мель стала для них настоящим подарком. Думаю, что не менее были удивлены англичане, когда эсминец затем прекратил огнь и сдался.
Здесь будет нелишне вспомнить, что царские офицеры, которых так поносил Раскольников со товарищи, не спускали флаги даже в куда более безнадежных ситуациях. Вспомним хотя бы трагедии эсминцев «Страшный» и «Стерегущий» у Порт-Артура, когда погибающие корабли отстреливались от врага до последнего снаряда и сражались до последнего офицера и матроса. Позор «Спартака» становится еще горше от того, что сам корабль изначально носил славное имя капитана 1–го ранга Миклухо-Маклая, командовавшего в Цусимском сражении броненосцем береговой обороны «Адмирал Ушаков». Этот корабль сражался с врагом до последнего снаряда и погиб, так и не спустив Андреевского флага, вместе со своим доблестным командиром. Увы, у членов Реввоенсовета было, по–видимому, какое–то свое понятие о воинской чести.
В своих мемуарах Раскольников пишет, что в последний момент он якобы приказал открыть кингстоны, чтобы затопить корабль, сидевший на камнях всем корпусом (!), но инженер–механик Нейман (еще один участник ночной пьянки — «всегда чем–то неудовлетворенный инженер–механик Нейман») вдруг заявил, что они не действуют.
Здесь опять явное вранье! Если корабль прочно сидел на мели, так что не смог одернуться с нее машинами, то о каких кингстонах может идти речь? Открывай их, не открывай, но корабль никак не утонет, так как сидит на мели! Для того, чтобы в руки противнику не попал боевой корабль, следовало делать совершенно иное: дать команду матросам покинуть корабль, а оставшейся на борту подрывной команде — подорвать главные машины, выбросить за борт орудийные замки, уничтожить секретную документацию, а по возможности и взорвать артиллерийский боезапас, чтобы у англичан уже не было никаких шансов ввести захваченных корабль в строй. На все это времени у Раскольникова и командира «Спартака» было предостаточно. Но ни у кого из них даже не возникло мысли об этих, казалось бы, предельно ясных любому моряку, вещах.
Честно говоря, упоминание Раскольникова о неисправных кингстонах вообще очень настораживает. Если все дело было действительно в них, то получается, что «Спартак» вовсе не садился ни на какую мель. Он просто остановился и спустил флаг. Но если Раскольников не пишет ни о каком открытом неповиновении команды эсминца в ходе перестрелки с англичанами, то получается, что «Спартак» остановили и сдали врагу сами начальники, во главе с самим Раскольниковым! А история о посадке на мель была придумана им позднее для собственного оправдания в глазах того же Троцкого.
В неповиновение матросов ивих бунт во время боя я не верю, по нескольким причинам. Во–первых, команда на эсминце была опытная, прошедшая горнило мировой войны. Несколькими неточными выстрелами запугать ее было сложно. Во–вторых, о факте матросского неповиновения молчит сам Раскольников. Нет об этом никаких, даже слабых, намеков в материалах расследования обстоятельств сдачи «Спартака». В–третьих, порукой тому, что матросы «Спартака» выполнили свой воинский и революционный долг до конца, служит их поведение в плену, о чем мы в свое время еще расскажем.
Один из отечественных историков так описывает обстоятельства сдачи «Спартака». Он пишет: «Машины „Спартака“ находились в плохом состоянии, но кочегары и механики „выжали“ из них все возможное, в результате чего расстояние до противника перестало уменьшаться. На преследовании противник вел редкий огонь, „Спартак“ отстреливался из кормовых 102–мм орудий, тем не менее попаданий не достигла ни одна из сторон. Спустя три четверти часа после начала погони англичане готовы были прервать преследование, и около 14.00 Тэсиджер (командир отряда английских кораблей. — В.Ш.) уже отдал приказ поворачивать на обратный курс, как с крейсера „Калипсо“ заметили, что „Спартак“ вдруг будто подбросило вверх, и он остановился. Оказалось, что эсминец крепко засел на мели, и причиной аварии стал сделанный около получаса назад единственный выстрел из носового орудия, который имел для корабля фатальные последствия. При выстреле носовая четырехдюймовка была направлена под слишком острым углом к корме, и от действия дульных газов были выбиты стекла в ходовой рубке, штурман Н. Струцкий контужен, а карта, по которой прокладывался курс корабля, как и ящик с остальными навигационными картами, уничтожена. На мостике, где выстрел приняли за попадание неприятельского снаряда, возникла паника. Во избежание новых попаданий рулевой изменил курс, приведший „Спартак“ на мель Девелси (сейчас Карадимуна — в дословном переводе с эстонского „дьявольские яйца“ — две скалы на глубине 5,4 и 3,4 м). В результате аварии эсминец получил повреждения рулевой машины и обшивки корпуса, лопасти гребных винтов были сломаны.
Оценив безнадежность ситуации, в которой оказался корабль, Раскольников приказал открыть кингстоны, но отменил свой приказ после того, как механик эсминца, Нейман, ознакомил комиссара с плачевным состоянием донного оборудования.
В момент аварии английские корабли находились всего в 30 кбт. Вполовину сократив расстояние, они легли в дрейф и спустили шлюпки. Прибывшая на эсминец призовая партия была поражена его запущенным состоянием не меньше, чем неопрятностью и расхлябанностью самих „красных военморов“. Еще большее удивление англичан вызвал стихийный митинг, который возник по вопросу запуска помп для осушения пробитого корпуса. Вопрос решался чуть ли не голосованием. Тем не менее собрание постановило дать пар к помпам. Затем экипаж „Спартака“ был перевезен на английские корабли. Вечером того же дня эсминец „Вендетта“ стащил „Спартака“ с мели и привел на буксире в Ревель.
Тем же вечером эстонские власти устроили роскошный банкет для победителей. Обилие блюд и напитков удивило даже видавших виды англичан, тем более, что всем было известно о недостатке продовольствия в Ревеле. Попойка продолжалась до поздней ночи, когда британским морякам пришла пора отправляться на свои корабли. По прибытии на борт крейсера „Калипсо“ коммодор Тэсиджер приказал доставить ему все бумаги, захваченные на „Спартаке“, из которых он и узнал, что неподалеку от острова Готланд должен находиться крейсер „Олег“. Немедленно был отдан приказ выйти в море крейсеру „Карадок“ и эсминцу „Вэкефул“, а остальным кораблям отряда готовиться к скорому выходу».
Из дальнейших воспоминаний Раскольникова: «…Вскоре английские крейсера окружили нас и спустили в воду шлюпки. Военморы из команды „Спартака“ увели меня в кубрик и переодели в матросский бушлат и стеганую ватную куртку. Они заявили, что ни в коем случае не выдадут меня, и тут же, впопыхах, сунули мне в руки первый попавшийся паспорт военного моряка, оставшегося на берегу. Я превратился в эстонца, уроженца Феллинского уезда. При моем незнании эстонского языка это было как нельзя более неудачно, но в тот момент некогда было думать. Кок миноносца — товарищ Жуковский — взял на хранение мои часы.
Не успели мы оглянуться, как на борту нашего миноносца появились английские матросы. С проворством диких кошек (!) они устремились в каюты, кубрики и другие жилые помещения и самым наглым, циничным образом на глазах у нас принялись грабить все, что попадалось под руку. Затем стали перевозить нас на свой миноносец.
Сидя в шлюпке, я прочел на ленточках надпись „Wakeful“ („Бдительный“). Обратил внимание на внешнюю интеллигентность физиономий наших.
На миноносце „Wakeful“ нас посадили в кормовой трюм. Кормили галетами и крепким чаем. Со школьной скамьи я вынес плохое знание языков и лишь с грехом пополам разбирал английскую речь. Но все же, многое мне было понятно. Матросы, приносившие нам еду, рассказывали о высадке в Риге английского десанта. Захлебываясь от шовинизма (??!), они ликовали по поводу поражения Германии: „С Германией покончено. Немецкий флот находится в английских портах“.
На следующее утро миноносец „Wakeful“, ставший для нас плавучей тюрьмой, снялся с якоря и отправился в поход. Прильнув к иллюминатору, я тщетно старался определить направление корабля».
И снова вопросы, на которые член Реввоенсовета Республики не дает ответа, а вернее, явно избегает отвечать. А вопросов немало. Кто именно отдал приказ о прекращении огня по врагу? Кто спустил с мачты красный флаг? Как происходила сдача корабля? Почему не были выведены из строя орудия и механизмы? Как, наконец, вели себя в момент сдачи командир эсминца, бывшие офицеры, матросы? Каждый из этих вопросов имеет огромное значение, ибо в ответе на них и кроется разгадка трагедии «Спартака». Получив ответ на них, многое для нас в этой истории сразу же стало бы ясным. Дать исчерпывающие ответы на все вышеперечисленные вопросы и должен был в своих воспоминаниях Раскольников, если бы он действительно являлся честным и порядочным человеком, каковым он себя всем представлял.
Так о чем же повествует нам в данном случае Раскольников? А пишет он о том, как спрятался от англичан в матросском кубрике, где, выбросив комиссарскую кожанку, напялил на себя грязный матросский бушлат и ватник.
В тот момент Раскольникова нисколько не волновала ни сдача врагу новейшего боевого корабля (которых у Советской республики было всего раз, два, и обчелся!) ни судьба своих братьев–матросов. Раскольников боялся одного — быть узнанным и нести ответственность в соответствии с занимаемой им должностью. «Они (матросы) заявили, что ни в коем случае не выдадут меня, и тут же, впопыхах, сунули мне в руки первый попавшийся паспорт военного моряка, оставшегося на берегу». В тот момент он более не желал быть членом Реввоенсовета Советской республики, командиром отряда кораблей и любимцем товарища Троцкого. В тот момент Раскольников желал быть кем угодно, лишь бы остаться в живых! По данным англичан, «орел Троцкого» прятался от них на камбузе за мешками с картошкой. Что и говорить, поистине легендарной храбрости был человек!
Весьма странно на этом фоне выглядит описание Раскольниковым «внешней интеллигентности» и «яркого румянца щек» англичан. Об этом ли думать командиру отряда в момент пленения его корабля врагом?
О чем жалеет Раскольников? О провале затеянной им операции? О потерянном для республики боевом корабле? О десятках загубленных из–за него человеческих судеб? Совершенно нет! Он жалеет о том, что впопыхах прикинулся эстонским матросом, совершенно не владея эстонским языком. Раскольников опять печалится исключительно о своей особе. Постыдное поведение Раскольникова, в попытке переодеться в матроса не имеет аналогов в истории отечественного флота. Так трусливо военно–морские офицеры себя никогда не вели.
За тринадцать лет до трагедии «Спартака» подобно Раскольникову в схожей ситуации повел себя лишь печально знаменитый «красный лейтенант» Петр Шмидт, который после провала мятежа на крейсере «Очаков» пытался бежать в Турцию на паровом катере. После того, как катер остановили, Шмидт переоделся в робу кочегара и вымазал себе лицо угольной пылью. Это его не спасло, и Шмидт получил по заслугам. При этом «красный лейтенант», как известно, много лет состоял на учете в психиатрической лечебнице и не раз там лечился, как шизофреник, страдающий манией величия. Вольно или невольно, но возникают определенные параллели в поведении двух «красных лейтенантов»…
И еще одна любопытная подробность. Уже после Гражданской войны, пытаясь поднять свой авторитет среди моряков, Раскольников будет утверждать, что по линии отца его родословная нисходит к знаменитому герою Чесменского сражения лейтенанту Дмитрию Ильину, сжегшему на брандере турецкий флот. Зная склонность Раскольникова к вранью и эпатажу, в родственность с одним из самых героических моряков в истории России мне верится с трудом. Мало ли однофамильцев в России, да и Ильин — далеко не самая редкая фамилия. Но даже если все обстояло действительно так, то остается констатировать, что от своего геройского предка Ильин—Раскольников не унаследовал абсолютно ничего, предав даже собственную историческую фамилию.
А вот версия эстонского историка Мати Ыуна по книге «Эсминцы „Леннук“ и „Вамбола“: история строительства, службы и продажи в Перу» (Таллин, 1997): «…для выяснения обстановки на море у Таллина был сформирован отряд из линкора „Андрей Первозванный“, крейсера „Олег“, и эсминцев „Спартак“, „Автроил“, и „Азард“. Целью операции было выяснение присутствия английских боевых кораблей в Таллине и их возможное количество. „Автроил“ не смог выйти в море в означенное время 25 декабря, поскольку занимался исправлением повреждений, полученных от плавания во льдах. На подходе к Таллину выяснилось, что на „Азарде“ заканчивается топливо и его может не хватить на обратный путь. Эсминец пришлось отпустить в Кронштадт. Линкор остался на позиции у маяка Шепелева, а „Олег“ направился к острову Суурсаар. Раскольников, не дожидаясь подхода „Автроила“, решил на „Спартаке“ произвести разведку боем. Ранним утром 26 декабря эсминец направился в сторону Таллина. Погода была ясной, видимость хорошая. Около 10 часов „Спартак“ подошел кострову Аэгна. Был задержан финский пароход, вышедший из Таллинской гавани, на него высадили двух вооруженных матросов и отправили в Кронштадт. После чего был произведен обстрел Аэгны. Ответного огня не последовало. Затем был обстрелян Найссаар с тем же результатом. Около 13: 00 „Спартак“ взял курс на Таллинский рейд и тут же были замечены английские корабли, выходящие из гавани. Эсминец тут же развернулся и лег на обратный курс. Преследователями были английские легкие крейсера „Карадок“ и „Калипсо“, а также эсминец „Уэйкефул“. Британцы шли полным ходом и довольно быстро нагоняли „Спартак“. Когда дистанция сократилась до 60 кабельтовых, крейсера открыли огонь. „Спартак“ отвечал из кормовых орудий».
Насчет дальнейших событий есть две версии. Историк Мордвинов утверждает, что во время стрельбы из носового орудия, которое приходилось разворачивать за траверз, пороховыми газами и воздушной волной была полностью приведена в негодность карта, по которой шла прокладка курса, а рулевой матрос был оглушен. Раскольников же утверждает, что примерно в 13:30 одним из близких разрывов был легко ранен его помощник по оперативной части Струйский. Это произвело сильное впечатление на рулевого, и он уже больше следил за разрывами снарядов, нежели за тем, чтобы держать эсминец на курсе. В результате «Спартак» на полном ходу вылетел на мель, повредив гребные валы и винты. Англичане подошли на 15 кабельтовых, лениво постреливая. Раскольников приказал открыть кингстоны, но инженер–механик Нейман доложил, что они неисправны. Сочтя положение безнадежным, подняли сигнал о сдаче в плен. Всю команду «Спартака» перевезли на британские корабли и отправили в Таллин. Вечером того же дня эсминец «Вендетта» сдернул «Спартак» с мели и также отбкусировал его в Таллин.
Итак, 26 декабря 1918 года новейший советский эсминец «Спартак», вопреки Морскому уставу, был сдан противнику практически без сопротивления, а Ф. Ф. Раскольникова англичане опознали, несмотря на маскарад с переодеванием.
На захваченном корабле англичане обнаружили секретные документы по замыслу и проведению разведывательной операции, бланки радиограмм. Почему могло случиться последнее? Неужели трудно уничтожить документы, когда под рукой специальный мешок–киса со свинцовым грузом, ведь выкинуть кису за борт — дело нескольких секунд? Предположим (и небезосновательно), что этому помешали бывшие офицеры, но Раскольников? Ведь он учился на гардемаринских классах и такие азы, как уничтожение секретных документов в случае опасности их захвата, должен был бы понимать! Увы, в те минуты, когда можно было уничтожать секретную документацию, Раскольников думал совсем о другом — о том, как спасти свою собственную шкуру.
Отметим, что «гордые сыны» Туманного Альбиона вели себя на «Спартаке» как банда мародеров. Они обшарили корабль, выломали и увезли приборы управления огнем, разграбили каюты и утащили обстановку. За несколько часов они ограбили «Спартак» «подчистую», не гнушаясь даже ложками и вилками! При этом в своих воспоминаниях о событиях тех дней англичане говорят об устроенном им грабеже плененного «Спартака» с гордостью! Оказывается, можно гордиться и мародерством! Лучше бы уж молчали!
Пленных военморов англичане разместили под вооруженной охраной на своих кораблях, в основном на эсминце «Вэкефул». Сам корабль был в тот же день уведен в Ревель. Последний факт говорит о том, что «Спартак» или вообще не сидел на мели, или сидел, но не столь основательно, что его нельзя было бы снять работой собственных машин «враздрай».
«Оборотни в погонах» от революции
В обстоятельствах пленения Раскольникова был один нюанс, на котором мы просто не можем остановиться, настолько он характеризует нам личность «красного лорда».
Из воспоминаний самого Раскольникова: «Наши „спартаковцы“ были выстроены на левых шканцах. Англичане вместе с белогвардейцами усиленно разыскивали меня. На все их вопросы спартаковские матросы отвечали, что в Кронштадте перед выходом миноносца в море его действительно посетил Раскольников, а затем он будто бы сошел на берег и в походе не участвовал. Однако англичане продолжали свои поиски, по–видимому, имея точные сведения о моем нахождении на борту „Спартака“.
Меня поставили во фронт — на левом фланге спартаковской команды и отобрали паспорт. Ввиду того, что по паспорту я значился эстонцем Феллинского уезда, ко мне подошел какой–то матрос боцманского вида и стал разговаривать по–эстонски. Ему не стоило большого труда уличить меня в незнании языка.
В свое оправдание я солгал, что давно обрусел и уже забыл родной язык. Но в этот момент на шканцах появилась группа белогвардейских офицеров, и среди них я тотчас узнал высокую, долговязую фигуру моего бывшего товарища по выпуску из гардемаринских классов — бывшего мичмана Феста. Оскар Фест принадлежал к прибалтийским немецким дворянам. Вместе с другими белогвардейскими настроенными офицерами он остался в Ревеле… Он сказал что–то своим белогвардейским спутникам; и меня тотчас изолировали от всей команды, раздели донага, подвергли детальному обыску.
В каюту, где проводилась эта унизительная процедура, буквально ворвался какой–то белогвардеец в форме морского офицера, взглянул на меня и, захлебываясь от радостного волнения, громко воскликнул: „Это тот самый человек“.
Очевидно, он знал меня в лицо. Увидев теперь на мне матросский бушлат, скромное белье и порванные носки (?!), издевательски произнес:
— Как ты одет! А еще морской министр!
После обыска меня вывели на палубу и заставили спуститься по трапу в моторный катер».
Я вполне понимаю «белогвардейца в форме морского офицера», который с презрением оценил переодевание Раскольникова. И как ни пытается обелить себя в мемуарах член Реввоенсовета, постыдное поведение скрыть не удается. Офицером, который опознал «красного лорда» в грязном псевдоматросе, был бывший однокашник Раскольникова мичман Оскар Фест — весьма заслуженный, в отличие от Раскольникова, офицер. К моменту их неожиданной встречи Фест успел повоевать на эсминце «Самсон» в Рижском заливе и в битве за Моонзунд, являлся активным участником Ледового похода Балтийского флота из Гельсингфорса в Кронштадт. После восстания на Минной дивизии в 1918 году был арестован ВЧК и в течение двух месяцев сидел в тюрьме. После освобождения, не испытывая больше судьбу, бежал к белым. На английскую эскадру был командирован как офицер связи.
Врет Раскольников и относительно того, как его обыскивали. Дело в том, что несколькими страницами дальше в своих мемуарах он признает, что, прибыв Англию, имел при себе определенное количество (и, видимо, не малое) царских золотых. Откуда у него появились эти деньги, Раскольников не объясняет. По–видимому, член Реввоенсовета всегда возил с собой по фронтам мешочек с золотом (просто так, на всякий случай!). Хотя, может быть, царские золотые были присвоены им из корабельной кассы перед сдачей в плен. Последнее, впрочем, маловероятно. Обстановка на Балтийском флоте была настолько тяжелая, что никакого золотого запаса на кораблях вообще быть не могло. Как бы то ни было, но, несмотря на «обыск», свое золотишко член Реввоенсовета Республики все же каким–то образом сохранил.
Вообще попытка командира корабля изменить внешность перед попаданием в плен никогда не была характерна в российском флоте. Там честно сражались с врагом, предпочитая смерть позору плена, но если уж израненными и попадали в плен, то делали так, что вызывали восхищение неприятеля. За примерами далеко ходить не будем. Во время русско–английской войны 1808 года маленький российский тендер «Опыт» под командой лейтенанта Невельского принял неравный бой с тяжелым английским фрегатом «Сальстет».
Из воспоминаний отставного генерал–майора Баранова, бывшего в этом бою на «Опыте» гардемарином: «Утром 11 июня, выйдя из Свеаборга при тихом переменном ветре, ясном небе и пасмурности по горизонту, мы увидели через несколько часов трехмачтовое судно, близь того места, где должны были найти корвет „Шарлотт“. Пасмурность лишила нас возможности отличить неприятельский фрегат большого ранга от своего корвета, бывшего прежде французским приватиром и купленного нами за его отличные качества… Припоминая опытность капитана и верность его морского взгляда, не смею утверждать, вполне ли умышленно мы приближались к ждавшему нас противнику; но когда нельзя было сомневаться, что это не корвет „Шарлотт“, а сильный неприятельский фрегат, то, сделав опознавательный сигнал и не получив на него ответа, мы, по приказанию командира, положив сигнальные флаги и книги в ящики, наполненные песком, бросили их за борт и приготовились к бою. Спустя несколько времени, неприятельский фрегат, сблизясь с нами, сделал пушечный выстрел и поднял английский флаг. Мы же медлили поднятием своего флага, и эти минуты были самыми тягостными! Фрегат повторил еще холостой выстрел и вслед за тем послал нам выстрел с ядром. На это приветствие командир приказал тотчас ответить тем же и поднять наш флаг. С тендера раздался выстрел 12–фунтовой коронады, на ноке гафеля развился русский военный флаг; томительное ожидание кончилось! Все ожило, все встрепенулось; каждый старался употребить все свои силы и способности на поражение неприятеля, хотя бой был далеко не равен».
Даже с первого взгляда было ясно, что расклад сил далеко не в пользу маленького «Опыта». Против сорока четырех тяжелых орудий «Сальстета» у Невельского было всего полтора десятка мелких пушек. Против четырехсот матросов «Сальстета» на «Опыте» не было и пятидесяти. У Невельского даже не было подчиненных офицеров. Вместо них двое мальчишек–гардемаринов, бывших в плавании практикантами.
С фрегата сигналом потребовали немедленной сдачи. Уверенные в удачном захвате посыльного судна, англичане сгрудились на палубе. Размахивая руками, они торопили. Но лейтенант Невельской выбрал бой.
Над посыльным суденышком дерзко взлетел ввысь красный стеньговый флаг. Маленький тендер бросал вызов своему грозному противнику. Даже без зрительной трубы было видно, как врассыпную бросились к орудиям английские матросы. Палуба «Сальстета» в мгновение опустела. Первым открыл огонь «Сальстет». Минуту спустя ответил и «Опыт». Неравный поединок начался. Малый ветер не уносил дыма, и вскоре противники уже только по вспышкам выстрелов определяли местонахождение противника.
Из воспоминаний участника боя Баранова: «Будучи гардемарином на тендере и в самом начале первой моей кампании, я солгал бы, если бы стал рассказывать о всех направлениях и переменах курса; знаю только, что мы изменяли его не редко. Ветер был тих и переменялся очень часто. Догнал ли нас фрегат, или мы подошли к нему, также не могу сказать утвердительно; но твердо помню, что мы сблизились, — и фрегатские ядра стали перелетать чрез наш тендер, повреждая его рангоут. Впоследствии и наши ядра стали долетать до фрегата. Мы не скупились на выстрелы и бой сделался жарким! Но ветер стих; тендер имел большие повреждения в корпусе и вооружении, и потому командир приказал прекратить стрельбы и выкинуть весла. Как теперь вижу артиллерийского бомбардира, просившего позволения наложить фитиль на коронаду, говоря, что она уже наведена на фрегат; позволение дано, выстрел раздался; но в то же мгновение неприятельское ядро раздробило ногу храброму артиллеристу гораздо выше колена. Упав, он на руках и остальной ноге дополз до фор–люка, спустился на кубрик и не доверяя операции лекарскому ученику, неопытному мальчику, сам отрезал висевшую на жилах, свою раздробленную ногу.
Действие веслами во время штиля и маловетрия дало тендеру ход до 4 узлов. Фрегат, лежащий с нами борт о борт, стал отставать и, очутившись у нас за кормой, приводил лагом, палил залпами и, наконец, ядра его не стали долетать до нас. Нарген был близок. Мы спешили на Ревельский рейд, а впоследствии даже к ближайшему берегу. Уже мечтали мы, с каким восторгом будем рассказывать о нашем деле товарищам, а те из нас, которые были свободны от дела, собравшись у гака–борта, прокричали с командою троекратное „ура“, махнувши шляпами отставшему от нас неприятельскому фрегату. Но радость наша была слишком преждевременна! Впереди тендера появилась черная туча, мгновенно налетел шквал и паруса разлетелись на части. Тендер сильно накренило; подветренные паруса забуровали; иные сломались, другие надобно было перерубить, чтобы не отнимали ходу и не препятствовали править рулем. Из 14 коронад многие были подбиты; снасти и реи избиты; тендер расстрелян; люди изнурены до крайности 4–х часовым действием. Фрегат, убрав бом–брамсели и брамсели, грот и фок, подошел к нам менее, нежели на ружейный выстрел, спустился под корму, дал два залпа из шканечных и баковых орудий, разбил штурвал, убил и изувечил несколько человек из команды, лег в дрейф близь правого нашего траверза и потребовал немедленной сдачи…»
К этому времени на «Опыте» оставалась целой единственная пушка, а в живых не более десятка человек. Самому Невельскому ядром отшибло нижнюю челюсть. Он упал, но затем, опершись рукой о палубу и замотав то, что осталось от челюсти, окровавленным шарфом, продолжил, как мог, командовать боем. Говорить Невельской уже не мог, ибо рот превратился в одну сплошную рану. Объяснялся знаками. «Приготовиться прорубить днище!» — написал он свинцовым карандашом на клочке бумаги боцману. К этому времени несколько раз ядрами уже сшибало кормовой флаг, а потому Невельской велел крепко прибить его к флагштоку гвоздями. Неравный бой продолжался в ярости и отчаянии. Наконец после очередного фрегатского залпа ядром отшибло ствол последней пушки.
Невельской выхватил саблю — сигнал к абордажу. Но англичане, видя решимость русских, вплотную не подходили, а продолжали забрасывать беспомощный тендер ядрами.
Из воспоминаний Баранова: «Подошедшие офицеры представили ему (Невельскому. — В.Ш.), что дальнейшее упорство с нашей стороны без всякой пользы, повлечет за собой неминуемую гибель остальных людей, которые храбростью своею и беспрекословным исполнением воли командира, вполне заслуживают, чтоб была спасена жизнь их. Действительно, все убеждало в бесполезности и даже невозможности дальнейшего сопротивления; тем более, что жестокая рана лишала нашего капитана возможности непосредственно участвовать в деле. Исполнив до последней минуты все, что требовал долг чести, решено было сказать фрегату, что мы прекращаем действие. Горька подобная минута! Мы сознавали, что исполнили долг свой, а между тем по лицам нашим, закопченным дымом пороха, катились слезы глубокой грусти! Нам велено было спустить флаг. Но флаг, у которого сигнальный фал перебило еще в первую перестрелку, привязан был наглухо к ноку гафеля, оставшемуся на одном дирик–фале, потому что гордень также была перебита (грот, расстрелянный ядрами и картечью, разорван был пополам нашедшим шквалом). Мы отвечали, что флага нельзя спустить; тогда потребовали, чтоб мы разостлали английский флаг по борту; что и было исполнено в 11–м часу вечера».
Впрочем, существует мнение, что Невельской преднамеренно отказался спускать Андреевский флаг и не поднял английский. Это означало, что тендер официально так и не был сдан, а захвачен с боя. Так как впоследствии вопрос о сдаче никогда и никем не поднимался, думается, все происходило именно так.
К разбитому и беспомощному «Опыту» от борта «Сальстета» уже спешили шлюпки с абордажной партией. Когда они вступили на тендер, их взгляду предстала страшная картина: вся палуба была завалена мертвыми телами. Среди павших находились несколько раненых, готовых отбиваться тесаками и отпорными крюками. У матросов не оставалось даже пуль! Впереди всех, широко расставив ноги, стоял лейтенант Невельской. С оторванной челюстью и свисающим вниз языком он был ужасен. Скрестив руки на груди, командир «Опыта» молча смотрел на своего противника. Когда раненых «опытовцев» перетаскивали на «Сальстет», те успели разглядеть десятки мертвых тел, уложенных рядами на шканцах, рваный такелаж, разбитые пушки и развороченные ядрами борта.
Из воспоминаний отставного генерал–майора Баранова: «Нельзя не вспомнить о редком бесстрашии и хладнокровии особенно отличившихся в этом деле: товарища моего по корпусу, бывшего тоже гардемарином на тендере, а ныне отставного флота капитана 1–го ранга Сухонина; штурманского помощника унтер–офицерского чина, впоследствии умершего на службе корпуса флотских штурманов капитаном, Халезова; и старшего нашего артиллериста, бывшего унтер–офицером, а ныне начальника морской артиллерии в Ревеле, полковника Федотова — старавшихся, все до сего усердно ими хранимое, бросать за борт и портить, чтоб не досталось неприятелю. Посланные с английского фрегата шлюпки с офицерами, вооруженными солдатами и матросами, у всех нас, кроме капитана, отобрали оружие; капитану же присланный с фрегата лейтенант объявил, что он не считает себя вправе взять саблю от такого храброго офицера и что только один капитан его фрегата может получить ее. Первыми были перевезены командир и раненные, а потом уже остальная команда».
Историческая хроника гласит, что героическая и отчаянная защита «Опыта» внушила англичанам столь сильное уважение к команде тендера, что все оставшиеся в живых во главе с Невельским были почти сразу освобождены от плена и переправлены на берег. При этом Невельской оказался на высоте и здесь! Он наотрез отказался давать капитану «Сальстета» Баттосу за себя и за своих подчиненных расписку о дальнейшем неучастии в боевых действиях. Англичане повозмущались, но возиться с остатками перераненной команды у капитана Баттоса охоты не было никакой. Раненых хватало и своих! А потому спустя несколько дней команда «Опыта» была высажена на берег у Либавы.
Любопытно, что, узнав о подвиге «Опыта», император Александр распорядился никогда более не назначать Невельского ни к кому в подчинение, а предоставлять ему, по излечении, только самостоятельное командование кораблями. Попадание его в плен велено было не считать препятствием к получению Георгиевского креста. Офицеры «Опыта» за совершенный подвиг получили годовой оклад жалования, а гардемаринам от «монарших щедрот» было выдано по сто рублей ассигнациями. Что касается матросов, то им было убавлено несколько лет службы, и все они были определены служить в загородные дворцы и на придворные яхты.
Что и говорить, такой сдачей в плен можно и надо гордиться! Не у каждого хватит мужества так отчаянно сражаться с противником, не имея с самого начала ни одного шанса на успех!
Увы, были в истории отечественного флота и менее героические страницы: сдача фрегата «Рафаил» туркам или эскадры Небогатова японцам. Но и там ни у кого из офицеров и в мыслях не было, чтобы, спасая свою жизнь, переодеться в грязную матросскую робу и выдать себя за какого–нибудь глухонемого кочегара. Пойти на столь постыдный для офицера шаг может только человек, у которого отсутствуют такие понятия, как личное достоинство, честь и смелость отвечать за свои дела. Именно такую характеристику мы можем дать испугавшемуся за собственную шкуру, а потому переодевшемуся перед сдачей в плен Раскольникову. Но оказывается, что на этом поприще «красный лорд» был далеко не первым! Автору известны еще два подобных случая. Причем оба они достойны того, чтобы о них вспомнить!
Первым таким «оборотнем в погонах» оказался небезызвестный масон–декабрист лейтенант Николай Бестужев.
Из воспоминаний о событиях декабристского мятежа 1825 года: «14–го числа он (Бестужев. — В.Ш.) вывел на площадь Гвардейский экипаж. В нем было несколько матросов, служивших под командой Бестужева на походе в Средиземное море. „Ребята! Знаете ли вы меня? Пойдемте же!“ И они пошли. Я видел, как экипаж, мимо конногвардейских казарм, шел бегом на площадь. Впереди бежали в расстегнутых сюртуках офицеры и что–то кричали, размахивая саблями. Я не узнал в числе их Бестужева, да и до такой степени был уверен в неучастии его, что, услыхав о делах Александра, сказал с сердечным унынием: „Бедный Николай Александрович! Как ему будет жаль брата!“
По прекращении волнения Николай Бестужев уехал на извозчичьих санях в Кронштадт; переночевав у одной знакомой старушки, он на другой день сбрил себе бакенбарды, подстриг волосы, подрисовал лицо, оделся матросом и пошел на Толбухин маяк, лежащий на западной оконечности Котлина острова. Там предъявил он командующему унтер–офицеру предписание вице–адмирала Спафарьева о принятии такого–то матроса в команду на маяк.
— Ну, а что ты умеешь делать? — спросил грозный командир.
— А что прикажете, — отвечал Бестужев, прикинувшись совершенным олухом.
— Вот картофель, очисти его.
— Слушаю, сударь, — отвечал он, взял нож и принялся за работу.
Полиция, не находя Бестужева в Петербурге, догадалась, что он в Кронштадте, и туда послано было предписание искать его. Это было поручено одному полицейскому офицеру, который, лично зная Бестужева, заключил, что он, конечно, отправился на маяк, чтоб оттуда пробраться за границу. Прискакал туда, вошел в казарму и перекликал всех людей. „Вот этот явился сегодня“, — сказал унтер–офицер. Полицейский посмотрел на Бестужева и увидел самое дурацкое лицо в мире. Все сомнения исчезли: здесь нет Бестужева, должно искать его в другом месте. Когда полицейский вышел из казарм, провожавший его денщик (бывший прежде того денщиком у Бестужева) сказал ему:
— Ведь новый–то матрос господин Бестужев: я узнал его по следам золотого кольца, которое он всегда носит на мизинце.
Полицейский воротился, подошел к мнимому матросу, который опять принялся за свою работу, ударил его слегка по плечу и сказал:
— Перестаньте притворяться, Николай Александрович, я вас узнал.
Военный губернатор отправил его в Петербург под арестом в санях на тройке. Когда приостановились перед гауптвахтой при выезде, он сказал случившимся там офицерам:
— Прощайте, братцы! Еду в Петербург: там ждут меня двенадцать пуль».
Вот такой герой! Вначале спровоцировал своих матросов на мятеж, потом бросил их под картечью, а сам пытался спрятаться под личиной придурошного матроса, а затем еще и причитал, что его, расстреляют аж 12 пулями! На самом деле масона Бестужева никто расстреливать не собирался (это он сам с перепугу придумал!), но на каторгу отправили, чтобы было время подумать.
Вторым «оборотнем в погонах» российского флота стал знаменитый «красный лейтенант» и горлан революции 1905 года Петр Шмидт. Возглавив в ноябре 1905 года в Севастополе мятеж на крейсере «Очаков», он при первых же выстрелах по крейсеру оставшимися верными царю кораблями решил, что на этом его революционная миссия завершена.
Еще до начала обстрела, предвидя неблагоприятное развитие событий, Шмидт приказал приготовить себе с тыльного борта «Очакова» миноносец № 270 с полным запасом угля и воды. Едва борт крейсера начал содрогаться от первых попаданий, Шмидт со своим шестнадцатилетним сыном, пользуясь всеобщей неразберихой, первым (и это доказано документально!) покинул обстреливаемый корабль, бросив на произвол судьбы сотни и сотни поверивших ему людей.
Дезертировав самым бесстыдным образом, Шмидт впоследствии так оправдывает свой поступок: «Мне часто думается, что Россия не позволит меня предать смертной казни… Я пойду на смерть спокойно и радостно, как спокойно (!) и радостно (!) стоял на „Очакове“ под небывалым в истории войн (!!!) градом артиллерийского огня. Я покинул „Очаков“ тогда, когда его охватил пожар, и на нем нечего было уже делать, некого было удерживать от панического страха, некого было успокаивать. Странные люди! Как они все боятся смерти (?!!) Я много говорил им, что нам смерть не страшна, потому что с нами „правда“. Но они не чувствовали этого так глубоко, как я, а потому и дали овладеть собой животным страхом смерти». Перед нами не запись, сделанная нормальным человеком, а какой–то поток сознания психически больной личности. Нормальному человеку трудно представить, как мог Шмидт столь беспардонно расхваливать себя и свое очередное бегство и при этом одновременно столь цинично отзываться о людях, пошедших за ним и погибших из–за его амбиций.
Итак, Шмидт спустился в миноносец и, бросив на произвол судьбы «Очаков» со всей его погибающей командой, на полном ходу попытался вырваться из Севастопольской бухты, держа курс в открытое море. Существует мнение, что Шмидт хотел уйти в Турцию. Едва миноносец отошел от борта горящего крейсера, как на «Ростиславе» подняли сигнал: «Следовать под корму адмирала». Таким образом, Шмидту предлагали, в какой уже раз, не подвергая более риску человеческие жизни, сдаться. Но «красный лейтенант» сигналу не внял. Миноносец дал полный ход и помчался на выход из бухты. После этого по нему прозвучало несколько точных выстрелов. Остановлен поврежденный миноносец был брандвайтенным судном напротив Приморского бульвара. Сам Шмидт на допросах утверждал, что ему надо было для чего–то попасть в Артиллерийскую бухту. Однако последнее вызывает известное сомнение. Берега Артиллерийской бухты были к этому времениуже заняты верными правительству войсками, и Шмидт об этом был прекрасно осведомлен. Если он шел туда, значит, бросив «Очаков», он шел сдаваться? Но с таким же успехом он мог сдаться и «Ростиславу»!
Если взглянуть на дислокацию кораблей в Севастопольской бухте на момент боя и маневрирования Шмидта на миноносце № 270, то «турецкий план» побега выглядит достаточно вероятным. Для этого ему надо было просто вырваться из Севастопольской бухты, причем сделать это, двигаясь именно вдоль Приморского бульвара и Артиллерийской бухты, подальше от орудий Константиновского равелина, скрываясь за дымом расстреливаемых кораблей. Выскочив из бухты, быстроходному кораблю было легко затеряться в просторах Черного моря. Там миноносец можно было искать с таким же успехом, как искать иголку в стоге сена.
Надо отдать должное Шмидту: план побега был им продуман и организован блестяще. «Красный лейтенант» не учел только меткости стрельбы черноморских артиллеристов. Думается, что у Шмидта все бы получилось, но в самый последний момент миноносец был поврежден точным выстрелом с броненосца «Ростислав» (при этом ни один человек на его борту не был даже ранен!), а затем и перехвачен брандвахтенным судном. При этом Шмидт даже не пытался сопротивляться, хотя на миноносце имелись самодвижущие мины (торпеды) и мелкокалиберные орудия. «Красный лейтенант» к этому времени вообще, видимо, утратил всякую волю и находился в полной прострации. При первичном осмотре катера Шмидта, впрочем, не нашли, но затем он был извлечен из–под металлических палубных настилов–паелов, где самым постыдным образом прятался. На неудавшемся командующем была уже матросская роба, и он пытался выдавать себя за ничего не понимающего кочегара. Однако, несмотря на эти ухищрения, Шмидт был сразу же опознан. Пленника немедленно доставили на Графскую пристань. Существует устойчивое убеждение, что там морские офицеры публично надавали ему пощечин. Но это не соответствует истине. Лейтенант Ф. Карказ лишь размахивал кулаками перед лицом Шмидта, что признает и сам «красный лейтенант». Карказа за это расстреляют в 1918 году. Дело в том, что помимо всего прочего офицеры Черноморского флота были возмущены тем, что отставной лейтенант самовольно нацепил на себя никогда ему не принадлежащие погоны капитана 2–го ранга, а кроме этого собирался поднять на своем корабле и вице–адмиральский флаг!
Что касается плененного Шмидта, то его разместили на броненосце «Ростислав». О нескольких часах своего пребывания там Шмидт оставил весьма подробные воспоминания. Читая их, просто невозможно не понять, что написаны они человеком с явно ненормальной психикой. Шмидт подробнейшим образом описывает, кто, что и когда ему говорил, какое нехорошее было выражение глаз у говоривших с ним офицеров. Шмидт сильно возмущается, что ему не дали сразу же вымыть перемазанные углем лицо и руки, не напоили сразу же горячим чаем… не пригласили отобедать в кают–компанию, не переодели в чистую одежду, отобрали папиросы и спички, не дали сыну подушку и т.д. и т.п. Только что сам вешал офицеров, а тут требует от них же себе горячий чай!
Однако Шмидт все же признает, что по его требованию с «Очакова» ему все же позднее привезли чистую одежду. Затем Шмидту разрешили и умыться, и накормили. Обо всем этом «красный лейтенант» пишет с чисто немецкой педантичностью, однако при этом ни словом не упоминает о десятках только что погибших по его воле людей, словно их никогда не существовало. Шмидт занят исключительно своей особой. Один из офицеров Черноморского флота вспоминает, что когда Шмидта привезли на броненосец «Ростислав», то матросы броненосца, взбешенные предательством «красного лейтенанта» по отношению к их собратьям, брошенным на «Очакове», хотели его расстрелять. Спасло Шмидта только вмешательство офицеров. Вот такой вот «герой»! Дальнейшая судьба Шмидта нам хорошо известна.
Вообще создается впечатление, что трусость и непорядочность — это характерная черта всех трех «оборотней в погонах». Все они были горласты и наглы, когда чувствовали себя в безопасности. Все они показали себя жидкими на расправу, когда дело приняло другой оборот и их драгоценным жизням стала угрожать реальная опасность. Таким же как его старшие товарищи по революционному делу на флоте, оказался и «красный лорд» Раскольников. Это говорит не о случайности, а о закономерности! Все провокаторы при ближайшем рассмотрении оказываются заурядными трусами.
Тайна сдачи «Спартака»
Обстоятельства сдачи «Спартака» весьма сильно разнятся, и полную картину происходившего восстановить крайне сложно. Итак, около 13 часов «Спартак» взял курс на Таллинский рейд, и тут же были замечены английские корабли, выходящие из гавани. Эсминец тут же развернулся и лег на обратный курс. Преследователями были английские легкие крейсера «Карадок» и «Калипсо», а также эсминец «Уэйкефул». Британцы шли полным ходом и довольно быстро нагоняли «Спартак». Когда дистанция сократилась до 60 кабельтовых, крейсера открыли огонь. «Спартак» отвечал из кормовых орудий. Существует мнение, что «Спартак» не мог дать полный ход, так как малочисленная машинная команда была не в состоянии обеспечить работу обеих турбин одновременно. Нагоняющие английские корабли прекратили сближение со «Спартаком», когда кильватерная струя эсминца окрасилась в желтый песчаный цвет, то есть корабль попал на мелководье.
Насчет дальнейших событий есть две версии. Раскольников утверждает, что примерно в 13 часов 30 минут одним из близких разрывов был легко ранен его помощник по оперативной части Струйский. Это произвело «сильное впечатление» на рулевого, и он уже больше следил за разрывами снарядов, нежели за тем, чтобы держать эсминец на курсе. В результате «Спартак» на полном ходу вылетел на мель, повредив гребные валы и винты. Англичане подошли на 15 кабельтовых, лениво постреливая. Раскольников приказал открыть кингстоны, но инженер–механик Нейман доложил, что они неисправны. Сочтя положение безнадежным, подняли сигнал о сдаче в плен.
По версии историка Мордвинова, во время стрельбы из носового орудия, которое приходилось разворачивать за траверз, пороховыми газами и воздушной волной была полностью приведена в негодность карта, на которой производилась прокладка курса, а рулевой матрос был оглушен.
Любители истории флота приводят относительно боя «Спартака» некоторые расчеты. Разумеется, эти расчеты не дают полностью реальной картины происходившего в тот момент, но кое–какие выводы все же сделать позволяют.
Итак, крейсера «Калипсо» и «Карадок». Скорость хода 29 узлов, вооружение — пять 152–мм орудий, дальность стрельбы максимальная — 13,3 км (72 каб.), скорострельность — 8 выстрелов в минуту.
Эсминец «Спартак» — по проекту максимальный ход около 30 узлов, но фактически на момент боя, разумеется, меньше. Вооружение — четыре 102–мм орудия, максимальная дальность стрельбы — 88 кабельтовых, скорострельность — 12 выстрелов в минуту. Обратим внимание, что более современные орудия «Спартака», несмотря на меньший калибр, обладали большей дальностью стрельбы и скорострельностью. Оба последних фактора особенно важны при скоротечном маневренном бое.
Бой начался, как нам известно, когда между английскими крейсерами и «Спартаком» было приблизительно 60 кабельтовых. Наиболее действенный огонь для орудий «Спартака» следует считать с 45 кабельтовых, у англичан соответственно еще меньше. На дистанцию в 60 кабельтовых англичане могли сблизиться при скорости 23 узла через 9,5 минут, при условии, что «Спартак» к этому времени уже стоял на мели. Итак, все эти 9 минут «Спартак» мог вести огонь по врагу из своих 4–х орудий со скорострельностью 12 выстрелов в минуту. Таким образом, теоретически со «Спартака» могло быть выпущено за это время 432 снаряда. Добавим еще полчаса преследования, когда «Спартак» убегал, — это 30 минут по 12 выстрелов в минуту из 4–х орудий. Это уже 1440 снарядов. Итого: 1440 + 432 = 1872 снаряда за сорок минут боя. Разумеется, что такой темп стрельбы на практике выполнить невозможно. К тому же носовое орудие большую часть времени просто не имело сектора стрельбы, так как эсминец уходил от преследования. Допустим, что со «Спартака» стреляли с меньшей скорострельностью в среднем не по 12,а по 6 выстрелов в минуту. Тогда 1872 : 2 = 936 снарядов. Из этого вычитаем, возможно, бездействовавшее большую часть времени носовое орудие. Пусть это будет приблизительно 230 снарядов. Тогда «спартаковцы», при нормальной подготовке артиллеристов, вполне могли теоретически выпустить по противнику около 700 снарядов. Пусть даже не 700, а хотя бы 400 или даже 200! Полный боезапас эсминца типа «Новик» составлял 810 снарядов. Таким образом, «Спартак» беглым огнем мог расстрелять весь боекомплект за полчаса преследования и за 9 минут подхода англичан с момента посадки эсминца на мель. Возможно, что боекомплект на «Спартаке» был не полным, возможно, что вместо 800 снарядов, которые могли выпустить «спартаковцы» по врагу, они выпустили намного меньше. Но ведь не было и этого! Как мы знаем, ни одного попадания в английские корабли зафиксировано не было вообще! Как известно, в годы Первой мировой войны отличным считалось поражение противника хотя бы 8 % снарядов (для нас это 64 снаряда). Допустим, артиллеристы «Спартака» стреляли в три раза хуже, тогда результат должен был составлять хотя бы около 3% попаданий, т.е. 20–25 попаданий. Но ведь на самом деле не было ни одного! Почему? Да только потому, что никто никуда вообще не стрелял! С убегавшего от англичан эсминца по противнику не было произведено ни одного выстрела, хотя кормовые орудия «новиков» и предназначались именно для того, чтобы вести артиллерийский бой на отходе. И только тогда, когда «Спартак» уже почти вылез на камни, его отцы–командиры наконец–то решили пальнуть по врагу. Но от первого же выстрела со «Спартака» сразу «унесло карту», на этом все сопротивление и закончилось! Создается впечатление, что сдать эсминец англичанам Раскольников с Павлиновым решили еще до этого единственного выстрела, да и сам выстрел был сделан, по–видимому, исключительно для будущего оправдания. Сдаться врагу, не сделав даже попытки к сопротивлению, то есть не сделав ни одного выстрела, значило сразу же попасть в разряд предателей революции. Сделав же один–единственный выстрел перед сдачей, Раскольникову можно было потом смело бить себя кулаком в грудь и требовать почтения к своей особе, как к герою революции. Именно потому весь бой этим одним–единственным выстрелом и закончился. Никто сражаться не собирался изначально. Для протокола следственной комиссии произвели выстрел (и то, чтобы не злить англичан, заведомо мимо), а потом с чистой совестью спустили красный флаг.
Отметим, что помимо артиллерии «новики» имели и мощное торпедное вооружение — 9 торпедных аппаратов. Удивительно, но о них словно забыли. Раскольников о торпедном вооружении даже не вспоминает. А зря! При умелом руководстве самоходными минами можно было воспользоваться. Отметим, что дистанция 15 кабельтовых — это 2800 метров. Дальность хода торпед «Спартака» составлял от 3000 до 6000 метров. Погоня за уходящим эсминцем проходила, как мы знаем, по достаточно узкому фарватеру, среди отмелей, то есть маневр англичан быть весьма стеснен плохими навигационными условиями. Дерзкая и своевременная торпедная атака (или даже ее имитация) могла принести определенные результаты, но никто даже не попытался этого сделать. Наконец, можно было хотя бы попытаться навести на противника торпедные аппараты, уже стоя на мели, а если и повезло, то и произвести залп… Да и как вспомнить о торпедах, когда и о собственных орудиях забыли!
Честно говоря, в историю унесенной ветром карты верится с трудом. И вот почему. Возникает вопрос: откуда вообще появился на ходовом мостике штурман со своей картой? На эсминцах типа «Новик» имелась специальная штурманская выгородка, вполне защищенная и от дождя, и от ветра. Ну, ладно, допустим, неразбериха на «Спартаке» была такой сильной, что штурман вылез на ходовой мостик с картой и навигационными инструментами, чтобы продемонстрировать члену РВС свое высокое мастерство. Однако достаточно посмотреть на фотографии эсминцев типа «Новик» периода Первой мировой и Гражданской войн, чтобы увидеть — ходовые мостики кораблей были хорошо защищены от ветра брезентовыми обвесами, так что улететь карта никуда не могла. Представим, что на «Спартаке» не было и обвеса! То ли порвался, то ли украли. Но и в этом случае профессиональный штурман всегда имеет под рукой специальные свинцовые грузики, которыми карта прижимается к прокладочному столу, чтобы она не ерзала и «не сдувалась ветрами». Выходит, что и свинцовых грузиков у штурмана при себе тоже не оказалось! Просто наваждение какое–то! Возможно, что в реальности все было гораздо проще: просто стрельнули куда попало и сразу же «задробили» стрельбу. Деморализованные начальники и такая же команда были абсолютно не готовы к боевым действиям, и никакого сопротивления нагоняющим англичанам не оказывали вообще.
Допустим, что карта все же каким–то невероятным образом упорхнула за борт. Но ведь штурман и командир прекрасно знали район и прекрасно знали о наличии в нем мели. Если они заранее правили по курсу в обход песчаной банки, то почему потом вдруг оказались на ней? Кстати, нигде в источниках не указано, что вешки, которыми обвеховываются со всех сторон мели, в данном случае отсутствовали. Остается лишь предположить, что на камни Раскольников и Павлинов сели только потому, что драпали, как обычные крестьяне — срезая углы, то есть удирая от англичан по прямой линии, а не по существующему фарватеру.
А вот мнение других участников боя. Из протокола допроса бывшего командира «Спартака» Павлинова Николая Яковлевича следователем НКВД (листы №№ 72–73 от 20 августа 1940 года): «…23 декабря 1918 года я был в Петрограде вызван для разговора по прямому проводу с из Москвы с Троцким. Троцкий спросил меня, готов ли миноносец для похода, я ответил, что миноносец готов и находится в полной исправности. После этого Троцкий мне сказал, что на миноносец приедет Раскольников. Он мне сказал, что мы должны выйти в разведку с целью установления, какие корабли находятся в Ревельском порту и свободен ли порт, для чего это нужно было, я не знаю. 26 декабря утром мы пришли на Ревельский рейд. Рейд был чистый, т.к. английские корабли стояли в Петровской гавани, и их было не видно. Мы вошли вглубь рейда, предварительно сделав несколько выстрелов по острову Вульф (ныне остров Аэгна. — В.Ш.), с целью обнаружения там береговых батарей. Через некоторое время мы обнаружили дым английских кораблей, которые стали выходить из гавани, после чего мы развернулись и пошли обратно. Когда мы уже прошли Вульф, английские корабли стали с нами сближаться и открыли по нам огонь. Миноносец „Спартак“ в это время уже полного хода не имел, так как в одну из его машин попала каким–то образом вода, и она полной мощности не давала. Подходя к банке Девельсей, миноносец „Спартак“ зацепил кормовой частью за край банки и повредил себе винты, после чего мы двигаться не могли. Англичане стали нас после этого окружать веером, и в это время кто–то из команды поднял белый флаг — я лично такого приказания не давал. Английские корабли подошли к миноносцу „Спартак“, английские матросы перешли на наш миноносец, а часть команды перевели на свои корабли, после чего взяли миноносец на буксир и повели в Ревель. Я все это время оставался на мостике корабля. Перед тем как англичане заняли миноносец, Раскольников переоделся в матросскую робу. По приходе в гавань меня спросили: где Раскольников и попросили его показать… Откуда англичане об этом узнали мне неизвестно, но я им ответил, что я ничего им про Раскольникова не скажу, и пусть они его сами ищут. Тогда англичане стали проверять документы команды. У Раскольникова были документы одного матроса, который в поход не пошел. Этот матрос по документам значился по национальности эстонцем и когда Раскольникову задали несколько вопросов на эстонском языке, то он на них не ответил и таким образом был опознан, после чего его от команды отделили и отправили, кажется, на флагманский английский корабль».
Из протокола допроса Стельмаха Павла Кононовича (бывшего старшего офицера эсминца «Спартак») следователем НКВД (лист № 17 от 5 марта 1941 года): «…Во время похода 26 декабря 1918 года, подойдя и обстреляв остров Вульф, и не обнаружив противника, мы вышли по направлению на Таллинский рейд, где через некоторое время обнаружили дым английских военных кораблей, которые стали поспешно сниматься с якоря и выходить на сближение. Мы развернулись и пошли обратно в Кронштадт на соединение с остальными судами эскадры. Англичане сразу открыли артиллерийский огонь, мы начали отвечать, во время боя, который продолжался около часа, „Спартак“ на ходу 32 узла наскочил на подводный камень (риф) Ревельштейн и, получив поломку двух винтов и одного вала, по инерции сошел с мели, но дальше в результате аварии идти своим ходом не мог. Английские корабли, продолжая стрельбу и окружение, приблизились к „Спартаку“ и, сделав холостой залп — салют, выслали с флагманского корабля вельбот с английским офицером, который обнаружил командный состав „Спартака“ и доставил командиров „Спартака“ на флагманский корабль „Кэредок“. Миноносец „Спартак“ на буксире английских кораблей был доставлен в Таллинскую гавань, команда корабля была взята в плен. До апреля 1919 года я занимался ремонтом „Спартака“, затем был мобилизован в Северо—Западную армию».
Воспоминания командира и старшего офицера «Спартака» существенно отличаются от воспоминаний Раскольникова. Если член РВС говорит о посадке на мель, то Павлинов и Стельмах упоминают только о касании отмели. А это, как известно, совершенно разные вещи. Но главное не в этом. Удивительно, но оба ни словом не упоминают ни унесенную ветром карту, ни раненого порученца Раскольникова, ни безымянного нервного рулевого. Почему? Да потому, что всего этого, скорее всего, просто не было!
Из всего сказанного следует только один вывод: Раскольников вполне преднамеренно сдал врагу новейший боевой корабль, даже не попытавшись сопротивляться. Налицо преступление перед и государством, и революцией, за которое по законам военного времени, как и по законам революции, существовала лишь одна мера наказания — смертная казнь.
Захват «Автроила»
Итак, первый акт трагедии завершился. А вечером 26 декабря 1918 года начался второй. Устранив неисправности в турбинах, эсминец «Автроил» вышел из Петрограда, чтобы принять участие в уже проваленной Раскольниковым операции. В соответствии с полученными ранее указаниями, его командир спешил в район Ревеля на соединение со «Спартаком». Мимо крейсера «Олег», стоявшего на якоре в районе острова Готланд, «Автроил» прошел к Ревелю незамеченным. Действия «Автроила» доказывают, что никакого радио Раскольников в адрес командования флота о пленении «Спартака» не давал. В противном случае операция была бы уже свернута. Ко времени подхода англичане уже прекрасно знали все детали операции. Обо всем им сообщил, скорее всего, перешедший на сторону белоэстонцев командир «Спартака» Павлинов. Впрочем, не исключено, что, боясь за свою жизнь, не держал особо язык за зубами и Раскольников, который был к этому времени уже разоблачен. Однако англичане, зная план разведывательной операции, приготовились к ответным действиям, а решили они ни много ни мало, как захватить крейсер «Олег», на котором, естественно, ничего не подозревали о позорном провале операции.
Командовал «Автроилом» Виктор Александрович Николаев (окончил Морской корпус в 1912 году, служил в 1–м Балтийском экипаже, с 1916 года лейтенант). Помощником командира (он же артиллерийский офицер) эсминца был лейтенант Виктор Николаевич Петров (на год младше Николаева выпуском из Морского корпуса и его личный друг).
Около 2–х часов ночи 27 декабря отряд английских кораблей под командованием коммодора Фезигера в составе крейсера «Кэредок» и эсминца «Вэкефул», взял курс к Готланду с намерением атаковать крейсер «Олег». Внезапно для себя англичане обнаружили идущий на запад неизвестный эсминец без огней. Эсминец был обнаружен только из–за слабого огня из ходовой рубки. Коммодор Фезигер принял решение не менять план нападения — во время ночного боя превосходство русского эсминца в количестве торпедных аппаратов могло стать решающим. Поэтому английские корабли пропустили эсминец (это был «Автроил») мимо себя и пошли дальше на восток. Но у Готланда «Олега» уже не было, он ушел в Кронштадт за полчаса до этого, так как у него подошел к концу уголь.
Командиров линкора и крейсера вообще не сочли нужным оповестить о деталях операции. В частности, на «Олеге», как выяснилось, «не имели сведений о месте предполагаемого боя „Спартака“ и „Автроила“, поэтому крейсер держался пассивно и не мог оказать миноносцам никакой помощи».
Все время операции 25–27 декабря «Олег» стоял на якоре у острова Большой Тютерс, восточнее Готланда. Радиосвязи с эсминцами он не имел, а потому, решив, что оба эсминца погибли, командир «Олега» дал радиограмму с просьбой вернуться в Кронштадт, куда и пришел 30 декабря вместе с линейным кораблем «Андрей Первозванный».
Учитывая развитие событий в те дни на море, можно с уверенностью сказать, что «Олег» спасла счастливая случайность. Судьба второй раз благоволила к старому крейсеру, уцелевшему в первый раз еще в Цусиме. Увы, в третий раз фортуна отвернется от «Олега» и он будет, спустя несколько месяцев, утоплен английскими торпедными катерами прямо в гавани Кронштадта.
Утром 27 декабря, не найдя нигде «Спартака», командир «Автроила» дал радио на «Олег», что находится в районе плавучего маяка Ревельштейн. Неожиданно эсминец «Автроил» обнаружил вышедшие из Ревеля наперерез ему два английских эсминца. Это были новейшие дистроеры «Вендетта» и «Вортиджерн». Развернувшись и отстреливаясь, «Автроил» стал отходить к острову Готланд, дав в 12.25 радио на крейсер «Олег» с просьбой о помощи.
Увеличив ход до 32 узлов, наш эсминец пытался оторваться от противника. Однако на меридиане острова Экхрольм (ныне остров Мохни) он был перехвачен английским крейсером «Кэрэдок», подошедшим со стороны Готланда. В результате скоротечного боя на «Автроиле» одним из первых английских снарядов была сбита фок– мачта (из–за чего перестала работать корабельная радиостанция). Официальная версия пленения «Автроила» гласит, что эсминец старался развить максимальный ход, запасы топлива стали быстро иссякать. Пришлось один за другим выводить котлы. Окончательно потеряв ход, экипаж поднял белый флаг. Как и «Спартак», «Автроил» достался англичанам в совершенно исправном состоянии.
Из хроники событий: «„Автроил“ никаких известий от „Спартака“ не имел, а потому в месте назначенной встречи сразу попал под огонь англичан. Мог бы и уйти, но дала сбой машина. „Олег“, получив от „Автроила“ радио о начавшемся бое, поспешил на поиск. Эсминец больше не отзывался, а у крейсера кончался… уголь. „Олег“ вернулся в базу на последних парах».
Историк пишет: «Около 2.00 ночи 27 декабря отряд кораблей Тэсиджера следовал к Готланду, когда был замечен затемненный силуэт корабля, прошедшего мимо встречным курсом. Сигнальщики крейсера „Калипсо“ идентифицировали его как однотипный с эсминцем „Спартак“, и это действительно был „Автроил“, вышедший из Кронштадта на соединение со „Спартаком“ после устранения неисправностей вечером 26 декабря. Несмотря на уговоры офицеров, Тэсиджер не захотел ввязываться в ночной бой, опасаясь торпедной атаки русского эсминца, и продолжил путь на восток. Однако не найдя у Готланда „Олега“, который, не дождавшись возвращения „Спартака“, поменял место якорной стоянки, а затем и вовсе вернулся в Кронштадт, британский коммодор решил начать охоту на единственный находившийся в западной части Финского залива корабль противника — эсминец „Автроил“, разминувшийся в темноте и со своим крейсером, и с британскими кораблями. Прежде всего, Тэсиджер приказал оставленным в Ревеле эсминцам „Вендетта“ и „Вортейджерн“ выйти на патрулирование входа в Финский залив, сам же, растянув свои три корабля в линию дозора („Кэредок“ шел на северном фланге, флагманский „Калипсо“ — на южном, эсминец „Вэкефул“ — в центре), начал поиск, двигаясь на запад. Таким образом, „Автроил“ оказался в мешке, и предстоящая встреча с превосходящими силами противника оставалась лишь вопросом времени».
И время пришло, когда ранним утром «Автроил» встретил эсминцы «Вендетта» и «Войтеджерн». Руководствуясь указаниями митингующей команды, командир эсминца Николаев, приказав дать максимальный ход, начал отход к Кронштадту вдоль южного побережья залива. Британские эсминцы, игравшие в этой охоте роль загонщиков, во время преследования особой прыти не проявили, поэтому русскому эсминцу без труда удалось оторваться от противника. Но около 12.25 к югу от острова Мохни (Экхольм) впереди по курсу был замечен крейсер «Калипсо», тогда «Автроил» отвернул к северу, однако и там были корабли противника. «Автроил» оказался зажатым между пятью британскими кораблями, и после непродолжительной перестрелки выбросил белый флаг. Нужно сказать, что во время преследования и недолгого огневого контакта британцы, очевидно, предвкушая скорую сдачу советского корабля, не ставили перед собой задачу нанесения ему серьезных повреждений, поэтому и сделали по нему всего несколько выстрелов. Тем не менее один из первых английских снарядов около 12.48 сбил на эсминце стеньгу с радиоантенной, в результате чего «Автроил» лишился радиосвязи.
Из воспоминаний Раскольникова: «Вдруг совершенно неожиданно над моей головой раздался оглушительный орудийный выстрел и послышался мягкий звук сжатия компрессора, как бывает всегда при откате пушки. Мы жадно прильнули к круглым иллюминаторам, но, так как находились глубоко в трюме, поле нашего зрения оказалось невелико. Ничего, кроме других английских миноносцев, шедших в непосредственной близости от нас, увидеть не удалось. Стрельба затихла также неожиданно, как началась. Машина внезапно перестала работать. Наступила странная тишина. Миноносец „Wakeful“ остановился. Нас вывели на прогулку на верхнюю палубу.
Тяжелое зрелище предстало здесь нашим глазам. В непосредственной близости от нас стоял миноносец „Автроил“ со сбитой набок стеньгой. Он был уже захвачен англичанами, но на нем еще развевался красный флаг. Английская эскадра обошла „Автроил“ с тыла и, отрезав от кронштадтской базы, погнала на запад, в открытое море. Английское командование приказало вывести нас на прогулку в момент капитуляции „Автроила“ для того, чтобы уязвить наше революционное самолюбие. Я намеренно прекратил прогулку и вернулся в трюм, в нашу общую камеру, где помещалось 20 пленных. Остальные моряки из команды „Спартака“ были размещены по другим кораблям. Комсостав увезли на берег».
Что говорили профессионалы
У нас есть уникальная возможность сопоставить отношение к трагедии с двумя эсминцами бывших российских морских офицеров, причем как тех, кто остался служить большевикам, так и тех, кто перешел под знамена Белого движения.
Вот как виделась история с пленением двух новейших эсминцев бывшими офицерами, находящимися на командных должностях в Красном Балтийском флоте. Из воспоминаний Г. Четверухина «Сполохи воспоминаний»: «3 декабря наморси[1] республики В. Альтфатер сообщил наморси Балтики С. Зарубаеву, что, по данным Наркоминдела, английская эскадра находится в Виндаве, ввиду чего приказал усилить разведку в море. По мнению Зарубаева, наиболее продуктивной являлась бы воздушная разведка, но от нее пришлось отказаться из–за отсутствия бензина, поэтому для разведки пришлось использовать только подводные лодки.
В конце ноября в район Ревеля выходила подводная лодка „Тур“, а в двадцатых числах декабря — „Пантера“, но английских кораблей не обнаружили. Однако в штабе на основании агентурных сведений считали, что английская эскадра еще 12 декабря вошла в Финский залив. В этих условиях возникла идея проведения набеговой операции на Ревель, исходящая якобы от председателя Реввоенсовета Республики Л. Троцкого.
В адмиралтействе замелькали фигуры прибывших из Москвы Альтфатера и Раскольникова. 24 декабря у наморси Зарубаева состоялось совещание, на котором был рассмотрен план операции. Присутствовали: наморси Альтфатер, член Реввоенсовета Республики Раскольников, член Реввоенсовбалта Пенкайтис, начальник штаба флота Вейс, начальник оперативной части штаба флота Блинов. Докладывал Альтфатер. Осуществление набеговой операции возлагалось на отряд кораблей особого назначения под командованием Раскольникова в составе линейного корабля „Андрей Первозванный“, крейсера „Олег“ и двух эсминцев — „Спартак“ и „Автроил“. Согласно плану эсминцы должны были выйти на Ревельский рейд, обстрелять гавань и выяснить, находятся ли там английские суда. В случае обнаружения превосходящих сил противника им следовало отходить к острову Гогланд под защиту артиллерии „Олега“ и затем всем вместе — к Шепелеву маяку под защиту „Андрея Первозванного“. План операции Зарубаевым и его штабом был принят, о чем сообщили в Главный морской штаб для доклада председателю Реввоенсовета Республики. Но операция оказалась плохо подготовленной и закончилась неудачей. Два эсминца — „Спартак“ и „Автроил“ — были захвачены англичанами. Раскольников попал в плен и был отправлен в Англию, а многие из пленных матросов были расстреляны белоэстонцами.
Для выяснения причин неудачного исхода операции и общего состояния флота была создана Особая комиссия под председательством Нацаренуса, в которую входили начальник Морского генерального штаба Беренс и ряд ответственных лиц аппарата Реввоенсовета Республики.
Комиссия сделала следующие выводы. Предпосылкой для неудачи операции явилось общее неблагополучное состояние флота после продолжительной „спячки“, вызванной условиями Брестского договора. Оно выражалось в плохом техническом состоянии судов, в острой нехватке топлива, в недобросовестном отношении некоторой части командного состава к своим обязанностям, в отсутствии у команд выучки, во вмешательстве судовых комитетов в распоряжения командования. Сам план набеговой операции был недостаточно глубоко разработан. В дальнейшем этот план операции был в значительной мере ухудшен действиями начальника отряда Раскольникова, который, узнав, что у „Автроила“ обнаружены неполадки в машине, доложил Зарубаеву о необходимости отсрочки выполнения операции, а затем самовольно изменил решение и вышел в море, подняв свой вымпел на „Спартаке“.
Утром 26 декабря при входе на Ревельский рейд „Спартак“ встретил отряд английских кораблей, состоявший из крейсеров и эсминцев, и, отстреливаясь, стал отходить, значительно уступая им в скорости хода, наскочил на мель и был захвачен англичанами. Такая же участь постигла и „Автроил“. Командование крейсера „Олег“ и линейного корабля „Андрей Первозванный“ не знало об изменении ситуации. Они ждали от эсминцев, как это было условлено ранее, тревожного радио, но его не получили и оставались пассивными.
Зарубаев тяжело переживал неудачу и общее неблагополучное положение дел на флоте, что вызвало резкое ухудшение его здоровья. 16 января во время заседания от нервного переутомления и общей слабости, вызванных недоеданием, с ним случился глубокий обморок, потребовавший значительного времени, чтобы привести его в чувство. В этот же день он подал рапорт, что по состоянию своего здоровья просит освободить его от обязанностей наморен. 18 января его просьба была удовлетворена. Он был прикомандирован к Морскому отделу Реввоенсовета Республики с увольнением в 2–месячный отпуск. Затем он был переведен в распоряжение Реввоенсовбалта и назначен начальником морских учебных заведений.
Январским вечером я и Н. Раленбек, как бывшие полтавцы, решили навестить своего командира, к которому питали глубокое уважение. Сергей Валерьянович принял нас в своем большом холодном кабинете в накинутом на плечи флотском пальто, худой, бледный, с запавшими глазами, вышел навстречу из–за письменного стола, подчеркивая этим, что он уже не наморен. Мы высказали свое сожаление о его отставке и пожелали скорейшего восстановления здоровья. Поблагодарив нас за добрые пожелания, он, когда мы все расселись в креслах, после небольшой паузы стал нервно говорить о том, что наболело и накопилось у него в душе. Лейтмотивом в его высказывании звучала тревога о неблагополучном состоянии дисциплины в судовых командах, без которой не может быть флота, о пороках „комитетчины“, об отсутствии контроля за исполнением принятых решений, порождающем безответственность.
Под конец своего монолога он сказал, что не может простить себе того, что у него не хватило силы воли отказаться от злосчастной набеговой операции.
По мере того, как он говорил, чувствовалось, что у него спадало внутреннее напряжение и тем самым как бы происходил процесс самоочищения. Когда он закончил свой монолог, мы перевели разговор на другие темы, с тем чтобы отвлечь его от мрачных мыслей.
Вместо С. Зарубаева в конце января начальником Морских сил и членом Реввоенсовета Балтийского флота был назначен бывший контр–адмирал А. Зеленой, до этого являвшийся начальником Учебного отряда и школ Балтийского флота. Членами Реввоенсовбалта стали А. Баранов, комиссар военно–морских учебных заведений, и В. Зоф, активный партийный работник, член РКП (б) с 1913 г., а в начале февраля начальником штаба Балтийского флота стал А. Домбровский, до этого начальник 1–й бригады линкоров. Вот этим людям и предстояло руководить флотом в суровые дни 1919 года».
Весьма любопытен для нас и взгляд на события вокруг пленения «Спартака» и «Автроила» со стороны белогвардейского офицерства. Весьма интересные воспоминания о том, какие слухи ходили в те дни по другую сторону фронта, как отнеслись вставшие под белые знамена флотские офицеры к позорной сдаче двух кораблей, что они думали и говорили по этому поводу, какие чувства их обуревали, оставил адмирал В. К. Пилкин в своем дневнике за 1919 год: «Вечером мы с Марусей (жена В. К. Пилкина. — В.Ш.) были у Вильсонов (капитан 2–го ранга. — В.Ш.) …Сперва шел разговор об офицерах, захваченных на миноносцах. Что с ними делать? Офицерские дружины в Ревеле единогласно постановили расстрелять всех (а команду через двух третьего). У нас голоса разделились:
Граф (капитан 1–го ранга. — В.Ш.) …был наиболее безжалостен, требуя расстрела всех офицеров, которые служат у большевиков, т.к., по его мнению, они должны были и могли бежать со службы и остались только из низкого, шкурного страха. Противоположностью ему явился Леонтьев (капитан 1–го ранга. — В.Ш.), заявивший, что, несмотря на глубокий свой консерватизм и глубокое отвращение к революции, он считает, что революция совершила одно чрезвычайное завоевание: это отмена смертной казни. Завоевание это надо сохранять во чтобы то ни стало и поэтому не следует никого расстреливать. Вилькен (капитан 1–го ранга. — В.Ш.) держался среднего мнения. Он не считает человеческую жизнь особой ценностью. Необходимо руководствоваться идеей целесообразности. Надо разбираться в каждом отдельном случае и вредных расстреливать, а безвредных отпускать. Павел Викторович (Вилькен. — В.Ш.) склонялся к мысли, что тех, кто был взят, так сказать, с оружием в руках, вроде действующих против. Против кого?.. Против нас, тех расстреливать. Я, конечно, стоял за то, что расстреливать рядовых офицеров, не руководителей, не лидеров, не следует. Я указывал и на деликатное положение, в котором мы находимся, случайно избежав большевистского плена (я метил в Графа), и на то, что необходимо дать выход рядовому офицерству, которое, будучи поставлено между молотом и наковальней, будет принуждено отчаянно защищаться. Теперь, например, Шакеев (старший лейтенант. — В.Ш.), на „Олеге“, дал неверный прицел, Павлинов выскочил на камни и т.п. В конце спора подошел Кнюпфер (капитан 1–го ранга. — В.Ш.). Остальную часть вечера он занимал нас описанием того же диспута на южном берегу. Во–первых, он рассказал нам делах наших (наших?) большевистских миноносцев.
Оказывается, никакой „Забияки“ там не было. Был „Миклухо-Маклай“, переименованный в „Спартака“ и захваченный англичанами (кажется у Готланда), им командовал Шельтинг, поставленный на пост командира прямо из тюрьмы, где он сидел несколько месяцев.
Был „Гавриил“ под командой Павлинова, вставший на Девельсей (мель в Финском заливе. — В.Ш.) и потерявший винты, распоровший дно, тоже, конечно, захваченный и теперь ремонтируемый у Ноблесснера (судоремонтный завод в Ревеле. — В.Ш.). Ремонту месяца на три. Как бы его не захватили большевики обратно. Павлинов уверяет, что он посадил „Гавриила“ умышленно. Третий миноносец, кажется, „Автроил“ ушел. В море были еще „Олег“ у Готланда и „Андрей“.
Нападение англичане проспали. Никакого наблюдения не было, дозора тоже, и снаряды начали рваться кругом англичан совершенно для них неожиданно. Они могли быть уничтожены. (Жалко, что не пострадали. Эта пощечина их, может быть, и разбудила бы.) Англичане уверяли, что наши… большевистские миноносцы развили ход до 32 узлов. Раскольников был взят на „Гаврииле“. Он успел переодеться в матросское платье и спрятаться в рундуке. Павлинов отказался его указать (общее недоумение, но, мне кажется, я понимаю Павлинова). Англичане отправляют его в Англию (Раскольникова. — В.Ш.), для чего на пароходе, на верхней палубе, построили клетку и поместили его. Так перевозят, говорят, англичане тяжких преступников. Но я считаю это издевательством над человеком. Раскольников, сам расстрелявший массу людей, провокатор и фанатик, по–видимому, не совсем нормальный человек, может быть расстрелян и должен быть расстрелян, но возить его как гориллу в клетке это безобразие. И главное, политическая ошибка: участь его возбудит сожаление, участие, симпатии, негодование и будет использована социалистами всех стран.
Остальных офицеров англичане готовы были выпустить и не выпускали, кажется, только потому, что боялись, что этот факт и может повредить остальному офицерству в Кронштадте.
Миноносцы англичане передали (временно, как они уверяют) Эстляндии, которая, т.е. правительство которой и подняло на них эстляндский флаг (какая сложится в будущем стратегическая обстановка на Балтийском море!).
Англичане в Балтийском море в очень небольших силах: всего около 8 вымпелов. Сюда пришли крейсеры.
Английские офицеры держатся очень сдержанно и холодно по отношению к русским, например Кнюпферу. Менее сдержанны были по отношению к миноносцам, которые разграбили: выломали приборы управления огнем, перерубив топором кабель, перетащили к себе с „Гавриила“ пианино и, когда Кнюпфер вошел к ним в кают– компанию, тщетно старались закрыть это пианино фалдами сюртуков, но, видя, что это не удается, спросили: не играет ли он?
.Большевиков не то 18 тысяч, не то просто несколько разбойничьих банд. Но все же они постепенно продвигаются к Ревелю. Дух у защитников Ревеля плохой. Очень и очень думают об эвакуации. Но английский адмирал сказал Кнюпферу, что он не допустит перевода войск в Финляндию, что войска должны драться. Это слова! Но англичане купили в Ревеле фирму Ротшермана (?), у которого одна хлебопекарня в Ревеле стоит пять миллионов. Это как будто бы показывает, что они не допустят взятия большевиками Ревеля. Но для этого нужна сила. Боюсь, что они легкомысленные! Ригу большевики уже взяли, так сказать, изнутри. Либава, говорят, держится только присутствием одного английского миноносца. Ревель на ниточке. Английские крейсера пришли в Гельсингфорс, чтобы перевезти на южный берег финляндских добровольцев. Они уходят завтра в 11 часов. Я уговорился с Кнюпфером, что утром сделаю визит англичанам. Пригласил с собою Вилькена, Вильямса (капитана 2–го ранга. — В.Ш.) и Ламкерта (лейтенанта. — В.Ш.), как хорошо говорящего по–английски. Мне этот визит не улыбается, но надо завязать сношения с англичанами и познакомиться с ними.
На миноносцы эстонским правительством приглашены русские офицеры рядовыми. Командный состав из эстонских подданных. Командиром „Миклухо-Маклая“ назначен кавторанг Вейгелин, командовавший в эту войну тральщиком. Смущает очень эстонский флаг, но если наши офицеры пойдут на миноносцы, если их будет много, то, может быть, в нужный момент на них и поднимут Андреевские флаги, а если оставить миноносцы только эстонцам, то над ними и контроля никакого не будет, и даже, может быть, они будут окончательно потеряны. Но все же неприятно!
11 января 1919 года. Бунин Павел Николаевич (старший лейтенант. — В.Ш.) вернулся. Он привез много интересного, но, как странно, почти все решительно противоречит рассказам Кнюпфера. Миноносцы не „Забияка“ и не „Гавриил“, а „Автроил“ и „Миклухо-Маклай“. „Автроил“, видимо, исправный, а „Миклуха“, переименованный большевиками в „Спартак“, с погнутыми валами и без винтов. „Автроил“ уже укомплектован и действует против большевиков. По словам Бунина, благодаря его огню по берегу из Папонвика удалось так продвинуться ревельским войскам. Укомплектован „Автроил“ офицерами нашими и эстляндскими прапорами. Команда — эстонские матросы. Машинная команда в числе 35 человек — автроильская, т.е. большевицкая. Но (продажные души) они радостно приветствуют поражение большевиков, радостно хохочут, когда видят, как снаряды ложатся в густых цепях их же вчерашних товарищей.
Кроме наших офицеров Гебгардта, Левицкого, Зальца (командир, уж не знаю, наш или ихний, Вигелин), занимающих командные должности, офицеры занимают еще должности специалистов. Сперва они были на положении матросов, и эстонские прапоры чуть не ставили их рассыльными, несмотря на 170 человек команды, но тогда эти специалисты устроили „митинг“ и потребовали от комсостава (?) улучшения экономического положения. Теперь они на положении инструкторов, имеют особое от команды помещение, прибираются только по своей специальности и т.д.
Бунин имел разговоры — переговоры и с Лайдонером — эстляндским главнокомандующим, и с морским министром Шиллером, нашим бывшим офицером, и его помощником Луком, тоже русским эстонцем, бывшим мичманом, инженером–механиком. В итоге этих переговоров установили условия комплектования. Пришлось, конечно, идти на компромисс: половина офицеров, половина эстонцев. Командиры по соглашению, но должны знать эстонский язык (нашлись такие: Зальца и младший Кнюпфер). Мы организуем, на тех же условиях, службу связи и две батареи, к удивлению не испорченные уходящими немцами. Одна 12–дюймовая на Вульфе, а другая 6–дюймовая на Наргене. Значит, всего потребуется несколько десятков офицеров. Жалованье инструкторам 650 рублей, потом паек, бесплатный проезд и подъемные. Обмундирования нет. Конечно, это выход все же для немногих: семья не обеспечена и даже не гарантирована ее неприкосновенность, да и выселят.
„Миклухо-Маклай“ без винтов и, по–видимому, с погнутыми валами. Ремонт одной машины — месяц, обеих к апрелю. На нем выломаны и увезены англичанами приборы управления огнем и прицелы. Подлецы все–таки „образованные мореплаватели“, и каюты тоже разграблены, утащены обстановки.
…Как взяли миноносцы? Оказывается, совсем иначе, чем передавал Кнюпфер. Ведь вот, поди ж — нет, кажется, чуть не очевидец, а верить ему нельзя. Может быть, и бунинский рассказ окажется впоследствии требующим исправления.
Ему передавали следующее: „Миклуха“ подошел утром, в десятом часу, к Вульфу и стал обстреливать остров. остров, а не город. Англичане вышли из гавани через 10 минут и пошли вдоль берега, не замеченные с „Миклухи“. Когда они, неожиданно для на его… для большевиков выскочили из–за Вульфа, „Миклуха“ кинулся уходить, отстреливаясь. Павлинова и Раскольникова не было почему–то на мостике. Они будто бы ходили ободрять команду. Старший штурман, Струйский, был контужен своим же носовым орудием, стрелявшим на корму. Очнувшись, он увидел перед собой вехи „Девельсея“, попробовал развернуться миноносцем, но было уже поздно и миноносец задел винтами камни.
Англичане нашли на „Миклухе“ указания на то, что у Гогланда находится „Олег“, и решили захватить его. Ночью они встретили идущий на W миноносец без огней (только маленький огонек светил из рубки, по нему–то они и заметили миноносец). Они его пропустили мимо себя, и пошли дальше на Ост. Но у Готланда „Олега“ уже не было, он ушел в Кронштадт за полчаса до этого. Надо было возвращаться. С рассветом увидели „Автроил“ к W от себя. Он дал полный передний ход, потом застопорил машину, дал задний ход, опять передний, опять застопорил машины (любопытно было бы услыхать, что там в то время происходило?). Когда англичане открыли огонь и первый же, или один из первых снарядов сбил фок–мачту, на нашем. тьфу! на большевицком миноносце подняли белый флаг, не сделав ни одного выстрела. Это, кажется, послужило к облегчению участи экипажа.
Бунин говорит, что все офицеры сейчас приняты на офицерские места на „Миклухе“. Это не мофоль! Конечно, они бедствовали, у них не было денег, надо им было помочь, но зачем же сейчас давать им начальствование над товарищами, против которых они дрались. Пусть, как это делается в армии Деникина, они занимают место и должности рядовых и искупают свой. может быть, невольный грех.
В бумагах миноносца найдены переговоры по прямому проводу Альтфатера с Троцким по подготовке этой авантюры против Ревеля: „Вы ли у провода действительно, товарищ Лев Давидович?“ — спрашивает Альтфатер. „Да — это я, Троцкий!“ Затем о поведении Раскольникова, который не хотел идти, указывая на свою некомпетентность, и согласился только тогда, когда ему предложили помощником. Струйского, которого он знал по. совместным действиям на Волге.
Но Струйский уверяет, что его никто ни о чем не предупреждал и что он только накануне назначен на „Миклухо–Маклай“. Кстати, „Миклуха“, потом „Спартак“, теперь „Вампала“. „Автроил“ — „Ленок“. „Бобр“, кажется, — „Какала“! Черт бы их побрал всех!»
События глазами противника
Рассматривая тот или иной боевой эпизод, всегда интересно посмотреть на его оценку противоположной стороны. Это дает возможность более объективного и полного взгляда на описываемые события.
Вот как оценивает события тех дней английская сторона в лице военно–морского историка Э. Престона: «Самыми раздраженными людьми Королевского Флота после подписания перемирия были экипажи 4–й эскадры легких крейсеров и 13–й флотилии эсминцев. Через день после сдачи германского Флота Открытого Моря победоносному Гранд Флиту адмирала Битти, тот самый крейсер, который вел германские линкоры в Ферт оф Форт, легкий крейсер „Кардифф“ вместе с 4 другими легкими крейсерами, 9 эсминцами („Валькирия“, „Верулам“, „Вестминстер“, Вендетта», «Уэйкфул», «Уэссекс», «Виндзор», «Волфхаунд», «Вулстон») и 7 тральщиками отправился на Балтику.
Им пришлось забыть про послевоенные увольнения, хотя многие не видели жен и детей несколько лет. Однако необходимость была такой острой, что пришлось пойти на жертвы. Соединение получило приказ поддержать эстонское, латвийское и литовское правительства в борьбе против агрессии большевиков. Это было результатом полной анархии, воцарившейся в Прибалтике после военного краха России в 1917 году. Ситуация не улучшилась, а скорее ухудшилась после краха Германии год спустя. Ленин отбросил в сторону связывающие его положения Брест– Литовского договора, заявив, что Прибалтику нужно освободить, а Балтийское море должно стать «советским озером».
Именно реальная угроза большевизма, а не расползание революционных доктрин всегда считалось причиной британского вмешательства на Балтике. Его Величества Правительство старательно напоминало Адмиралтейству, что морские силы посланы в Балтийское море не для войны с Советской Россией. Первоначальные приказы командиру 4 эскадры легких крейсеров контр–адмиралу Александер-Синклеру требовали «продемонстрировать британский флаг и поддержать британскую политику, как того потребуют обстоятельства». Кроме того, он должен был проследить, чтобы поставки оружия благополучно достигли Эстонии и Латвии. Однако «намерения большевистских кораблей, действующих у берегов Балтийских провинций, должны считаться враждебными».
Самой большой опасностью, однако, был не Красный флот, а колоссальное количество русских и германских мин, высыпанных в воды Балтики. Кроме того, существовали серьезные навигационные трудности. Балтика достаточно мелкое море, поэтому сочетание отмелей и недостоверно указанных минных полей оставляло британской эскадре мало пространства для маневра. Вскоре после прибытия англичане получили пугающую демонстрацию того, что их ждет. Направляясь к Эзелю, один из легких крейсеров, «Кассандра», подорвался на мине, и начал тонуть. В полной темноте эсминцы «Вендетта» и «Вестминстер» подошли к борту обреченного крейсера, чтобы снять экипаж. «Вендетта» стоял у левого борта крейсера. Вода была ледяной, сильная волна постоянно грозила ударить корабли друг о друга. Несмотря на темноту и качку, только 1 человек поскользнулся и свалился между бортами. Наконец эсминец отвалил, переполненный спасенными, чтобы позволить своим товарищам продолжить работу. Когда отвалил «Вестминстер», с борта «Вендетты» заметили еще одного человека на борту крейсера, поэтому эсминец снова пошел назад. Чтобы избежать повреждений, командир «Вендетты» приказал оставшемуся спустить шлюпку и сдрейфовать к эсминцу в одиночку. Дело закончилось благополучно, однако этого моряка сразу отдали под суд за неисполнение приказа покинуть корабль!
Гибель «Кассандры» не повлияла на цели Балтийской экспедиции, однако экипаж «Кассандры» пришлось вернуть в Розайт. После того как «Калипсо» налетел на затопленный корабль возле Либавы и получил повреждения, его тоже пришлось отправить домой. «Вестминстер» и «Верулам» столкнулись и ушли на ремонт, увезя экипаж «Кассандры».
Первое столкновение с Красным флотом было довольно курьезным. 26 декабря 1918 года офицеры и матросы находились на берегу в Ревеле, готовясь к банкету в их честь, который давали эстонские власти. Внезапно на горизонте был замечен странный корабль, а вокруг гавани начали рваться снаряды. Это был советский эсминец «Спартак» — один из новейших и сильнейших кораблей царского флота. У него на борту находился Ф. Ф. Раскольников, член советского Реввоенсовета, специально назначенный командовать операцией.
К несчастью для себя, «Спартак» лишился сопровождения, так как на эсминце «Автроил» произошла поломка в машине, на «Азарде» кончилось топливо, а крейсер «Олег» вообще никуда не пошел. Считая, что линкор «Андрей Первозванный» поддержит его, и таким образом избавит от всех опасностей, Раскольников сигналом передал, что намерен обстрелять Ревельскую гавань в одиночку. Однако его уверенность испарилась, когда он увидел, что эсминец «Уэйкфул», подняв пары всего за 15 минут, покидает гавань. Следом за ним двинулись крейсера «Калипсо» и «Кэредок». «Уэйкфул» ринулся в погоню, противник бросился наутек. Но внезапно он повернул на 16 румбов и выкинул белый флаг. Оказалось, что незадолго до этого он передал по радио: «Все пропало. Меня преследуют англичане». После этого он на полном ходу вылетел на мель и потерял руль и винты.
Советская версия гласит несколько иное: «Преследующие британские эсминцы развили скорость 35 узлов, тогда как „Спартак“ не смог дать полный ход из–за неправильных действий машинистов. Около 13.30 выстрел из носового орудия, развернутого назад до предела, разбил штурманскую рубку. При этом были уничтожены и разбросаны все карты, поврежден мостик и контужен рулевой. В результате корабль потерял управление».
Захват совершенно исправного корабля противника — явление очень редкое в современной морской войне. Какой–то хитрец из команды «Вендетты» предложил отдать «Спартак» на поток и разграбление, как законный приз. Советский корабль казался медленно тонущим, поэтому было отдано разрешение снять все, что удастся. Однако оценка была слишком пессимистической, и большое количество ювелирных изделий и серебра уволокли без проблем. В это трудно поверить, но свидетели подтверждают, что собственными глазами видели, как «Вендетта», вернувшись в Порт-Эдгар, выгрузил большое количество добычи, которая должна была бы поступить в призовой фонд.
В одном из машинных отделений «Вендетты» оказался бывший инженер–горняк, который умел обращаться с помпами. Осмотрев машинное отделение «Спартака», он сообщил приятную новость — корабль можно удержать на плаву, просто закрыв кингстоны и пустив помпы. После того, как это было сделано, трофей отбуксировали в Ревель, где банкет превратился в победное пиршество. Теперь англичане задумались, как им поймать «Олег», после того как из захваченных на «Спартаке» документов стала известна диспозиция советских кораблей. «Вендетта» и «Вортигерн» отправились искать крейсер и эсминец «Автроил». «Олег» обнаружить не удалось, но «Автроил» нарвался на 5 британских кораблей и тоже сдался, поняв, что не сможет спастись. Кроме двух современных эсминцев англичане захватили Раскольникова, который был найден на камбузе среди мешков с картошкой. Позднее его обменяли на 18 пленных англичан, попавших в лапы большевиков. Оба эсминца были переданы новорожденному эстонскому флоту, в котором они служили под именами «Вамбола» и «Леннук».
Одна из реликвий этого столкновения пережила и «Спартак», и «Автроил». Когда команда «Вендетты» обыскивала «Спартак», один из англичан прибрал корабельную рынду. Возможно, в результате нехватки цветных металлов на «Вендетте» не было нормального корабельного колокола, теперь этот недостаток был исправлен. Потом «Вендетта» был передан Королевскому австралийскому флоту, завоевал громкую славу и в конечном итоге был затоплен возле Сидней-Хедз в 1948 году. Можно лишь надеяться, что кто–нибудь сохранил этот колокол, учитывая его редкостное происхождение.
Весьма любопытно, что для англичан происшедшее со «Спартаком» — это небывалый курьез. Английский историк удивлен, так как более никогда не слышал о подобном. Итак, английский историк напрямую именует происшедшее со «Спартаком» курьезом, невероятно редким для морской войны, когда в плен попадает «совершенно исправный корабль». Удивительно, что еще не вылезши на банку, не получив ни одного попадания, Раскольников уже вопит в эфир открытым текстом: «Все пропало…» Не меньшее недоумение вызывает факт наличия на борту революционного эсминца большого количества ювелирных изделий, словно это не боевой корабль, а какая–то ювелирная лавка. Возникает законный вопрос: откуда все это золото–серебро? Часть драгоценностей наверняка имели при себе запасливые революционные матросы, хорошо поживившиеся в свое время за счет буржуев. Часть драгоценностей, думается, принадлежала самому Раскольникову. Впоследствии мы еще поговорим о неведомом золотом запасе, который внезапно оказался у пролетарского флотоводца в плену, и о патологической любви, как самого Раскольникова, так и его революционной супруги Ларисы Рейснер, к золоту и роскоши. Потрясает и уровень боевого мастерства военморов, которые первым же выстрелом снесли собственную штурманскую рубку, — вот вояки, так вояки! В целом же отношение английского историка к командованию «Спартака» более чем презрительное. Но, как говорится, что заслужили, то заслужили.
В 1925 году в Лондоне вышла в свет книга «Юрьевские дни», посвященная событиям в Прибалтике в конце 1918 — начале 1919 года. Автор ее, английский журналист Роберт Поллак, написал относительно пленения двух эсминцев: «27 декабря (1918 г.) появилась возможность передать первое серьезное сообщение из Ревеля-Таллина. Наши корабли захватили два красных эсминца, пленили большого комиссара — Раскольникова, командовавшего плаванием. Я задал вопрос адмиралу (контр–адмирал Коуэн, командующий английской эскадрой на Балтике. — В.Ш.), почему легко сдались большевики. В ответуслышал нечто неожиданное: неподготовленность экипажей, беспорядок в управлении, амбициозность флагмана, нахватавшегося чинов после революции, но никогда не выводившего в море суда. Словом, мне удалось поймать сенсацию. Говорят, когда „Таймс“ с моим посланием из Эстонии попала в руки Троцкого, он топал ногами и кричал, что такого позора еще не испытывал».
Честно говоря, очень обидно читать о нашей трагедии, которую англичане представляют, как фарс с банкетом. Но что делать, во многом они в данном случае, видимо, правы.
А вот оценка событий со стороны белогвардейцев. Из книги старшего лейтенанта Л. В. Камчатова «Русский флот на северо–западе России в 1918–1920 гг».: «…Красный флот также принимал участие в походе на Эстонию, и для него эта попытка окончилась неудачно. Первоначально для производства глубокой разведки была послана подводная лодка, которая сообщила, что рейд покрыт льдом и свободен от кораблей. Тогда была снаряжена экспедиция из миноносцев „Спартак“ (бывший „Миклухо-Маклай“) и „Автроил“ под общим командованием Раскольникова. Миноносцам была дана задача войти на Ревельский рейд и обстрелять город; в некотором отдалении за ними следовал крейсер „Олег“. Однако донесение подлодки оказалось ложным, так как за несколько дней до ее появления на рейд пришел отряд английских скаутов. При первом же появлении на горизонте миноносцев Раскольникова англичане снялись с якоря и пошли навстречу противнику, который, увидев их, немедленно повернул и стал уходить. „Спартак“, на котором находился Раскольников, взял курс на Ревельстейнский маяк, поблизости от которого перескочил через банку и снес себе винты. После нескольких выстрелов подошедших англичан он поднял белый флаг и сдался. Командиром на нем был старший лейтенант Павлинов. „Автроил“ взял курс вдоль берега, приводивший его в бухту Папонвик, в которой он и был настигнут англичанами. Командовавший миноносцем лейтенант Николаев и артиллерийский офицер лейтенант Петров сознательно проделали этот маневр, желая сдаться англичанам. По приказанию командира с него не было сделано ни одного выстрела по преследовавшим скаутам и задолго до их подхода был поднят белый флаг. На „Спартаке“, кроме Раскольникова, были захвачены: его флагманский штурман, бывший старший лейтенант Струйский, комиссар и коммунистический коллектив. Миноносец был взят на буксир и приведен в Ревель, где починен средствами бывшего русского военного порта. Через несколько дней последовал приказ английского адмирала, именем короля передававший захваченные миноносцы Эстонской республике при условии, что на них будет принята часть находившихся в Ревеле русских морских офицеров. Это было исполнено: до 20 русских моряков поступили на миноносцы, переименованные в „Lennuk“ и „Wambola“, на различные должности, частью офицерские, частью нижних чинов — инструкторов. В их числе были и офицеры, служившие на этих миноносцах, а также жившие до того в Ревеле. Командиром „Леннука“ был даже назначен старший лейтенант Вейгелин, женатый на эстонке. Все офицеры, взятые в плен, прошли через суд чести и за службу в Красном флоте все, кроме лейтенанта Николаева, подверглись известным ограничениям по службе, в зависимости от установленной судом степени нанесенного их действиями вреда Белому делу…»
Эстонский историк Мати Ыуна относительно захвата «Автроила» пишет следующее: «„Автроил“ закончил ремонт и вышел из Кронштадта на соединение с отрядом Раскольникова вечером 26 декабря. 27 декабря в 11:00 он появился в пределах видимости Таллинского порта. Из гавани тут же вышли эсминцы „Вортигерн“ и „Вендетта“. „Автроил“, не принимая боя, взял курс на ост и увеличил ход до 32 узлов. Примерно в 12: 25 прямо по курсу появились британские крейсера „Калипсо“ и „Кэредок“, ночью ходившие проверять залив Кунда и остров Суурсаар на предмет наличия там крейсера „Олег“. „Олега“ они не обнаружили и, повернув назад в Таллин, очень удачно встретили „Автроил“, отрезав ему пути отхода. „Автроил“ послал три радиограммы с призывом о помощи, но затем радиоантенну сбило снарядом. Хотя больше повреждений корабль не получил, командир корабля предпочел не продолжать бой и сдаться».
Как и при сдаче «Спартака», на «Автроил» прибыла призовая партия, а экипаж эсминца вскоре был переправлен на британские корабли. Следует отметить крайнюю бесцеремонность «просвещенных мореплавателей» в их отношении к сдавшемуся противнику. Британские моряки при обыске помещений обоих эсминцев забирали все, что им приглянулось, включая личные вещи офицеров — одежду, постельное белье, письменные принадлежности и т.д.
В офицерских каютах срывались люстры, выносилась мебель; пианино из кают–компании «Автроила» вскоре оказалось на одном из британских крейсеров. Призовая команда крейсера «Карадок», например, позднее продавала добытые «трофеи» за бесценок. Выказавшим недовольство грабежом экипажам эсминцев жестко давали понять, что их мнение никого не интересует. Самим же британцам эти события запомнились как «два боя с банкетом в перерыве между ними».
Суммируя воспоминания англичан, белогвардейцев и эстонцев, можно сделать вывод, что все они были изрядно ошарашены тем, с какой легкостью и практически без всякого сопротивления им удалось овладеть двумя целехонькими новейшими дистроерами. Одни описывают это чуть ли не как анекдот и курьез, другие — как удачу.
Но все сходятся на том, что и команды, и командир обоих эсминцев откровенно боялись сражаться.
Кто же во всем виноват?
Сдача врагу двух новейших и боеспособных кораблей — без малейшего сопротивления — дело, прямо скажем, нерядовое. Поэтому было абсолютно ясно, что за этим последует поиск виновников и их наказание.
Военно–морской историк капитан 1–го ранга М. А. Елизаров пишет: «Но если в военном отношении уроки провала, по сути, первой крупной операции революционного флота, были очевидны и для командного и для личного состава: надо прилагать максимум сил для возрождения военной мощи флота, то политические последствия были довольно запутанными и накаляли обстановку в целом. С одной стороны, военная причина неудачи повышала роль военспецов. С другой стороны, эта операция были ими и спланирована (во главе с начальником Морских сил страны В. М. Альтфатером). И в тех условиях причина должна была бы определиться сразу — „измена“. Но непосредственно возглавлял операцию и попал в плен стоявший вне всяких подозрений „старый большевик“ Ф. Раскольников. Его причисление к „изменникам“ могло привести только к анархизму. Хотя накануне операции он проявлял сомнение в своей способности ею руководить и обеспечить боевой успех, но Л. Д. Троцкий и военспецы в Москве подталкивали командование Балтийского флота на проведение такой операции. Сыграла роль общая обстановка левого авантюризма. Команды были довольны, что новые задачи по „экспорту революции“ достойны их славных дел в 1917 году и у них накануне операции наблюдалось подогретое разного рода слухами о восстании рабочих в Ревеле приподнятое настроение. Военспецы тоже были довольны и аннулированием „похабного мира“ (речь идет об одностороннем отказе Ленина выполнять договоренности Брестского мира в связи с началом революции в Германии. — В.Ш.) и открывающимися перспективами возвращением флота в родные базы в Прибалтике».
Но кто главный виновник? Сегодня эти личности нам известны — это не кто иные, как Троцкий и его любимец «красный лорд» Раскольников. О Раскольникове мы еще будем говорить, а пока поглядим, как же отреагировал на бесславное завершение организованной им авантюры сам товарищ Троцкий. Личных записей на этот счет он не оставил, а потому воспользуемся косвенными.
Разумеется, что себя виноватым Троцкий не считал. Не считал он виноватым и своего протеже Раскольникова, за которого тут же, на всякий случай, вступилась его жена Лариса Рейснер. Виновные были определены сразу — это, разумеется, были бывшие офицеры и адмиралы.
Что касается Роберта Поллака, то, первым известив мир о пленении «красного морского лорда» Советской России, он сделал себе в журналистском мире настоящее имя.
Сегодня совершенно очевидно, что главный виновник (помимо Троцкого) во всем случившемся — это именно «красный лорд» Раскольников. Как командир отряда, именно он нес непосредственную ответственность за все происходившее. Именно он почему–то даже не попытался перед выходом в море отобрать на «боевые» эсминцы наиболее опытных машинистов и турбинистов, не проверил фактических скоростей эсминцев, не нашел комендоров, умевших хотя бы сносно стрелять, и даже более–менее грамотных штурманов, способных ориентироваться по вехам, не снабдил корабли должным запасом топлива и не проверил их технического состояния, не дал исчерпывающих инструкций командирам кораблей. Да, он научился красиво выступать на митинге и красоваться на ходовом мостике. Но всего этого оказалось недостаточно, чтобы считаться настоящим военноморским начальником!
«Красный адмирал» заведомо обрек всю операцию, еще до ее начала, на позорный провал. С самого начала было понятно, что из раскольниковской затеи ничего путного не получится. Ведь едва пройдя Шепелевский маяк, где на свою позицию встали «Андрей Первозванный» и «Азард» (по рассказу самого же Раскольникова), последний семафором донес, что «он погрузил мало топлива». А куда же смотрел член РВС? А никуда! Виноват просто линкор «Андрей Первозванный», который не погрузил в себя необходимый уголь! А так как линейный корабль есть предмет неодушевленный, то и винить в этом вроде как и некого. Не обвинять же себя самого!
Поразительно, но Раскольников прекрасно знал о том, что у Ревеля находится целая флотилия британских легких быстроходных крейсеров. Соваться туда с двумя эсминцами, которые не могут дать ни полного хода, ни хотя бы сносно отстреливаться, было безумной авантюрой. Если уж и надо было что–то делать, то это ставить активные минные заграждения и пытаться атаковать англичан подводными лодками. Остерегаться именно крейсеров (в разговоре на ледоколе, шедшем к Кронштадту в канун операции) Ф. Ф. Раскольникову особенно советовал В. М. Альтфатер. Разумеется, опытному военспецу была понятна вся нелепость этой операции. «Андрей Первозванный», составлявший, по замыслу ее составителей, главную силу «Отряда особого назначения» и поставленный на позицию у Шепелевского маяка — соответственно под Кронштадтом, — был лишен всякой возможности взять под прицел своих двенадцатидюймовых пушек ожидавшиеся английские крейсера. Ведь от Ревеля, куда не зная броду, днем 26 декабря привел «Спартак» Раскольников, до острова Гогланд, где с совершенно непонятной задачей был оставлен «Олег», расстояние составляло почти 60 миль, а до Шепелева маяка, где держался «Андрей Первозванный», — еще более того. На этом пространстве, да еще при полном превосходстве англичан в артиллерии и скорости, наши корабли могли и не успеть добежать под защиту «Андрея Первозванного». Никто не подсказал «флотоводцу» и мысли о действенном использовании в операции подводных лодок. Единственная находившаяся в море «Пантера» из–за неисправности механизмов была к этому времени вынуждена вернуться от острова Вульф (Аэгна) и никаких сведений о кораблях в Ревель сообщить не могла. В итоге этой вопиющей по безалаберности операции свою явно бесполезную позицию должен был (из–за нехватки топлива) покинуть и «Андрей Первозванный».
Говорить о военно–морской компетенции «красного лорда» можно хотя бы такому факту. Описывая всю операцию как личное героико–романтическое приключение в занимательном историко–этнографическом рассказе «В плену у англичан», Раскольников не взял на себя труд даже справиться о вооружении «Олега». Он воспаленно пишет о «тяжелой артиллерии» «Олега», под прикрытие которого он, по плану операции, рассчитывал отходить к острову Гогланд. Увы, на самом деле никакой «тяжелой артиллерии» на «Олеге» и в помине не было. Она существовала лишь в воспаленном воображении «красного лорда». Если бы погоня продолжилась и «Спартаку» удалось бы добежать до «Олега», то судьба последнего была бы плачевной. Бой с англичанами старый изношенный легкий бронепалубный крейсер вряд ли бы выдержал. 130–мм пушки крейсера «Олега» и скорость не более 18–19 узлов вряд ли могли соперничать с современной 6–дюймовой артиллерией и 35–узловой скоростью новейших английских крейсеров.
В итоге неудачной разведывательной операции под руководством Раскольникова Морские силы Балтийского моря совершенно бездарно и позорно потеряли два новейших эскадренных миноносца типа «Новик» — «Спартак» и «Автроил», которые были переданы англичанами в состав ВМС Эстонии под названиями «Вамбола» и «Леннук» соответственно. При этом «Вамбола» был срочно поставлен в ремонт. О направленности ремонта ничего не известно.
Возможно, что в ремонте нуждалось днище корабля, поврежденное при посадке на мель. Возможно, что ремонт был необходим ввиду общей запущенности корабля. Начальник отряда особого назначения военмор Ф. Ф. Раскольников и комиссар «Автроила» матрос Я. Д. Ныник были увезены в Англию, где содержались в Брикстонской тюрьме. За такого пленника, как член Реввоенсовета Республики, англичане надеялись выменять своих соотечественников, попавших в плен на территории РСФСР, и не ошиблись в своих надеждах.
Позорный провал операции и потеря двух кораблей, разумеется, не могли остаться незамеченными. Балтийский флот бурлил негодованием в адрес Раскольникова. Но если в Кронштадте считали виновником именно давно всем осточертевшего «красного лорда», то в Москве придерживались совершенно иного мнения.
Однако властям надо было что–то ответить морякам, но что? В первом номере журнала «Морской сборник» за 1919 год появляется заметка о событиях 25–27 декабря 1918 года. Заметка знаковая по своей сути! Сегодняшние читатели не знакомы с троцкисткой риторикой. У нас есть возможность познакомить их с ней, процитировав данную заметку. Она того стоит!
«…В прессе появились сообщения об операции у Ревеля, в результате которой наши миноносцы „Спартак“ и „Автроил“, на одном из которых находился член Морского отдела Военного Революционного Совета республики Раскольников, попали в руки противника. Флот не бездействует. Флот живет. Лишь бездействие, отсутствие деятельности, отсутствие жизни — смерть. Пока есть жизнь, покуда есть деятельность, возможны неудачи — это говорит логика. Но чем возможнее, чем естественней неудачи, тем менее они должны рассматриваться как результаты ошибок и неумения, тем скорее приходится их трактовать, как результат простого соотношения сил и быть может избытка мужества и молодого задора на слабейшей, рискующей стороне».
Поразительно, но автор заметки гордится сдачей в плен двух кораблей, утверждая, что лучше их отдать врагу, чем они бы без дела стояли в Кронштадте. Патологический трус Раскольников при этом объявляется героем! Да и как иначе, когда член РВС сдался без боя врагу просто «от избытка мужества и молодого задора»! А чего стоят «многоумные» сентенции, типа «отсутствие жизни — смерть», «возможны неудачи — говорит логика».
Балтийцы требовали от троцкистов–начальников рассказать им правду о происшедшей трагедии. На это требование тоже был дан исчерпывающий и достойный ответ: «…Слишком наглядно опыт войны показывает необходимость соблюдения самой строгой тайны в ведении военно–морских операций, чтобы до наступления мира всего мира мы не могли бы узнать истину обо всех событиях борьбы».
Но о какой тайне может идти речь, когда оба корабля уже целехонькими попали в руки врага? Только о тайне для своих! Однако правду о пленении эсминцев балтийцам все же обещают рассказать, но только после «наступления мира всего мира». Понимай: после победы мировой революции!
Но расследование обстоятельств произошедшего все равно надо было проводить. Для выявления причин неудачного для Красного флота исхода операции 25–27 декабря 1918 года была создана Особая комиссия Реввоенсовета Республики под председательством члена Реввоенсовета Морских сил Балтийского моря С. П. Нацарениуса. В нее вошли: начальник Морского Генерального штаба Е. А. Беренс, представитель Полевого штаба Реввоенсовета Республики Г. С. Пилсудский и другие. Отметим, что все члены комиссии были «людьми» Троцкого (он и определил состав комиссии), а потому особых сенсаций и разоблачений ждать не приходилось. Да и организованна комиссия была, скорее всего, не для выяснения настоящей сути всего происшедшего с определением и наказанием конкретных виновников, а для успокоения общественного мнения.
Однако сегодня нам все же нелишне будет ознакомиться с некоторыми документами относительно разбирательств событий 26–27 декабря 1918 года.
Набег кораблей на Ревель, проведенный 25–27 декабря, был признан неудачным. Помимо недостатков в его подготовке, отмеченных Особой комиссией, указывалось, что командующий отрядом кораблей Ф. Ф. Раскольников допустил ряд серьезных ошибок. «Главная ошибка заключалась в том, что, вопреки предписанию подойти к Ревелю двумя эсминцами, Раскольников, державший флаг на „Спартаке“, не дождавшись подхода „Автроила“, вошел в Ревельскую бухту, где оказался перед значительными силами английского флота. В неравном бою „Спартак“ был поврежден и захвачен в плен. Эсминец „Автроил“ из–за неисправностей в машине вышел из Кронштадта с большим опозданием. На подходах к Ревелю его ждал английский флот, и „Автроила“ постигла та же участь, что и „Спартака“. Многие пленные моряки эсминцев белоэстонцами были расстреляны на острове Нарген, другие подверглись издевательствам, но держались стойко и мужественно».
Особая комиссия была создана для выяснения причин неудачного исхода операции 25–27 декабря. В состав комиссии были включены начальник Морского Генерального штаба Е. А. Беренс, представитель Полевого штаба Реввоенсовета Республики Петров, начальник Морского оперативного отделения Реввоенсовета Республики Г. С. Пилсудский, комиссар оперативного отдела Полевого штаба Реввоенсовета Республики Васильев. Председателем комиссии был назначен член Реввоенсовета Балтийского флота С. П. Нацаренус. Комиссии было предложено выяснить следующие вопросы:
1) цель операции, ее организацию, данные ей инструкции и их выполнение;
2) о состоянии личного состава;
3) действия крейсера «Олег»;
4) обеспеченность операции;
5) поведение команд;
6) что было предпринято для выяснения участи посланных судов;
7) в состоянии ли флот обеспечить фланг и тыл сухопутных операций;
8) боевой состав и его готовность;
9) снабжение флота.
«Заключение комиссии и содержит ответы на вопросы, поставленные перед ней. Выводы комиссии по последним трем пунктам составляют отдельный документ и не публикуются, поскольку они не относятся непосредственно к операции 25–27 декабря».
Телеграмма главнокомандующего Вооруженными силами Республики И. И. Вацетиса В. М. Альтфатеру по поводу операции Балтийского флота 25–27 декабря. Аналогичный текст предписания был вручен командирам «Андрея Первозванного», «Олега», «Спартака», «Автроила» и «Азарда». Копия телеграммы была послана В. И. Ленину: «30 декабря 1918 г. Из донесения наморен о морской операции под Ревелем видно, что отряду из 2 миноносцев, крейсера „Олег“ и линейного корабля „Андрей Первозванный“ дана была задача выйти в море и, в случае обнаружения слабейших неприятельских судов, вступить с ними в бой. Отряд из 2 миноносцев взял на себя частную задачу: обстрелять г. Ревель и вызвать оттуда корабли противника. Подобная задача не могла иметь места, так как носит характер чисто морского набега и не имеет никакого отношения к взаимодействию с сухопутными частями. Кроме того, такая рискованная задача не отвечает состоянию наших малочисленных морских сил, которые необходимы для прикрытия правого фланга наших войск, наступающих от Нарвы на Везенберг и Ревель, а также для обороны Кронштадта. С потерей наших судов правый фланг нашей армии Ревельского направления подвержен удару десанта, против чего прошу принять меры. Кроме того, из ваших донесений видно, что крейсер „Олег“ и линейный корабль „Андрей Первозванный“ не поддержали наших миноносцев, а ушли в Кронштадт.
Прошу сообщить мне, во–первых, почему об этой морской операции и поставленной ей задаче не было заблаговременно донесено мне; во–вторых, какая преследовалась цель обстрелом Ревеля и вызовом судов противника оттуда. Вместе с тем, вновь подтверждаю, что ближайшая задача судов Балтфлота ни в коем случае не заключается в самостоятельных активных морских операциях, а состоит в прикрытии правого фланга войск, наступающих в Прибалтике, охране со стороны моря тыла войск, наступающих от Нарвы на Ревель, в комбинированных действиях флота и сухопутных войск и в производстве десанта. Эти задачи флоту были высказаны на заседании Реввоенсовета Республики 2 декабря, на котором присутствовали и вы, и с того времени стратегическая обстановка нисколько не изменила указанных флоту задач. Главком Вацетис».
До конца «копать» чрезвычайная комиссия не могла, так как все указания об операции исходили лично от Троцкого, а на Балтике их единолично претворял в жизнь его любимец Раскольников. Троцкий утверждал и безумный план набега, придуманный тем же Раскольниковым. Зарубаев и другие флагманы познакомились с документом только поздним вечером, перед самым выходом в море, и никаких изменений внести в него не имели права.
Из объяснения начморси Зарубаева: «Увидев план, чины штаба сразу обратили членов РВС к следующим моментам. „Азард“ уже в порту, у него полностью отсутствует топливный запас. „Автроил“ еще не завершил ремонтные работы, требуется не менее суток, хотя я собрал все имеющиеся рабочие бригады, о чем рапортом докладывал Альтфатеру. Задачи командирам крейсера и линкора еще не доведены, опыта стрельбы команды ЭМ не имеют никакого, так что при настаивании на плане легче ограничиться разведкой, если вовсе есть резон поспешно выходить на операцию».
Альтфатер на комиссии, кстати, подтвердил показания начморси. И что? А ничего!
Заключение Особой комиссии Реввоенсовета Республики об операции Отряда особого назначения 25–27 декабря 1918 года: «2 февраля 1919 г. Тщательно разобрав весь имеющийся налицо материал, комиссия пришла по вопросу об операции к следующему заключению.
1. Сведения, имеемые к моменту операции в штабе, определенно говорили за присутствие в Финском заливе какой–то боевой единицы, количество судов которой и характер их действий ясно указывали, что флот был не финский и не эстонский, а либо английский, либо немецкий. Флот Финляндии, как состоявший из судов, частью оставленных русскими, частью захваченных у русских финнами, по типу и вооружению не мог походить на тот, что в это время оперировал в Балтийском море. Эстонского флота быть не могло, так как его не было, а вооруженные пароходы не могли действовать так, как действовал флот в Балтике (высадка десанта, обстрел берега с большой дистанции, мелко– и глубокосидящие суда и т. д.). Присутствие же английской эскадры или немецкого отряда, переданного кому–либо (Эстляндии или Финляндии), заставляли иметь в виду при учитывании обстановки перед операцией, что эти суда, имея большой опыт в войне, хорошее вооружение, хорошее снабжение, должны представлять большую силу, что при состоянии наших кораблей являлось для нас большой угрозой, и, принимая тот или иной план операции, нельзя было не иметь вышеизложенного в виду.
2. Штаб при выработке плана операции должен был иметь в виду, что часть судов, назначенных в операцию, только что участвовала в другой и не могла в такой короткий срок пополнить всех запасов. Имея в виду, с другой стороны, трудность пополнения запасов, надо было проявить сугубую осторожность при назначении этих судов для новой операции. Создалось положение, что к началу операции суда имели запасы топлива:
а) „Андрей Первозванный“ — половину топлива (По показаниям командира линкора, угля было 500 т и топлива хватило бы на 1–1,5 суток).
б) „Олег“ — на 30 часов (На „Олеге“ было угля 400 т).
в) „Спартак“ — 150 т нефти. По показаниям свидетелей, на „Спартаке“ было 300–320 т нефти.
г) „Автроил“ — менее 150 т нефти. По показаниям свидетелей, на „Автроиле“ было 370 т нефти.
д) „Азард“ — совсем не имел нефти.
3. Организацией операции:
а) совершенно не было принято во внимание состояние северного берега Финского залива, были ли там неприятельские суда, базы и т. п.;
б) при выработке плана за основание взято то, что в известном районе нет противника;
в) не находя противника в известном районе, суда должны были уйти далеко от базы;
г) не была учтена возможность обхода с севера, невозможность в таком случае отступления;
д) суда разбиты на большое друг от друга расстояние.
Исходя из этого, приходится заключить, что организация операции не выдержана на основании тех данных, кои были в распоряжении штаба, план был недостаточно разработан и вся операция рисуется очень рискованной. План операции, который, как сказано выше, не отвечал данным, имеющимся в руках составителей его, был сильно ухудшен действиями начальника отряда тов. Раскольникова, который, отложив сначала операцию из–за опоздания „Автроила“, поставив об этом в известность наморси, неожиданно переменил свое решение и двинулся на одном „Спартаке“ для обстрела Ревеля, сообщив об этом на ходу клотиком лишь командиру „Олега“.
4. Поведение команд судов, участвовавших в операции, во время самой операции неизвестно, а о состоянии их команд до операции можно судить по ответам комиссии по вопросам об общем состоянии Балтийского флота в части личного состава.
5. Невольно бросается в глаза то важное упущение в реализации плана операции, что командиру „Олега“ совершенно не был известен весь план этой операции, что в свою очередь в дальнейшем заставило действовать его с завязанными глазами, наугад и, не имея точных руководящих данных, приспосабливаться к обстановке, исходя из первоначального задания принять на себя отступающие миноносцы. Благодаря этому, а также состоянию запасов угля и продовольствия, отсутствию связи со „Спартаком“ и „Автроилом“, наличности сведений о присутствии в Финском заливе неприятельских судов, неудовлетворительному состоянию команды и самого корабля командир „Олега“ был вынужден держаться пассивно и, не имея сведений о месте предполагаемого боя „Спартака“ и „Автроила“ с противником, не мог оказать им никакой помощи, а вынужден был, естественно, заботиться о целости корабля и о создании ему условий безопасности.
Не имея точных указаний, командир „Олега“ вел себя самостоятельно и иначе поступить не мог. Комиссия отмечает, что командир „Олега“ — опытный морской офицер и в условиях, создавшихся для действий „Олега“, другого сделать ничего не мог.
Свое заключение и весь материал, послуживший для него основанием, Особая комиссия представляет Революционному Военному Совету Республики на усмотрение. Председатель комиссии С. Нацаренус, Нагенмор Евг. Беренс».
Английский журналист Поллак в своей книге «Юрьевские дни» приводит рассказ командира английского миноносца «Уэйкфул» Р. Джекса: «Я всегда с трепетом относился к русскому флоту, считал его одним из лучших в мире… Но когда узнал, что один из его командующих плавал почти без топлива, проводил кампанию как прогулку — днем без маскировки и разведки, сразу понял, какие офицеры перекинулись к большевикам. А ведь русские миноносцы, если бы действовали скрытно, наделали бы шуму в Ревеле и спокойно убежали». Под «перекинувшимися офицерами», разумеется, подразумевается не кто иной, как Раскольников и его окружение.
В конце концов, главным виновником был «назначен» начальник Морских сил Балтийского моря бывший контр–адмирал Зарубаев, который вскоре и был арестован органами ЧК, а также оба командира попавших в плен эсминцев. Последних предполагалась аттестовать, когда представится такая возможность. И хотя чрезвычайная комиссия РВС однозначно указала на грубые промахи Раскольникова и Альтфатера, смещается с поста начальника Морских сил Балтийского моря именно военспец Зарубаев.
На допросе чрезвычайной комиссии РВС Зарубаев заявил следующее: «Правила морской деятельности восходят еще из прежних веков. И правила эти связаны с должными места морского начальника понятиями. Важнейшее из них — не спускать флаг перед неприятелем даже перед угрозой смерти!» Уж кто–кто, а он имел право так сказать. В далеком 1904 году старший артиллерийский офицер крейсера «Варяг» лейтенант Зарубаев на деле доказал верность флагу и долгу в знаменитом бою легендарного крейсера при Чемульпо. Помните:
Не скажет ни камень, Ни крест, где легли Во славу мы русского флага. Лишь волны морские прославят одни Геройскую гибель «Варяга».Увы, Раскольников и «Спартак» оставили о себе совсем другую память…
Наконец–то даже Троцкому и его компании стало понятно, что ораторы–дилетанты не могут командовать флотом, даже если очень красиво кричат с трибуны. Вывод был таков: «Пора прекратить пренебрежительное отношение к старым морским кадрам, которые для войны на море готовятся долгие годы». Но Раскольникова после освобождения он все равно должностью не обидит. Пусть Раскольников бездарь, пусть он трус, но зато он лично предан Троцкому, а последнее перевешивало все остальное.
Разумеется, что Троцкий прекрасно понимал, что после неудавшейся авантюры его авторитет на Балтике сильно пошатнулся. Чтобы поправить положение, он вскоре лично посетил флот, чтобы навести порядок и показать свою силу и власть.
Из воспоминаний Г. Четверухина: «В январе 1919 года штаб Балтийского флота посетил Л. Троцкий. Я слышал отзывы о нем как о блестящем ораторе и публицисте ив тоже время как о мстительном и жестоком человеке, апологете теории „перманентной революции в мировом масштабе“. По его указанию при Реввоенсовбалте был создан Революционный трибунал, во главе которого был поставлен В. Трефолев. Троцкий выступил с кратким докладом „О положении на флоте“, и в первый и последний раз я видел и слышал его. Запомнилась пышная шевелюра, бородка кисточкой. надменное выражение лица, холодно поблескивающие глаза из–за стекол пенсне, энергичная жестикуляция, громкий голос.
Он говорил, что Балтийский флот находится не на высоте тех требований, которые предъявляются к нему Советским правительством. Дисциплина тоже не на высоте. Боевая подготовка отсутствует. Имеются факты предательства и измены со стороны командного состава, и теперь в случае чего–либо подобного кара падет и на их семьи. Нет четкого разграничения функций между командным составом и различными выборными организациями. Командиры не облечены дисциплинарными правами. Судовые комитеты, общие собрания подменяют командование и вмешиваются во все его функции. Балтийский флот, поэтому, застрял на уровне „разрушения“ старых форм. Судовые комитеты будут упразднены, а вся власть вверена командиру и определенному к нему комиссару. Тем самым оперативная власть будет у командира, а политическая — у комиссара. Но, ни тому, ни другому не будет прощения за допущенное преступление против революции, и они пойдут под суд Ревтрибунала.
Говорил он красноречиво, действительно как трибун, но, почему–то, честно говоря, мне не понравился.
Возможно, этому способствовало имевшееся у меня к нему предубеждение, возникшее под влиянием высказываний Зарудного, которому пришлось несколько раз с ним встречаться. „Троцкий имеет отталкивающую манеру задавать вопросы официальным, ледяным тоном, как на допросе, удручающе действующим на собеседника, который старался, прежде всего, не сказать чего–либо лишнего (имея печальный опыт Щастного) и был всегда рад, когда беседа заканчивалась“. После отъезда Троцкого среди сотрудников штаба происходили шумные обсуждения его доклада. Одни скептически утверждали, что это очередная „говорильня“, сколько их уже было, и все без результатов. Другие, настроенные более оптимистично, придерживались мнения, что „хотят ли этого или не хотят“, а жизнь заставит отказаться от „комитетчины“ и восстановить власть командиров, пусть при условии назначения к ним комиссаров».
Визитом Троцкого «приведение в чувство» командного состава Балтийского флота не закончилось. Вслед за ним прикатила и супруга «вероломно плененного англичанами» Раскольникова Лариса Рейснер, чтобы припугнуть бывшее флотское офицерство.
Историк капитан 1–го ранга М. А. Елизаров пишет: «Последствия военной неудачи конца декабря 1918 года изживались в ходе всей складывающейся внутриполитической обстановки на Балтийском флоте. В начале января на Балтийский флот прибыла Особая комиссия Реввоенсовета для выяснения причин неудачи операции. Она разработала комплекс мер по повышению боеспособности флота. Эти меры оценивались. как решающий шаг, определивший перелом на флоте в сторону повышения его боеспособности. Главными положительными решениями комиссии считались решения в области укрепления воинской дисциплины, упразднения судовых комитетов, учреждения политотдела вместо Совкомбалта и др. Вместе с тем комиссия стремилась использовать неудачу военной операции как повод для „завинчивания гаек“ на флоте. Эти решения затрагивали и демократические чувства матросов. Кроме того, комиссия, в которой важную роль играла Л. М. Рейснер, являвшаяся комиссаром Морского генерального штаба, стремилась выгородить Ф. Раскольникова, в то время как в матросских массах, и ранее не любивших его, было распространено мнение о его безусловной виновности».
Из воспоминаний Г. Четверухина: «В начале февраля 1919 года начальник штаба А. Домбровский пригласил главных специалистов к себе в кабинет и объявил, что комиссар Морского генерального штаба, прибывший из Москвы, хочет с нами побеседовать. Я знал, что комиссаром Генмора в то время являлась Лариса Михайловна Рейснер, дочь профессора, талантливый литератор, член РКП (б), обаятельная женщина, но, по имеющимся слухам, активный, напористый и до грубости прямолинейный человек.
Открылась дверь, и в сопровождении комиссара штаба Г. Галкина, постукивая каблучками своих туфель по паркету, в кабинет вошла внешне очень привлекательная молодая женщина. К моему, да, и, наверное, к общему удивлению, вместо обычной кожаной куртки, которую любили носить комиссары того времени, на ней была надета безрукавка из золотой парчи, отороченная собольим мехом, темное платье, на ногах красные с золотым тиснением сафьяновые, восточного типа туфли с загнутыми кверху носками, а на голове — парчовая плоская шапочка типа тюбетейки.
— Товарищи командиры! — Как положено при входе в помещение высокопоставленного или старшего по званию лица, обратил наше внимание Алексей Владимирович. Мы все встали.
— Здравствуйте, товарищи военморы. Садитесь! — приветствовала она нас, с любопытством и некоторой долей женского кокетства окинув взглядом, и, осознав, что ее появление произвело на присутствующих впечатление, она слегка улыбнулась. Когда все сели, Рейснер сказала, что проведет с нами краткую беседу о текущем моменте. Говорила она о том, с каким трудом корабли были выведены из ледового плена Гельсингфорса и спасены от захвата их врагами, а запертые на кабальных условиях Брестского договора в Кронштадте и Петрограде, теперь оказались брошенными на произвол судьбы и постепенно разрушаются (а то об этом слушавшие ее не знали сами! — В.Ш.). Говорила и о том, что лучшая часть революционных матросов в различных экспедиционных отрядах ушла на фронты гражданской войны или была откомандирована для участия в строительстве новой жизни на местах. Говорила об упадке дисциплины, „иванморах“, о роспуске судовых комитетов, о том, что нам, командирам, опять будет возвращена власть под контролем прикомандированных к нам комиссаров, но никому не будет прощения за преступления против революции. „Мы расстреливали и будем расстреливать предателей, контрреволюционеров!“ — когда она произносила эту фразу, в ее мелодичном голосе звучал металл. Говорила она красиво, убежденно, и просто не верилось, что с нами говорит комиссар, так как мы привыкли к речам своих комитетчиков, которые часто подменяли литературную фразу забористыми выражениями, привычными для них и, как им, очевидно, казалось, убедительными для слушателей.
Но когда она, критикуя действия комсостава, его инертность и нерешительность, бросила фразу: „…а вы словно испугались чего–то и в штаны себе наложили“, нам было как–то странно слышать это из уст изящной интеллигентной женщины. Она не сказала тогда, что, возвращая власть командному составу, с него возьмут подписку, что в случае измены к ответственности будет привлечена и семья.
Действительно, в подтверждение высказываний Троцкого в январе 1919 года и разъяснений Рейснер Реввоенсоветом Республики был дан приказ Реввоенсовбалту в недельный срок назначить на все суда комиссаров и упразднить все судовые комитеты, а в начале февраля — приказ о создании Политического отдела Реввоенсовета Балтийского флота во главе с В. Орловым.
Двадцатого апреля в Москве скоропостижно — от сердечного приступа — скончался член Реввоенсовета Республики наморси В. Альтфатер. По слухам, он тяжело переживал неудачу разработанной им набеговой операции эсминцев в декабре 1918 года».
Очередь Зарубаева настала в 1921 году. Бывший контр–адмирал был арестован чекистами. Помимо традиционного обвинения в сочувствии к контрреволюционерам и в участии в контрреволюционном заговоре ему вменялось в вину и сдача врагу двух эсминцев. Зарубаев был расстрелян.
Есть в загадочной истории «Спартака» и «Автроила» еще один поворот, причем поворот достаточно неожиданный. ИсторикВалерий Шамбаров пишет: «…На некоторых кораблях команды сговаривались при удобном случае перейти к Юденичу и Родзянко. Но когда два советских эсминца подняли якоря и после недолгого плавания прибыли в Таллин, англичане. отдали корабли Эстонии. А из команд кого расстреляли, кого загнали в концлагерь. И уж ясное дело, другие моряки повторять их опыт не стали. Нет, британцы в переманивании оказались совершенно не заинтересованы. Вместо этого они попытались сделать то, что не удалось год назад, с помощью Троцкого — уничтожить Балтийский флот, чтобы его не было ни у какой России, ни у красной, ни у белой».
По версии В. Шамбарова получается, что сдача кораблей англичанам была продумана Троцким ЗАРАНЕЕ и Раскольников только блестяще выполнил поставленную ему задачу. Сделав свое дело, он отправился в Лондон, где отдохнул, а потом вернулся, чтобы творить революцию дальше. Англичане же, приняв эстафету у Раскольникова, передали матросов–балтийцев эстонцам, те, как и было заранее оговорено, устроили показательную казнь матросов в назидание тем, кто еще только помышлял перейти от красных к белым.
С версией Валерия Шамбарова трудно спорить, так как она полностью подтверждается всем развитием событий и поведением главных участников разыгранного трагифарса.
Конец «красного лорда»
Анализируя на основании выводов комиссии и воспоминаний самого Раскольникова подготовку и ход проведения операции, нельзя не отметить, что своими действиями Раскольников не только показал свою вопиющую профессиональную некомпетентность, как морского офицера, но и совершил тяжкое воинское преступление — сдал боевой корабль врагу. Поразительно, но в своем рассказе «В плену у англичан» Раскольников ни разу даже не упомянул о судьбе своих подчиненных — моряках «Спартака» и «Автроила», а ведь их было 240 человек! И это притом, что многие из них заплатили своими жизнями за трусость и подлость члена Реввовенсовета. Я не верю в случайности, а потому твердо уверен, что простые матросы всегда были для Раскольникова и его сотоварищей лишь необходимым в нужное время революционным мясом, о котором не пристало особо и печалиться. Если кумир Раскольникова Троцкий мечтал бросить в топку мировой революции всю Россию, то его младшие подельники с таким же цинизмом бросали в ту же топку и конкретные человеческие жизни.
Вспомним еще раз поражающие своим цинизмом воспоминания Ларисы Рейснер о том, как они с мужем наводили революционный порядок в Свияжске: «Мы расстреливали красноармейцев как собак!» Как к собакам относился Раскольников и к матросам.
После захвата «Спартака» два десятка пленных моряков перевели на английские эсминцы, 28 декабря Раскольникова опознал его бывший сослуживец — мичман Фест. Позже Раскольников вспоминал, как в начале 1919 года с удовольствием (!) прочитал в английской газете, что британские моряки «захватили в плен первого лорда большевистского Адмиралтейства». Удовлетворению Раскольникова удивляться не стоит. Для человека с манией величия и крайне завышенной самооценкой такое состояние вполне естественно. Вчерашнему недоучившемуся мичману весьма приятно, что его именуют первым лордом Адмиралтейства!
Впрочем, история, рассказанная самим Раскольниковым о том, что его опознал бывший сокурсник мичман Фест, не столь однозначна. Существует по крайней мере еще одна не менее реальная версия, что «красного лорда» выдали или бывшие офицеры со «Спартака», или даже сами матросы. Об этом, в частности, пишет в своем исследовании «Матросские массы в 1917–1921 годах. От левого экстремизма к демократизму» известный флотский историк капитан 1–го ранга М. А. Елизаров. Он пишет: «Данные о том, кто выдал Ф. Раскольникова, противоречивы. Из одних работ следует, что это сделали бывшие офицеры (Г. К. Граф „На „Новике““). Но очевидно, что дело здесь не обошлось без матросов. Сам Ф. Раскольников в своих мемуарах представляет матросов „Спартака“ совершенно в обратном свете, как принимавших все меры для его спасения. Но это противоречит широко известной по публикациям того времени обратной версии, которую поддерживала в печати Л. Рейснер. Считал ее очевидной и главный начальник в то время на Балтийском флоте, член Реввоенсовета флота комиссар А. Баранов. Вообще, расхождение мемуаров Раскольникова, которые он публиковал большей частью на рубеже 20–30–х годов, с общеизвестными в 1919 году фактами работало на ставшую вскоре единственной на несколько десятков лет у советских историков точку зрения (которая имела хождение в матросских массах ив 1919 году) о том, что вся операция была задумана троцкистами с целью сдачи кораблей англичанам».
После опознания Раскольникова и комиссара «Автроила» Нынюка (тоже видного троцкиста) перевели на крейсер «Калипсо», после чего обоих переправили в Англию, где посадили в тюрьму. Спустя некоторое время высокопоставленных пленников поселили в гостинице, и тогда пригодились взятые Раскольниковым в боевой поход царские золоторублевики и «керенки». Вскоре ЧК по просьбе Троцкого переслало через датское посольство еще весьма солидную сумму, и узники британского капитала приоделись в модные фраки, а на головы водрузили лакированные цилиндры. Приодевшись, Раскольников зачастил в лондонские театры и музеи. Свой «революционный топор» он припрятал до лучших дней, а пока просто наслаждался проклятой буржуазной жизнью.
В мае 1919 года Раскольникова и Нынюка обменяли на арестованных за антисоветскую деятельность англичан. Вообще, в истории плена Раскольникова много загадочного. Скорее всего, спасая своего верного последователя, Троцкий просто поднял свои немалые связи за рубежом. Именно поэтому самозваный «первый лорд» мог жить в Англии в свое полное удовольствие, а когда снова понадобился Троцкому, то был сразу же доставлен к нему в Россию.
Напомним, что почти в это же время, в январе — августе 1918 года, Каменев-Розенфельд сдает свой пост председателя ВЦИК Свердлову и едет на переговоры в Брест, а потом по тайному заданию Ленина перебирается в Лондон, чтобы объяснить там смысл совершившегося переворота и намерения большевиков. Затем его якобы арестовывают, но потом внезапно освобождают и отправляют обратно в Россию. Похоже, освобождением и Раскольникова, и Каменева занимались одни те же люди.
B свое время, изучая в Военно–политической академии историю КПСС, я как–то не задумывался, на какие деньги проводились до революции партийные съезды и конференции. И лишь недавно с удивлением я узнал, что знаменитый V (Лондонский) съезд РСДРП в 1907 году удалось провести лишь после того, как А.М. Горький, пользуясь какими–то загадочными связями с английскими социалистами, ухитрился занять 1700 фунтов стерлингов не то у английского, не то американского фабриканта Л. Фелза. Отдавая деньги, тот, похоже, не надеялся получить их назад; ведь большевики обещали их вернуть после того, как захватят власть в России. Видно, поэтому он ничего не требовал и не негодовал, что они возвратили ему кредит не сразу после октября 1917 года, а много позднее. Так что связи с английским истеблишментом у Троцкого и его компании были весьма тесные и давние. А потому, когда требовала обстановка, они этими связями и пользовались, но только для исключительно нужных людей. Мировая закулиса была всемогуща во все времена…
Мало кто знает, что еще в марте 1918 года британский разведчик Локкарт заключил с Троцким «джентльменское» соглашение. Согласно ему, Англия прекращала оказывать помощь белогвардейцам, а большевики прекращали свою агитацию в Англии. Казалось бы, англичане могли просто выслать из Англии советского эмиссара Литвинова, но почему–то решили начать переговоры.
Историк Валерий Шамбаров пишет: «В декабре могучие английские крейсера появились и на Балтике. Британское командование быстро нашло общий язык с финским и эстонским националистическими правительствами, обеспечило своими кораблями перевозку в Эстонию отлично вооруженных и обученных финских частей. И они отогнали красных, уже приближавшихся к Ревелю (Таллину). Британская эскадра пришла в Ригу. Было выпущено возвание, что она поможет защитить город от большевиков, и люди успокаивались. Многие из тех, кто уже собирался бежать, распаковывали чемоданы, сдавали билеты на поезда и пароходы. Командиры русских добровольческих частей Родзянко и Дивен обратились к адмиралу Нельсону с просьбой помочь им оружием и снабжением. Но ответы получили уклончивые и неопределенные, англичане ссылались на недостаточные полномочия, просили обождать. А 2 января эскадра внезапно снялась с якоря, и только ее и видели». И данный случай не единичен! Когда впоследствии, в июне 1919 года, против советской власти восстали балтийские форты «Красная горка», «Серая лошадь» и «Обручев», то английская эскадра, находившаяся в Ревеле, даже не подумала их поддержать. Секретное соглашение Троцкого и Локкарта выполнялось безукоризненно.
Неудивительно, что и сдача врагу двух новейших кораблей, и постыдно трусливое поведение никогда никем не были поставлены Раскольникову в вину при его жизни. Любимец Троцкого был поистине неуязвим. Мало того, то, за что любого другого непременно повесили бы на первом суку, Раскольникову шло лишь на пользу. Все происшедшее было представлено Троцким как великий подвиг, а сам негодяй объявлен мучеником за дело революции и ее героем.
Историк капитан 1–го ранга М. А. Елизаров пишет по этому поводу: «Пик личных отношений, который наблюдался, судя по их письмам, хранившимися в архиве. Исходя из них, Л. Рейснер явно хотела видеть Ф. Раскольникова героем. Он же явно хотел перед ней отличиться, а с другой стороны, быть может, выглядеть страдальцем, посидеть в тюрьме и т.п. (тетради Раскольникова периода английского плена). В январе 1919 года Л. Рейснер, получив согласие Л. Д. Троцкого, пыталась осуществить крайне „левый“ план, предусматривающий сухопутный рейд морского отряда на Ревель для освобождения Ф. Раскольникова и матросов. Позднее она бомбардировала Л. Д. Троцкого и Г. В. Чичерина письмами о том, что Ф. Раскольников содержится в английской тюрьме „в ручных и ножных кандалах“ и т.п., хотя он находился там на положении заложника для обмена на пленных английских офицеров, вел дневники, вел переписку с женой и т.д. В апреле 1919 года обмен на 17 английских офицеров (на финской границе) состоялся».
После возвращения из плена Раскольников продолжает свое стремительное восхождение по карьерной лестнице. Его сразу же повысили, назначив командующим Волжской флотилией, а в 1920 году он становится начальником Морских сил Балтийского моря. На этом посту Раскольников еще раз показал свою полную бездарность. Именно он «проглядел» и во многом спровоцировал в феврале 1921 года знаменитый Кронштадтский мятеж, повлекший еще больше жертв.
Заметим, что командный состав Балтийского флота, основу которого составляли бывшие офицеры, бывшего мичмана Ильина, а ныне пламенного революционера Раскольникова не переносил и на дух.
Из воспоминаний командующего Балтийским флотом в 1917 году, а затем морского министра контр–адмирала Дмитрия Вердеревского: «Раскольникова офицеры не любили, если не сказать больше. Он платил тем же. Сбежав от прямых мичманских дел, выступил одним из организаторов беспорядков, названных потом восстанием. Многие офицеры были убиты без какого–либо суда». Сам Раскольников в своих воспоминаниях «Кронштадт и Питер в 1917 году» оправдывался: «Происходил отнюдь не поголовный офицерский погром, а лишь репрессии по отношению к отдельным лицам». Уже позднее будет подсчитано, что убито было более 120 человек, избито и покалечено более шести сотен. Но цифры эти приблизительные и, скорее всего, далеко не полные.
Вообще понятие добра и зла были в годы революции весьма смещены, если даже не перевернуты. Как пример, можно привести потрясающий рассказ Леонида Соболева «Таракан». Суть его такова: упившийся до белой горячки матрос страшно мучается оттого, что каждую ночь ему снилось, что его щекочет усами старший минный офицер корабля. Не выдержав мучений, матрос пошел к офицеру за правдой и потребовал, чтобы тот прекратил по ночам щекотать его усами, Разумеется, офицер возмутился и посадил пьяницу под арест. Последнее слово, однако, осталось все же за матросом. Во время революции он собственноручно убивает усатого офицера и наконец избавляется от плохих снов. Поразительно, но Леонид Соболев, сам в прошлом выпускник Морского корпуса и «без пяти минут» мичман, описывает все случившееся, как очень смешную историю. Смешнее, как говорится, некуда! Леонид Соболев знал, о чем писал, так как сам был свидетелем жестоких и безумных расправ с офицерами.
Не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что в марте 1917 года командный состав Балтийского флота подвергся повальному избиению, в котором самым непосредственным образом участвовал и сам Раскольников. Поэтому в том, что в 1918 году бывшие офицеры не то что его «не любили», а по–настоящему ненавидели, нет ничего странного, слишком уж свежи были воспоминания об убийстве их товарищей Раскольниковым и его подельниками.
Но ладно офицеры, но, может быть, Раскольникова и его комиссаршу–жену любила революционная матросская братва? Как это ни покажется странным, но и классово родная братва столь же яростно ненавидела чету партийных функционеров, как и классово чуждые офицеры.
До сих пор старые кронштадтцы рассказывают легенды о тех безумных оргиях, которые устраивали в 1920 году вконец зарвавшиеся от неограниченной власти Раскольников с Ларисой Рейснер в голодном Кронштадте: о царских лимузинах, на которых гоняла, давя зазевавшихся пешеходов, не слишком трезвая чета революционных начальников, о ваннах с шампанским, которые любила принимать вечерами пламенная революционерка Рейснер. Ничего подобного не позволяли себе ни царские адмиралы, ни другие советские руководители. К примеру, на маскараде в «Доме искусств» Рейснер танцевала вальс в «бесценном, известном всем костюме работы художника Бакста из балета „Карнавал“». В громадной адмиральской столовой, вмещающей не менее сотни гостей, Лариса устраивала ослепительные приемы, появляясь на них в мехах и бриллиантах. Одну из вечеринок она устроила затем, чтобы… облегчить чекистам арест приглашенных к ней гостей.
Писатель Лев Никулин вспоминал: «Петербуржцы много злословили по поводу прогулок верхом на вывезенных с фронта лошадях, — эти „светские“ прогулки Ларисы Рейснер и Блока в то время, когда люди терпели лишения, были неуместны». Приобщившись к высокой поэзии, вечерами Рейснер сочиняла собственные вирши:
Песню красных кровяных шариков Мы пронесли, кровеносные пчелы, Из пьяных глубин На розовый простор альвеолы.Не знаю уж как тут насчет таланта, но патология точно налицо!
Из дневника Александра Блока: «Рейснеры издавали в Санкт-Петербурге журнальчик „Рудин“, так называемый „пораженческий“ в полном смысле, до тошноты плюющийся злобой и грязный, но острый. Мамаша писала под псевдонимами рассказы, пропахнувшие „меблирашками“. Профессор („Барон“) писал всякие политические сатиры, Ларисса (так у Блока. — В.Ш.) — стихи и статейки». На самом деле Лариса Рейснер никогда не была идейной большевичкой, а обычной декаденткой, которая просто оказалась в нужное время в нужном месте и своего шанса на власть, славу и шикарную жизнь не упустила. Себя в разговорах она называла не иначе, как красной Клеопатрой!
Поэт В. Рождественский впоследствии рассказывал, как однажды он навестил Ларису Рейснер вместе с друзьями– поэтами Михаилом Кузьминым и Осипом Мандельштамом: «Лариса жила тогда в Адмиралтействе. Дежурный моряк повел по темным, гулким и строгим коридорам. Перед дверью в личные апартаменты Ларисы робость и неловкость овладели нами, до того церемониально было доложено о нашем прибытии. Лариса ожидала нас в небольшой комнатке, сверху донизу затянутой экзотическими тканями. На широкой и низкой тахте в изобилии валялись английские книги, соседствуя с толстенным древнегреческим словарем. На низком восточном столике сверкали и искрились хрустальные грани бесчисленных флакончиков с духами и какие–то медные, натертые до блеска, сосуды и ящички. Лариса одета была в подобие халата, прошитого тяжелыми нитями».
Историк капитан 1–го ранга М. А. Елизаров пишет: «В свете накопленного в Кронштадте революционного потенциала в среде морских партийных кругов. эта оппозиция была направлена, прежде всего, на командующего Балтийским флотом Ф. Ф. Раскольникова. Выступления партийных низов против него в известной мере можно считать первым этапом Кронштадтского восстания. Для кронштадцев актуальной уже была не борьба со старой властью, а оппозиция новой. Ф. Ф. Раскольников олицетворял новую власть в полной мере, причем попытками партийного диктата матросским массам был известен еще с 1917 года. По этой причине его большевизм, так же как приближенность Ф.Ф. Раскольникова и его жены Л. М. Рейснер к власти, были для кронштадцев уже скорее не „плюсом“, а „минусом“. Поэтому его действия сразу стали вызывать недовольство. К тому же сам Ф. Ф. Раскольников поздно осознал обстановку и допустил на старте новой должности серьезные ошибки: „перехлест“ (в тех условиях) с укреплением дисциплины, назначение начальником политотдела флота тестя М. А. Рейснер, стремление к „богемному“ образу жизни Л. М. Рейснер при ее нескрываемом влиянии на мужа и др. Недовольство Ф. Ф. Раскольниковым достигло апогея в сентябре… Дискуссия о профсоюзах сняла здесь тормоза. Ф. Ф. Раскольников являлся сторонником Л. Д. Троцкого и пытался провести его платформу на флоте. Общее собрание Кронштадтской организации РКП(б) 14 января 1921 года, на котором доклад и содоклад с разных позиций делали Н. Н. Кузьмин и Ф. Ф. Раскольников, большинством в 525 голосов против 96 отвергло платформу Л. Д. Троцкого и высказалась за проводимую докладчиком позицию Зиновьева и Ленина».
Россия уже устала от троцкизма и от таких, как Раскольников. После бегства начальственной четы из Кронштадта матросы откровенно радовались:
— Мы выгнали комфлота и его б.
Из хроники событий, предшествующих кронштадтским событиям февраля 1921 года: «Обстановка накалялась еще и тем, что основная масса матросов существовала на скудный продовольственный паек, тогда как руководство флота жило, что называется, на широкую ногу. Командующий Балтфлотом Ф. Ф. Раскольников, которого в конце жизни судьба сделала диссидентом и изгнанником, и его жена писательница Лариса Рейснер, прототип женщины– комиссара в „Оптимистической трагедии“ Всеволода Вишневского, отнюдь не были такими аскетами, какими представлены большевики в благонамеренной пьесе. Они жили в роскошном особняке, держали прислугу, ни в чем себе не отказывали. Матросов Федор Федорович считал людьми второго сорта. Даже на камбузе установил своеобразную сегрегацию. Когда Раскольников со штабом на яхтах прибывали в Кронштадт, для рядовых военморов готовили суп с селедкой или воблой. Для штаба и начальствующего состава — полный обед из трех блюд, причем суп — с мясом. Для самого же Раскольникова и особо приближенных к нему лиц готовили настоящие деликатесы. Он сменил две трети командиров и комиссаров флота, назначив людей по принципу личной преданности, а не по профессиональным качествам. На линкоре „Петропавловск“ комиссару флота Николаю Николаевичу Кузьмину моряки жаловались, что Раскольников и его окружение чаще инспектируют винные погреба, чем пороховые. Они требовали создать специальную комиссию для обследования квартир своих командиров и комиссаров, не без оснований подозревая, что там найдутся не только предметы роскоши, но и продовольственные запасы, не дошедшие до матросского котла. Однако все было напрасно. Председатель Кронштадтского отдела трибунала Балтфлота Ассар доносил в Петроград: „Кронштадтским отделом РВС Балтфлота ведется напряженная борьба по искоренению злоупотреблений должностных лиц. Но нужно отметить, что зачастую эта борьба не приводит к желанному результату. Трибунал привлекает к суду ответственного работника по степени преступления, отстраняет его от должности. А в результате получается, что через несколько дней, через посредство всяких репутаций, эти люди переводятся по ходатайству какого–либо центрального органа в другой округ, на более выгодное для него место (должность). Таким образом, вместо исправления он получает повышение и свободно творит свое дело. Масса все это видит и ропщет“. Масса роптала еще и потому, что Раскольников со товарищи жировали за их счет. Продуктовый паек морякам Кронштадта постоянно сокращался. Матросы не всегда получали положенные им продукты. Запасов рыбы, мяса, муки имелось не более чем на 20 дней. 27 января 1921 года Раскольникова временно отстранили от должности начальника Морских сил Балтийского флота и отозвали в Москву. Однако это не предотвратило стихийный взрыв возмущения месяц спустя».
Загулы знаменитой четы не были ни для кого секретом, а потому Кронштадт требовал от руководства страной не только прекращения продразверстки в деревнях, не только создания Советов без большевиков, но и привлечения к ответу перерожденцев от революции, и в первую очередь Раскольникова с Ларисой Рейснер. Разумеется, что «светская жизнь» Раскольникова с Рейснер не была причиной восстания, но она явилась одним из поводов к нему.
Любопытно, что, заварив «кронштадтскую кашу», Раскольников тут же удрал из Кронштадта, даже не попытавшись что–нибудь предпринять для разрядки накаленной обстановки. Как трус он вел себя и в дальнейшем. Когда делегаты партийного съезда с маузерами в руках лично вели по льду на кронштадтские форты красноармейцев, Раскольников предпочел наблюдать за развитием событий из Петрограда. Но и здесь Троцкий в очередной раз спас своего любимца, создав вокруг него ореол мученика.
Однако после кровавого подавления Кронштадтского мятежа всем стало наконец–то понятно, что пламенного революционера следует убрать как можно дальше от флота. Поговаривали, что старые матросы хотели его судить матросским самосудом. Именно поэтому «героя» Ревеля и Кронштадта быстренько услали на Каспий. Там летом 1921 года «красный адмирал» Федор Раскольников, выступая в персидской провинции Гилянь (прикаспийский Иран), закончил свою прощальную речь, обращенную к его матросам, «буревестникам революции», с присущей ему патетикой: «Встретимся в Лондоне!» Бедные матросы и не знали, как уже до них «встречался» в Лондоне с сотоварищами со «Спартака» и «Автроила» «красный лорд»!
Долгое время считалось, что в целом удачной десантной операцией в Энзели мы обязаны флотоводческому таланту Феди Раскольникова. Но все объяснялось проще. Никаким талантом, разумеется, Раскольников на Каспии не блеснул. Там было в достатке кадровых флотских офицеров, которые спланировали, организовали и провели эту операцию. Отметим, что после потопления в 1918 году в Новороссийске Черноморского флота Раскольников постоянно возил за собой бывшего старшего лейтенанта Кукеля, бывшего ранее командиром черноморского эсминца «Керчь», весьма способного и толкового офицера. Возил, разумеется, не просто так. Во время Энзелийской операции именно военмор Владимир Андреевич Кукель являлся начштаба Каспийской флотилии. Именно Кукель и руководил операцией, тогда как Раскольников, как всегда, ораторствовал и слал телеграммы о своем новом триумфе.
Помимо всего прочего белогвардейцы в Энзели почти не сопротивлялись. Гражданская война к этому времени подошла к своему концу, и ни о каком продолжении боевых действий не было и речи. Едва красные высадили десант, белые сразу же оставили свои корабли и просто ушли в глубь Ирана. Высадившемуся десанту осталось только посчитать трофеи.
Впрочем, это не помешало Раскольникову раздуть Энзелийский рейд чуть ли не до размеров Трафальгара и всю славу победителя беззастенчиво присвоить себе. Будущий Адмирал Флота Советского Союза И. С. Исаков, бывший в 1920 году на Каспии и имевший возможность видеть Раскольникова, как о флотоводческих талантах, так и о личных качествах «красного лорда» отзывался весьма негативно, считая его абсолютно безграмотным моряком и беспринципным человеком. Думается, все это было очевидно не одному Исакову.
Именно поэтому прямо с Каспия Раскольникова отправили вообще с глаз подальше в неблизкий Афганистан. Разумеется, разобиженный таким отношением к своей особе, Раскольников всеми силами стремится оттуда вырваться. Своему покровителю Льву Троцкому он постоянно напоминает о себе, клянется в преданности, слезно налегая при этом на их общую боевую судьбу и свои былые страдания в Англии: «… Помните наш ночной поход на миноносце под Казанью, когда остановилось сердце корабля и, пришвартовавшись к какой–то барже при свете предательски вышедшей луны, мы должны были приводить в чувство потерявший признаки жизни миноносец? Только позже, попав в плен к англичанам почти в аналогичных условиях из–за порчи жизненных частей корабля и из–за неумения управлять кораблем в боевой обстановке со стороны растерявшегося, отвыкшего от войны комсостава, я понял, какая удивительная случайность, что в 1918 году, в ночь на 30 августа, Вы, Лев Давидович, избежали гибели».
В другом письме Троцкому Раскольников пишет весьма примечательные строки: «Хотел бы узнать о флоте, о его судьбе и перспективах. но в доме повешенного не говорят о веревке». Что и говорить, любил Федор Федорович и флот, и моряков, любил!
Годы спустя Федор Раскольников напишет свою «героическую» биографию, в которой много места уделит и своим морским подвигам. Вот что он написал: «В Октябрьской революции принимал непосредственное участие в боях под Пулковом. После разгрома банд Керенского и Краснова был отправлен во главе отряда моряков на помощь красной Москве. Вскоре был вызван из Москвы и назначен комиссаром морского генерального штаба, затем членом коллегии морского комиссариата и в 1918 года заместителем наркома по морским делам. В июне 1918 года ездил с секретным поручением Совнаркома в Новороссийск для потопления Черноморского флота, чтобы не допустить его стать добычей империалистических держав. В июле 1918 года я был направлен на чехословацкий фронт в качестве члена Реввоенсовета Восточного фронта, а 22 августа состоялось мое назначение командующим Волжской военной флотилии, которая 10 сентября принимала непосредственное участие во взятии Казани, а затем, с ежедневными боями преследуя белогвардейскую флотилию, совершила поход по Каме, причем ей удалось загнать неприятельские суда в реку Белую и заставить их укрыться в Уфе. Освобождение Камы от белогвардейских банд удалось довести выше Сарапула до Гальян, где нас застал начавшийся ледоход, ввиду чего Красной Волжской флотилии пришлось срочно идти на зимовку в Нижний Новгород. После окончания кампании я вернулся в Москву, где в качестве члена Реввоенсовета республики принимал участие в его заседаниях и вместе с покойным Василием Михайловичем Альтфатером руководил морским комиссариатом. В конце декабря 1918 года на миноносце „Спартак“ я отправился в разведку к Ревелю и наткнулся на значительно превосходившую нас английскую эскадру, состоявшую из пяти легких крейсеров, вооруженных шестидюймовой артиллерией. С боем отступая по направлению к Кронштадту, наш миноносец потерпел неожиданную аварию, врезавшись в каменную банку и сломав все лопасти винтов. Таким образом, оказавшись в плену у англичан, я был отвезен ими в Лондон и посажен в Брикстонскую тюрьму. После пятимесячного плена я был освобожден в обмен на 19 английских офицеров, в свое время задержанных в Советской России. Обмен происходил в Белоострове 27 мая 1919 года. Тотчас после возвращения из Англии я был назначен командующим Каспийской флотилии. Вскоре к ней была присоединена вернувшаяся с Камы Волжская флотилия, и объединенные речные и морские силы получили наименование Волжско-Каспийской военной флотилии. Нашим судам приходилось действовать отдельными отрядами на огромном пространстве от Саратова на Волге до Лагани и Ганюшкина — на Каспии. Наиболее горячие бои флотилии пришлось вынести под Царицыном и под Черным Яром.
В обоих случаях суда флотилии подвергались почти ежедневным налетам аэропланов. Однако соединенными действиями Красной армии и Красной флотилии нам удалось отстоять советскую Астрахань, которая, находясь в белогвардейском окружении, висела на одной тонкой нитке железной дороги, соединявшей ее с Саратовом. Наконец в 1920 году занятие форта Александровского с захватом в плен остатков белого уральского казачества и изгнание англичан из Энзели завершили боевую кампанию флотилии. Во время Гражданской войны я был награжден двумя орденами Красного Знамени. В июне 1920 года я был назначен командующим Балтийским флотом. В связи с нашим наступлением на Варшаву Красный Кронштадт во всеоружии готовился принять английских гостей. Но, к огромному разочарованию моряков–балтийцев, Ллойд-Джордж не прислал в кронштадтские воды ни одного английского корабля».
Каков наглец, без боя сдал англичанам два новейших эсминца и сокрушается, что Ллойд-Джорж не прислал больше к Кронштадту еще одной своей эскадры! Тогда бы «красный лорд» уж точно сдал ему последние остатки Балтфлота!
Ну, не получилось у Раскольникова стать пролетарским Нельсоном, но может, из него получился хотя бы пролетарский Талейран? Увы, на дипломатическом поприще бывший «красный лорд» также не стяжал никаких лавров. В Афганистане, как и обычно, Раскольников провалил все, что только было можно, от него уже избавились окончательно. Отныне бывшему «красному лорду» не доверяли уже ничего, кроме редактирования литературных журналов. При этом Раскольников умудрился все же побывать руководителем Главреперткома, где с присущей ему революционной энергией руководил драматургами и театральными режиссерами всего Советского Союза.
Что касается его боевой подруги Ларисы Рейснер, то едва звезда «красного лорда» закатилась, она тоже помахала ему ручкой. Хорошо известно, что Раскольников всецело поддержал «красный террор». У историков есть достаточно веское предположение, что он сыграл далеко не последнюю роль в убийстве поэта Николая Гумилева. Причина? Элементарная зависть литератора–дилетанта к поэту–гению. Кроме этого Лариса Рейснер с юности была влюблена в Гумилева, и Раскольников не мог об этом не знать. Есть мнение, что и бросила Раскольникова «богиня Троцкого» тогда, когда узнала о его причастности к смерти поэта.
Поменяв несколько мужей, «дама–комиссар» прилепилась в конце концов к еще одному известному «интернационалисту» и борцу за мировую революцию — Карлу Радеку. При этом Рейснер передавала через него письма Троцкому, в которых просила «сделать» ей ребенка. Троцкий почему–то отказался осчастливить свою богиню. Наверное, лучше всего Рейснер подходит характеристика, данная А. С. Пушкиным одной из своих знакомых: «То ли бл…дь, то ли московская кузина». Через несколько лет, сделав неудачный аборт (уже от Радека!), Лариса Рейснер умерла. Свою роль декадентки и кровавой революционной валькирии она сыграла до конца… Впрочем, наверное, это было и к лучшему, так как с ее троцкистским прошлым пережить 1937 год шансов у нее не было никаких, а тут хоть похоронили по–человечески.
А спустя еще несколько лет всеми обиженный и забытый Раскольников вымолил у Сталина должность полномочного представителя СССР. Непонятно почему, но обычно всегда подозрительный и непреклонный Сталин проявил на этот раз не свойственную ему мягкотелость и отпустил закоренелого троцкиста в Европу. Первоначально Раскольникова отправили в Эстонию. Впрочем, скоро Сталину пришлось об этом горько пожалеть. Раскольников, поддерживая на словах курс Сталина, на самом деле остался верен идеалам мирового революционного пожара и своему кумиру Троцкому.
Современный биограф Раскольникова, журналист Владимир Урбан, пишет: «В начале 30–х годов Федор Федорович отправляется полпредом СССР в Эстонию. И бывает же совпадение: тогда же в таллинский военный музей передаются медные таблички с эсминцев „Вамбола“ и „Леннук“, проданных уже в Перу. Текст одинаков: „Захвачен в бою у большевиков в декабре 1918 г.“ Правда, в посещении этого музея посол не был замечен. Медные „указатели“ на позор Раскольникова вернулись в музей уже на закате перестройки. Так что я их видел».
Из Эстонии Раскольникова перевели в Болгарию, откуда он неожиданно для всех удрал и вскоре объявился в Париже, где и сочинил небезызвестное антисоветское «Отрытое письмо Сталину». Любопытно, что, гневно перечисляя в «Открытом письме Сталину» все его «прегрешения», Раскольников почему–то забыл упомянуть о деле невинно расстрелянного командующего морскими силами Балтийского моря Алексея Щастного, в деле которого Сталин в свое время отказался принимать участие, зато сам Раскольников был там одним из главных действующих лиц. Кстати, и в воспоминаниях о своих подвигах в годы Гражданской войны («Рассказы мичмана Ильина») бывший «красный лорд» также ни разу не упоминает о своей подлой роли в деле Щастного, как и о своей позорной сдаче совершенно боеспособного корабля противнику. Что ж, память у людей тоже имеет выборочный характер.
В ответ на публикацию письма из Москвы последовало требование вернуться на Родину и уже на месте самому изложить свои претензии. Но не на того напали! Как вспоминал бывший в то время во Франции Илья Эренбург, Раскольников страшно перепугался, «остался в Париже, заболел острым нервным расстройством и полгода спустя умер».
Существует, впрочем, еще несколько версий безвременной кончины бывшего «красного лорда». Так, по утверждению Антонова-Овсеенко (сына), Раскольников «странно умер» в палате для душевнобольных, т.е. намекается, что его залечили французские врачи–вредители. Но Антонову-Овсеенко верить особо нельзя. Во– первых, сын репрессированного троцкиста патологически ненавидел Сталина и был готов приписать ему любые гадости. Да и откуда мог знать Антонов-Овсеенко обстоятельства смерти Раскольникова во Франции, когда сам в это время жил в советском детском доме?
По другой версии, бедолага Раскольников был выброшен агентами НКВД из окна своей квартиры за свое письмо Сталину. Никаких доказательств этому, впрочем, нет, да и надо ли вообще было НКВД заниматься никому не нужным Раскольниковым? Сейчас известны уже все террористические операции НКВД за границей (устранение Троцкого, Мельника и т.п.). Имя Раскольникова там никогда не упоминается. Не та была фигура!
Кто–то утверждает, что бывший «красный лорд» сам выкинулся из окна от горестного известия, что врачи поставили ему диагноз — менингит и пневмонию. Есть версия, что это были вовсе не менингит и пневмония, а сильно запущенный сифилис. Однако на сегодняшний день все же самая распространенная (и, думаю, наиболее близкая к реальности) версия — что ветеран–троцкист выбросился из окна квартиры в Ницце, которую снимал, в приступе душевного расстройства. Мировая революция явно задерживалась, и этого ее ярый пропагандист перенести не мог.
Некогда молодой и амбициозный революционер Ильин взял себе весьма многозначительный партийный псевдоним Раскольников, чтобы переплюнуть неудачника–убийцу Достоевского. Согласимся, что действительно переплюнул! Если на счету литературного персонажа были всего две невинные жертвы, то у его реального последователя их были уже тысячи. Если выдуманный Раскольников осознал содеянное и в конце концов обрел мир в своей душе, то Раскольников реальный до своего последнего часа без устали творил зло, от чего у него и помутился разум. А потому конец этого патологического труса и негодяя вполне закономерен.
В разное время отношение официальных историков к событиям 26 декабря 1918 года было весьма разным, в зависимости от текущей политической конъюнктуры.
К примеру, в конце 30–х годов, когда шла борьба с троцкистами и Раскольников был определен, как один из них (что соответствовало правде!), то виновником сдачи кораблей вполне закономерно назначали его. Вот как выглядело данное обвинение в интерпретации историка революции А. Пухова: «26–27 декабря 1918 г. по указанию иуды Троцкого была произведена авантюристическая, предательская операция с участием так называемого отряда особого назначения Балтфлота. Враг народа Раскольников был назначен Троцким руководителем операции. Прикрываясь „левыми“ фразами „о политическом значении“ операции, авантюристы–троцкисты, используя служебное положение, нанесли Балтийскому флоту значительный ущерб, отдав в руки интервентов два эсминца. Этот отряд особого назначения (крейсер „Олег“ и два эсминца „Спартак“ и „Автроил“) должен был обстрелять Ревель и вызвать „революцию“. На самом дело эта „идея“ заключалась в том, чтобы сдать корабли отряда противнику. „Инициаторам“ и „руководителям“ операции было известно о присутствии в районе Ревеля крупных сил английского флота. План операции тщательно скрывался предателями. Конспирация была необходима троцкистам для осуществления своих преступных намерений. В результате вышедшие разновременно и не связанные друг с другом эсминцы „Спартак“ и „Автроил“ были окружены английской эскадрой и взяты в плен, а крейсер „Олег“, не имея сведений о действиях эсминцев, возвратился в Кронштадт. Так из–за предательства троцкистов были сданы врагу наши эсминцы. Значительная часть революционеров–моряков с плененных эсминцев была зверски замучена и расстреляна на острове Нарген. Эта потеря заставила балтийцев напрячь силы, чтобы ввести в строй новые корабли и привести флот в боеспособное состояние».
Если отбросить в сторону свойственную тому времени риторику, то следует отметить, что в целом оценка ситуации дана достаточно близко к реальности. Вполне обоснованно названы и главные действующие лица трагедии, ее организаторы, вдохновители и руководители.
Во времена хрущевской оттепели Раскольников снова в одночасье стал положительным персонажем отечественной истории. Никита Сергеевич Хрущев (который в молодости тоже был активным троцкистом и остался таковым до своей кончины) считал Раскольникова настоящим интернационалистом–ленинцем, а «Открытое письмо Сталину», подкинутое из города Парижа — великим революционным подвигом. Мгновенно прилавки книжных магазинов заполонили опусы о подвигах видного ленинца. Разумеется, что в тогдашних исторических трудах вся история со сдачей эсминцев сразу же была отнесена к разряду «форс–мажорных», когда стечение обстоятельств на море оказалось таково, что от конкретного человека уже ничего не зависело. Из «иуды и авантюриста»
Раскольников снова становится героем революции. Теперь все объяснялось так: храбрец был послан во главе отряда кораблей на разведку под Ревель, а когда эсминец «Спартак», на котором он находился, случайно потерпел аварию, попал в окружение английских крейсеров, он вынужден был, спасая жизни своих боевых товарищей, отдаться в руки злодеев–интервентов. В общем, герою просто не повезло!
В годы брежневского застоя о Раскольникове в научных трудах предпочитали больше помалкивать, когда же этого не получалось, то его лишь слегка журили за «излишнюю храбрость» — мол, был молод, а потому и не в меру дерзок! Ну, с кем не бывает!
В годы перестройки Раскольников был снова (уже в третий раз!) объявлен не просто истинным ленинцем, а чуть ли ни национальным героем и, прежде всего, за свое все то же пресловутое «Открытое письмо Сталину». Нимб жертвы сталинского произвола засиял над ним в конце 80–х годов XX века еще ярче, чем когда бы то ни было прежде. Что касается дела о сдаче двух эсминцев, то оно сразу же начало подаваться как беззаветное геройство Раскольникова на фоне вероломного предательства антисоветски настроенных негодяев–офицеров.
После распада СССР тон высказываний о деятельности Раскольникова снова начал меняться на более взвешенный и объективный, чем был раньше. Однако до сих пор единой оценки происшедшему в декабре 1918 года на Балтике все еще не существует.
Долгие годы нам пытались рассказывать о подвигах Раскольникова, живописуя его походы по Волге и Энзелийскую операцию, «забывая» при этом почему–то отметить самую пагубную роль «красного лорда» в деле убийства капитана 1–го ранга Алексея Щастного, в затоплении у Новороссийска кораблей Черноморского флота, в провоцировании Кронштадского мятежа в феврале 1921 года и, наконец, в преступной сдаче англичанам двух новейших эсминцев. Сегодня мы знаем и то, что его походы по Волге были, прежде всего, хорошо организованной пиар–компанией, что в Энзелийской операции Раскольников просто беззастенчиво приписал себе чужие лавры. Так что же получилось на выходе из всей бурной «флотоводческой» деятельности нашего героя? А ничего, кроме вреда государству, да и самой революции, и не получилось!
Когда–то сам Раскольников, раскручивая механизм красного террора, заявлял, что «каждый по справедливости получает то, что он заслужил своей ролью в революции и контрреволюции». Что ж, в этом он оказался прав, так как сам в конце концов получил от революции именно то, что заслужил…
Годы и судьбы
А как сложилась судьба захваченных англичанами эсминцев? Если бы что–нибудь подобное случилось в годы Первой мировой войны, можно не сомневаться, что англичане незамедлительно включили бы новейшие «новики» в состав своего флота. Но мировая война уже закончилась, и пополнять флот им было уже незачем. Поэтому «Спартак» и «Автроил» англичане отвели в Ревель и там передали эстонцам. Первый получил наименование «Леннук», а второй — «Вамбола». Правда, позже выяснилось, что независимой Эстонии совсем не по карману содержать такие серьезные корабли, как «новики». Именно поэтому в 1933 году их продали Перу. Там «Леннук» в третий раз переименовали, на этот раз в «Альмиранте Гуисе», а «Вамбо» (уже в четвертый!) — в «Альмиранте Виллар». Под этими своими последними именами они вполне благополучно прослужили латиноамериканской республике до конца 50–х годов XX века.
Все начальствующие лица, имевшие хоть какое отношение к «делу двух эсминцев», получили свое, причем далеко не всегда по реальным заслугам.
После окончания работы следственной комиссии главным виновником ревельской драмы Троцкий назначил контр–адмирала Зарубаева, хотя чрезвычайная комиссия РВСР однозначно указала на грубые промахи Раскольникова и Альтфатера, а к Зарубаеву у нее никаких претензий не было. Но что это значило для всемогущего «демона революции»! По указанию Троцкого Зарубаев смещается с поста начальника Морских сил Балтийского моря. В 1921 году Зарубаев был взят под арест, обличен как тайный контрреволюционер, передавший врагу два новейших корабля, и расстрелян.
Что касается Альтфатера, то история со «Спартаком» и «Автроилом» вылилась для него в сильнейший инфаркт. После этого Альтфатер уже не оправился и в апреле 1919 года скончался от очередного сердечного приступа.
Всего в результате захвата двух кораблей в плен к эстонцам попало около трехсот матросов (данные разнятся) и 18 офицеров. Уже 6 января 1919 года бывший «Автроил» поддержал огнем эстонские части, сражавшиеся с Красной армией. Спустя некоторое время после ремонта к нему присоединился «Вамбола» — до недавнего времени «Спартак».
Что касается судьбы членов команд двух эсминцев, то она сложилась по–разному. После пленения остались на прежних должностях командиры эсминцев Павлинов и Николаев. Оба без особых раздумий перешли на службу новым хозяевам.
Вслед за командирами вызвались продолжать службу на своих кораблях, но уже под эстонским флагом, и почти все офицеры. Вместе с ними вызвалась служить эстонцам и машинная команда эсминца «Автроил» в количестве 35 человек. Всех их оставили на своих должностях.
Остальных моряков захваченных кораблей, сохранивших верность флагу, постигла трагическая судьба. Уже спустя несколько дней после пленения 94 моряка со «Спартака» и 146 матросов с «Автроила», отказавшиеся служить врагам, были отправлены в концентрационный лагерь на остров Нарген. За них ходатайствовать перед англичанами было некому. Ставшие никому не нужными, они были теперь предоставлены своей собственной судьбе.
Журнал «Морской сборник» в 1919 году писал: «…Бежавшие из плена моряки–балтийцы команды эскадренных миноносцев „Спартак“ и „Автроил“ передают о зверствах эстонских белогвардейцев, проявленные по отношению к нашим пленным морякам. Так, 3 февраля сего года ими была расстреляна первая партия матросов со „Спартака“. Расстрелу подверглись коммунисты и не коммунисты. Казнь происходила на глазах других матросов в 20 шагах от землянок — жилья пленников на острове Нарген. Появились десятки низкорослых типов в касках с наушниками, с лицами, покрытыми белыми масками. Они отводили обреченных в сторону и почти в упор производили расстрел. Затем появлялся доктор, щупал пульс, свидетельствовал смерть, и трупы оставлялись лежать дня два. Потом рыли ямы, в которые и сбрасывали расстрелянных, рассказывали бежавшие.
В числе расстрелянных 3 февраля 15 человек спартаковцев были матросы: Блуман, Жаринов, Никитин, Кансил и комиссар „Спартака“ Павлов. В отличие от своего коллеги Ныника, Павлов не был троцкистом, а потому заступиться за него было некому.
4 февраля были расстреляны еще 12 матросов–коммунистов с „Автроила“. 5 февраля расстреляны еще трое матросов: двое за побег, а третий за хранение револьвера.
Вот фамилии расстрелянных 4 и 5 февраля автроильцев: Алексеев Арсений, Богомолов Михаил, Комаров Михаил, Рукавишников Алексей, Красотин, Золотин Петр, Ревягин Дмитрий, Молчанов, Авенев, Трепалов, Винник Иван, Лубинец, Ларионов Михаил, Нутров Константин и Спиридонов.
Краснофлотец Спиридонов не был коммунистом, он был рядовым сигнальщиком. А убили его только за то, что, несмотря на активные протесты старшего офицера Омельяновича, он перед сдачею в плен выбросил в море сигнальную книгу».
В 1963 году свои воспоминания опубликовал, наверное, один из последних оставшихся в живых «спартаковцев» бывший машинист Иван Михальков: «Нас свезли всех на остров Нарген и бросили в холодные землянки, мрачные, темные помещения без света. Нары без матрасов, сырость. Особенно ужасно был устроен карцер — железный погреб, заваленный сверху каменьями. Ледник–душегубка. В конце января 19–го года нас, моряков эсминца „Спартак“, вывели из бараков и построили в один ряд. Комендант лагеря Магер объявил, чтобы все коммунисты вышли на два шага вперед, иначе расстреляют всех. Комиссар В. Павлов вышел первым. За ним — еще пятнадцать человек команды. Третьего февраля из Таллина прибыл на остров карательный отряд с пулеметами. Комендант объявил, что коммунистов „Спартака“ отправляют на суд в город. Но все поняли, что это значит на самом деле. Твердым шагом, с гордо поднятой головой шестнадцать моряков направились в свой последний путь. Они шли к выходу за проволочное заграждение. Первым шагал комиссар Павлов. Лежал чистый нетронутый снег. Казалось невероятным, что вот сейчас, через минуту, он побагровеет от крови, которая еще пока течет в жилах товарищей. Шли спокойно, держась за руки. Комиссар Павлов запел во весь голос: „Мы жертвою пали в борьбе роковой“. Все моряки, шедшие на смерть, подхватили песню прощания. Она звучала недолго. Затрещали пулеметы. На другой день расстреляли коммунистов с „Автроила“».
Пока преданные делу революции матросы «Спартака» и «Автроила» подвергались издевательствам белоэстонцев, член Реввоенсовета Республики Федор Раскольников и комиссар «Автроила» Яков Ныник жили в одной из фешенебельных лондонских гостиниц, коротая дождливые вечера в местных театрах и кабаках.
27 мая 1919 года Раскольников и Ныник были обменены на границе с Финляндией на 17 английских офицеров, взятых в плен на территории РСФСР. По другим данным, англичан было 19. Вот как оценил крайне необходимого делу революции «красного лорда» Лев Троцкий. На родине Раскольникова встретили как героя. Никто даже не посмел заикнуться о какой–либо его вине за потерю двух новейших эсминцев и гибель десятков людей.
Только после заключения 2 февраля 1920 года в Юрьеве мирного договора между Советской Россией и Эстонией возвратились на Родину оставшиеся к тому времени в живых члены экипажей эсминцев «Спартак» и «Автроил».
В декабре 1940 года для увековечения памяти военных моряков эсминцев «Спартак» и «Автроил» останки расстрелянных моряков перевезли с острова Нарген на материк, где перезахоронили с почестями и поставили памятник.
22 декабря 1940 года под звуки траурного салюта кораблей Балтийского флота кумачовые гробы с прахом спартаковцев были доставлены на военном корабле с Наргена в Таллин. Траурная процессия под протяжные гудки фабрик и паровозов, сирены судов проследовала на Военное кладбище. Там находится могила русских матросов и доныне.
В 90–х годах XX века в Эстонии появились заметки, что эстонцы наших матросов и пальцем не трогали. Эти высказывания основываются на некоем слухе, утверждающем, что когда Эстонию в 1941 году захватили немцы, то могилы расстрелянных краснофлотцев были якобы ими эксгумированы и в гробах немцы обнаружили лишь песок. В данное «утверждение» я, честно говоря, абсолютно не верю. Во–первых, не существует никакого документального акта вскрытия братского захоронения на острове Нарген, а слухи — они и есть слухи. Во–вторых, не думаю, что немцам в 1941 году вообще было какое–то дело до событий 1918 года, к которым они не имели никакого отношения. Забот тогда у них и своих хватало. Наконец, в–третьих, имеются неопровержимые свидетельства очевидцев зверских расправ эстонцев над нашими моряками и конкретные фамилии погибших моряков. Поэтому «утку» о песке в гробах следует отнести к одному из многочисленных фактов истерической и лживой антисоветской кампании, не утихающей в странах Балтии и по сегодняшний день.
Помощника Раскольникова по оперативной части бывшего старшего лейтенанта Николая Струйского англичане арестовали, но держали отдельно от матросов и особенно не притесняли, а затем и вовсе отпустили. Сам Н.Н. Струйский, согласно архивной справке, в 1926 году излагал историю своих взаимоотношений с Ф. Ф. Раскольниковым так. Летом 1918 года он занимался подготовкой акции части кораблей Балтийского флота из Петрограда на восток, чтобы иметь возможность, при появлении необходимости, провести эсминцы через перекаты на Волгу. В начале сентября 1918 года он был вызван на Волжскую флотилию Раскольниковым и его флаг–секретарем В. Н. Варваци, с которым Струйский в 1917 году служил на линкоре «Гангут». На месте Раскольников предложил Струйскому возглавить Волжско-Камскую флотилию, но тот отказался, прекрасно понимая, что ему, как бывшему офицеру, не удастся так эффективно мобилизовать и повести за собой личный состав, как это получалось у пламенного большевика. В итоге Н. Н. Струйский стал начальником оперативного отдела флотилии и разрабатывал операции. Вместе с командующим он участвовал в прорыве в Сарапул, спасении знаменитой «баржи смерти» и т.д. В середине ноября, когда на реке встал лед, его отозвали на Балтику исполнять обязанности главного штурмана флота. Был неожиданно направлен в Кронштадт, прибыл на эсминец «Спартак» утром в день выхода, о цели похода и обстановке на море не имел четких представлений. После обнаружения английских крейсеров дал совет идти не к острову Гогланд, где ожидал крейсер «Олег», а выбрать более короткий путь — в финские шхеры, куда англичане не посмели бы сунуться. Пока штурман брал пеленги, помогал ему с картой. В это время был контужен газами от выстрела носового орудия, карта при этом была уничтожена, а он впал в полубессознательное состояние. Полагал, что офицерам в Ревеле о его деятельности на Волге не было известно. Воевать Струйский больше ни с кем не собирался и остался жить на территории Эстонии. После подписания мирного договора с Эстонией в августе 1920 года он вернулся «из плена» в РСФСР, где продолжил службу на Балтийском флоте. В 30–х годах был уволен, а затем в 1937 году репрессирован. Дальнейшая его судьба неизвестна, однако, скорее всего, он был расстрелян.
Командир «Спартака», бывший старший лейтенант Николай Павлинов 4–й, уже на следующий день после сдачи в плен вновь надел погоны и… остался командиром своего же корабля, а еще через три дня с успехом обстреливал позиции Красной армии. Затем Павлинов служил в Северо—Западной армии Юденича, воевал в составе Морского дивизиона бронепоездов, некоторый период исполнял обязанности председателя военно–полевого суда в Ямбурге. После окончания Гражданской войны остался жить в Таллине. Работал электромонтером на фанерно–мебельной фабрике Лютера, состоял в кассе взаимопомощи русских моряков. Однако в среде белоэмигрантов авторитетом не пользовался, хотя доказывал всем, что это именно благодаря его измене удалось сдать эсминец англичанам. К офицерам, хотя бы некоторое время служившим красным, белая эмиграция относилась с недоверием. Говорят, его даже вызывали на суд офицерской чести за службу большевикам. В 1940 году с установлением советской власти в Эстонии Павлинов был арестован органами НКВД, а 9 мая следующего года военным трибуналом войск НКВД Особого Прибалтийского округа приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение на следующий день после нападения Германии на СССР.
Командир «Автроила» Николаев после сдачи эсминца воевал в рядах Северо—Западной армии в танковом батальоне. В начале 1920 года был назначен старшим офицером посыльного судна «Китобой», на котором совершил знаменитый переход из Ревеля в Севастополь, а потом оттуда в Константинополь и Бизерту. В эмиграции жил во Франции, состоял членом парижского Морского собрания. Скончался в 1952 году и похоронен на кладбище Сент–Женевьев–де–Буа.
Артиллерийский офицер «Автроила» лейтенант Петров состоял в морских силах Северо—Западной армии, затем был артиллерийским офицером посыльного судна «Китобой», на котором, как и Николаев, совершил переход в Севастополь, а затем в Бизерту. Там Петров временно исполнял обязанность командира судна. Затем жил в Париже, состоял членом парижского Морского собрания. Скончался в 1953 году.
Командовавший «Спартаком» после его переименования в «Леннук» старший лейтенант Георгий Вейгелин впоследствии воевал в Северо-Западной армии, где командовал танковым батальоном. После Гражданской войны остался в Эстонии. С 1939 года в Германии. Погиб в 1945 году, воюя против Красной армии в рядах фольксштурма на польском побережье. Служивший вместе с ним минным офицером «Леннука» старший лейтенант Александр Левицкий впоследствии воевал в Северо-Западной армии. В эмиграции жил в Эстонии. В 1941 году был арестован органами НКВД и расстрелян.
Мичман Оскар Фест, опознавший Раскольникова при пленении «Спартака», весной 1919 года был назначен артиллерийским офицером Чудского озерного дивизиона канонерских лодок Белого флота. Впоследствии по собственному желанию он перешел в Северо-Западную армию генерала Юденича. За боевую деятельность в период второго наступления на Петроград Фест был удостоен ордена Святого Владимира 4–й степени с мечами и бантом. С окончанием военных действий до декабря 1920 года он оставался в Таллине, а затем выехал через Францию в Марокко. В конце 20–х годов Фест состоял на службе в одной из грузовых контор в Касабланке. В 1967 году он был еще жив. Дальнейшая судьба неизвестна.
Происшедшее со «Спартаком» и «Автроилом», разумеется, далеко не самая славная страница в истории нашего флота. Однако в ней наряду с трусостью и предательством одних был проявлен настоящий героизм другими. К счастью, последних оказалось намного больше. Согласитесь, что погибшие от пуль эстонцев моряки–балтийцы не заслуживают забвения.
Нравится нам или нет, но все описанное выше имело место в нашей истории. И потому мы обязаны знать и помнить свое прошлое именно таким, каким оно было в действительности, помнить его во имя нашего сегодня и завтра.
Вкладка
Русский линейный корабль «Азов» на якорной стоянке на рейде Эльсинора. Художник К. Эккерсберг
Наваринское сражение 1827 г. (слева — «Азов» атакует турецкий корабль). Гравюра XIX в.
Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 г. Художник И.К. Айвазовский
Император Александр III, Мария Федоровна и наследник Николай Алексанрович. Неизвестный художник
Крейсер «Память Азова» и «Владимир Мономах» в Суэнре. 1890 г.
На палубе крейсера «Память Азова»
«Память Азова» у берегов Японии
Цесаревич Николай Александрович во время пребывания в Нагасаки
Крейсер «Память Азова» в 1902 году
Драгоценная шкатулка работы Фаберже в виде расколотого яйца, внутрь которого вложена миниатюрная копия корабля «Память Азова»
Затопленный учебный корабль «Память Азова»
Учебное судно «Двина»
Минный крейсер «Абрек»
Минный крейсер «Воевода»
Крейсер «Рында»
Матросы крейсера «Рында»
Эскадренный броненосец «Слава»
На палубе эскадренный броненосца «Слава»
Минный крейсер «Амурец»
Минный крейсер «Уссуриец»
Минный крейсер «Финн»
Минный крейсер «Эмир Бухарский»
Подводная лодка «Пантера»
Подводная лодка «Тур»
Эсминец «Капитан 1-го ранга Миклухо-Маклай»
Эсминец «Автроил»
Лариса Михайловна Рейснер 1 (13) мая 1895, Люблин — 9 февраля 1926, Москва) — революционерка, участница гражданской войны в России, журналистка, советская писательница
Фёдор Фёдорович Раско́льников (настоящая фамилия — Ильи́н) (28 января 1892, Санкт-Петербург — 12 сентября 1939, Ницца, Франция) — советский военный и государственный деятель, дипломат, писатель и журналист. Невозвращенец.
Лев Давидович Троцкий (настоящая фамилия Бронштейн) (1879–1940) — российский и международный политический деятель, публицист, мыслитель.
Азеф Евно Фишелевич (1869–1918). Известный провокатор.
Копирайт
Автор: Владимир Шигин
Издательство: Вече
ISBN: 978–5–358–01181–6
Год: 2012
Страниц: 368
©Шигин В. В., 2012
©ООО «Издательский дом „Вече“», 2012
1
Так на флоте называют начальника Морских сил (прим. редактора)
(обратно)


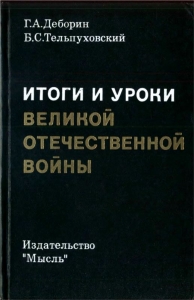




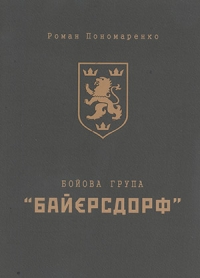

Комментарии к книге «Дело «Памяти Азова»», Владимир Виленович Шигин
Всего 0 комментариев