Василий Молодяков ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: война, которой могло не быть
Границы государств перед Первой мировой войной
Так и земные племена Не чуют пушечных раскатов, Когда в портфелях дипломатов Уже объявлена война. Марк ТарловскийПРОЛОГ
Человечество опять переживает период потрясений и кризисов, который грозит обернуться глобальным «Смутным временем». На наших глазах на планете меняются векторы силы и возникают новые центры политической и экономической мощи, амбициозные и порой агрессивные. Двуполярный в эпоху «холодной войны», а затем однополярный мир превращается в многополярный и чреват нестабильностью. Аналитики с тревогой отмечают, что самые проблемные регионы земного шара становятся источником напряжённости далеко не в первый раз.
Выдающемуся русскому историку Василию Ключевскому приписывают афоризм: «История ничему не учит, но больно наказывает за её незнание». История ничему не учит, потому что никогда не повторяется в точности, но наказывает тех, кто, не помня событий прошлого, наступает на те же «грабли» — будь то вожди или целые народы. XX век преподал человечеству немало трагических уроков, но уже первые годы XXI столетия показывают, что проблема «граблей истории» остаётся актуальной. Перед лицом новых вызовов следует научиться хотя бы не наступать на старые «грабли».
Первую мировую войну 1914—1918 гг. на протяжении четверти века называли просто «мировой», надеясь, что она же будет и последней. Сразу после её начала Валерий Брюсов писал:
Покрыв столицы и деревни, Взвились, бушуя, знамена. По пажитям Европы древней Идёт последняя война… Пусть рушатся былые своды, Пусть с гулом падают столбы — Началом мира и свободы Да будет страшный год борьбы!Валерий Яковлевич обладал не только поэтическим, но и политическим даром. Однако он ошибся: война не только не стала «началом мира и свободы», но открыла собой эпоху мировых конфликтов. С неё, по верному, но гораздо более позднему замечанию Анны Ахматовой, «начинался не календарный — настоящий двадцатый век». Впрочем, ошибся не только Брюсов — последствий случившегося тогда не предвидел никто.
О причинах и происхождении Первой мировой войны написано много, однако уроки этого — применительно к опыту каждой страны — не осознаны в полной мере. Ни одна из конфликтующих сторон не признавала свою ответственность, перекладывая её на плечи противников, а порой и союзников. С окончанием войны победители объявили виновниками побеждённых, записав в статье 231 Версальского «мирного» договора: «Союзные и Объединившиеся Правительства заявляют, а Германия признаёт, что Германия и её союзники ответственны за причинение всех потерь и всех убытков, понесённых Союзными и Объединившимися Правительствами и их гражданами вследствие войны, которая была им навязана нападением Германии и её союзников».
Правительство республиканской Германии отказывалось подписывать кабальный договор (подробно речь о нём пойдёт в следующей книге нашей серии), но было вынуждено пойти на это под угрозой голодной смерти едва ли не всего населения в результате блокады — победители дали понять, что не остановятся ни перед чем. Аналогичные положения были внесены в тексты договоров с другими Центральными Державами, как называли блок Германии, Австро-Венгрии и Болгарии. Ему предшествовал Тройственный союз монархов Берлина, Вены и Рима, но Италия с началом мировой войны отказалась поддержать союзников, а затем перешла во враждебный лагерь Тройственного согласия (Англия, Франция, Россия), именовавшегося также «Антантой» (от франц. entente — согласие).
Версия победителей вошла в официальные документы и справочные издания, школьные программы и университетские курсы, но оказалась недолговечной. После революций 1917—1918 гг. в России, Германии и Австро-Венгрии новые, социалистические правительства поспешили предать гласности как можно больше секретных документов, чтобы свалить вину на предшественников — свергнутые династии Романовых, Гогенцоллернов и Габсбургов. Эффект оказался намного сильнее, чем они думали: выяснилось, что творцы Версальского «мира», в первую очередь Франция и Англия, а также «жертвы агрессии», включая Сербию, не только не безгрешны, но несут большую ответственность за начало мировой бойни. В развязывании войны виновны все главные фигуранты — каждый по-своему.
За «версальским» тезисом об исключительной ответственности Берлина и Вены стояли государственная власть и пропагандистская машина победителей, а также необходимость побеждённых считаться с новыми реалиями. За историками «без чинов», которые назвали себя «ревизионистами» (дальше я употребляю этот термин без кавычек), — извлеченные из архивов документы, твёрдо установленные факты, здравый смысл и жажда справедливости. Тон задали немцы, что вполне объяснимо, и американцы, задумавшиеся, чего ради их страна в 1917 г. вмешалась в «европейскую войну». Исследования Фридриха Штиве и Макса Монжела, Альфреда фон Вегерера и Германа Лютца, Сиднея Фея и Гарри Барнеса в 1920-е гг. спровоцировали невиданную в мировой историографии дискуссию. В неё вмешались не только учёные, но генералы, политики и дипломаты — прежде всего, сами участники событий, поспешившие приняться за мемуары, — журналисты и педагоги, любители сенсаций, искатели славы и сумасшедшие. Аргументацию ревизионистов развили и дополнили французы Альфред Фабр-Люс, Альчид Эбрей и Жорж Демартьяль, русские Михаил Покровский и Николай Полетика, эмигрировавший в США англичанин Френсис Нейлсон. Дольше всех «держались» британцы, но в первой половине 1930-х гг. точка зрения ревизионистов возобладала во всём мире. Говорить об исключительной ответственности Германии и невиновности её противников стало как-то неудобно.
Ситуация начала меняться к концу 1930-х гг., когда нацистский Третий рейх встал на путь активной ревизии версальской системы, прибегая не только к угрозе силы, но и к её применению. Начало новой войны в Европе в сентябре 1939 г. вызвало к жизни очередную дуэль пропагандистов и дипломатов по вопросу о том, кто виноват в случившемся. Побочным эффектом дискуссий о причинах Второй мировой войны стал пересмотр точки зрения на происхождение Первой мировой. После 1945 г. на Германию и её союзников возложили всю ответственность за Вторую мировую, а заодно и за Первую. Спорить с этим — по причинам сугубо политическим — стало намного труднее, чем в 1920-е гг. На презумпции виновности Германии основаны даже лучшие работы советских историков и их учеников уже в наши дни.
Приближающееся столетие начала Первой мировой войны побуждает нас снова обратиться к её причинам и урокам, отказавшись от навязанных идеологических схем и пропагандистских догм, не говоря уже о прямых фальсификациях. Надо обратиться к документам и фактам, которых достаточно для того, чтобы беспристрастно разобраться в случившемся.
Документы далёкого времени говорят сами за себя, поэтому в книге будет много цитат. Писатель и учёный Юрий Тынянов скептически заметил, что «документы порой врут, как люди», имея в виду, что письма и дневники могут оказаться столь же недостоверными, как и позднейшие мемуары. Помня об этом предостережении, я, подобно большинству историков, отдаю предпочтение непосредственным свидетельствам эпохи и результатам исследований учёных и почти не использую мемуары участников событий. Всем им приходилось оправдываться слишком во многом. Переиздания этих книг в изобилии стоят на полках магазинов и библиотек, а серьёзных, не ангажированных и в то же время рассчитанных на широкого читателя исследований по данной тематике почти нет.
Автор лучших отечественных работ о возникновении Первой мировой войны Николай Полетика, имя которого будет постоянно встречаться на этих страницах, разъяснил в предисловии к одной из своих книг: «Под часто встречающимися выражениями «Германия», «Франция», «Англия» и т.д. следует понимать германский империализм, французский империализм и т. д., под выражениями «Вена», «Берлин», «Париж», «Лондон», «Петербург» и т. д. — правящие круги австро-венгерского, германского, французского и т. д. империализма или же австро-венгерское, германское, французское, английское и т. д. правительства». Не пряча правящие круги царской России за вынужденным в прошлые времена «и т. д.», я следую примеру Полетики и прошу читателей помнить об этом.
Именно пример Первой мировой войны, которую развязала горстка людей, обладавших почти неограниченной властью, показывает, что, говоря о вине или ответственности Германии или Франции, России или Англии, мы имеем в виду не страны и тем более не народы, которым не нужна братоубийственная бойня, но только их правящие круги. С них и спрос. Возможность войны определяется сложной совокупностью политических, экономических, социальных и даже культурных процессов. Неизбежной её делают конкретные люди, которых в данном случае можно перечислить практически поимённо.
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Сербия: драма национализма
Действующие лица в Белграде и Сараево:
→ Король Пётр I Карагеоргиевич
→ Принц-регент Александр
→ Премьер-министр и министр иностранных дел Никола Пашич
→ Генеральный секретарь МИД Славко Груич
→ Начальник разведки генштаба полковник Драгугин Димитриевич
→ Министр просвещения Люба Иованович
→ Российский посланник Николай Гартвиг
→ Российский поверенный в делах Василий Штрандтман
→ Российский военный агент (атташе) полковник Василий Артамонов
→ Австрийский посланник барон Владимир Гизль
→ Военный губернатор Боснии и Герцеговины генерал Оскар Потиорек
→ Заговорщики: Милан Циганович, Войя Танкосич, Владимир Гачинович, Гаврило Принцип и др.
* * *
«Убили, значит, Фердинанда-то нашего, — сказала Швейку его служанка». Этой фразой начинается бессмертный роман Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». Швейк, чешский подданный Австро-Венгерской империи, попытался отшутиться, что, дескать, обоих его знакомых Фердинандов ни чуточки не жалко.
«— Нет, эрцгерцога Фердинанда, сударь, убили. Того, что жил в Конопиште, того толстого, набожного…
— Иисус Мария! — вскричал Швейк. — Вот-те на! А где это с господином эрцгерцогом приключилось?
Исполняющий обязанности главы дипломатической миссии отсутствие посла или посланника.
— В Сараеве его укокошили, сударь. Из револьвера. Ехал он со своей эрцгерцогиней в автомобиле…
— Скажите на милость, в автомобиле! Конечно, такой барин может себе это позволить. А наверно, и не подумал, что автомобильные поездки могут так плохо кончиться. Да ещё в Сараеве! Сараево это в Боснии… А подстроили это, видать, турки. Нечего нам было отнимать у них Боснию и Герцеговину».
За легкомысленным разговором скрывался факт исключительного, как оказалось, значения. 28 июня 1914 г.[1] в городе Сараево, столице австро-венгерской провинции Босния, гимназист Гаврило Принцип, серб по национальности (тут Швейк ошибся!), имевший австрийское подданство, застрелил эрцгерцога (наследника престола) Франца-Фердинанда, племянника императора Франца-Иосифа I, и его жену герцогиню Гогенберг (урождённая графиня София Хотек). Убийца и его сообщники были сразу же схвачены полицией, которая с трудом предотвратила расправу толпы над ними. Историю Первой мировой войны принято начинать с этого дня.
Для последней четверти XIX и начала XX в. убийства коронованных особ, глав государств и правительств революционерами-террористами не были редкостью. В 1881 г. от их рук пал российский император Александр II, в 1894 г. — французский президент Сади Карно, в 1898 г. — австрийская императрица Елизавета (жена Франца-Иосифа), в 1900 г. — итальянский король Умберто I, в 1911 г. — российский премьер Пётр Столыпин. Однако за сараевским убийством виделась международная интрига, которая сразу сделала его из ряда вон выходящим событием.
Летом 1913 г. все ведущие газеты мира отмечали 25-летие пребывания на престоле кайзера Вильгельма II. Та самая пресса, которая через год стала называть его «поджигателем войны», «кровавым тираном» и «антихристом», прославляла германского императора как мудрого и просвещённого правителя, поборника мира и гаранта спокойствия в Европе. Журналисты писали, что Старый Свет четверть века живёт без войн благодаря политике кайзера: когда надо — решительной, когда надо — взвешенной и осторожной. Действительно, после франко-прусской войны 1870—1871 гг., закончившейся провозглашением Германской империи и тяжёлым для побеждённой Франции Франкфуртским договором, державы Европы не вели междоусобных войн.
Исключение составлял Балканский полуостров, но его страны занимали обособленное положение в европейской Большой Политике, выступая в качестве её объекта, а не субъекта. «Между восточными и западными делами всегда проходила демаркационная линия», — охарактеризовал эту ситуацию французский политолог Альфред Фабр-Люс. Балканы стали ареной борьбы мусульманской Османской империи, которую ещё российский император Николай I назвал «больным человеком Европы», православной России, выступавшей в качестве защитницы «порабощенного славянства», и католической Австрии, которая первой, в начале XVIII в., пришла на помощь сербам, однако славяне в державе Габсбургов считались гражданами второго сорта.
В результате поражения Турции в войне с Россией 1877—1878 гг. Сербия из автономии в составе Османской империи (с 1815 г.) превратилась в независимое королевство, Болгария получила автономию и статус княжества, Австрия оккупировала провинции Босния и Герцеговина, населённые в основном славянами. Территориальные приобретения сделали Россия (Каре, Ардаган, Эрзерум и Батум), Англия (остров Крит), Черногория, добившаяся освобождения от османского ига ещё в конце XVIII в., и Румыния, появившаяся на карте Европы в 1859 г. как Объединенное княжество Молдавии и Валахии.
Россия «призвала балканские народы к самостоятельному политическому существованию», как изысканно выразился министр иностранных дел Сергей Сазонов, однако её влияние в регионе было небезусловным. Первым князем Болгарии стал германский принц Александр Баттенберг, племянник российской императрицы Марии Александровны, жены Александра И. Однако его правление, ознаменованное схваткой Петербурга, Вены и Берлина за влияние в Софии, закончилось водворением в 1887 г. на престоле немецкой династии Саксен-Кобург-Гота при доминировании антирусской партии революционного националиста Стефана Стамболова. Со временем русско-болгарские отношения нормализовались, но София осталась союзницей Берлина. Болгария претендовала на гегемонию на Балканах в качестве главного наследника слабеющей Турции, в чём её интересы постоянно сталкивались с сербскими, порождая бесконечные конфликты и войны.
На сербском престоле водворилась династия Обреновичей, проводившая проавстрийскую политику. Отношение Вены к Белграду в эти годы Николай Полетика удачно назвал «политикой золотой клетки». То, как это произошло и что за этим последовало, показал американский историк Сидней Фей:
«Несчастьем для сербского народа было то, что в начале движения за национальную независимость, в дни Наполеона, у него оказались не один, а два национальных вождя. Вместо одного сильного человека, руководящего движением и образованием прочной династии, оказалось два соперника — Кара Георгий (известный в России как Георгий Чёрный. — В. М.) и Милош Обренович. Со времени убийства первого в интересах второго в 1817 г. несчастная страна страдала от вражды этих соперничающих семейств, сопровождавшейся рядом дворцовых переворотов и насильственных смен династий. Эта вражда достигла своего апогея в 1903 г. Ночью 11 июня группа заговорщиков, состоявшая главным образом из офицеров сербской армии, ворвалась в королевский дворец в Белграде, вытащила короля Александра Обреновича и его не пользовавшуюся симпатиями народа жену из места, где они укрылись, и зверски убила их. Белград ликовал; колокола церквей звонили; город расцветился флагами, и законодательное собрание единодушно благодарило убийц за их дело. Пётр Карагеоргиевич, внук человека, убитого почти век тому назад, не принимавший непосредственного участия в заговоре, извлёк выгоду из этого события и занял престол под именем Петра I. Это отвратительное преступление и милости, оказанные виновникам era, задели чувства благопристойности коронованных особ Европы. Большинство из них вскоре отозвало своих представителей из Белграда в знак неодобрения».
Александр Обренович
«Об этом заговоре знали одинаково и в Вене, и в Петербурге и дали ему совершиться, — констатировал Полетика в 1929 г. в книге «Сараевское убийство». — Почему? Австро-Венгрия — потому что король Александр Обренович своим произволом и угодничеством перед Австрией настолько скомпрометировал себя в политических кругах Белграда и среди офицерства, что дальнейшее пребывание его на троне как австрийского агента было нецелесообразно. Наоборот, в смене династии она видела в лучшем случае предлог для вмешательства в сербские дела, в худшем — воцарение нового человека, который заменит короля Александра в должности австрийского агента. Для России, с 1885 г. вытесненной из Болгарии и в силу этого с обидой за личную неудачу и с завистью смотревшей на успехи австрийцев по укрощению Сербии, смена династий тоже представляла некоторые выгоды. Во-первых, уход австрофилов Обреновичей и замена их Карагеоргиевичами внушали надежду превратить последних в своего агента и этим парализовать влияние австрийцев в Сербии. Во-вторых, связавшись с радикалами, можно было даже использовать Сербию для борьбы против Австрии на Балканах. Вот почему дворцовый переворот, о котором говорили совершенно открыто не только в Сербии, но и на всех европейских дипломатических перекрёстках за несколько месяцев до его совершения, был выполнен заговорщиками без особых политических осложнений».
Новый режим, пользовавшийся популярностью — точнее, использовавший непопулярность Обреновичей, — начал политику возрождения национального духа и реанимации идеи «Великой Сербии», которая в эпоху Стефана Душана в XIV в. простиралась от Дуная почти до Коринфского залива и от Эгейского моря до Адриатики.
Как отметил Фей, «за время, прошедшее от тех давно минувших дней и до десятилетий, непосредственно предшествовавших мировой войне, когда сербские националисты начали мечтать снова расширить свои границы до пределов «старой Сербии» или даже ещё дальше, сербский народ долгие годы страдал от притеснений и лишений. В Вигов день (28 июня. — В. М.) 1389 г. армия сербов, албанцев и хорватов понесла страшное поражение на Косовом поле и была сметена турецким ураганом. Но тут же, на поле сражения, сербский герой Милош Обилич проник в палатку победоносного султана Мурада и поразил его как ненавистного притеснителя славянских народов. Таким образом, косовская годовщина стала великим днём в сербском календаре: Вигов день был днём скорби о национальном поражении 1389 г. и днём радости как память об убийстве жестокого иноземного притеснителя». В 1914 г. австрийского эрцгерцога убили именно в Вигов день!
В первые годы царствования Петра Карагеоргиевича политика Белграда повернула от Вены в сторону Петербурга, что отвечало интересам нарождавшейся национальной буржуазии и радикальной интеллигенции. Кризис в отношениях с Австрией начался с «таможенной войны» (Сербия, как и сейчас, не имела выхода к морю), в результате которой на сербских рынках усилились позиции русских и немцев, и закончился заключением таможенного союза с Черногорией и Болгарией. Правящие круги Петербурга увидели в этом шанс приблизиться к своей заветной мечте — контролю над Константинополем (исторический Царьград, нынешний Стамбул) и проливами Босфор и Дарданеллы, ведущими из Чёрного моря в Средиземное через Мраморное. Ответным ходом Австрии стало официальное присоединение к своей территории осенью 1908 г. Боснии и Герцеговины, включая город Сараево, и получение согласия России на эту акцию.
«Что вызвало аннексию? — задал резонный вопрос Полетика. — Пока эти провинции находились под национальной властью турок, Сербия могла надеяться на присоединение их к себе в случае удачной войны с Турцией. Аннексия Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией означала конец этим надеждам: только распад Австро-Венгрии в результате революции или войны мог осуществить национальное объединение южно-славянских народностей. Строго говоря, Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину не у Турции, а у Сербии. Австрия уже прекрасно отдавала себе отчёт, что Сербия является послушным агентом России и в любую минуту по её наущению может «обидеться» и начать войну». Однако Вена получила две провинции, оставив Петербург с абстрактным обещанием посодействовать в решении вопроса о проливах. Министр иностранных дел Александр Извольский понял, что «сдал» австрийцам Боснию и Герцеговину в обмен на «журавля в небе», но было поздно.
В Белграде случившееся восприняли как национальную катастрофу и начали готовиться к войне с Австрией, рассчитывая привлечь на свою сторону великие державы. Сербское руководство заявило протест против аннексии, потребовало территориальных или экономических компенсаций и попыталось побудить к активным действиям Россию, куда отправились наследник престола принц Георгий и премьер-министр Никола Пашич, лидер русофильской Радикальной партии. Пашич сообщил в Белград слова царя: «Ваше дело правое, но сил недостаточно. Вопрос Боснии и Герцеговины может быть решён только войной». Однако Вена категорически отказалась удовлетворить любые претензии, а Париж и Лондон не собирались вмешиваться в конфликт на Балканах, который неизбежно превратился бы в общеевропейский.
Никола Пашич
10 октября постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании сэр Чарльз Гардиндж заявил сербскому поверенному в делах Славко Груичу: «Австрийский посол просил меня повлиять на вас, чтобы вы перестали готовиться к войне. В продолжение этого, но исключительно по собственной инициативе, мы искренне рекомендуем вам проявить спокойствие и избежать авантюр, последствия которых могут быть непредсказуемы». Сделав предостережение, британский дипломат добавил, что не считает требования Белграда о компенсации чрезмерными, но «сомневается в том, что австрийские обещания или гарантии хоть чего-то стоят».
Пятью днями ранее сам Извольский предостерёг сербского посланника в Париже Миленко Веснича: «Вам нечего и думать удалить Австро-Венгрию из Боснии и Герцеговины силою оружия. С другой стороны, мы, русские, не можем начать войну с Австрией из-за этих провинций… В действительности вы ничего не теряете, а кое-что приобретаете — нашу поддержку. Я уверен, что сербское население в Боснии и Герцеговине будет продолжать, как до сих пор, культурную работу во имя своего возрождения, и раз национальный дух в них пробуждён, их никогда нельзя будет лишить национального облика». Через неделю в Лондоне Груич записал слова Извольского о том, что «аннексия дала новый импульс национальному духу у нас (в Сербии. — В. М.) и среди сербов за пределами королевства, по крайней мере, объединив нас морально».
«То есть антиавстрийская пропаганда в этих провинциях, руководимая из Белграда, пусть расширяется и растёт!» — перевёл Полетика речи русского министра с дипломатического языка на язык практической политики. «Сербам Извольский продолжал оказывать тайное поощрение, — писал Фей, — советуя им готовиться к более счастливому будущему, когда они смогут с русской помощью рассчитывать осуществить свои притязания. Он действительно никогда не рассматривал аннексию Боснии и Герцеговины как окончательное решение вопроса, но считал сам и побуждал сербов считать их сербской Эльзас-Лотарингией. Для освобождения этих провинций все сербы и в Сербии, и в Австро-Венгрии должны продолжать свои тайные приготовления». Сравнение с двумя провинциями, которые Франция была вынуждена уступить Германии в 1871 г., говорит само за себя — именно их возвращение лежало в основе французской мечты о реванше.
Поначалу ни Сербия, ни Россия не признали аннексию двух провинций. Когда кризис зашёл слишком далеко, на стороне Австрии выступила её главная союзница — Германия, ранее не вмешивавшаяся в действия Вены (этот сценарий с намного худшим исходом повторился в июле 1914 г.). В начале января 1909 г. Берлин предложил Петербургу признать «совершившиеся факты» и «использовать все имеющиеся в его распоряжении средства влияния на белградский кабинет». Французский посол в России вице-адмирал Шарль-Филипп Тушар рассказал своему будущему преемнику Жоржу Луи: «Германия не говорила России: «Если вы не уступите в сербском вопросе, я нападу». Она лишь сказала: «Если вы не уступите, Австрия завтра вторгнется в Сербию». Демарш Германии показал Извольскому, что он слишком сильно натянул верёвку, и он уступил».
Любезный по форме, но уклончивый по содержанию ответ Петербурга — понимая свою неготовность к войне, правящие круги России решили соблюдать нейтралитет — был признан в Берлине неудовлетворительным. Рассчитывать на реальную помощь Англии и Франции не приходилось, поэтому Николай II и Извольский, ни с кем более не советуясь, сочли за лучшее принять германские требования. «Раз вопрос был поставлен ребром, — писал император матери, — пришлось отложить самолюбие и согласиться». 31 марта 1909 г. Белград, следуя совету из Петербурга, заявил, что аннексия двух провинций не нарушает его прав, и отказался от любых претензий и компенсаций.
Обошлось без войны, но часовой механизм будущего конфликта был запущен, и Сербия сыграла в этом важную роль. Говоря о её политике, надо иметь в виду многообразие факторов и персонажей. Если в других странах путь к войне пролегал через кабинеты монархов, министров и послов (во Франции важную роль играла ещё и пресса), то здесь в клубок сплелись действия правительства и его официальных представителей, офицеров, ведших свою игру за спиной кабинета и военного министра, пропагандистов великосербского национализма и заговорщиков-террористов на территории Сербии и Боснии. В интригах принимали участие русские дипломаты и военные, не всегда ставившие в известность собственное начальство. У дипломатов, работавших на Балканах, вообще была не лучшая репутация. Например, бельгийский посланник в Токио Альбер д'Анетан писал в апреле 1895 г. о своём русском коллеге Михаиле Хитрово: «Его прошлое в Болгарии и Румынии наводит на мысль, что он более всего полагается на интриги и политическую агитацию».
Что представляла из себя пансербская пропаганда, которую боялись в Вене и приветствовали в Петербурге? Кто стоял за ней и кто её осуществлял? Внешним кругом можно считать движение «Омладина» (по-сербски «молодёжь»), которое не было единой организацией с руководящим центром, но охватывало широкие круги учащихся, студентов, педагогов, священников, журналистов, создававших кружки и общества. С 1870-х гг. их целью стало объединение всех сербов в единое государство, независимое от Турции и Австрии. К концу XIX в. в движении наметился раскол на консервативных реформаторов и радикалов, вдохновлявшихся анархистскими идеями Бакунина, Кропоткина, Прудона и Бланки и выступавших за насильственные методы борьбы. Из этой среды вышли участники сараевского убийства: националистический агитатор и руководитель общества «Млада Босна» («Молодая Босния») Владимир Гачинович (кстати, знакомый Льва Троцкого) и его юные подопечные, включая Гаврило Принципа.
Владимир Гачинович
Рассмотрим организационную структуру пансербского движения в начале XX в. Его легальной «оболочкой» было созданное в 1902 г. в Белграде студенческое просветительское общество «Словенский Юг» («Славянский Юг»), ведшее ту самую «культурную работу во имя возрождения», о которой говорил Извольский. В 1907 г. австрийские власти обвинили это общество в причастности к террористической деятельности, но основанный на сфальсифицированных документах судебный процесс развалился.
Если «Словенский Юг» занимался агитацией и воспитанием активистов, то практическую работу взяла на себя «Народна одбрана» («Народная оборона»). В правление этого общества, легально созданного в Сербии сразу после аннексии Боснии и Герцеговины, входили министры и генералы, а era манифест составил капитан Милан Прибичевич, автор программы «Словенского Юга». «Народна одбрана» официально заявила, что будет готовить вооружённых добровольцев для защиты страны и формировать для борьбы с Австрией и Турцией отряды партизан-повстанцев, известных под названием «комитаджи» (это слово наводило ужас на все Балканы). Обучением комитаджей занимались офицеры сербской армии — правда, во внеслужебное время, но подробный рассказ об этом уведёт нас в сторону от главной темы.
Признав аннексию Боснии и Герцеговины, Сербия обещала положить конец военно-партизанской деятельности «Народной одбраны», которая на словах занялась исключительно пропагандой и «физической подготовкой молодежи». На деле характер общества не изменился. Более того, оно расширило контакты с властями, конкретно—с министерствами иностранных дел, финансов и военным, что доказано опубликованными после войны документами. Иностранные дипломаты не закрывали глаза на настроения в Белграде и их возможные последствия. Например, 31 января 1913 г. британский посол в Вене сэр Фэрфакс Картрайт писал постоянному заместителю британского министра иностранных дел сэру Артуру Никольсону, бывшему послу в Петербурге: «Сербия когда-нибудь поссорит Европу и вызовет на континенте всеобщую войну. Я не могу вам даже сказать, до какой степени возмущаются здесь постоянным беспокойством, которое эта маленькая страна при поддержке России причиняет Австрии. Будет счастьем, если нынешний кризис не повлечёт за собой войны в Европе. Если в следующий раз возникнет кризис из-за Сербии, то я убеждён, что Австро-Венгрия откажется допустить какое-либо вмешательство со стороны России и пожелает во что бы то ни стало свести счёты со своим маленьким соседом». Прогноз оказался верным.
В Австро-Венгрии отделения «Народной одбраны» не могли существовать легально, но там были общества вроде боснийской «Просветы», в задачи которой входили: «национально-революционная пропаганда на тайных митингах, собраниях и лекциях, проводимых тайными агитаторами; шпионская служба и донесения о дислокации и передвижениях австро-венгерских гарнизонов, постройке крепостей и шоссейных дорог, казарм и провиантских складов. Православные священники, члены «Просветы», освобождали сербов-солдат в местных австрийских частях от присяги «служить верой и правдой австрийскому императору» и запрещали им под угрозой вечного проклятия стрелять в братьев-сербов. «Просвета» вербовала добровольцев для школ комитаджей и воспитывала молодежь для террористических актов», — завершает этот перечень знаток вопроса Полетика.
Подготовкой боснийских комитаджей по другую сторону границы руководил капитан (позднее майор) сербской армии Войя Танкосич, одна из ключевых фигур сараевского убийства. Среди его учеников был боснийский серб Милан Циганович, перебравшийся в 1908 г. в Сербию и устроившийся служить на железной дороге. Именно этот человек получил у Танкосича револьверы и бомбы — из арсеналов военного министерства — для исполнителей сараевского убийства, обучал их стрельбе, а затем обеспечил их переправку в Сараево. Его «исчезновение» (проще говоря, побег) после покушения устроил лично премьер Пашич, поскольку арестованные австрийской полицией заговорщики сразу назвали фамилии Цигановича и Танкосича.
Циганович хорошо знал подлинного вдохновителя заговора — начальника разведки сербского генерального штаба полковника Драгутина Димитриевича, известного под конспиративной кличкой Апис. Именно Циго (прозвище Цигановича) в июне 1917 г. выступил главным свидетелем обвинения на процессе против Аписа в Салониках (сербская территория в то время была оккупирована австрийскими войсками): полковник слишком много знал и мог пойти на любые отчаянные шаги, а потому стал опасен для собственного правительства и был приговорён к смерти. На скамье подсудимых рядом с ним не случайно оказались группа офицеров и несколько участников покушения на Франца-Фердинанда.
«Народна одбрана» была слишком многочисленной для «точечной» работы вроде политического террора. Этим занялось тайное общество «Уедненье или Смрт» («Объединение или смерть»), существовавшее параллельно с ней и получившее неформальное название «Чёрная рука». Оно было создано в феврале-марте 1911 г. группой сербских офицеров и чиновников с целью объединения сербов в «неосвобождённых» землях путём «революционных акций», включая террор. Каждый член общества был обязан сообщать руководителям всю информацию, которая становилась известной ему частным путём или по службе. «Таким образом, для «Чёрной руки» не существовало государственных тайн», — сделал вывод Полетика.
Драгутин Димитриевич (крайний справа)
Душой организации стал Димитриевич, ключевая фигура дворцового переворота 1903 г. Официозный историограф Станое Станоевич, даже оправдывая его казнь, не мог скрыть восхищения этой незаурядной личностью:
«Талантливый, культурный, лично храбрый и честный, полный честолюбия, энергии и охоты к труду, убедительный собеседник, Димитриевич имел исключительное влияние на окружающих его лиц, в особенности на товарищей и младших офицеров. Его доводы были исчерпывающими и убедительными. Он умел повернуть дело так, что самые ужасные деяния казались мелочью, а самые опасные планы невинными и безвредными. Будучи крайне честолюбив, он любил тайную деятельность и любил также, чтобы люди знали о том, что он занят тайной работой и всё держит в своих руках. Сомнения о том, что возможно, что невозможно, о возможной связи между властью и ответственностью никогда не смущали его. Он не имел ясного представления о политической жизни и её ограничениях. Он видел лишь одну цель перед глазами и шёл прямо к ней, не колеблясь и не обращая внимания на последствия. Он любил опасность приключения, тайные козни и таинственные предприятия».
Среди «приключений» — переворот в Белграде, готовившиеся покушения на болгарского царя Фердинанда и греческого короля Константина, сараевское убийство, завершившее многолетнюю «охоту». Невиновен Димитриевич был, возможно, только в заговоре против собственного принца-регента Александра, в чём его обвинили на Салоникском процессе 1917 г. Тем не менее престарелый экс-король Пётр послал сыну телеграмму: «Убей их, ибо, если ты не убьёшь, они убьют тебя».
Преданные гласности после Первой мировой войны списки членов «Чёрной руки» содержат имена 10 генералов, 35 полковников, 26 подполковников, не говоря о майорах и капитанах. Рядом с ними — министры, дипломаты, крупные чиновники почти всех министерств, которые были приставлены на службу заговору. Здесь мы видим фамилии ключевых фигур не только довоенной Сербии, но и. послевоенного Королевства сербов, хорватов и словенцев, как до 1929 г. называлась Югославия.
Члены «Чёрной руки»
Только один пример. Рано утром 6 апреля 1941 г. в Москве был заключён советско-югославский договор о дружбе и ненападении. Десятью днями раньше в Белграде произошёл антигерманский военный переворот, после которого глава МИД Третьего рейха Иоахим фон Риббентроп обронил странную, казалось бы, реплику о влиянии «Чёрной руки» на случившееся. Какая здесь связь? Возможно, самая непосредственная. Членами «Чёрной руки» были югославский посланник в СССР Милан Гаврилович, поставивший подпись под договором, и отставной полковник Божин Симич, откомандированный в Москву новым югославским правительством с чрезвычайными полномочиями для заключения пакта. В Европе факт принадлежности обоих к «Чёрной руке» известен с первой половины 1920-х гг., в СССР — с выхода книги Полетики. Странно, что ранее пишущего эти строки никто не обратил внимания на данное обстоятельство.
Членом «Чёрной руки» называли даже премьера Пашича. Доказать это не удалось, но Пашич был в курсе дел через своего доверенного человека — Милана Цигановича, которого бывшие соратники потом объявили «провокатором». Сербская политика начала века характеризовалась ожесточённой борьбой за власть — как тогда говорили, за приоритет — между военными, включая создателей «Чёрной руки», и политиками, прежде всего Радикальной партией Пашича. Ни одна из сил не могла одержать безусловную победу. Противоборство достигло апогея весной 1914 г. 2 июня Пашич подал в отставку, но оппозиция не смогла сформировать кабинет, и через восемь дней он вернулся в кресло премьера. 24 июня, за четыре дня до сараевского убийства, король Пётр неожиданно отрёкся от престола в пользу своего младшего сына Александра, назначенного регентом. Ещё в марте 1909 г. — когда Сербия признала аннексию Боснии и Герцеговины — старший сын короля Георг отказался от престолонаследия в пользу Александра. Историки видят в этом влияние организаторов переворота 1903 г. и будущих членов «Чёрной руки» во главе с Димитриевичем.
Симич лично учил стрелять Богдана Жераича, покушавшегося в 1910 г. на губернатора Боснии генерала Варешанина.
У военных и у политиков были общие стратегические задачи, ради которых они могли на время забыть вражду, чтобы объединить усилия и действовать как два колеса на одной оси. Позже соперничество вспыхнуло вновь, став причиной казни Димитриевича и его соратников, хотя за них и лично за Аписа вступились сразу в Петрограде, Лондоне и Париже.
Я подробно пишу об этих фактах, поскольку знание их необходимо для ответа на главный вопрос: знало ли сербское правительство о готовящемся покушении? Советский историк Михаил Покровский в 1920-е гг. заметил, что прямого документального доказательства — записки Пашича Димитриевичу с приказом убить эрцгерцога — нет и быть не может. Однако, как писал Полетика, «о подготовке сараевского убийства знало слишком много лиц для того, чтобы тайна его действительно оставалась тайной». Руководящая роль Димитриевича в организации покушения на наследника австрийского престола окончательно подтвердилась в 1953 г., когда коммунистическое правительство Югославии реабилитировало его по салоникскому «делу» 1917 г. и фактически провозгласило национальным героем именно за Сараево. Можно задать вопрос: в каком качестве Димитриевич готовил покушение — как начальник разведки генштаба или как частное лицо, патриот и член «Чёрной руки»? Но в свете последствий это уже не столь важно.
Сербское правительство, включая Пашича, знало о готовящемся заговоре как минимум в общих чертах и из нескольких источников. Об этом во второй половине 1920-х гг. рассказали несколько бывших министров его кабинета, оговорившись, что не могут поведать всю правду. Премьер велел принять меры против возможного пересечения террористами сербско-боснийской границы, но пограничные власти помогали «Чёрной руке», так что невнятные распоряжения из Белграда выглядели — по крайней мере после убийства — как не слишком умелая попытка создать себе алиби.
«Правительство сделало всё, что только возможно, чтобы показать нашим друзьям и всему остальному миру, как далеки мы были от сараевских преступников». Так в 1925 г. писал эксминистр просвещения Люба Иованович, первым из влиятельных белградских политиков признавший, что кабинет Пашича располагал сведениями о заговоре. Его признания поспешил дезавуировать… британский министр иностранных дел Остин Чемберлен, а занимавший этот пост в годы войны сэр Эдуард Грей многозначительно заметил: «Пожалуй, миру никогда не расскажут всё, что стояло за убийством эрцгерцога». Роль англичан, прежде всего редактора иностранного отдела «Тайме» Уикхэма Стада и профессора Роберта Сетона-Уотсона, в поддержке Сербии и создании югославского государства — как противовеса русскому и австро-германскому влиянию на Балканах — очень велика, но к нашей теме это напрямую не относится. Остававшийся у власти Пашич долго отмалчивался, несмотря на призыв Чемберлена опровергнуть «клевету», потом вяло и неубедительно, оправдывался, но запретил публиковать архивные документы для окончательного выяснения вопроса о том, кто прав. Югославия осуществила их официальную публикацию только в начале 1980-х гг.
Ещё одним аргументом апологетов Сербии стало то, что её посланник в Австрии Иован Иованович — «по собственной инициативе», как утверждали потом его коллеги, — пытался предупредить о возможности покушения министра по делам Боснии и Герцеговины Леона Билинского. Сразу после убийства Пашич заявил одному журналисту, что по его распоряжению посланник сообщил о заговоре австрийскому министру иностранных дел графу Леопольду Берхтольду, другому — что официальный Белград ничего об этом не знал и, соответственно, никого не мог предупредить. Взятые вместе, эти признания, мягко говоря, не вызывали доверия к премьеру. По словам самого Иовановича, он в разговоре с Билинским лишь предположил, что во время маневров в Боснии, тем более вблизи сербской границы, во Франца-Фердинанда может выстрелить какой-нибудь недовольный серб, мобилизованный в австрийскую армию. Ничего более конкретного — например, о наличии заговора — он не сказал.
Оскар Потиорек
Билинский проигнорировал столь неконкретнее заявление посланника, не пользовавшегося симпатиями в Вене, и не поставил МИД в известность о нём. Последнее обстоятельство — в сочетании с легкомыслием в обеспечении безопасности гостя, которую в день трагедии проявил боснийский губернатор генерал Оскар Потиорек, — породило версию о том, что покушение на эрцгерцога подготовили антиславянские круги двуединой монархии с провокационной целью — создать повод для нападения на Сербию. «Обстановка убийства, — писал живший тогда в Париже большевистский публицист Михаил Вельтман, — бросает странную тень на австрийскую полицию. Всё это наводит на мысль, что здесь мы имеем дело с провокацией. Мне кажется, что трагедия в Сараево является плодом комплота[2] — военного или полицейского — не знаю». Однако эти утверждения ничем не подкреплены и давно не принимаются всерьёз.
Запланированное на Витов день, посещение эрцгерцогом Сараева как будто само подталкивало сербских радикалов к решительным действиям, но, как заметил Фей, «это не снимает с сербского правительства вины за сокрытие сведений, касавшихся заговора на убийство, заговора, в котором принимали участие его собственные офицеры. В частной жизни такое преступление называется укрывательством». Не случайно глава «Участие сербского правительства в покушении» занимает в книге Полетики почти сто страниц.
Чтобы правильно понять, как случившееся воспринималось тогда, послушаем мнение видного американского юриста профессора Джона Бёрджеса, высказанное в начале 1915 г. Чтобы сделать ситуацию на далёких Балканах более понятной для соотечественников, он напомнил, как в 1914 г. Соединённые Штаты приняли участие в свержении мексиканского президента Викториано Уэрты, который, в свою очередь, пришёл к власти в результате переворота и убийства своего предшественника. «Теперь представим, что американский вице-президент с супругой приехал в город Остин, штат Техас, и был там убит в результате заговора, спланированного в Мехико. Вскоре выяснилось, что к покушению причастны высшие чиновники мексиканского правительства, оружие для него получено из арсеналов мексиканской армии, убийцы с оружием в руках перешли границу с ведома мексиканских властей, и все это было частью заговора, организованного в Мексике руководителями страны как в правительстве, так и за его пределами, с целью отторгнуть от США Техас, Аризону, Нью-Мексико и Калифорнию и воссоединить их с Мексикой. Как поступили бы Соединённые Штаты? С учётом того, что они уже сделали, с уверенностью могу сказать, что они стёрли бы Мексику с лица земли. Если бы какая-то третья держава попыталась вмешаться, Америка посоветовала бы ей отойти в сторону и заняться своими делами. Или её бы тоже стёрли с лица земли». Может, грубовато, но по существу — повторю, с точки зрения тогдашней политики.
С момента сараевской трагедии умы будоражил вопрос о причастности к ней России, а именно посланника Николая Гартвига и военного агента полковника Василия Артамонова, поскольку связь обоих с националистическими и офицерскими кругами Белграда, а не только с правительством, была очевидна. Роль Гартвига в принятии Сербией политических решений не подвергалась сомнению. В период «борьбы за приоритет» он поддерживал Пашича против военных. «Если событий не предвиделось, он, не стесняясь, начинал создавать их», — писал после войны в одном из европейских журналов осведомлённый югославский источник из круга «Чёрной руки», укрывшийся под псевдонимом Марко.
Находясь в конце января — начале февраля 1914 г. в Петербурге, Пашич попросил Николая II продать Сербии 120 тысяч винтовок[3], обещая в случае необходимости выставить полумиллионную армию. Это было сделано после предварительных консультаций с Гартвигом, о чём мы знаем из письма русского посланника в Болгарии Александра Савинского, который в эти дни докладывал Сазонову: «Во время моей остановки в Белграде я имел несколько длинных бесед с Гартвигом, который, по-видимому, надеялся быть вызванным вами в Петербург к приезду туда сербского престолонаследника и Пашича. Видя, что неполучение от вас на это разрешения ему очень неприятно, я спросил его, о чём именно он собирался говорить в Петербурге. На это он мне ответил, что об очень многом — и главное о выдаче сербам ружей и патронов, для чего он предполагал видеться и с министром финансов, и с военным министром. Из дальнейшего разговора я убедился, что мысль Гартвига — натравить Сербию на Австрию. Конечно, не мне судить о степени опасности такой политики в настоящую минуту, и я считаю только долгом сообщить вам о вышеизложенном».
Пащич сослался на угрозу со стороны Вены, Константинополя и Софии, которые «постоянно ищут повода к тому, чтобы нарушить положение вещей», установившееся после поражения Болгарии во второй Балканской войне 1913 г. Сазонов поддержал просьбу, назвав продажу оружия «желательной по политическим соображениям». Военный министр генерал Владимир Сухомлинов «мариновал» её более полутора месяцев, а потом отказал: «Принимая во внимание сложность политической обстановки в настоящее время, военное министерство считает себя обязанным прежде всего озаботиться снабжением нашей армии». Тем не менее Пашич вернулся «в полном упоении», поэтому Сазонов просил Гартвига выразить ему «самое искреннее сожаление в невозможности удовлетворить его просьбу и оказать Сербии дружескую услугу» и намекнуть на возможность пересмотра принятого решения, если отказ поставит Белград «в затруднительное положение». Премьер ответил «живейшей признательностью» и просьбой поторопиться. Решение о продаже винтовок было принято через два дня после австрийского ультиматума Сербии, когда война — как минимум на Балканах — стала неизбежной.
14 июня — за две недели до покушения в Сараево — Сазонов сказал румынскому премьеру Иону Братиану о возможности войны из-за Сербии, сделав странное по прозорливости предположение: «Что произойдёт, если австрийский эрцгерцог будет убит?» В мемуарах министра об этом ни слова, но есть любопытная оговорка: «Мне лично представлялась особенно нелепой попытка венского кабинета связать убийство эрцгерцога с заграничным заговором после того, как политика Эренталя (австрийского министра иностранных дел в 1906—1912 гг. — В. М.) и рабски за ней следовавшего Берхтольда в течение многих лет накопляла, в самих пределах двойственной (т. е. двуединой. — В. М.) монархии, массу горючего материала, готового вспыхнуть при первой к тому возможности». Значит, информация о положении дел была. Добавлю, что 8 июля в Сараево приехал второй секретарь русского посольства в Вене князь Михаил Гагарин, сразу же взятый под тайное наблюдение местной полицией. Его послали туда — с ведома или по указанию министра? — «на всякий случай», чтобы на месте наблюдать за ситуацией и выяснить, что произошло и как идёт следствие.
О связях «Чёрной руки» с Артамоновым говорили Димитриевич на суде в 1917 г., Микола Ненадович и скрывавшийся в Европе до начала 1930-х гг. Симич (на Салоникском процессе он заочно получил 15 лет тюрьмы). Наиболее сенсационными оказались послевоенные разоблачения Ненадовича, заявившего, что о сараевском убийстве, совершённом по приказу Аписа, знали Артамонов, Гартвиг, Пашич и принц-регент. Бывший член «Чёрной руки», пожелавший сохранить инкогнито, утверждал, что Димитриевич рассказал Артамонову о готовящемся покушении и пожелал иметь гарантии того, что Россия не оставит Сербию один на один против Австрии, поддержанной Германией. Иными словами, речь шла о сознательном провоцировании европейской войны. Артамонов, согласно этому источнику, посовещался с Гартвигом, а затем попросил Аписа подождать, пока не придёт ответ из Петербурга. Через несколько дней военный агент передал начальнику контрразведки телеграмму: «Действуйте, если на вас нападут, вы не останетесь одни», — и значительную сумму денег на подготовку заговора. Симич полностью подтвердил сказанное, включая текст телеграммы.
Гартвиг скоропостижно скончался в самый разгар кризиса: смерть от сердечного приступа настигла его 10 июля в здании австрийской миссии[4] — и унёс свои тайны в могилу. В опубликованных большевиками телеграммах из Белграда ничего подобного тому, о чем рассказывали Ненадович и Симич, нет. Обосновавшийся после войны в Югославии Артамонов признал, что давал деньги Димитриевичу на ведение разведывательной работы и брал с него расписки, но в содержание деятельности особо не вникал. В адресованном суду рапорте Апис утверждал: «Я окончательно решился на это (покушение. — В. М.) только тогда, когда Артамонов заверил меня, что Россия не оставит нас без своей защиты, если мы подвергнемся нападению Австрии. Но я ничего не сообщил Артамонову о моих намерениях относительно покушения».
Сомневаться в том, что симпатии Гартвига и Артамонова были на стороне Сербии, не приходится. Будучи информированными людьми, они должны были знать, хотя бы в общих чертах, о готовящемся покушении, причём не обязательно от непосредственных организаторов. Об этом может свидетельствовать фраза из депеши посланника о реакции Белграда на сараевское убийство: «Здесь заранее (курсив мой — В. М.) были уверены, что известные венские и будапештские круги не замедлят использовать даже столь трагическое происшествие для недостойных инсинуаций по адресу королевских политических обществ». Однако у нас нет оснований говорить об причастности Гартвига и Артамонова к заговору и тем более считать их инициаторами убийства.
С началом войны российская пропаганда объявила Сербию безвинной жертвой австрийской агрессии, за которой стоял «тевтонский милитаризм». После революции проблема потеряла политическую актуальность, став предметом изучения историков. Ведущий представитель проантантовской историографии в СССР академик Евгений Тарле воскресил версию о непричастности Белграда к выстрелам в Сараево. Глава официозной историографии Михаил Покровский, руководивший изданием дипломатических документов из архивов царского МИД, возложил вину на «империалистов всех стран». Точку в споре — хотя бы на время — поставил ленинградский журналист, позднее доктор наук и профессор, Николай Полетика. В книге «Сараевское убийство» он впервые в нашей стране ввёл в научный оборот важнейшие сербские источники и восстановил картину заговора.
Сараевское убийство не отпускало Полетику и после выхода книги. Фрагмент его мемуаров «Виденное и пережитое», которые не изданы в России, но легко доступны в Интернете, может служить хорошим завершением этой главы:
«Первой реакцией на выход книги и первой неофициальной рецензией на неё был телефонный звонок. Я подошёл к телефону. «Это квартира товарища Полетики?» — спросил по-русски чей-то нерусский голос. — Ах, это вы сами! Я хотел бы встретиться и поговорить с вами о сараевском убийстве».
На мой вопрос, с кем я имею честь говорить, голос ответил: «С вами говорит один из участников сараевского убийства. Моё здешнее имя вам ничего не скажет, но я живу здесь по советскому паспорту. Я — югославский коммунист, эмигрировавший в вашу страну. Я увидел своё имя в вашей книге, но кто я, — сказать вам сейчас не могу».
Я растерянно слушал эти слова, слова человека, бывшего одним из героев моей книги. Словно она была заклинанием, вызвавшим из могилы злого духа. Я пригласил «голос» придти ко мне на следующий день. Шура (жена Полетики. — В, М), узнав о звонке, решительно заявила: «Я хочу быть при вашем разговоре!»
«Голос», явившийся ко мне, оказался пылким брюнетом моих лет (Полетика родился в 1896 г. — В. М), человеком невысокого роста, с густой копной чёрных курчавых волос. Он категорически отказался назвать имя, под которым он фигурирует в моей книге, и добавил: «А моё советское имя вам ничего не даст». По-русски он говорил свободно, но с ярко выраженным сербским произношением.
Незнакомец заявил, что он сам и его сербские друзья, которые живут и работают («под фальшивыми именами» — добавил он) в Москве, послали его в Ленинград сказать мне, что сербские эмигранты-революционеры недовольны моей книгой: «Вы слишком сурово и критично писали о нас». Я ответил, что писал книгу по опубликованным сербским материалам и иностранным источникам, и показал ему источники своих характеристик и утверждений. Он очень заинтересовался только что вышедшей 9-томной публикацией австрийских дипломатических документов, в которых была опубликована масса протоколов австрийской полиции и расследований австрийских властей о борьбе южнославянской молодёжи («омладины») против Австрии за создание «Великой Сербии». Незнакомец был взволнован и нервно оспаривал моё утверждение, что Гаврило Принцип и его друзья были членами организации «Чёрная рука».
У меня создалось впечатление, что незнакомец чего-то боится и смотрит на меня с тревогой и беспокойством. Наш разговор продолжался почти два часа. Наконец незнакомец собрался уходить и просил меня дать ему на несколько дней 8-й том австрийских документов и книжку деятеля хорватской революционной «омладины» Герцигоньи, обязуясь честным словом вернуть их. Для меня это был нож в сердце. Я вообще не люблю давать свои книги, а разрознять восьмитомное издание уж совсем не хотелось. Но всё же я в конце концов согласился и, скрепя сердце, дал ему эти книги.
Незнакомец встал, и я, согласно правилам вежливости, проводил его в переднюю. В передней, надевая пальто, он вынул из кармана пиджака маленький чёрный браунинг и переложил его в карман пальто. Дверь квартиры за ним захлопнулась, и я вернулся к Шуре.
— Знаешь что, — воскликнула Шура, как только я вошёл в комнату, — мне кажется, что у него в кармане был револьвер!
— Совершенно верно. Ты права, — ответил я, — в передней он переложил браунинг из кармана пиджака в карман пальто.
Шура впала в истерику. Рыдая, она требовала, чтобы я пошёл в милицию и к прокурору, подал заявление в ГПУ и пр. Я стал её успокаивать: «Ведь он мне не угрожал. Пойми, он югославский коммунист, живёт и работает в нашей стране под фальшивым именем и даже получил советский паспорт на это имя. Правительство и ГПУ это отлично знают, ибо именно они выдали ему фальшивый советский паспорт. Ведь это не какой-нибудь шпион, засланный в нашу страну, а «свой» для Советского Союза человек. Кому же жаловаться и на что?»
Через несколько дней незнакомец снова позвонил ко мне, и мы условились о новой встрече. Он вернул взятые у меня книги и рассыпался в уверениях, что после первого разговора со мной и после прочтения этих книг он убедился в том, что события сараевского убийства изложены в моей книге совершенно правильно, о чём он сообщит своим сербским друзьям в Москве. Он выражал радость по поводу знакомства со мной и благодарил за книги, которые я дал ему. Я проводил его, как и первый раз, в переднюю, но теперь револьвера из пиджака в пальто он не перекладывал. Больше мне с ним не приходилось встречаться.
Гаврило Принцип
Кто же был этот таинственный незнакомец? Мы пришли к выводу, что он, несомненно, был участником заговора об убийстве Франца-Фердинанда, возможно, членом омладинского кружка «Млада Босна», которым руководил Гачинович и членами которого были Гаврило Принцип, Трифк» Грабеч и другие исполнители сараевского убийства. Как историк я могу удостоверить, что незнакомец знал, и притом очень хорошо, в мельчайших подробностях и оттенках, о которых я не упоминал в своей книге, подготовку убийства и его исполнителей. По-видимому, он боялся каких-то разоблачений. Он мог думать, что я имею какие-то компрометирующие организаторов сараевского убийства, в том числе и его самого, материалы, и поэтому при первом разговоре со мной ухватился за книги, где могли быть, как ему казалось, напечатаны компрометирующие материалы. Но разговор со мной и просмотр документов показали ему, что никаких разоблачений, касающихся его лично, он может не бояться. Этим и объясняется его любезность при второй встрече, когда браунинг уже не демонстрировался».
С убийцами и теми, кто стоял за их спиной, мы более-менее разобрались. Теперь надо разобраться, кого поразили пули Гаврило Принципа.
ГЛАВА ВТОРАЯ. Австро-Венгрия: драма мультинационализма
Действующие лица в Вене:
→ Император Франц-Иосиф I
→ Эрцгерцог Франц-Фердинанд и его жена герцогиня Гогенберг
→ Австрийский премьер-министр граф Карл Штюргк
→ Венгерский премьер-министр граф Стефан Тисса
→ Министры иностранных дел: Алоиз Эренталь (1906—1912) и граф Леопольд Берхтольд (1912 —1915)
→ Министр финансов и по делам Боснии и Герцеговины
Леон Билинский
→ Начальник генерального штаба генерал Конрад фон Гётцендорф
→ Германский посол Генрих фон Чиршки
→ Российский посол Николай Шебеко
→ Сербский посланник Иован Иованович
* * *
Переставшая быть «защитницей Христовой веры» от ислама и превратившаяся в угнетателя славян, католическая Австро-Венгерская монархия выглядела величественной только со стороны. Внутри её давно раздирали противоречия — прежде всего межнациональные. В начале 1859 г. знаменитый революционер Александр Герцен утверждал, что Австрия — «не народ, Австрия — полицейская мера, сводная администрация, величайший исторический призрак, который когда-либо существовал. Только когда её отменят, тогда только люди настоящим образом удивятся, как могла существовать такая нелепость, сшитая из лоскутков конгрессами и упроченная глубокими дипломатическими соображениями».
Однако и через 55 лет, на которые пришлось почти всё царствование Франца-Иосифа I, «лоскутная монархия» продолжала существовать. В 1867 г. она стала двуединой и получила название Австро-Венгрия после того, как император из старинной династии Габсбургов возложил на себя венгерскую корону. Австрийские немцы и венгры стали равноправными господами империи, в которой появились два премьера и два парламента, но сохранилась единая армия и флот, общие военное, финансовое и внешнеполитическое ведомства. Славянское население осталось «гражданами второго сорта», поэтому недовольство сложившимся положением росло из года в год. Если чехи и словаки предпочитали легальные формы политической борьбы внутри империи, южно-славянские народы стремились к созданию своего государства, наиболее подходящей основой для которого виделась Сербия. Боевым кличем в этой среде звучало слово «Пьемонт» — название северо-западного региона Италии со столицей в Турине, который стал ядром её национального объединения в 1859—1860 гг.
Франц-Иосиф I
У правящей верхушки двуединой монархии имелось два варианта решения проблемы — жёсткий и мягкий, подавление или, напротив, расширение прав славянских народов. За первый путь выступала венгерская аристократия, влияние которой на политику империи было весомым, хотя и не определяющим. За второй — не кто иной, как Франц-Фердинанд, оказавшийся главным защитником славян в доме Габсбургов. Находившийся на престоле с 1848 г. император Франц-Иосиф, которому в 1914 г. исполнилось 84 года, не хотел никаких перемен.
Та же дилемма была и в отношениях с Белградом. Как заметил британский историк Джордж Гуч, «перед государственными деятелями Австро-Венгрии были два пути — раздавить Сербию или подружиться с ней. Эренталь и Берхтольд не сделали ни того, ни другого».
Конрад фон Гётцендорф
Назначение в 1906 г. генерала Конрада фон Гётцендорфа начальником генерального штаба и Алоиза Эренталя министром иностранных дел Австро-Венгрии показало, что империя переходит к активной (многие говорили — агрессивной) политике. По словам Фея, они «очутились в роли докторов, которым предстояло испробовать радикальные средства для того, чтобы спасти пациента от смерти. К несчастью больного, доктора коренным образом расходились в диагнозе и методах лечения, как это часто бывает с врачами, и недолюбливали друг друга». Гётцендорф был откровенным милитаристом, считая военную силу лучшим, если не вообще единственным, средством решения всех международных проблем, о чём открыто говорил, не думая о возможных последствиях. Эренталь тоже полагался на силу, но отдавал предпочтение дипломатии. Это особенно чётко проявилось в случае с аннексией Боснии и Герцеговины.
Судьба двух провинций решилась 16 сентября 1908 г. в замке Бухлау, который принадлежал Берхтольду, в то время — послу в Петербурге. Эренталь пригласил туда своего русского коллегу Извольского для доверительной беседы. У обоих министров были замыслы, для осуществления которых требовалось согласие другой стороны. Разговор возник не вдруг: годом раньше Извольский уже говорил Эренталю, что после поражения на Дальнем Востоке и потери Порт-Артура «(ужовой для расширения военного и морского могущества России является Чёрное море», а Босфор и Дарданеллы должны быть открыты для прохода её военных кораблей. О проблеме Константинополя и проливов мы поговорим в следующей главе, а пока лишь обозначим тему. Изменение статуса проливов требовало согласия других держав, поэтому русский министр начал объезд европейских столиц, чтобы прозондировать почву. В лице Эренталя он нашёл заинтересованного собеседника Австрийский министр, в свою очередь, хотел покончить с проблемой Боснии и Герцеговины, в управлении которыми постоянно сталкивались интересы военных и гражданских властей. Кроме того, «младотурки», пришедшие к власти в Константинополе в июле 1908 г., могли попытаться вернуть оккупированные провинции под своё управление. Что же произошло в Бухлау?
Алоиз Эренталь
Переговоры велись без свидетелей и без протокола. Как отметил историк Анатолий Игнатьев, они «отнюдь не носили идиллического характера, сопровождались взаимными обвинениями в неверности согласию и привели к достижению договорённости лишь после длительного жаркого спора». Извольский согласился на оккупацию Боснии и Герцеговины при отказе Австрии от дальнейшего продвижения в сторону Салоник и от прав на побережье Черногории, Эренталь — га открытие проливов для русских кораблей и поддержку соответствующего демарша Петербурга. «Казалось бы, — продолжает Игнатьев, — что при такой атмосфере результаты встречи следовало точно зафиксировать. Между тем собеседники предпочли ограничиться неофициальным джентльменским соглашением, что оставляло каждому определённую свободу трактовки. Не были уточнены ни срок аннексии, ни время выдвижения Россией вопроса о пересмотре статуса проливов, ни процедура оформления предполагаемых изменений».
Договорённость становилась политическим решением после её одобрения обоими императорами, однако России требовалось согласие других держав, а Австрии нет. Эренталь сразу же воспользовался этим и 29 сентября разослал австрийским послам письма Франца-Иосифа главам иностранных государств с извещением о намеченной на 7 октября аннексии; письма надлежало вручить двумя днями ранее. Получив письмо 5 октября, болгарский князь Фердинанд немедленно провозгласил полную независимость от Турции и объявил себя царём (министры в Бухлау заранее согласились на это), поэтому Вена объявила об аннексии уже на следующий день.
Извольский, отрапортовавший царю об успехе переговоров в Бухлау и спокойно продолжавший консультации со своими коллегами в Европе, узнал о случившемся из газет перед самым прибытием в Париж. Германия и Италия согласились поддержать требования России в обмен на некоторые услуги. Первая не конкретизировала свои пожелания. Вторая намеревалась потребовать у Турции североафриканские провинции Триполи и Киренаика, против чего Петербург не возражал. Интересно отметить, что через несколько лет все трое — сам Извольский, Вильгельм фон Шён и Томмазо Титтони — оставят министерские посты и окажутся послами своих стран в Париже, где будут активно продолжать свои дипломатические интриги.
Раздражение в адрес Эренталя, который провёл аннексию так быстро и не предупредил об этом заранее (его письмо ожидало русского министра в Париже), усугубилось позицией Франции, которую посол Александр Нелидов определил как «безразличие». Париж отказался поддержать Россию без согласования с Англией. Но главное разочарование ждало англофила Извольского в Лондоне.
Министр иностранных дел сэр Эдуард Грей объявил гостю, что британское правительство не против открытия проливов для судов всех стран, но только с согласия Турции. Сославшись на «общественное мнение», он добавил, что момент для возбуждения вопроса «крайне неблагоприятен», но подсластил пилюлю обещанием «в более удобное время» использовать своё влияние в Константинополе. Как отметил германский историк Макс Монжела, страны из враждебного России блока заняли более благоприятную для неё позицию по столь важному вопросу, чем формальные союзники по Антанте.
Действия Извольского, согласованные только с императором, вызвали негодование в правящих кругах Петербурга. Ю. В. Лунёва, автор новейшего исследования «Босфор и Дарданеллы. Тайные провокации накануне Первой мировой войны», пишет: «Столыпин и Коковцов выразили своё возмущение по поводу того, что Совет министров так поздно узнал «о деле столь громадного исторического значения, затрагивающем интересы внутреннего состояния империи». Министры срочно собрались на совещание, на котором Столыпин и Коковцов «при сочувственной поддержке прочих» подвергли действия Извольского резкой критике. Было решено заявить царю, что правительство отказывается брать на себя ответственность за последствия действий, совершившихся без его ведома». Царь фактически взял ответственность на себя.
Эренталь праздновал победу. Австрия получила две провинции, не вступив ни с кем в открытый конфликт. Безусловная поддержка со стороны Берлина удержала Россию от активных действий, что в те времена однозначно воспринималось как признак слабости, а не мудрости. Реакция Петербурга, в свою очередь, заставила Сербию принять австрийское требование объявить об отказе от претензий и о решении вести добрососедскую политику в отношении Австро-Венгрии (чем это закончилось, мы знаем). Англия отказалась вмешиваться в балканские дела. Французское правительство во главе с германофобом Жоржем Клемансо последовало примеру Лондона, а общественное мнение выразил известный политик Габриэль Аното на страницах влиятельной газеты «Фигаро»: «Европа хочет мира. Какое дело французским крестьянам до того, будут Босния и Герцеговина оккупированы или аннексированы?» Однако все эти державы, за возможным исключением Германии, остались недовольны. Не добившийся своей цели Извольский возненавидел более удачливых австрийцев (а заодно и немцев), что имело далеко идущие последствия.
Леопольд Берхтольд
Напряжённость не смягчилась даже после смерти Эренталя в 1912 г. и замены его Берхтольдом. Замена оказалась крайне неудачной. Эренталь был дипломатом до мозга костей и посвятил своей профессии всю жизнь: склонный к рискованным шагам, он умел просчитывать ситуацию на несколько ходов вперёд; чуждый авантюризма, он добился отставки Гётцендорфа с поста начальника генштаба. Генерал вновь занял свой пост при его преемнике — аристократе и денди Берхтольде, который явно тяготился своими служебными обязанностями. «Жизнь по его вкусу, — писал один историк, — представляла собой бесконечную череду спектаклей, концертов, салонных бесед, посещений скачек и антикварных магазинов. Редко появлявшийся на людях без цилиндра, он был утончённым модником и знатоком древнегреческих классиков». Посвящавший выбору галстуков больше времени, чем чтению дипломатических депеш, он был бы нормальным министром в мирное и спокойное время, но в условиях кризиса пребывание Берхтольда во главе внешнеполитического ведомства оказалось трагедией. Ситуация усугублялась тем, что практическое руководство работой МИД оказалось в руках его политического секретаря графа Александра Гойоса, ненавидевшего славян.
Франц-Фердинанд был сторонником аннексии Боснии и Герцеговины. Исполнители сараевского убийства признались на суде, что считали эрцгерцога главой «военной партии» и злейшим врагом славянства, а потому полагали, что его устранение избавит Сербию от угрозы войны. Сам же он говорил: «Сначала — порядок в доме, потом — внешняя политика сообразно нашим силам», — и начал изучать языки подданных-славян. Задним числом наследника престола обвиняли в желании воевать не только с Сербией, но и с Италией, чтобы восстановить светскую власть папы римского. С 1870 г. понтифик затворился в Ватикане, не признавая итальянского короля, который лишил его власти в Папской области с центром в Риме (этот конфликт разрешил только Муссолини в 1929 г.). Франц-Фердинанд был ревностным католиком и действительно не любил итальянцев — давних врагов габсбургской монархии, — но так далеко его планы не заходили.
По мнению британского историка В. В. Готлиба, сараевское убийство было невыгодно Сербии, поскольку эрцгерцог выступал за преобразование двуединой монархии в Австро-Венгро-Славию. Его женитьба по любви на фрейлине-чешке стала вызовом традициям династии и лишила детей от «неравного» брака прав на австрийскую и венгерскую короны, но они теоретически могли получить корону славянских земель в реформированной империи. Полетика поправил Готлиба, указав, что идея триединой монархии делала Франца-Фердинанда опасным соперником Карагеоргиевичей, претендовавших на объединение южных славян Австро-Венгрии с Сербией под своим скипетром. «Триализм (идея триединой монархии. — В. М.) означал смерть южнославянской националистической идеи, — признал один из членов «Чёрной руки». — Апис знал это и потому подготовил сараевское убийство». Венгерские магнаты боялись, что эрцгерцог уравняет славян с немцами и мадьярами, и не хотели его появления на престоле. Наследник, в свою очередь, называл их методы управления «дикими» и «средневековыми», их деятельность — вредящей престижу империи и подозревал венгерского премьера Стефана Тиссу в стремлении подчинить себе не только Будапешт, но и Вену. Наконец в 1912 г. Франца-Фердинанда «приговорили к смерти» масоны: «Эрцгерцог не будет царствовать. Он умрёт на ступенях трона».
При упоминании о «масонском следе» читатель имеет право скептически усмехнуться: дескать, вы нам ещё про «жидомасонский заговор» расскажете… Действительно, в современной истории немного тем, которые были бы столь же скомпрометированы безответственными и надуманными «разоблачениями», как всё связанное с масонством. Однако ложи «Великого Востока» играли большую роль в политической жизни Франции: в них велись откровенные разговоры между непримиримыми политическими противниками и завязывались полезные связи. Почти все видные французские политики были «братьями». Связанное с ними русское масонство начала XX в., как доказал историк Виталий Старцев, стало площадкой для собирания сил буржуазно-либеральной оппозиции против монархии.
С «Великим Востоком» контактировала белградская ложа «Побратим», в которую входили активисты «Чёрной руки», включая Танкосича и Цигановича. Об этом известно из показаний Габриновича и Принципа австрийским властям. Арестованные утверждали, что Танкосич дал санкцию на «приведение приговора в исполнение» только после того, как участник заговора Радослав Казимирович съездил в Париж и Будапешт для совещания по этому вопросу. Однако Оскар Тарталия, называвший себя членом «Чёрной руки», в 1928 г. отрицал «масонский след». Признавая, что фактов для однозначного вывода недостаточно, Полетика обратил внимание на то, что первый международный съезд масонов после войны состоялся в 1926 г. в Белграде. «Как можно судить по выступлениям видных членов «Народной одбраны», присутствовавших в обильном количестве на конгрессе, — отметил историк, — он был избран местом созыва конгресса потому, что «из Белграда началась мировая война, которая осуществила многие чаяния масонства». Хотите верьте, хотите нет…
Эрцгерцог Франц-Фердинанд с супругой
В общем, эрцгерцогу никто не симпатизировал, кроме жены и детей (любовь была взаимной), некоторых приближённых и кайзера Вильгельма — единственного друга среди равных. Оценки его личности при кажущейся противоположности, по сути, не противоречат друг другу. В зависимости от симпатий и антипатий одного и того же человека можно назвать «консерватором» или «реакционером», «набожным» или «фанатиком», «решительным» или «грубым», «замкнутым» или «угрюмым», «воином» или «солдафоном», упрекнуть в нелюбви к музыке или вспомнить о знаменитых розариях в имении Конопишт. Так и вышло. Посвятивший жизнь военной службе (особое внимание он уделял флоту) и семье, эрцгерцог мало участвовал в государственных делах, к которым его никто не стремился привлекать — ни венценосный дядя, придворные которого откровенно третировали жену наследника, ни министры иностранных дел Эренталь и Берхтольд, ни начальник генштаба Гётцендорф. После серии неудачных покушений на него в начале 1910-х гг. этот суеверный человек, у которого периодически обострялся туберкулёзный процесс, испытывал недоверие к окружающим и впал в глубокую депрессию. Очевидцы утверждали, что в последние дни эрцгерцог предчувствовал свою смерть, но тут мы вступаем в сферу «тонких материй», которые не проверить методами исторического исследования.
Ясно, что австрийские руководители не симпатизировали Сербии, но хотели ли они войны с ней до сараевского убийства? Наиболее определённо высказался сам Франц-Фердинанд: «Война с Россией станет концом для нас. Если мы что-либо предпримем против Сербии, Россия поддержит её, и мы получим войну с Россией. Стоит ли австрийскому императору и русскому царю сбрасывать друг друга с тронов и открывать дорогу революции?» Франц-Иосиф не хотел омрачать последние годы своего царствования. Генералы рвались в бой, что видно из дневников и памятных записок начальника генштаба. Главы МИД войны не страшились, но и не спешили поддаваться на уговоры военных. Вена, предупреждал британский посол Картрайт в мае 1913 г., «не может допустить никакого раздробления своих провинций, не рискуя тем, что рухнет всё здание». Как отметил его соотечественник Гуч, «после аннексии Боснии единственной целью австрийских государственных мужей было удержать имевшееся. Больше всего их беспокоили враждебность Сербии и поддержка Россией пансербских устремлений».
Убийство эрцгерцога радикально изменило ситуацию. «Во внутренней жизни монархии, — писал Сазонову посол в Вене Николай Шебеко, — с исчезновением личности покойного наследника, несомненно, рушится целое здание, хотя не вполне известное и, может быть, неустойчивое, тем не менее несомненно существовавшее, и около которого до некоторой степени группировались элементы, сознающие, что так дальше идти нельзя и что только полная перемена курса внутренней политики может спасти австро-венгерскую монархию от гибели в более или менее близком будущем». Посол делал вывод, что Франц-Фердинанд «являлся сторонником активной политики, требующей выяснения существующих неопределённых положений и разрешения спорных вопросов, если не мирным путём, то при помощи сильной армии и флота». Сейчас это может восприниматься как характеристика законченного милитариста, но в те годы её можно было применить к любому европейскому правителю, обладавшему хоть какими-то вооружёнными силами.
Узнав о трагедии, министр иностранных дел Берхтольд воскликнул: «Наконец-то мы расправимся с Сербией!» В подобном тоне высказывался в те дни не он один, но можно ли сделать из этого однозначный вывод об агрессивности устремлений Австрии? Полагаю, что картина намного сложнее.
Арест Гаврило Принципа
Убийство наследника престола было слишком дерзким вызовом, чтобы «не заметить» его и не отреагировать.
«Проглотить» подобное оскорбление — значило расписаться в собственной беспомощности и поощрить сепаратистов. «Выступление против Сербии, — сделал вывод Фей, — было с точки зрения Австрии единственным шагом, который мог обеспечить ей дальнейшее существование как государству». Принцип и его товарищи в результате аннексии стали подданными Австро-Венгрии, так что случившееся формально было внутренним делом двуединой монархии. Однако они сразу после ареста заявили о себе как о борцах за общеславянское дело, да и «сербские интриги» в Боснии и Герцеговине были секретом Полишинеля. Вена решила действовать, понимая, что «надо что-то делать». Именно такими словами мемуаристы позже определяли настроение” царившее в правящих кругах страны.
7 июля объединённый совет министров обсуждал возможность войны с Сербией. Берхтольд доложил Францу-Иосифу, что все участники, кроме венгерского премьера Тиссы, «разделяли защищаемый нами (Берхтольдом. — В. М.) взгляд, что нынешний повод должен быть использован для военных действий против Сербии, так как наше положение может лишь ухудшиться от длительного выжидания… Граф Тисса защищал ту точку зрения, что военные мероприятия против Сербии могут иметь место только в том случае, если предварительно не удастся привести Сербию к покорности дипломатическим путём. Граф Тисса опасается, что в настоящее время мы, в случае войны, должны будем иметь дело также и с друзьями и союзниками Сербии на Балканах».
Эти разногласия вкупе с необходимостью закончить следствие привели к тому, что только 23 июля, почти через четыре недели (!) после убийства, Австро-Венгрия представила Белграду ультиматум, которого с тревогой ожидали европейские политики. Некоторые его положения стали известны уже в середине месяца: Вена намеревалась потребовать официального осуждения правительством пансербской пропаганды, проведения следствия в самой Сербии с участием австрийского чиновника и наказания виновных. Рассмотрим итоговый вариант документа, считающегося одной из главных причин войны, подробно, чтобы ничего не упустить.
Напомнив, что декларацией от 31 марта 1909 г. Белград обязался поддерживать с Веной добрососедские отношения, нота констатировала «существование в Сербии революционного движения, имеющего целью отторгнуть от Австро-Венгерской монархии некоторые части её территории» и то, что «сербское правительство не приняло никаких мер, чтобы подавить это движение». «Оно допускало, — говорилось далее, — преступную деятельность различных обществ и организаций, направленную против монархии, распущенный тон в печати, прославление виновников покушения, участие офицеров и чиновников в революционных выступлениях, вредную пропаганду в учебных заведениях; наконец, оно допускало все манифестации, которые могли возбудить в сербском населении ненависть к монархии и презрение к её установлениям». Следует признать, что это были не пустые слова: к ноте прилагались выводы следствия, которое установило многие факты, приведённые в предыдущей главе. Многие — но не все!
Чего хотела Вена? Прежде всего, официального заявления сербского правительства (текст прилагался!) с осуждением антиавстрийской пропаганды, сожалением о её «прискорбных последствиях» и об участии в ней офицеров и чиновников, которые предупреждались о недопустимости этого под угрозой «самых суровых мер». Иными словами, Белграду давалась возможность отмежеваться от «Народной одбраны». Далее следовали ещё десять требований, которые я приведу с сокращением некоторых деталей:
«1) Не допускать никакие публикации, возбуждающие ненависть и презрение к монархии и проникнутые общей тенденцией, направленной против её территориальной неприкосновенности.
2) Немедленно закрыть общество, называемое «Народна одбрана», конфисковать все средства пропаганды этого общества и принять те же меры против других обществ и организаций в Сербии, занимающихся пропагандой против Австро-Венгерской монархии. Королевское правительство примет необходимые меры, чтобы распущенные им общества не могли продолжать свою деятельность под другим названием или в другой форме.
3) Незамедлительно исключить из области сербского народного образования, как в отношении личного состава учащихся, так и в отношении способов обучения, всё то, что служит или могло бы служить к распространению пропаганды против Австро-Венгрии.
4) Удалить с военной и вообще административной службы всех офицеров и должностных лиц, виновных в пропаганде против Австро-Венгерской монархии (Вена была готова сообщить имена и подробности. — В. М.).
5) Допустить сотрудничество в Сербии органов австро-венгерского правительства в деле подавления революционного движения, направленного против территориальной неприкосновенности монархии.
6) Произвести судебное расследование против участников заговора 28 июня, находящихся на сербской территории, причём лица, командированные австро-венгерским правительством, примут участие в розысках, вызываемых этим расследованием.
7) Срочно арестовать Войя Танкосича и Милана Цигановича, скомпрометированных результатами сараевского расследования.
8) Пресечь содействие местных сербских властей незаконной торговле оружием через границу и наказать пограничников, виновных в содействии покушению (этот пункт дан в изложении. — В. М.).
9) Дать объяснения по поводу недопустимых заявлений высших сербских чинов, как в Сербии, так и за границей, которые, несмотря на своё официальное положение, позволили себе после покушения 28 июня высказываться в интервью во враждебном по отношению к Австро-Венгерской монархии тоне.
10) Без замедления уведомить об осуществлении указанных мер».
На ответ давалось двое суток.
Вместе с этим австрийским послам в Германии, Италии, России, Франции, Великобритании и Турции — странах, подписавших Берлинский трактат 1878 г. и признавших аннексию Боснии и Герцеговины, — поручалось передать министерствам иностранных дел перечисленных держав разъяснение позиции Вены, составленное в решительных выражениях вроде «заговорщический дух сербских политиков, оставивший кровавые следы в летописи королевства». Ссылки на то, что «Сербия стала очагом преступной агитации», а «сербское правительство не сочло нужным принять никаких мер» против неё, соседствовали с утверждениями о «бескорыстной и незлопамятной позиции» Австро-Венгрии, её «дружелюбии» и «долготерпении». Известив, что он «оказался вынужденным предпринять новые и весьма настойчивые шаги», венский кабинет выражал уверенность, что «действует в полном согласии с чувствами всех цивилизованных наций, которые вряд ли допустят, чтобы цареубийство сделалось оружием, которым можно безнаказанно пользоваться в политической борьбе, и чтобы европейский мир постоянно нарушался действиями, исходящими из Белграда».
Как оценить этот ультиматум? Зигмунд фон Мах, германский учёный, живший и работавший в США, считал, что «ультиматум, составленный в более умеренных выражениях, мог привлечь симпатии мира на сторону Австрии вместо того, чтобы служить доказательством сербских утверждений о деспотизме двуединой монархии». Баварский генерал-профессор Монжела признал, что документ «несовместим с достоинством независимого государства». Такой же точки зрения придерживались и в МИД Германии, получив предварительную информацию о содержании ультиматума через своего посла в Вене Генриха фон Чиршки. Иным было мнение… британской прессы. «Дэйли ньюс» заявила, что «возмущение Австрии естественно и оправданно», а её требования «не содержат ничего реально нетерпимого», поэтому «Сербии лучше всего принять их». «Дэйли кроникл» оценила ноту как «решительную, но едва ли более решительную, чем того требует разумная самозащита». «Австрия не может стерпеть подобные вещи без угрозы не только своему достоинству, но и самому существованию», — подчеркнула газета. «Пэлл Мэлл газетт» добавила: «Невозможно отрицать то, что Белград — центр заговора против спокойствия соседнего государства».
Есть все основания думать, что Берхтольд и Гойос составили ультиматум с сознательным расчётом на отказ Белграда и задержали его передачу внешнеполитическим ведомствам в других столицах так, чтобы предотвратить вмешательство третьих стран в конфликт между Австрией и Сербией. Досье с доказательствами причастности Белграда к сараевскому убийству было разослано только после объявления войны и к тому же без перевода, поэтому его никто не стал читать. Вручение ультиматума решили отложить до отъезда французского президента Раймона Пуанкаре и премьера Рене Вивиани из Петербурга, чтобы затруднить сербам консультации с Россией, поскольку царь и его министры сразу обратились бы за помощью к Франции. О том, как это происходило, мы знаем со слов бывшего генерального секретаря сербского МИД (министром был сам премьер Пашич) Славко Груича.
23 июля Груич с удивлением увидел у подъезда МИД экипаж: служащие ходили пешком, иностранные дипломаты приезжали либо по назначению, либо в приёмные часы — с 11 до 12. На лестнице он встретил секретаря австрийской миссий, который сообщил, что посланник Владимир Гизль хочет видеть Пашича сегодня в 16 часов. Тот ответил, что премьера нет в столице (это было известно из газет). На вопрос, с кем посланник может встретиться, Груич назвал себя и министра финансов Лазаря Пачу, который официально замещал главу правительства, а затем осведомился о цели визита. «Для передачи важного сообщения», — коротко сказал секретарь.
Груич немедленно поехал к Пачу. Сомнений относительно содержания разговора у них не было, а желание зафиксировать время наводило на мысль об ультиматуме с определённым сроком ответа. Они стали разыскивать оставшихся в Белграде министров (в стране шла избирательная кампания) и нашли только двоих — министра просвещения Любу Иовановича (который позже рассказал об осведомлённости Пашича о заговоре) и министра внутренних дел Стояна Протича. Находившийся в деревне премьер не был доступен по телефону, поэтому к нему послали жандарма с депешей и распорядились подготовить для него поезд на ближайшей станции.
Без пяти минут четыре в МИД, где уже собрались министры, явился бледный и взволнованный секретарь австрийской миссии и сообщил, что его шеф приносит извинения, но не может прийти раньше 18 часов (сейчас мы знаем, что он ждал отъезда Пуанкаре, который тоже задержался на час). В шесть вечера Гизль вручил ультиматум и, согласно его докладу в Вену, «прибавил, что ответ ожидается к шести часам вечера в субботу (25 июля. — В. М), к какому сроку, если не будет ответа или будет дан неудовлетворительный ответ, я покину с персоналом миссии Белград. Пачу заметил, не читая ноты (он не знал французского языка, на котором в то время составлялись международные документы. — В. М.), что сейчас выборы, часть министров отсутствует, и он опасается физической невозможности созвать своевременно совет министров в полном составе для принятия, по-видимому, важного сообщения. Я возразил, что возвращение министров в эпоху железных дорог, телеграфа и телефона является, учитывая размеры страны, делом нескольких часов». Берхтольд предписал Гизлю считать любые условия и оговорки при ответе отклонением ультиматума, а потому готовиться к отъезду.
Груич перевёл коллегам текст ноты. Воцарилось напряжённое молчание. Наконец Иованович встал, прошёлся по комнате и сказал: «Не остаётся ничего другого, как погибнуть с честью». Сербским посланникам за границей были немедленно посланы телеграммы о том, что правительство не может принять требования полностью. Затем были извещены представители стран Антанты в Белграде. Правительство обратилось за помощью к России.
Принц-регент Александр
Принц-регент Александр среди ночи лично явился в русскую миссию, чтобы, по словам поверенного в делах Василия Штрандтмана, «выразить мне своё отчаяние по поводу австрийского ультиматума, подчиниться которому в целом он решительно не видит возможности для государства, имеющего малейшее чувство собственного достоинства. Его высочество сказал мне, что он возлагает все надежды на государя императора и на Россию, только могучее слово коей может спасти Сербию. До возвращения Пашича завтра в пять утра он никаких решений не примет. Особенно оскорбительными он считает пункт четвёртый и те, в которых заключаются настояния о допущении австрийских агентов в Сербию».
К утру все министры во главе с Пашичем собрались в столице. Премьер сообщил Штрандтману — с ним он советовался обо всём, как раньше с покойным Гартвигом, — что ноту «ни принять, ни отклонить нельзя, нужно во что бы то ни стало выиграть время». Совещание шло весь день, но принятие решения оказалось чрезвычайно трудным. Военные требовали отвергнуть ультиматум и начать войну, угрожая переворотом в случае его принятия. Страны Антанты дали совет сохранять спокойствие и достоинство (легко сказать, когда Белград находился у тогдашней границы с Австро-Венгрией!), но не более. Конкретного ответа из Петербурга всё не было, поэтому Пашич приказал начать эвакуацию правительственных учреждений из столицы, мобилизацию и переброску войск к границе. Не теряя времени, кабинет составил два варианта ответа — положительный и отрицательный, на всякий случай распустив слух о том, что конфликт можно уладить мирным путём. Услышав об этом от знакомого журналиста, австрийский посланник, деятельно упаковывавший чемоданы, испуганно закричал: «Ведь это же невозможно! Это исключено! Я просто не могу этому поверить. Это было бы неслыханно!» — чем выдал себя с головой.
По имеющимся свидетельствам, в первые часы после полудня 25 июля в Белград из Петербурга пришли две телеграммы: короткая с советом приступить к мобилизации и длинная с изложением позиции правительства. В результате принц Александр около 15 часов подписал приказ о всеобщей мобилизации. Телеграммы отправил посланник Мирослав Спалайкович после совещания с Сазоновым. Глава российского МИД осудил ультиматум, обещал Сербии поддержку, но посоветовал позволить австрийцам вторгнуться на её территорию и не оказывать сопротивления ввиду недостаточности сил — в том числе для того, чтобы предстать перед всем миром в качестве невинной жертвы (о последнем, конечно, открыто не говорилось).
Ответ, в составлении которого в послеполуденные часы 25 июля принял участие весь кабинет министров, стал, по словам начальника канцелярии австрийского МИД Александра Музулина, «самым блестящим образцом дипломатического искусства, какой я только знал» — а уж он-то разбирался в подобных вещах. Его шеф Берхтольд в докладе Францу-Иосифу охарактеризовал документ как «очень ловко составленный, совершенно ничтожный по содержанию, но уступчивый по форме». «Такого искусного, такого мастерского в смысле объяснения позиции Сербии ответа австрийские дипломаты не ожидали, — писал Полетика. — И высокопоставленные чиновники министерства иностранных дел протирали себе глаза, читая сербский ответ, и удивлялись тому, откуда сербы набрались такого дипломатического мастерства». Возможным «источником вдохновения» французский историк Пьер Ренувен назвал внешнеполитическое ведомство своей страны: директор его канцелярии, искусный дипломат Филипп Вертело давал советы посланнику Весничу и чуть ли даже не набросал для него черновик ответа.
Что было в этом пространном тексте? В почтительных фразах сербское правительство заявляло о своей «миролюбивой и умеренной политике», снимало с себя ответственность за «манифестации частного характера», называло «тягостной неожиданностью» утверждения о причастности своих граждан к трагедии в Сараево, изъявляло «готовность предать суду всякого сербского подданного, невзирая на его положение и ранг, в соучастии которого в сараевском преступлении ему были бы предъявлены доказательства». Белград согласился на публикацию декларации, которой желала Вена, и принял почти все пункты ультиматума. Отвергнуто было только требование об участии австро-венгерских чиновников в расследовании на сербской территории, «так как это было бы нарушением конституции и закона об уголовном судопроизводстве». Относительно требования «допустить сотрудничество в Сербии органов австро-венгерского правительства в деле подавления революционного движения, направленного против территориальной неприкосновенности монархии»
Австрийский посол в Петербурге Ф. фон Сапари разъяснил Сазонову, что речь идёт лишь о создании заграничного представительства службы безопасности. были запрошены дополнительные разъяснения с оговоркой, что Белград «допустит сотрудничество, соответствующее нормам международного права и уголовного судопроизводства, равно как добрососедским отношениям между обоими государствами». По справедливости, это нельзя было считать отказом.
В последнем абзаце сербское правительство, «признавая отвечающим общим интересам не спешить с разрешением настоящего вопроса», изъявило готовность передать его на рассмотрение международного трибунала в Гааге (что в условиях того времени было демагогией) или держав, признавших аннексию Боснии и Герцеговины и изменения Берлинского трактата (что делало двустороннюю проблему общеевропейской). С точки зрения дипломатии и пропаганды ответ был победой Белграда. Объявить его неудовлетворительным значило для Австро-Венгрии признать агрессивность своих намерений или, как минимум, неконструктивность позиции. Но в Вене решили не отступать.
В опустевшем здании МИД Груич «с листа» диктовал машинистке французский текст ответа. В последнюю минуту кто-то из министров потребовал новых исправлений, но дипломат умерил его пыл словами, что иначе они не успеют к указанному сроку. В довершение всего сломалась единственная в министерстве пишущая машинка, и окончание ноты было написано от руки. За десять минут до истечения срока Груич отвёз ноту Пашичу, который сунул конверт под мышку, сел в приготовленный экипаж и отправился в австрийскую миссию, благо всё было рядом. Свидание премьера с посланником Гизлем, в прямом смысле сидевшим на чемоданах, продолжалось не более двух минут. После обмена приветствиями Пашич вручил ноту и с характерным смешком пошёл к выходу. Гизль быстро пробежал текст глазами, облегчённо вздохнул (оговорки приравнивались к отказу), подписал заготовленные заранее ноты о разрыве дипломатических отношений и об отъезде миссии и велел грузить вещи. Уже через десять минут дипломаты на четырёх экипажах выехали на вокзал, в половине седьмого сели в поезд и ещё через десять минут были на австрийской территории, откуда посланник, как было заранее условлено, позвонил Тиссе в Будапешт (телефонная связь с ним из приграничной зоны была лучше, чем с Веной).
В тот же день, 25 июля, в Сербии была объявлена всеобщая мобилизация. Члены королевского дома, правительство и дипломатический корпус выехали в Крагуевац, где находились основные армейские арсеналы, а затем в Ниш. 27 июля Австрия объявила частичную мобилизацию против Сербии и Черногории, днём позже — когда мобилизация началась — войну Сербии. «Сараево сделало своё дело — повод для войны был создан и машина войны пущена в ход», — подвёл итог Полетика.
Ко времени составления ультиматума австрийское руководство хотело войны с далеко идущими последствиями, поэтому его последующие заявления о «незаинтересованности» в приобретении какой-либо части сербской территории были не более чем дипломатической уловкой. Премьер Штюргк выступал за смену династии в Белграде, заключение военной конвенции с новым, подконтрольным Вене правительством и за исправление границ в пользу Австрии. Берхтольд предложил вообще ликвидировать сербское государство, разделив его территорию между Болгарией, Грецией, Албанией и Румынией, привязав их таким образом к Центральным державам в качестве сателлитов. Наиболее откровенно изложил свою позицию начальник генштаба Гётцендорф, позднее едва ли не единственный, кто признавался, что желал войны:
«Две возможности резко противостояли друг другу: либо сохранение Австро-Венгрии в виде конгломерата различных национальностей, которые сплотятся в одно целое по отношению к внешнему миру и будут сообща строить своё благополучие под управлением общего монарха, либо образование отдельных и независимых государств, которые захватят австро-венгерские территории, заселённые представителями их наций, и таким образом разрушат монархию. Конфликт этих двух взаимно исключающих возможностей давно уже предвиделся и теперь обострился благодаря действиям Сербии. Нельзя было дальше откладывать решение. Вследствие этого, а не из мести за убийство, Австро-Венгрия должна была обнажить меч против Сербии. Тут прежде всего стоял практически чрезвычайно важный вопрос о престиже великой державы, и притом великой державы, которая своим постоянным терпением и уступчивостью (в этом была её ошибка) создавала впечатление бессилия и делала своих внутренних и внешних врагов всё более агрессивными. Новая уступка, особенно теперь, после террористического акта, совершённого Сербией, дала бы волю всем стремлениям, которые уже подтачивали здание империи. Сараевское убийство разрушило карточный домик, сооружённый дипломатией, в котором Австро-Венгрия считала себя в безопасности. Монархию схватили за горло, и ей приходилось выбирать между возможностью быть задушенной или попыткой сделать последние усилия для того, чтобы предотвратить свою гибель».
Гётцендорфу принадлежит и такое откровенное признание насчёт соотношения сил и упущенных возможностей: «В 1908—1909 гг. это была бы война с картами на столе, в 1912—1913 гг. — игра случая. Теперь это игра ва-банк». Но ни его, ни Берхтольда это не остановило.
Австрийцы стремились представить происходящее как локальный конфликт, не требующий вмешательства других держав, однако в условиях блокового противостояния это было как минимум легкомысленно. На что они рассчитывали? На повторение ситуации прежних балканских войн? Но в них не участвовала ни одна великая держава, включая Австрию. На то, что поддержка Германии удержит Россию от выступления на стороне Сербии, как это было во время боснийского кризиса 1908—1909 гг.? Это более вероятно, но не менее наивно. Российский посол в Константинополе Михаил Гире писал 27 июля Сазонову:
«События балканской войны, поражение Турции славянскими государствами и усиление последних за её счёт привели к торжеству идеи славянства в ущерб интересам Австро-Венгрии, а следовательно, к усилению престижа Тройственного согласия в ущерб Тройственному союзу и к нарушению таким образом существовавшего ранее политического равновесия. Не будучи в состоянии примириться с создавшимся за последнее время и столь невыгодным для неё положением, Австрия, а за нею, быть может, главным образом Германия естественно старались найти выход из него и неминуемо должны были воспользоваться первым представившимся удобным случаем, чтобы вернуть себе прежнее положение и престиж на Ближнем Востоке и восстановить равновесие в пользу Тройственного союза. Таким удобным случаем и явилось убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда… Не может быть сомнения в том, что, будучи предоставлена сама себе, Сербия в конце концов будет раздавлена своей могущественной соседкой. Такое блестящее достижение Австро-Венгрией поставленной ею себе цели, торжество её, а следовательно, и торжество поддерживающего её Тройственного союза будет иметь своим неизбежным конечным результатом полное нарушение политического равновесия на Балканском полуострове в пользу последнего. Я считаю своим долгом обратить внимание на то, что успешное завершение предпринятого Австро-Венгрией шага будет иметь также результатом полное разрушение нашего престижа и добытого путём стольких жертв и усилий положения на Ближнем Востоке, самым пагубным образом отразится на всех наших экономических интересах и сведёт на нет все достигнутые за последние годы результаты. Создастся такое невыносимое для нас положение, что недалеко, быть может, то время, когда мы сами, чтобы найти из него выход, будем вынуждены принять на себя инициативу войны».
В Петербурге это понимали. Должны были понимать и в других столицах.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Россия: драма Константинополя и проливов
Действующие лица в Санкт-Петербурге (Петрограде[5]):
→ Император Николай II
→ Великий князь Николай Николаевич-младший, командующий войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа
→ Председатели Совета министров Владимир Коковцов (1911 — 1914) и Иван Горемыкин (1914—1916)
→ Министры иностранных дел Александр Извольский (1906—1910) и Сергей Сазонов (1910—1916)
→ Военный министр генерал от кавалерии Владимир Сухомлинов
→ Начальник генерального штаба генерал от инфантерии Николай Янушкевич
→ Начальник мобилизационного отделения Главного управления генерального штаба генерал-майор Сергей Добровольский
→ Французский посол Морйс Палеолог
→ Британский посол сэр Джордж Бьюкенен
→ Германский посол граф Фридрих Пурталес
→ Австрийский посол граф Фридрих фон Сапари
→ Сербский посланник Мирослав Спалайкович
* * *
Говорить о России применительно к событиям Первой мировой войны одновременно и легко, и трудно. Легко из-за обилия документов, написанных по-русски, что исключает возможность ошибок и «трудностей перевода», хотя у дипломатов особый язык — витиеватый и порой двусмысленный. Трудно — потому что это наша страна, наше прошлое, к которому мы не можем относиться равнодушно. События отечественной истории порождают небывалое количество нелепых фантазий,, беспочвенных утверждений и откровенных фальсификаций, с которыми необходимо бороться на основании документов, установленных фактов и методов научного исследования. И быть готовым к тому, что результат не будет соответствовать расхожим представлениям.
Владимир Ламсдорф
В начале XX в. Россия вела такую же империалистическую политику, как и другие великие державы. После большевистской революции за границей её попытались представить чуть ли не главным агрессором. Политизированная советская историография, возлагавшая на свергнутый режим ответственность «за всё», поначалу не возражала. Потом идеологический вектор поменялся: «царская» политика осуждалась, но не так резко, как действия других стран. Это легко проследить при сравнении изданий труда Николая Полетики «Происхождение мировой войны», вышедших в 1935 и 1964 гг.[6] Такая тенденция сохраняется и сегодня, когда некоторые авторы, в основном не профессиональные историки, пытаются представить Россию исключительно жертвой обстоятельств, а то и зловещего «всемирного заговора», видимо, думая, что так «патриотичнее».
Наша страна — как и все остальные участники драмы — не нуждается в подобных «оправданиях», поскольку речь идёт об ответственности узкого круга людей — опять же, как и в других странах.
После поражения в войне с Японией в 1905 г. дипломатия России снова переориентировалась на Европу. Это совпало со сменяй главы МИД: опытного, но несамостоятельного графа Владимира Ламсдорфа, бывшего, как и его предшественники, лишь начальником «дипломатической канцелярии» при царе, сменил умный, энергичный и несколько авантюрный Александр Извольский, который ранее возглавлял миссии в Ватикане, Белграде, Мюнхене (Бавария имела свою дипломатическую службу), Токио и Копенгагене. Заручившись поддержкой императора Николая II и председателя Совета министров Петра Столыпина, Извольский добился тактической самостоятельности, заигрывал с прессой и Государственной думой, но не считал нужным согласовывать свои шаги с другими министрами, что приводило к постоянным конфликтам.
Александр Извольский
В области внешней политики главными целями Извольского стали заключение союза с Англией и Францией против Германии и обеспечение контроля над Босфором и Дарданеллами. По Лондонской конвенции 1841 г., которую подписали Великобритания, Россия, Франция, Австрия и Пруссия, проливы были закрыты для прохода чьих-либо военных кораблей в мирное время. За турецким султаном сохранялось право разрешать проход лёгких военных кораблей, состоящих в распоряжении посольств дружественных стран; режим проливов во время войны конвенцией не оговаривался. За её выполнением строго следила Англия, стремившаяся не допустить Россию в Средиземное море, что помешало черноморской эскадре принять участие в русско-японской войне. После поражения в Крымской войне 1854—1855 гг. России пришлось отказаться от военного флота на Чёрном море, но разгром Франции Пруссией в 1871 г. и изменение баланса сил в Европе позволили Петербургу добиться отмены запрета.
В начале XX в. Россия превратилась в сильнейшую черноморскую державу, и ей стало тесно в пределах Чёрного моря. Планы десанта на Босфоре не раз обсуждались в высших сферах, но не были осуществлены из-за неминуемого конфликта с Лондоном. Оставалась мечта о дне, когда «славянский стяг зареет над Царьградом», как писал Валерий Брюсов в 1900 г. Память о киевском князе Олеге, прибившем в знак победы свой щит к вратам Царьграда в 907 г., превратилась в политический императив.
Значение черноморских проливов не ограничивалось сферами военной стратегии или государственного престижа. Как заметила Ю. В. Лунёва, «статистические данные о российском экспорте через проливы наглядно демонстрируют экономическое значение проливов. Так, за период с 1906 по 1910 г. вывоз хлебных злаков из портов Чёрного моря составил 4691 тыс. тонн, из портов Азовского — 2825 тыс. тонн, а из Балтийского — всего 1081 тыс. тонн. В совокупности Чёрное и Азовское моря участвовали, таким образом, в 74,5% общего движения хлебных злаков», Британский исследователь В.В. Готлиб отметил: «Сухопутный транспорт, который обходился в 25 раз дороже, чем перевозка морским путём, был неэкономичен для такого рода грузов. Поэтому за десятилетие до 1912 г. вывоз русских товаров через проливы составил 37% всего экспорта России. Важность этого пути возросла в связи с намечавшимся индустриальным развитием Украины, с её крупными запасами железа и угля, и в связи с эксплуатацией ресурсов Закавказья и Персии».
Не меньшее значение проливы имели для Берлина. «Для германского империализма, приобретавшего благодаря Багдадской железной” дороге господствующее положение в Малой Азии, — отметил Полетика, — захват Босфора и Дарданелл царизмом был бы ударом, прерывающим связь метрополии с хинтерландом (зона влияния. — В. М). Великий путь Гамбург—Багдад прерывался в самом тонком и чувствительном месте. С другой стороны, для царской России, стремившейся к проливам, установление в них германского господства, гораздо более непосредственного и прямого, чем английское или французское, — ибо железная дорога более осязательное средство империалистической экспансии, чем самая регулярная судоходная линия, — было не менее сокрушительным ударом: «ключи к дому» оказывались в руках «немца», и за всякое давление на Турцию царская Россия могла испытать ещё более чувствительное давление в Царстве Польском».
Полетика показал, как здесь завязывался узел будущего конфликта: «Австро-германская позиция в восточном вопросе сводилась к тому, что Германии был нужен Константинополь как центральный пункт линии империалистической экспансии Берлин—Багдад, которая проходила по балканским странам; Австрия претендовала на западную часть Балканского полуострова, чтобы получить выход к Салоникам. В общей сложности австро-германская позиция одновременно исключала царскую Россию и из Константинополя, и с Балкан. Это приводит к тому, что в Петербурге постепенно зреет убеждение, что дорога в Константинополь идёт «через Берлин в Вену», т. е. через разгром Австрии и Германии. Если прибавить к этому, что в отношении Турции царская Россия претендовала не только на Константинополь и проливы, но и на всю турецкую Армению, а в Австрии — на Галицию, то понятны как вся грандиозность империалистических вожделений русского царизма, так и конфликт его с Германией, которая сама готовилась наложить руку на Турцию и на другие объекты экспансии царской России на Ближнем Востоке». Если бы Петербург и Берлин попробовали договориться…
Союза с Францией и Англией Извольский добился — антигерманское «сердечное согласие», включавшее также Японию, окончательно оформилось в 1907 г. Зато с проливами он потерпел полное фиаско, переоценив как свою сделку с Эренталем, так и дружественность позиции Лондона, за что его иронически прозвали «Наполеоном, начавшим с Ватерлоо». Аннексия Австрией Боснии и Герцеговины и отсутствие реальной поддержки со стороны России усилили радикальные настроения в Сербии, подогреваемые обещаниями Извольского о содействии в будущем. Мстительный и самолюбивый министр воспринял поражение в боснийском кризисе не как свой провал, но как нанесённое ему личное оскорбление, требовавшее отмщения. В 1909 г. он решил уйти в отставку и стал проситься на пост посла в крупной европейской столице, который тогда считался более важным и престижным, чем пост министра. В следующем году появилась вакансия в Париже, куда Извольский и отправился. «Здесь он мог, — писал Фей, — отныне посвятить всю свою неутомимую энергию, всё своё искусство интриги установлению более тесных связей между Россией, Францией и Англией. Теперь он убедился, что только с их поддержкой и путём увеличения вооружений можно избежать в будущем подобного дипломатического поражения или в случае необходимости рисковать войной».
Сергей Сазонов
Преемником Извольского стал товарищ (заместитель) министра Сергей Сазонов, свояк Столыпина, человек, по общему мнению, неглупый, но склонный поддаваться посторонним влияниям и не имевший опыта самостоятельной дипломатической работы, кроме миссии в Ватикане. Язвительный граф Сергей Витте заметил: «Если бы Сазонов не был свояком Столыпина, он закончил бы карьеру посланником в Мюнхене». Как и его предшественник, Сергей Дмитриевич был сторонником Антанты и противостояния Тройственному союзу,. Однажды он заявил британскому послу в Петербурге: «Союз с Англией — альфа и омега моей политики. Жалею только о том, что не я подписал его. И завидую Извольскому, поставившего под ним свою подпись».
Дипломат Юрий Соловьёв утверждал, что «Сазонову оставалось лишь покрывать своим авторитетом министра выполнение замыслов своего более умного и энергичного предшественника, забравшего к этому времени из Парижа все нити русской внешней политики в свои руки». В сказанном есть несомненное преувеличение: к 1914 г. Извольский контролировал лишь одно, хотя и очень важное направление российской дипломатии — французское, и в этом качестве действительно сыграл значительную роль в подталкивании Европы к войне.
Дальнейшая политика Петербурга развивалась в русле усиления блокового противостояния в Европе. Не будем подробно останавливаться на событиях 1910—1913 гг., которые характеризовались нарастанием напряжённости на Балканах, включая очередную попытку России взять проливы под контроль, частичные мобилизации войск, затем войны славян против Турции и между собой. В начале декабря (нового стиля) 1913 г. Сазонов представил царю секретный доклад. Начав с того, что «стремиться к какому-либо росту нашей территории совершенно не входит в наши прямые интересы» и что «задачи внутреннего развития России возлагают на нас в первую очередь обязанность сохранить мир», министр констатировал политическую обречённость Османской империи и, следовательно, возникновение необходимости взять под контроль Босфор и Дарданеллы.
«Проливы в руках сильного государства — это значит полное подчинение экономического развития всего юга России этому государству, — сделал вывод министр. — Тот, кто владеет проливами, получит в свои руки не только ключи от Чёрного и Средиземного моря — он будет иметь ключи для поступательного движения в Малую Азию и для гегемонии на Балканах». Отклонив как неудовлетворительные все предложения о демилитаризации и
«Демарш Чарыкова»: в октябре 1911 г. посол в Константинополе Николай Чарыков, действуя формально по своей инициативе, попытался добиться признания за Россией преимущественного права на свободу действий в районе проливов, обещая взамен расширение двустороннего сотрудничества. Турция отказалась от предложений. Против изменения статуса проливов выступили европейские державы, включая Англию и Францию. В условиях возникшего кризиса Сазонов дезавуировал действия посла заявлением о том, что Россия вопрос о проливах официально не поднимала. нейтрализации проливов, которые не давали России преимуществ по сравнению с другими державами, Сазонов настаивал на разработке программы политических и военных мер для успешного осуществления экспансии.
В этом либеральная оппозиция во главе с кадетом (конституционным демократом) Павлом Милюковым была едина с самыми агрессивными кругами правящей верхушки. «Чёрное море должно быть защищено от прохода туда иностранных судов, — категорически заявил Милюков уже после начала войны, — тогда как русские военные корабли должны иметь свободный выход» в Средиземное море. Думская «оппозиция Его Величества» и по большей части разделявшая её взгляды петербургская и московская печать были настроены проантантовски: одним больше нравилась французская республика, другим британский парламент — и решительно против Германии.
Особый интерес представляет следующий фрагмент доклада Сазонова: «Повторяя высказанное пожелание о возможно более длительном поддержании status quo[7], приходится также снова повторить, что вопрос о проливах едва ли может выдвинуться иначе, как в обстановке общеевропейских осложнений». В переводе на язык практической политики это означает, что взять проливы под контроль Россия сможет только в результате европейской войны, но, несмотря на это, не отказывается от своего намерения. Государственные мужи той эпохи — не только в России — вообще как будто не боялись войны, понимая, что не им воевать, и легкомысленно полагая, что она будет короткой.
Именно с такой точки зрения министр проанализировал существующий расклад сил: «Последние (т. е. «общеевропейские осложнения». — В. М.), если можно судить по нынешним условиям, застали бы нас в союзе с Францией и возможном, но далеко не обеспеченном союзе с Англией, или же при доброжелательном нейтралитете этой последней. На Балканах мы, в случае общеевропейских осложнений, могли бы рассчитывать на Сербию, а может быть, и на Румынию». К союзникам можно было добавить Черногорию — две дочери короля Николая I были замужем за русскими великими князьями — поскольку эта небольшая страна имела важное стратегическое положение на побережье Адриатического моря. Главными противниками Сазонов назвал Австрию и Болгарию.
Владимир Коковцов
Иван Горемыкин
Одобрив доклад сразу по прочтении, царь велел созвать Особое совещание[8] по данному вопросу, которое, однако, состоялось только 8(21) февраля 1914 г., уже при новом главе Совета министр из. 31 января (13 февраля) Николай II неожиданно для многих отправил в отставку осторожного и умного Владимира Коковцова, которому «ставил в вину постоянное подчинение общей политики и политики внешней финансовым интересам» (премьер был по совместительству министром финансов), и сделал его преемником престарелого консерватора Ивана Горемыкина, занимавшего этот пост в 1906—1908 гг. Перехваченные и расшифрованные в русском МИД донесения французского посла Жоржа Палеолога своему министру Гастону Думергу зафиксировали столичные слухи о том, что «в восточном кризисе понадобятся люди активные или, по крайней мере, решительные», что новый премьер «разделяет мнение великого князя Николая (Николаевича-младшего. — В. М.) и Гартвига» и «является одним из наиболее верных сторонников союза с Францией», а «положение министра иностранных дел будто бы поколеблено». «Придворные сплетни, скажете вы, — писал Михаил Покровский в предисловии к публикации этих документов. — Но ссылка на Николая «Большого» (прозвище великого князя, данное ему в том числе за огромный рост. — В. М.) и Гартвига, фактического руководителя сербской политики в это время, звучит чрезвычайно правдоподобно. Сазонов «исправился» и удержался — Кековцов был неисправим и полетел». «Исправляться» министру иностранных дел не пришлось — он выступал за силовое решение проблемы не менее активно, чем Николай Николаевич и Гартвиг, и царь одобрил его позицию. Предварительна прочитанный всеми участниками Особого совещания, на котором преобладали военные, доклад Сазонова возражений не вызвал, включая положение о том, что «борьба за Константинополь вряд ли возможна без общеевропейской войны». Разговор получился деловой, и его результатом стали конкретные предложения по подготовке к возможному захвату проливов. Для нас важнее другое: хотя такая перспектива обсуждалась не впервые, впервые её обсуждение закончилось не только признанием желательности силового решения, но и выработкой мер по подготовке к нему.
Известие об убийстве Францд-Фердинанда было встречено в России со смешанными эмоциями. «Теперь, когда первое чувство ужаса улетучилось, — сообщал из Петербурга британский посол, — общим впечатлением является, по-видимому, чувство облегчения, что от престолонаследия устранена столь опасная личность». В донесениях российских послов из стран Тройственного союза звучали иные ноты. Не сговариваясь, Николай Шебеко в Вене, Сергей Свербеев в Берлине и Анатолий Крупенский в Риме назвали убийство «гнусным злодеянием», хотя последний отметил у итальянцев «чувство избавления от неопределённой опасности». Даже Гартвиг в депеше из Белграда употребил то же определение. Император Николай и его министры принесли приличествующие случаю соболезнования, но, судя по документам, их больше волновало другое.
Сазонов сразу посоветовал сербам проявлять «крайнюю осторожность», предупредил австрийцев, что предъявление Белграду жёстких требований «произвело бы в России очень плохое впечатление», и уже к 30 июня добился согласия царя на продажу 120 тыс. винтовок, о которых просил Пашич, «чтобы поддержать на всякий случай и своеобразно поощрить сербское правительство», как заметил Полетика. «Ненависть к эрцгерцогу, — отметил он, — легко преодолела у представителей господствующих классов царской России те монархические чувства, которые могло у них вызвать покушение на члена царствующего дома. Царские сановники, хорошо знакомые с австро-сербскими отношениями последних лет, не сомневались, что покушение инспирировано сербскими националистическими кругами».
Тем не менее до предъявления австрийского ультиматума позиция Петербурга была выжидательной, несмотря на периодические заявления о «решимости». Она радикально изменилась после визита в Россию французского президента Пуанкаре и премьер-министра Вивиани, по совместительству возглавлявшего МИД. Берхтольд задержал вручение ноты в Белграде до отъезда гостей из Петербурга вечером 10(23) июля, чтобы предотвратить возможность оперативных русско-французских консультаций, но перехитрил самого себя.
Опытный и прекрасно информированный президент не мог не понимать, куда идут события, а потому решил воспользоваться «визитом вежливости», даты которого были согласованы ещё в январе, для обсуждения ситуации со своим главным союзником. «В Париже на первых же порах дали себе ясный отчёт в общеевропейском характере зачинавшегося спора и не давали себя сбить с толку его балканским происхождением», — с неожиданной откровенностью проговорился Сазонов в своих многословных, но в целом бессодержательных мемуарах.
Понимали это и политические противники президента. Против визита выступили бывший посол в Петербурге Жорж Луи, которого Пуанкаре, в бытность премьером, отозвал с должности по просьбе Сазонова, и лидер социалистов Жан Жорес. Луи предупредил влиятельного экс-премьера Жозефа Кайо, что вояж будет иметь «большие последствия». Жорес в палате депутатов заявил, что, голосуя против дополнительного кредита на поездку, социалисты тем самым протестуют против системы тайных договоров. «Эти договоры тем более опасны, — записал его слова Вельтман, — что их тайные условия, неизвестные народным массам, могут не сегодня-завтра сыграть свою роль и повлечь за собою роковые последствия в связи с балканскими осложнениями».
Николай II
О чём разговаривали французский президент и русский самодержец 7(20) июля в Кронштадте? Эту тайну они унесли в могилу, а свита почтительно стояла в стороне. Посол Палеолог зафиксировал лишь свои впечатления, потому что слов не слышал: «Видно, что они говорят о делах, друг друга спрашивают, спорят. Во-видимому, Пуанкаре направляет разговор. Вскоре говорит он один. Император только соглашается, но его лицо свидетельствует о том, что он искренне одобряет, что он чувствует себя в атмосфере доверия и симпатии». Царь и президент были людьми серьёзными и вряд ли тратили время на обсуждение здоровья друг друга или красот Балтийского моря. Через год Николай сказал одному из французских министров, что «никогда не забудет столь твёрдых речей, которые держал тогда Пуанкаре». В тот же день Вивиани обсуждал с Сазоновым конфликт на Балканах и заявил, что Франция не допустит унижения Сербии.
После войны Пуанкаре признал, что, находясь в Петербурге, получил телеграмму от своего посла в Берлине Жюля Камбона о том, что Германия готова поддержать австрийский ультиматум, который, таким образом, превращается в общеевропейскую проблему. Это же он мог понять из бесед с иностранными дипломатами, включая австрийского посла и сербского посланника. После этого президент произнёс фразу, которую записал Палеолог: «Необходимо, чтобы Сазонов был твёрд и чтобы мы его поддержали». Можно согласиться с Феем и Полетикой, что она «лучше, чем всё остальное, характеризует значение поездки Пуанкаре в Россию» и «выражает весь её смысл и цель».
Россия рассчитывала на поддержку Франции против Австрии, которой державы Антанты решили «преподать совет умеренности». Однако Пуанкаре был известен не антиавстрийской, но антигерманской ориентацией: источник его беспокойства находился не в Вене, а в Берлине. Поэтому он с лёгким сердцем заявил, что Франция не возражает против обладания Россией Константинополем, а посол в Петербурге Теофиль Делькассе ранее прямо обещал поддержку в этом деле в обмен на помощь в возврате Эльзаса и Лотарингии. Идея давно носилась в воздухе. Предшественник Делькассе на посту посла Жорж Луи в августе 1910 г. занёс в дневник: «В союзе (франко-русском. — В. М.) Константинополь и проливы являются противовесом Эльзасу и Лотарингии. Об этом не написано ни в каком соглашении, но это — главная цель, о которой думают, но не говорят». И добавил: «Я обнаружил ту же самую мысль в переписке Аното и Монтебелло» — французского министра иностранных дел в 1894—1895 и 1896—1898 гг. и его посла в российской столице.
Разговоры в Кронштадте, Петергофе, Петербурге и Красном Селе, где в честь гостей был проведён парад, касались не только конфликта на Балканах, но и возможных «осложнений» в масштабе континента. Великая княгиня Анастасия, дочь черногорского короля и жена Николая Николаевича, с восторгом говорила Палеологу: «Война скоро вспыхнет. От Австрии ничего не останется. Вы получите обратно Эльзас и Лотарингию. Наши армии встретятся в Берлине. Германия будет уничтожена». Сестёр-черногорок Анастасию и Милицу при русском дворе мало кто принимал всерьез, но с их мужьями нельзя было не считаться: Николай командовал гвардией и столичным военным округом, а затем стал главнокомандующим; его брат Пётр был генерал-инспектором инженерных войск.
Тут уже Франции были нужны гарантии поддержки со стороны России, и она их получила. Об этом мы знаем из телеграммы Палеолога о беседе с Сазоновым и Бьюкененом во французском посольстве 11(24) июля, на следующий день после отъезда президента и сразу по получении из Белграда текста ультиматума. Сазонов и Палеолог проинформировали собеседника об итогах визита: Россия и Франция подтвердили «полную общность взглядов на различные проблемы, которые забота о всеобщем мире и европейском равновесии ставит перед державами» и верность «обязательствам, которые союз налагает на обе стороны». Бьюкенен не был готов к каким-либо заявлениям, но подробно изложил услышанное в телеграмме Грею, отметив требование «объявить о нашей полной солидарности с ними».
Беседа состоялась в час дня. Чтобы в полной мере оценить её значение, надо иметь в виду, что в 11 часов утра Сазонов принял австрийского посла графа Сапари, который официально сообщил ему текст ультиматума. Министр знал его содержание, так как уже получил телеграмму Штрандтмана из Белграда, прочитав которую, воскликнул: «Это европейская война!» Поэтому он разговаривал с послом особенно жёстко. «Относительно места, говорившего, что мы знаем, что все цивилизованные народы разделяют наши чувства, — докладывал Сапари, — он выразился, что это заблуждение». Апелляцию к монархической солидарности Сазонов оборвал фразой: «Монархическая идея здесь ни при чём». «Вы хотите войны и сожгли свои мосты», — суммировал министр, саркастически добавив: «Видно, как вы миролюбивы, раз вы поджигаете Европу».
Фридрих фон Сапари
Не дав ответа по существу, глава МИД поспешил на срочное заседание Совета министров, где сообщил об ультиматуме и предложил побудить Вену к отсрочке его исполнения, одновременно посоветовав Белграду «вручить свою судьбу решению великих держав». Предложения были приняты, но самые интересные решения последовали дальше: «Предоставить военному и морскому министрам испросить высочайшее соизволение на объявление, в зависимости от хода дел, мобилизации четырёх военных округов — Киевского, Одесского, Московского и Казанского, Балтийского[9] и Черноморского флотов. Предоставить военному министру незамедлительно ускорить пополнение запасов материальной части армии. Предоставить министру финансов принять меры к безотлагательному уменьшению принадлежащих финансовому ведомству сумм, находящихся в Германии и Австро-Венгрии». Содержание решения не оставляло сомнений: в случае неуступчивости Австрии Россия была готова решиться на войну, причём допуская участие в ней Германии.
Вернувшись в столицу, Сазонов, как гласит «подённая запись» МИД, «преподал сербскому посланнику советы крайней умеренности», с германским послом говорил «весьма твёрдым языком и резко осуждал приём венского кабинета, настаивая на неприемлемости для Сербии вручённой ей ноты». Приехавший в министерство французский посол, «не желая встречаться со своим германским сотоварищем», коротал время за беседой с начальником канцелярии Николаем Шиллингом (автором «подённой записи»), которому сказал: «Никогда мы не были в лучшем положении, так как между нами существует полное согласие». Наконец, Сазонов, взволнованный и раскрасневшийся после спора с Пурталесом, принял Палеолога и проинформировал его о происходящем.
Утром 12(25) июля царь «изволил начертать» на протоколе состоявшегося накануне заседания «Согласен» и собрал в Красном Селе Совет министров. После речи Сазонова, которая, по словам Сухомлинова, «сильно подействовала на наши солдатские чувства», было решено со следующего дня «ввести на всей территории империи положение о подготовительном к войне периоде». После заседания состоялся смотр войск, в присутствии высшего света и дипломатов, на котором Николай II досрочно произвёл в офицеры петербургских юнкеров. По городу поползли слухи о мобилизации, начались патриотические демонстрации. Министр иностранных дел подготовил для монарха проект письма английскому королю Георгу V с надеждой на то, что обе страны «окажутся вместе на стороне права и справедливости», телеграфировал в Лондон послу Александру Бенкендорфу: «При нынешнем обороте дел первостепенное значение приобретает то положение, которое займёт Англия», — и дал последние инструкции возвращавшемуся в Париж Извольскому. Провожавший его на Варшавский вокзал Палеолог вспоминал: «На платформах большое оживление. Поезда донельзя нагружены офицерами и солдатами. Это пахнет мобилизацией. Мы быстро обмениваемся впечатлениями, делаем одинаковый вывод: на этот раз — это война».
Дипломатические перипетии следующих дней: кто, кому, когда вручил какую, ноту или послал какую телеграмму — многократно описаны в литературе, так что подробности можно найти даже в Интернете. Нас интересует другое — логика событий и действия тех, кто непосредственно стоял за ними. Поэтому мы рассмотрим реальную подготовку к войне — прежде всего мобилизацию русской армии, после которой, по мнению многих историков, мирное развитие событий стало невозможным.
Положение о том, что «мобилизация — это война», было аксиомой и для военных, и для государственных деятелей той эпохи. «Мобилизация — это объявление войны, — сказал начальник французского генерального штаба генерал Буадефр Александру III, когда в 1892 г. вёл в Петербурге переговоры о военной конвенции. — Мобилизоваться — это значит заставить своего соседа сделать то же самое. Позволить мобилизовать на своей границе миллионную армию, не сделав одновременно того же самого, — это значит лишить себя всякой свободы движений в дальнейшем и поставить себя в положение человека, который, имея в кармане револьвер, позволяет своему соседу приставить себе оружие ко лбу, не вынимая своего». Царь одобрил сравнение, заметив: «Я именно так понимаю дело». Он уже прочитал записку начальника Главного штаба генерала Николая Обручева: «Невозможность промедления в фактическом открытии войны указывает, что в минуту объявления мобилизации не может быть уже допускаемо никаких дипломатических колебаний. Все решения дипломатии должны быть установлены заранее».
Речь шла о всеобщей мобилизации, когда войска покидают гарнизоны и выдвигаются к границе с вероятным противником. Именно такую мобилизацию, направленную прежде всего против Германии и одновременную в обеих странах, предусматривала русско-французская конвенция. Раз начавшись, этот процесс уже не может быть остановлен без того, чтобы не ввергнуть армию и всю страну в хаос. Более того, конвенция предполагала начать боевые действия одновременно с мобилизацией даже без объявления войны. Гаагская конвенция делала этот формальный акт необходимым, а уклонившаяся сторона считалась агрессором. Однако общественное мнение посчитало бы агрессором державу, которая первой объявила войну. Задача была двоякой: не опоздать с началом мобилизации (по крайней мере, фактическим), чтобы не ставить под угрозу безопасность своей страны, и не спешить с объявлением войны, чтобы не выглядеть агрессором. Иными словами, сделать так, чтобы на тебя напали, но не застали врасплох.
Утром 11(24) июля — по прочтении телеграммы из Белграда с текстом ультиматума, но до встречи с австрийским послом и заседания Совета. министров, Сазонов пригласил к себе начальника генерального штаба генерала Николая Янушкевича. Подробности их разговора неизвестны, но, вернувшись на службу, Янушкевич позвонил начальнику мобилизационного отделения генерал-майору Сергею Добровольскому и приказал «принести ему через час все документы относительно подготовки наших войск к войне, в которых предусмотрено в случае необходимости объявление частичной мобилизации против одной Австро-Венгрии. Эта мобилизация не должна дать повода Германии усмотреть в ней какое-либо проявление враждебности по отношению к себе». Добровольский попытался возразить, что «о частичной мобилизации не может быть и речи», но Янушкевич повторил приказ.
Вечером того же дня царь вызвал в Красное Село Николая Николаевича, Сухомлинова и Янушкевича. Военные настаивали на всеобщей мобилизации, указывая, что частичная ввергнет страну в хаос, если в течение суток не перейдёт во всеобщую. Кроме того, у России не было мобилизационного плана для войны с одной Австрией, поскольку выступление Германии на её стороне считалось автоматическим. Однако политическое решение о начале войны ещё не было принято: Николай II понимал опасность конфликта с Германией, а Сазонов, ещё не получивший гарантий от Англии, уговаривал монарха не спешить. 12(25) июля царь согласился «объявить мобилизацию в случае перехода австрийскими войсками сербской границы, но не ранее, как через 24 часа после начала предмобилизационного периода», наступавшего в полночь 13(26) июля. Однако сомнений в том, кто будет главным противником, не было. Французский военный агент в Петербурге Пьер Лагиш сообщил в Париж: «Военный министр подтвердил нам свою волю предоставить Германии возможную инициативу нападения на Россию». «Война была уже предрешена, — утверждал Добровольский, — и весь поток телеграмм между правительствами России и Германии представлял лишь мизансцену исторической драмы. Отсрочка момента окончательного решения была, безусловно, весьма полезной для подготовительных мер».
Владимир Сухомлинов
Приведение в исполнение «подготовительных мер» началось немедленно, подгоняемое тревожными сообщениями из Австрии. Не перечисляя их, отмечу главное — приготовления велись не только на австрийской, но и на германской границе, а также на Балтийским море (Кронштадт был объявлен на осадном положении) и с явным прицелом на всеобщую мобилизацию. Разумеется, они тут же привлекли внимание немецких дипломатов и военных, причём для этого не требовались никакие «шпионы», о которых позже так много распространялась пропаганда. Не заметить подготовку к мобилизации было невозможно, поэтому посол граф Пурталес уже вечером 13(26) июля обратил внимание Сазонова «на серьёзную опасность подобной меры, легко могущей вызвать контрмеры». Министр иностранных дел, ставший после совещания в Красном Селе неожиданно миролюбивым и готовым к диалогу, заверил посла, что приказа о мобилизации отдано не было, но признал, что «приняты некоторые военные меры для того, чтобы не быть застигнутыми врасплох». Аналогичное заявление Сухомлинов сделал германскому военному атташе, который заметил, что «мобилизация даже против одной Австрии будет считаться очень угрожающей».
15(28) июля гром грянул: Австрия объявила войну Сербии. Посланник Спалайкович выразил надежду, что «этот акт, нарушающий мир Европы, будет осуждён цивилизованным миром и сурово наказан Россией, покровительницей Сербии». Николай телеграфировал Вильгельму: «Слабой стране объявлена гнусная война. Возмущение в России, вполне разделяемое мною, безмерно». Кайзер напомнил о монархической солидарности: «Без сомнения, ты согласишься со мной, что наши общие интересы, твои и мои, как и интересы всех монархов, требуют, чтобы все лица, нравственно ответственные за это подлое убийство, понесли заслуженное наказание. В данном случае политика не играет никакой роли». Германский император в очередной раз ошибся.
Австро-Венгрия выступила агрессором, хотя её армия была мобилизована лишь частично и против Сербии, а приготовления на российской границе в Галиции имели в основном оборонительный характер. Получив обнадёживающие сведения от союзников из Парижа и Лондона, Сазонов известил глав российских дипломатических миссий, что «непосредственные объяснения мои с австрийским послом, очевидно, нецелесообразны», а затем поинтересовался у Янушкевича, можно ли провести всеобщую мобилизацию тайно. Удивлённый генерал ответил, что это совершенно невозможно, но министр всё равно не согласился на её объявление и уехал на доклад к царю.
Генеральный штаб заготовил два проекта высочайшего указа — о всеобщей и о частичной мобилизации, категорически рекомендуя первую. С ними Янушкевич утром 16(29) июля отправился в Петергоф к императору, но был настолько уверен в исходе поездки, что заранее разослал телеграммы командующим военными округами: «17(30) июля будет объявлено первым днём нашей общей мобилизации. Объявление последует установленною телеграммою». Николай II подписал оба указа. Вернувшись от него, Янушкевич встретился с германским военным атташе, которому поклялся честным словом офицера, что «всё осталось в том же положении, о котором сообщил министр (Сухомлинов. — В. М.) два дня назад», а всё прочее «ложная тревога». Тем не менее военный атташе заключил депешу в Берлин словами: «Учитывая многочисленные и положительные сообщения об имеющих место призывах (запасных. — В. М), я должен считать разговор попыткой ввести меня в заблуждение об объёме принятых до сих пор мер».
Николай Янушкевич (справа)
Затем Янушкевич вручил Добровольскому указ о всеобщей мобилизации и отправил его к главам военного и морского ведомств, а также МВД, чтобы получить их необходимые по закону подписи под мобилизационной телеграммой. Министр внутренних дел Николай Маклаков сказал: «Война не может быть популярна у нас в народных массах, для которых революционные идеи более доступны, чем победа над немцами. Но нельзя избежать своей судьбы», — перекрестился и подписал. Морской министр Иван Григорович тревожно заметил: «Наш флот не в состоянии померяться с германским», — и поставил подпись лишь после телефонного разговора с военным министром. Тот колебаний не испытывал.
Необходимое отступление о Сухомлинове. 27 февраля (12 марта) 1914 г. влиятельная столичная газета «Биржевые ведомости» опубликовала анонимную статью «Россия хочет мира, но готова к войне». В ней, со ссылкой на «безупречный источник», говорилось: «С гордостью мы можем сказать, что для Рпгсии прошли времена угроз извне. России не страшны никакие окрики. Россия готова!» За этим шло информативное и выразительнее перечисление военных приготовлений. Немецкие журналисты и дипломаты сразу обратили внимание на статью и переслали перевод в Берлин, поскольку слова об «окриках» и «угрозах извне» метили в Германию и Австро-Венгрию, а информированность автора наводила на мысль о причастности к делу военного министра. Собранные ими сведения подтвердили догадку. Текст был написан по указанию Сухомлинова в ответ на статьи в немецких газетах о том, что Россия готовится к войне, но будет готова лишь к 1917 г., и одобрен царём. Газета «Русское слово», куда статья предназначалась, отказалась её печатать из-за «вызывающего» характера, а в «Биржевке» появился «разбавленный» вариант.
Пурталес немедленно отправился за разъяснениями к Сазонову. Министр отверг официозный характер публикации и причастность к ней Сухомлинова, но был вынужден проглотить реплику посла о том, что цель статьи — «порадовать французских шовинистов», а сама она написана «в тоне, подходящем для парижских бульваров». Однако 31 мая (13 июня) в «Биржевке» появился ещё более провокационный текст на ту же тему под заглавием «Россия готова. Франция также должна быть готова». Тому, что Сухомлинов не имел к ней отношения, уже никто не верил. На следующее утро статья была перепечатана парижскими газетами, куда её перевод был оперативно (или заранее?) доставлен по телеграфу.
Вернёмся к событиям 16(29) июля. Получив необходимые подписи и следуя приказу «не заезжать больше никуда», Добровольский, по его словам, в девять вечера приехал на Центральный телеграф. Всё было приготовлено для отправки исторического документа в военные округа, но в начале одиннадцатого туда позвонил Янушкевич и приказал срочно остановить процесс, поскольку вместо всеобщей объявлялась частичная мобилизация. По утверждениям мемуаристов, Николай II принял решение самостоятельно, ни с кем не советуясь, после получения в 21:29 телеграммы из Берлина. «Кузен Вилли» считал «вполне возможным для России остаться только зрителем австро-сербского конфликта, не вовлекая Европу в самую ужасную войну, какую ей когда-либо приходилось видеть». Добавив, что «непосредственное соглашение твоего правительства с Веной возможно и желательно», он предупредил «кузена Ники», что военные приготовления России, «которые могли бы рассматриваться Австрией как угроза», лишат его возможности выступить в качестве посредника.
Не только генералы, но и министры встретили решение самодержца в штыки. Утром 17(30) июля Сухомлинов и Янушкевич уговорили Сазонова согласиться на всеобщую мобилизацию и убедить в этом царя, но глава МИД уже «убедился» сам. Генералы позвонили Николаю и, как гласит сделанная со слов Сазонова запись, «вновь старались убедить государя вернуться ко вчерашнему решению и дозволить приступить к общей мобилизации. Его величество решительно отверг эту просьбу и, наконец, коротко объявил, что прекращает разговор», но согласился принять министра иностранных дел в три часа дня. Теперь дадим слово «подённой записи» как важнейшему источнику:
«Генерал Янушкевич просил министра (Сазонова. — В. М.), чтобы, если ему удастся склонить государя, он тотчас бы о том передал ему, Янушкевичу, по телефону из Петергофа для принятия немедленно надлежащих мер, так как необходимо будет прежде всего как можно скорее уже начатую частичную мобилизацию превратить во всеобщую и заменить разосланные приказания новыми. «После этого, — сказал Янушкевич, — я уйду, сломаю свой телефон и вообще приму все меры, чтобы меня никоим образом нельзя было разыскать для преподания противоположных приказаний в смысле новой отмены общей мобилизации…»
В течение почти целого часа министр (Сазонов. — В. М.) доказывал (царю. — В. М.), что война стала неизбежной, так как по всему видно, что Германия решила довести дело до столкновения, иначе она не отклоняла бы всех делаемых примирительных предложений и легко могла бы образумить свою союзницу.[10] При таком положении остаётся лишь делать всё, что нужно для того, чтобы встретить войну во всеоружии и при наиболее выгодной для нас обстановке. Поэтому лучше, не опасаясь вызвать войну нашими к ней приготовлениями, тщательно озаботиться последними, нежели из страха дать повод к войне быть застигнутыми ею врасплох.
Сильное желание государя во что бы то ни стало избежать войны, ужасы которой внушали ему крайнее отвращение, заставляло его величество, в сознании принимаемой им в этот роковой час тяжёлой ответственности, искать всевозможных способов для предотвращения надвигавшейся опасности. Сообразно с этим он долго не соглашался на принятие меры, хотя и необходимой в военном отношении, но которая, как он ясно понимал, могла ускорить развязку в нежелательном смысле…
Наконец, государь согласился с тем, что при нынешних обстоятельствах было бы наиболее опасным не подготовиться вовремя к, неизбежной по-видимому, войне и потому дал своё разрешение приступить сразу к общей мобилизации. С. Д. Сазонов испросил высочайшее соизволение немедленно передать об этом по телефону начальнику генерального штаба и, получив таковое, поспешил в нижний этаж дворца к телефону. Передав высочайшее повеление ожидавшему его с нетерпением генералу Янушкевичу, министр, ссылаясь на утренний разговор, прибавил: «Теперь вы можете сломать телефон». Начальник генштаба ответил: «Мой аппарат испорчен». Затем он отвёз Добровольского на своей машине в Мариинский дворец, где заседал Совет министров, чтобы получить подписи под телеграммой, которая объявляла первым днём всеобщей мобилизации 18(31) июля.
Генерал снова оказался на Центральном телеграфе. «Все телеграфисты, — вспоминал он, — сидели у своих аппаратов, ожидая копии телеграммы, чтобы разослать во все концы Российской империи потрясающую весть о призыве русского народа. Спустя несколько минут после 6 часов в абсолютной тишине, царившей в зале, сразу застучали все аппараты». Через час стали поступать подтверждения о том, что телеграмма дошла. Непосредственно самой России в тот момент никто не угрожал. Даже Австрия не только не провела всеобщей мобилизации, но и заняла свои основные силы подготовкой нападения на Сербию. Бывший начальник генерального штаба генерал Фёдор Палицын позже заметил по этому поводу: «Это Господь Всевышний нас спасает… Они (австрийцы. — В. М.) долго не верили, что Россия объявит войну. Они обратили всё своё внимание на Сербию в полной уверенности, что мы не двинемся. Наша мобилизация как громом их поразила. Но было уже поздно для них. Они связались с Сербией, и немцы тоже упустили первые дни. В общем, мы выгадали 12 дней».
«Дело было сделано. Отступление было невозможным. Начался пролог великой драмы», — завершил Добровольский свой рассказ. «Грандиозной войны, — подхватил Полетика, — цинично навязанной царизмом миллионным массам трудящихся России ради Константинополя и проливов и других колониальных захватов». Историк-эмигрант Александр Тарсаидзе, основываясь на тех же фактах, назвал эту оценку «несправедливой, неубедительной и циничной». Кто прав, судите сами.
В тот момент внешние факторы не угрожали существованию России как государства, но отказаться от «Царьграда» и проливов она уже не могла. «Мы должны вернуться с войны, — писал в декабре 1914 г. штаб-офицер Черноморской оперативной части морского генерального штаба, будущий «красный адмирал» Александр Немитц, — с чем-нибудь, ясно говорящим всякому русскому сердцу и в то же самое время действительно важным для отечества, иначе эта чудовищная война родит внутри России не сплочение, а раздор». Русский посланник в Сербии князь Григорий Трубецкой напоминал Сазонову: «Вся Россия потребовала бы отчёта в том, за что проливается кровь наших близких». Общественному мнению удалось внушить, что России необходимо именно это, но желаемого она так и не получила. «Одни мы захватить проливы не можем ни под каким видом», — признал в конце 1914 г. верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич. Англия и Франция вознамерились сами овладеть ими и взять их под «международный», т. е. фактически свой, контроль, поставив Россию в равное с остальными державами положение, чего её правящие круги как раз стремились избежать. «Ржавый турецкий засов, закрывавший Дарданеллы и Босфор, должен был быть заменён замком новейшего типа, ключи от которого, как предполагала Россия, будут находиться в руках Англии», — остроумно описал ситуацию Готлиб. Но это уже другая тема.
Вернёмся к объявлению всеобщей мобилизации. Германские дипломаты в Петербурге узнали о ней примерно в десять часов утра на следующий день из расклеенных по городу афиш и тотчас сообщили в Берлин. Кайзер — не желая оказаться в роли «человека, который, имея в кармане револьвер, позволяет соседу приставить себе оружие ко лбу, не вынимая своего» — приказал объявить состояние «военной опасности» и предписал послу предъявить России ультиматум: если в течение 12 часов всеобщая мобилизация не будет прекращена, Германия объявит свою. Австрия объявила всеобщую мобилизацию только в этот день. В полночь с 18(31) июля на 19 июля (1 августа) Пурталес сообщил требование Берлина Сазонову. «На вопрос, равносильно ли это войне, посол ответил, что нет, но что мы к ней чрезвычайно близки». «Никто не может порицать нас за нежелание дать России более длинный старт в мобилизации», — добавил он.
Срок ультиматума истекал в полдень 19 июля (1 августа). Уже к часу ночи Пурталес получил из Берлина два варианта ноты об объявлении войны и приказ вручить её в 18 часов. Сомнений относительно ответа у кайзера не было, поэтому одновременно он приказал начать всеобщую мобилизацию, известив об этом «кузена Ники», но телеграмма запоздала и оказалась в российском МИД только ночью. После полудня в Берлине началось заседание бундесрата — собрания представителей государств, входивших в Германскую империю. Канцлер сообщил собравшимся об ультиматумах, предъявленных России и Франции, и о намерении императора в случае неудовлетворительного ответа объявить им войну одновременно со всеобщей мобилизацией. Мотивировка была проста — нельзя откладывать военные приготовления, когда противники уже ведут их по обе стороны от границ империи. В заключение Бетман-Гольвег сказал, что война была навязана Германии, которая будет бороться за свою честь, свободу и могущество. Бундесрат проголосовал единогласно — по конституции кайзеру требовалась его санкция.
Около 19 часов Сазонов принял взволнованного германского посла, который трижды спросил его о возможности отмены мобилизации. После трёх отрицательных ответов Пурталес вручил ему ноту. Затем посол, «потерявший всякое самообладание, отошёл к окну, и, взявшись за голову, заплакал, говоря: «Я никогда не мог подумать, что мне придётся покинуть Петербург при таких условиях». Он обнял министра и ушёл». Во Вторую мировую так уже не прощались.
Германия первой объявила войну России, а затем Франции, соблюдя формальности, но выставив себя агрессором. Это была одна из многочисленных ошибок кайзера. Бывший канцлер Бернгард фон Бюлов заметил: «Если до некоторой степени ещё понятно, что после того, как мы оказались в войне с Россией, мы должны были как можно скорее нанести удар Франции, то уже совершенно неразумным и непонятным является, почему мы должны были объявить войну России. Это создало против нас в глазах всего мира хотя и несправедливое, но во всяком случае трудно опровергаемое обвинение в том, что мы явились поджигателями войны».
Глава четвёртая. Франция: драма реванша
Действующие лица в Париже:
→ Президент Раймон Пуанкаре
→ Премьер-министр и министр иностранных дел Рене Вивиани
→ Военный министр Адольф Мессими
→ Начальник генерального штаба генерал Жак Жоффр
→ Бывший министр иностранных дел Теофиль Делькассе
→ Бывший премьер-министр Жозеф Кайо
→ Лидер социалистов депутат Жан Жорес
→ Российский посол Александр Извольский
→ Российский военный агент полковник граф Алексей Игнатьев
→ Британский посол лорд Френсис Берти
→ Германский посол барон Вильгельм фон Шён
→ Итальянский посол Томмазо Титтони
→ Сербский посланник Миленко Веснич
* * *
Французское слово revanche, означающее «отплата» или «возмещение», не нуждается в переводе. Оно стало всемирным: от матча-реванша в спорте, когда побеждённому чемпиону дают возможность отыграться, до воинственных настроений реваншистов. В нашем случае речь идёт о втором, но постараемся избежать эмоционально окрашенных оценок.
Война с Пруссией, точнее с Северогерманским союзом, которую в 1870 г. начала Франция, закончилась для неё разгромом. После серии поражений армия капитулировала. Император Наполеон III — «ничтожный племянник великого дяди» Наполеона Бонапарта, как назвал его Виктор Гюго, — сдался в плен и отрёкся от престола. В стране воцарился хаос: непрочную, как оказалось, монархию сменила непрочная, как казалось, республика. Новому правительству пришлось 10 мая 1871 г. подписать во Франкфурте-на-Майне суровый мир, получивший название Франкфуртского. С другой стороны тоже было новое государство — Германская империя, создание которой было провозглашено 18 января 1871 г. в Версале.
Побеждённым пришлось уступить провинции Эльзас и Лотарингия, с правом для местных жителей сохранить подданство и переселиться во Францию до 1 октября 1872 г., и согласиться на контрибуцию в 5 млрд. франков (первые 10% через месяц после ратификации договора, остальные в рассрочку, но не позднее 1874 г. и с процентами). Германские войска оставались на территории Франции до выплаты первых 1,5 млрд., а также до «восстановления порядка» в Париже, где была провозглашена Коммуна. Подавлением восставших занялось разместившееся в Версале правительство во главе со знаменитым историком Адольфом Тьером. Так слова «Коммуна» и «Версаль» стали синонимами революции и контрреволюции, «красных» и «белых».
Франкфуртский «мир» многое объясняет в истории Европы вплоть до Первой мировой войны и завершившего её Версальского «мира». Франция не примирилась с ним, поэтому слово «реванш» стало общенациональным лозунгом. Можно было стерпеть контрибуцию: режим Наполеона III, не отличавшийся миролюбием, начал войну и проиграл её — но не потерю двух провинций. Эльзас со столицей в Страсбурге восемь столетий входил в состав Священной Римской империи германской нации, в которой царствовали Габсбурги, и перешёл под власть французской короны по Вестфальскому миру 1648 г., а потому во многом оставался немецким по языку и культуре. Герцогство Лотарингия с центром в Меце было частью той же империи до 1766 г., но здесь намного сильнее оказалось французское влияние — с далёких времён, когда эта земля находилась в центре франкской державы Карла Великого. Но Бисмарка интересовала не история, а стратегия: без включения Эльзаса и Лотарингии в состав создающейся империи он считал невозможным прочно объединить южногерманские земли и создать заслон против Франции.
Франкфуртский «мир» исключил возможность союзнических отношений между Берлином и Парижем. Ни один французский политик не рискнул бы признать его окончательным и отказаться от претензий на Эльзас и Лотарингию. В то же время ни один германский император не мог бы отдать эти провинции Франции. Максимум, на что могли пойти французы, — не настаивать на их возвращении «здесь и сейчас», одновременно требуя уступок в другой сфере. Максимум, на что могли пойти немцы, — предоставить французскому населению провинций широкую автономию. Примирить эти две позиции было невозможно.
Новые хозяева старались «германизировать» земли, население и язык которых оставались смешанными. Однако далеко не все местные жители чувствовали себя «порабощенными», получив лучшие экономические условия и более высокий уровень жизни. Провинции развивались вместе с Германской империей, которая переживала мощный подъём во всех сферах. Упоминавшийся выше профессор Бёрджес, знавший ситуацию не понаслышке, писал:
«Германия построила университет в Страсбурге, ввела обязательное образование, чтобы покончить с поголовной неграмотностью на аннексированных территориях, повсеместно осуществила санитарные реформы, улучшила жилищные условия в городах и деревнях, покончила с трущобами и населявшим их пролетариатом[11], научила крестьян более совершенным методам сельского хозяйства и развила производство в городах ради выгоды и благосостояния их обитателей. Любой, кто видел своими глазами, как я, Alsace-Lorraine в 1871 г. и Elsass-Lothringen[12] сорок лет спустя, не может не испытать удивление и восхищение перед тем, как за этот период изменились к лучшему образование, здоровье, энергия, предприимчивость и процветание местного населения».
Раймон Пуанкаре
Морис Баррес
Около пятидесяти тысяч французов (3% населения обеих провинций в 1871 г.), в основном из Лотарингии, не захотели жить «под немцами» и предпочли покинуть родные места, но не оставили надежду, что их малая родина снова станет частью великого Отечества. Их мечту о возвращении отторгнутых земель легко понять и трудно осудить. Уроженцами Лотарингии были главные идеологи реванша — в описываемое время для большинства французов это слово имело только одно значение — волевой политик Раймон Пуанкаре и пламенный публицист и оратор Морис Баррес.
Выступая в принадлежавшем Германии Меце 15 августа 1911 г., Баррес заявил: «Да здравствует Лотарингия! Это она всегда делает французов едиными. На протяжении сорока лет самая постоянная мысль Франции обращена к Мецу и Страсбургу. Мы не сводим с вас глаз». «Мы не сводим с вас глаз, потому что любим», — поспешил добавить оратор, понимая, что германские власти сделают из его речи правильные по сути, но дипломатически нежелательные выводы.
Пуанкаре и Баррес стали символами политики непримиримости, имевшей много сторонников. Одним из них был Теофиль Делькассе, министр иностранных дел в 1898—1905 гг., который укрепил союз с Рсссией, добился согласия с Англией по колониальным, а затем по общеполитическим вопросам и заключил два тайных соглашения с Италией, фактически оторвав её от Тройственного союза. Делькассе лишился поста из-за того, что его призывы к захвату Марокк» обострили отношения с Германией, тоже имевшей виды на эту ещё независимую страну. Германофобская политика министра стала одной из причин серьёзного внешнеполитического кризиса, когда в Берлине прямо потребовали его отставки. Требование было беспрецедентным, но премьер-министр Морис Рувье с лёгким сердцем согласился, желая избавиться от слишком «беспокойного» коллеги.
Делькассе вернулся в Большую Политику в 1911 г., став морским министром. В этом качестве он через год подписал русско-французскую конвенцию, а в феврале 1913 г. отправился послом на берега Невы, что никого не удивило, Морис Баррес но многих насторожило. Ещё в
1890 г. российский посол в Париже Артур Моренгейм обратил внимание на выступление Делькассе в палате депутатов, изложив его в таких выражениях: «Единственно практичным и реальным союзом является союз между Россией и Францией, основывающийся не на письменных соглашениях, а на общности интересов. Германия заключила союз с Австрией против России и с Италией против Франции, но эта лига бессильна перед моральным единением Франции и России, сохраняющих в сознании своей силы незыблемое спокойствие. Глубокое впечатление, произведённое красноречием молодого депутата, — заключил посол депешу в МИД, — предвещает ему, по-видимому, блестящую будущность». Один из первых визитов в качестве главы внешнеполитического ведомства Делькассе нанёс в Петербург. Итогом стало секретное соглашение двух министров иностранных дел, которое подтвердило политический союз 1891 г. и военную конвенцию 1892 г., сделав её бессрочной. Понимая важность документа, Делькассе увёз подлинник на груди под рубашкой и вручил его лично президенту Эмилю Лубэ. Ни кабинет министров, ни премьер, ни парламент не были поставлены в известность о договоре.[13]
Теофиль Делькассе
Знание этих подробностей необходимо для понимания пути Франции к войне. В качестве посла Делькассе провёл в Петербурге всего год, передав должность директору политического департамента МИД Морису Палеологу, другу и протеже Пуанкаре. Но какой год! Назначение в Россию бывшего министра свидетельствовало о важности данного направления для французской политики. Назначение давнего сторонника франко-русского союза, не скрывавшего своей германофобии, показывало, против кого дружат Париж и Петербург. В Берлине сигнал оценили и отреагировали с нескрываемым раздражением. Добавим, что Делькассе получил должность из рук премьера Пуанкаре, который отозвал с неё опытного дипломата Жоржа Луи.
Об отзыве попросил Сазонов, не скрывавший своё участие в деле. «Этот дипломат, — многозначительно писал он в мемуарах, — совершенно не отвечал требованиям занимаемого им поста, с условиями и особенностями которого ему никак не удавалось освоиться. Благодаря этому, пребывание его в России служило помехой той дружной дипломатической работе, которую, в собственных интересах, необходимо вести правительствам союзных государств, особенно в том случае, когда они имеют дело с противниками, которые достигли полной согласованности в области внешней политики.[14] К счастью Жорж Луи был в скором времени заменён самым выдающимся из государственных людей Франции того времени Теофилем Делькассе. Тому удалось без труда, в весьма короткий срок, занять в Петрограде (так в тексте. — В. М.) подобающее ему место и приобрести горячую симпатию и полное доверие русских правительственных кругов».
Одним из главных достижений Делькассе стало согласие России ускорить строительство у своих западных границ стратегических железных дорог, предназначение которых сомнений не вызывало. Для этого Франция была готова предоставить очередной заём и неодобрительно отнеслась к желанию главы Совета министров Коковцова использовать его на улучшение железнодорожной сети страны в целом. По завершении миссии Делькассе был удостоен высшей награды Российской империи — ордена святого Андрея Первозванного, хотя провёл там меньше года. Пуанкаре получил этот орден сразу после избрания на президентский пост 18 февраля 1913 г. «Видеть Пуанкаре в должности президента французской республики, — писал Сазонов, — было, несомненно, успокоительно. У нас оценили по достоинству его миролюбие, союзническую верность и редкую твёрдость воли». Говорить о «миролюбии» Пуанкаре после войны было неудобно, но Сазонова это не смутило. Кстати, и Пуанкаре, и Сазонов попытались поставить под сомнение подлинность записок Жоржа Луи, когда их фрагменты появились в печати в 1924 г., но тщетно: шило вылезло из мешка и укололо многих.
Отзыв Луи из Петербурга был одним из внешне незаметных, но важных этапов движения Франции и России к войне. За инициативой Сазонова стояли постоянные и настойчивые жалобы Извольского, назначенного в 1910 г. послом в Париж. Когда “Луи в 1911 г. был временно переведён в центральный аппарат министерства, посол находил общение с ним полезным и приятным — тот много знал и охотно делился информацией с представителем союзной державы. Однако уже в феврале 1912 г. Извольский просил Сазонова поручить ведение переговоров по важнейшим вопросам двусторонних отношений именно ему, поскольку французский посол якобы неверно информирует Париж о позиции Петербурга и наоборот, а российскому послу приходится бороться с его вредным влиянием.
Не углубляясь в подробности, отметим главное: Извольский стремился опорочить Луи в глазах как своего начальника Сазонова, так и в глазах Пуанкаре, совмещавшего посты премьера и министра иностранных дел.
Жорж Луи «провинился» тем, что был сторонником мирной и умеренной политики, не считал желательной для Франции войну с Германией за русские интересы на Балканах и не был фанатиком реванша. Жозеф Кайо, речь о котором впереди, называл его «слишком прозорливым». Вопрос об отзыве Луи был поставлен в весьма некорректной форме, поэтому он счёл необходимым съездить в Париж, чтобы объясниться с Пуанкаре и устроить российскому послу «баню» в местной прессе. Непокорный дипломат ненадолго вернулся в Петербург, но судьба его была решена. Назначение Делькассе было воспринято в политических кругах как триумф Извольского. Ни один посол великой державы в столице другой великой державы в те годы не имел такого влияния, как он.
Отношения между французским президентом и российским послом в Париже занимают важное место в любой серьёзной книге 6 причинах Первой мировой войны. После смерти Извольского в 1919 г. Пуанкаре открещивался от былой близости, не жалея чёрных красок и утверждая, что посол «приписывал ему те идеи, принятия которых хотел добиться от своего правительства». Трудно сказать, насколько сильна была симпатия между ними, да это и не важно. Важен результат: они работали рука об руку для укрепления двустороннего военно-политического союза, не скрывая друг от друга, против кого этот союз направлен и чем чреват. «Если Россия пойдёт на войну, Франция сделает то же самое», — заявил Пуанкаре в 1912 г. во время очередного конфликта на Балканах и осложнения отношений между Петербургом и Веной. Стороны понимали, что в борьбу между Россией и Австрией вмешается Германия, поэтому речь идёт о всеевропейской, а не локальной войне. Тем не менее ни премьера, ни посла такая перспектива не пугала.
Анализируя переписку Сазонова с Извольским, опубликованную в Москве в 1922 г., а затем переведённую на французский и немецкий языки и ставшую сенсацией, историк Фридрих Штиве сделал вывод: «Наблюдая тщательное, камень за камнем выкладывание стены вокруг Центральных держав, невольно задаёшься вопросом: какова была конечная цель этого? Была ли это просто ловкая дипломатическая игра, направленная на разгром и подчинение противоположного блока? Углублённый анализ документов показывает, что дело не в этом. Каждый политический шаг предпринимался, исходя исключительно из военной точки зрения, а его конечной целью было не соревнование в дипломатической ловкости, а война». «Фатальное единство взглядов между Пуанкаре и Извольским», как выразился Штиве, должно было принести России Константинополь и проливы, Франции — Эльзас и Лотарингию, а всей Европе — войну.
Трогательным примером сотрудничества Извольского с Пуанкаре стало совместное распределение денег, полученных из Петербурга для подкупа местной прессы, включая враждебную России.[15] Уже в 1908 г. посольство через премьера Рувье делало такие «вливания» для организации пророссийской пропаганды. Начиная с марокканского кризиса 1911 г. Извольский просил выделять ему побольше денег для парижской печати, которая, даже по мнению не слишком щепетильных современников, отличалась продажностью и беспринципностью. Дополнительных субсидий потребовали организованные Жоржем Луи нападки на посла, которые тот объявил подрывом престижа всей державы.
Осенью 1912 г. Извольский в письме Сазонову отметил изменение тона газет в лучшую сторону, подчеркнув роль Пуанкаре в правильном распределении субсидий и посоветовав ничего не предпринимать без его согласия и одобрения. Министр финансов Коковцов просил посла следить за тем, чтобы французы тратили деньги на пропаганду в пользу России, а не на обслуживание собственных интересов. Дело в том, что из этих же сумм была оплачена поддержка законопроекта об обязательной трёхлетней военной службе, который сторонники реванша «проталкивали» для подготовки к войне с Германией.
Сыгравшие большую роль в оркестровке грядущей войны, парижские газеты нанесли сильнейший удар самому влиятельному противнику реванша — лидеру Радикальной партии Жозефу Кайо. Его можно назвать потомственным министром финансов, хотя, в отличие от отца, он занимал эту должность целых семь раз (1899—1902, 1906-1909, 1911, 1913-1914, 1925, 1926, 1935) или в общей сложности более семи лет. Вершиной карьеры Кайо можно считать пребывание во главе кабинета министров с конца июня 1911 г. по середину января 1912 г. О его бурной жизни, в которой были обвинение в государственной измене, тюремное заключение и триумфальное возвращение в Большую Политику в качестве сенатора и министра, можно написать целую книгу (отчасти он сам сделал это в блестяще написанных мемуарах), но для нас важны лишь некоторые эпизоды.
Пуанкаре был юристом, Кайо — финансистом. Умея «считать деньги» в государственном масштабе, он выступал за прогрессивный подоходный налог (чем нажил себе немало врагов), развитие колониальной экспансии в Африке и нормализацию отношений с Германией. Кайо понимал, что торговать с Германией выгоднее, чем воевать, и что с ней при желании можно договориться даже в самой трудной ситуации. Он доказал это во время марокканского кризиса 1911 г., когда интересы Парижа и Берлина жёстко столкнулись, чуть не поставив Европу на грань войны. Уступив Германии территории в бассейне реки Конго[16], Кайо добился ухода немцев из Марокко и отказа от претензий на него, сделав Францию хозяином этого государства. «Я горжусь, что вписал своё имя в историю нашей страны, — говорил он. — Я принёс ей целый мир: Марокко».
Заключив соглашение с Германией, премьер не только отстоял интересы страны в конкретном вопросе, но и проявил независимость от партнёров по Антанте, что не прошло мимо их внимания. В следующем правительстве, которое возглавил его противник Пуанкаре, места для Кайо не нашлось, но он остался одним из вероятных кандидатов в премьеры, которые менялись по несколько раз в год. Это не устраивало Пуанкаре, который в 1913 г. стал президентом республики. Согласно тогдашней политической традиции, президент, обладавший немалыми полномочиями, почти не вмешивался в текущую политику, включая внешнюю, и выступал своего рода верховным арбитром между кабинетом министров, сенатом и палатой депутатов, которые принимали основные решения. Можно сказать, это была должность для всеми уважаемого ветерана, далёкого от партийных битв и страстей сегодняшнего дня. Пуанкаре решил изменить сложившийся порядок вещей и сосредоточить в своих руках фактическое управление политикой страны, в том числе внешней, благо ставший премьером и главой МИД в июне 1914 г. Рене Вивиани был фактически подконтролен ему.
Жозеф Кайо
Для атаки на Кайо противники избрали его частную жизнь. Первый брак политика оказался неудачным, и у него появилась «связь на стороне». Во Франции «интрижки» считались в порядке вещей даже для публичных персон. Однако в случае Кайо это оказалась настоящая любовь. К неудовольствию своей супруги Берты, браку с которой тоже предшествовал долгий роман, министр в марте 1911 г. развёлся с ней. Осенью того же года, будучи премьером, Кайо женился на своей возлюбленной Генриетте Рейнуар.
«Первая мадам Кайо», как называла её пресса, выкрала нежные письма мужа к Генриетте и начала шантажировать его публикацией и неизбежным скандалом: одно дело, когда о любовном романе политика шепчутся в салонах, и совсем другое, когда его подробности смакуют бульварные листки. Кайо не собирался прощаться с карьерой и договорился с бывшей женой, которая за немалую сумму сожгла письма в его присутствии. Однако предприимчивая мадам оставила себе фотографии «компромата», за который дорого заплатили враги её бывшего мужа.
Зимой 1913/1914 года, когда Кайо был министром финансов в кабинете Думерга, копии писем попали к редактору ура-патриотической газеты «Фигаро» Гастону Кальметту, который начал травить его с подачи Пуанкаре и Делькассе. 30 января Извольский сообщал Сазонову последние новости: «Пожалование Делькассе ордена св. Андрея Первозванного произвело здесь наилучшее впечатление. Мы будем иметь в нём в здешних политических кругах весьма влиятельного сторонника. Политическая роль его далеко не закончена, и я не буду удивлён, если именно он сменит Думерга и Кайо». И рядом: «Не думайте, что страстная кампания Кальметта в «Фигаро» наносит серьёзный ущерб этому последнему. Его филиппики не достигают цели и весьма мало вредят положению как самого Кайо, так и всего кабинета». Однако дальнейшего хода событий не мог предвидеть даже опытный интриган Извольский.
13 марта 1914 г. Кальметт напечатал первое письмо Кайо, снабдив его комментарием в духе оскорблённой невинности. «Клянусь моей честью, — писал он, — что в первый раз за тридцать лет моей газетной деятельности я публикую частное письмо очень интимного характера против воли его автора. Моё достоинство страдает от этого». Репутация редактора даже в кругах прессы была, мягко говоря, неважной, так что слова о «чести» и «достоинстве» воспринимались с понимающей улыбкой, а политический смысл акции был очевиден. Живший в Париже большевик Вельтман-Павлович писал: «Кальметт — продажный журналист, ведущий во Франции шовинистическую кампанию и наживший одновременно 13 миллионов франков на тёмных сделках с бандой финансовых космополитов, злейших врагов Франции (немецкие и венгерские банкиры и промышленники. — В. М). Видя неудачу своей политической кампании против Кайо и возможность победы взглядов последнего в области реорганизации налоговой системы, он отбрасывает в сторону аргументы против прогрессивного подоходного налога и начинает травить министра, грозя опубликовать его частную переписку. Пресса не протестует против этого шантажа».
Почему? Потому что для обывателей, «накачанных» реваншистской пропагандой, Кайо — «немецкий агент, орудие в руках Вильгельма» и «враг богатых людей». «Он уверяет, — пересказывал парижские толки Павлович, — и в частных беседах, и на заседаниях совета министров, что Германия — страшно сильная в военном отношении держава и что нужно всё -сделать, лишь бы избежать конфликта с этой могучей страной… Это он с помощью социалистов и немецких агентов занял пост министра финансов, чтобы привести в исполнение свой преступный план и ввести во Франции прогрессивный подоходный налог».
Кайо обещал «набить Кальметту морду», считая того недостойным вызова на дуэль. Генриетта, тяжело переживавшая травлю мужа, решила действовать сама. 16 марта она взяла браунинг, пришла в редакцию «Фигаро», добилась приёма у Кальметта и выпустила в него шесть пуль, четыре из которых попали в цель. Редактор умер в тот же день; позже его назовут «первой жертвой мировой войны». Генриетту арестовали по обвинению в преднамеренном убийстве. Её муж сразу же подал в отставку, собираясь защищать честь семьи и своё политическое будущее. Враги торжествовали: до окончания суда один из двух главных противников войны и реванша выведен из игры. Вторым был вождь социалистов Жан Жоре£. «Жорес и Кайо, — пояснил Павлович, — два самых ненавистных человека во Франции в глазах правых партий. И трудно сказать, кого больше ненавидят некоторые правые элементы — Жореса или Кайо?»
Мадам Кайо стреляет в Кальметта (рисунок из французского журнала)
Процесс «второй мадам Кайо» расколол страну на две половины. Большинство сочувствовало ей как женщине, потому что поступок Кальметта был отвратителен с любой точки зрения, но все понимали, что дело не в ней, а в муже и его политической позиции. Из-за этого даже австрийский ультиматум Сербии не имел большого резонанса, хотя биржа отреагировала на него резким падением котировок. Только отказ Белграда, известия об антирусских демонстрациях в Германии и тревога из-за отсутствия в стране президента и премьера составили конкуренцию сенсационному процессу на газетных страницах. В десять часов вечера 28 июля суд присяжных оправдал Генриетту. Манифестации сторонников и противников Кайо переросли в столкновения противников и сторонников войны, которые закончились массовым побоищем и вмешательством полиции. Кайо мог вступить в борьбу за кресло премьера, рассчитывая на поддержку Жореса, который всеми силами боролся за предотвращение войны. Читатель вправе задать вопрос: не слишком ли много места отведено амурным похождениям и скандальному процессу, хотя для других стран в центре внимания были политические и дипломатические интриги? «Дело Кайо» важно по многим причинам. Кампания против него имела политический характер, велась реваншистами и направлялась Пуанкаре и Делькассе. Её целью было лишить Кайо поста министра финансов и вывести его из борьбы за пост премьера, который он мог занять при поддержке палаты депутатов и на котором он был бы практически независим от президента. Кайо предлагал социалистам сотрудничество, вплоть до создания коалиционного кабинета, пост министра иностранных дел в котором занял бы Жорес. Те отказались, ссылаясь на позицию Второго Интернационала[17], запрещавшую социалистам участие в «буржуазных» правительствах. Наконец, травля Кайо была организована с помощью газет, за которыми, конечно, стояли финансовые интересы, но которые во Франции играли несравненно большую роль, чем в других странах.
Развязка скандала совпала с австрийским ультиматумом и реакцией Сербии на него, когда Франция, по замечанию Жоржа Клемансо, осталась «без правительства»: Пуанкаре и Вивиани возвращались из России на броненосце «Франс». В отсутствие президента, премьера и министра иностранных дел кабинет не принимал никаких решений. Оставшийся «за старшего» министр юстиции Жан Бьенвеню-Мартен, не имея чётких инструкций, мог только выслушивать заявления послов и невнятно говорить о желательности «мирного разрешения» конфликта, что породило легенду о его «примиренческой позиции» и разногласиях в правительстве. Пуанкаре определил политический курс, находясь в Петербурге, согласовал его с союзником, и, получая по ходу следования телеграммы из европейских столиц, укреплялся в своём выборе. Военная сторона дела была решена известными нам — но не французским депутатам — конвенциями с Россией и договорённостями с Англией. По возвращении домой 29 июля Пуанкаре и Вивиани немедленно собрали совет министров и отчитались о поездке — фактически о решениях, которые они приняли единолично. Министры не возражали. «Приезд Извольского, — добавил Полетика, — мог только усилить позиции сторонников войны».
За дело взялись военные. 24 июля, после получения австрийского ультиматума и его обсуждения советом министров, глава военного ведомства Адольф Мессими предупредил начальника генштаба и главнокомандующего на случай войны Жака Жоффра о возможности вооружённого конфликта. 25 июля начались приготовления к мобилизации; два дня спустя вступило в силу «положение об угрожающей опасности». 29 июля британский военный атташе Генри Ярд-Буллер подвёл итог: «Все предварительные меры, предшествующие мобилизации, выполнены, и теперь остаётся лишь нажать кнопку, чтобы были призваны необходимые запасные. Все офицеры и солдаты, находившиеся в отпуску, вернулись или возвращаются к своим воинским частям так быстро, как только возможно. Офицеры генерального штаба завалены работой и не могут отлучиться со своих постов».
Немцы тоже не спускали глаз с французов, но их впечатления были иными. Сводка за 28 июля — день, когда был оглашён вердикт суда по делу мадам Кайо, — гласила: «Париж совершенно спокоен, печать поразительно умеренна. О мобилизации нет и помину». 29 июля в Берлине заволновались, предупредив, что Германии придётся объявить «состояние угрозы войны». Вивиани заверил немецкого посла в том, что «до мобилизации ещё далеко», а Извольского — «в решимости действовать в полном единении» с Россией. Через несколько часов, т. е. в ночь с 29 на 30 июля, посол проинформировал Вивиани, а военный агент Алексей Игнатьев — военного министра, что Петербург отверг германское требование о прекращении военных приготовлений, и потому «нам остаётся только ускорить вооружения и считаться с вероятной неизбежностью войны», как телеграфировал ему Сазонов.
Речь шла о всеобщей мобилизации. После совещания Пуанкаре, Вивиани и Мессими в Петербург полетела телеграмма на имя Палеолога (копия в Лондон) о том, что «французское правительство готово выполнить все союзнические обязательства». Сазонов успел узнать о ней от посла перед поездкой к царю 30 июля. Получив согласие монарха на всеобщую мобилизацию, он известил об этом Янушкевича и посоветовал тому «сломать свой телефон». Отдавая вынужденную дань идеологической риторике, Полетика сделал вывод: «Телеграмма Палеологу является важным моментом в истории вступления империалистической Франции в войну. По существу она означала решение французского империализма ввязаться в войну во что бы то ни стало. Поэтому все события, происходившие в Париже после принятия решения, зафиксированного в телеграмме Палеологу, являются событиями скорее технического, чем принципиального характера». В тот же вечер были мобилизованы войска прикрытия — пять армейских корпусов, или четверть всей армии. Приказ расположить их в 10 км от германской границы трактовался как проявление миролюбия и стремление избежать провокаций, однако за ним стояло давление… промышленников-металлургов, боявшихся за свои заводы в приграничной зоне.
Жак Жоффр
31 июля Жоффр потребовал объявления хотя бы частичной мобилизации. Министры согласились, получив сведения о состоянии «угрозы войны» в Германии и вступлении австрийских войск в Белград. В 7 часов вечера к Вивиани явился немецкий посол Вильгельм Шён с ультиматумом. Правительству предлагалось в течение 18 часов дать ответ, «намерено ли оно остаться нейтральным в русско-германской войне», поскольку Берлину «придётся» объявить мобилизацию, а это «неизбежно будет означать войну». Премьер заявил, что не имеет сведений о всеобщей мобилизации в России, а только о «мерах предосторожности», поэтому «не хотел бы совершенно отказаться от надежды избежать крайностей» и обещал ответ к следующему утру.
Если бы Вивиани сразу заявил о намерении Сохранять нейтралитет (что, впрочем, в Берлине считали нереальным), Германия намеревалась потребовать у Франции… «передачу крепостей Туль и Эпиналь в качестве залога нейтралитета, которые мы оккупируем и вернём обратно по окончании войны с Россией». Как могла появиться столь бредовая идея, мы рассмотрим в следующей главе. В случае её оглашения призрачные шансы на компромисс или взаимопонимание между Берлином и Парижем испарились бы моментально.
Вечерние часы 30 июля были насыщены событиями. Из Петербурга пришло сообщение о всеобщей мобилизации. Из Рима — о том, что итальянское правительство считает войну Австрии против Сербии агрессивной, а потому, несмотря на участие в Тройственном союзе, не выступит на её стороне, сохранив нейтралитет. Около полуночи французское правительство дало добро на всеобщую мобилизацию, о чём военный министр телеграфировал командирам корпусов и «в приподнятом и сердечном тоне» сказал русскому военному агенту о «твёрдом решении правительства на войну». Пока совет министров заседал, произошло ещё одно чрезвычайное событие: в 21 час 40 минут в парижском кафе был застрелен Жорес. Накануне он вернулся из Брюсселя с международного социалистического конгресса, где вместе с Розой Люксембург призвал не допустить войну с помощью всеобщей забастовки. Неудивительно, что националистическая пресса давно называла его, как и Кайо, «германским агентом». По приезде Жорес отправился к Вивиани и предостерёг премьера от провоцирования конфликта. В день смерти он предупредил его заместителя по внешнеполитическому ведомству Абеля Ферри, сторонника войны с Германией, что не изменит своей позиции. «Вас убьют на первом же перекрёстке», — ответил Ферри.
Жан Жорес
Через два часа предсказание сбылось, тем более что угрожали Жоресу давно. Убийцей оказался 28-летний Рауль Виллен, член реваншистской «Лиги молодых друзей Эльзаса и Лотарингии», немедленно взятый под стражу.[18] По некоторым сведениям, сначала он собирался убить Кайо. Учитывая популярность убитого, пресса дружно писала о «национальном горе», но многие вздохнули с облегчением. Пуанкаре выразил соболезнования вдове. Вивиани заявил: «От своего имени и от имени моих коллег я преклоняюсь перед преждевременной открытой могилой республиканца-социалиста, который боролся за столь благородное дело и который в эти трудные дни в интересах сохранения мира поддерживал всем своим авторитетом патриотическую деятельность правительства». Последние слова были ложью, как и утверждение Извольского, что «даже Жорес» выступает за солидарность с Россией. Посол и трибун ненавидели друг друга. Весь Париж облетели слова Жореса, произнесённые за несколько часов до смерти в приёмной Ферри, где он столкнулся со своим врагом: «Вот идёт негодяй Извольский, который добился своей войны».
Гибель вождя социалистов парализовала противников войны. «Жорес убит, — записывал Вельтман-Павлович, — убит в ту минуту, когда вся Европа охвачена пароксизмом военной лихорадки… Убит в тот момент, когда его мощный голос должен был громче, чем когда-либо, раздаться по всей Франции… Жорес убит, надвигается всеобщая бойня».
Дальнейшее было делом техники. Утром 1 августа Жоффр потребовал объявления мобилизации, заявив, что не может нести «тяжкую ответственность по должности, доверенную мне правительством». Кабинет принял декрет о всеобщей мобилизации, но отложил его обнародование до выяснения всех обстоятельств. Вивиани сказал германскому послу: «Франция будет делать то, что повелевают ей её интересы». Шён ушёл ни с чем, поскольку срок ультиматума ещё не истёк. В 15 часов 40 минут мобилизация была объявлена (первый день — воскресенье 2 августа); в течение трёх часов сообщение облетело всю страну. Через несколько минут премьер попросил военного министра задержать телеграмму, но тот ответил, что поздно: «машина запущена». Второй визит Шёна тоже был безрезультатным: он услышал, что «мобилизация никоим образом не означает агрессивных замыслов» и, не имея инструкций из Берлина, по своей инициативе попросил приготовить паспорта для предстоящего отъезда посольства.
Счёт пошёл на часы. В 11 часов вечера Извольский получил телеграмму Сазонова о том, что Германия объявила войну России. «Я немедленно сообщил её лично президенту республики, — отвечал посол, отправив копию в Лондон, — который тотчас созвал совет министров. Пуанкаре самым категорическим образом заявил мне, что как он сам, так и весь совет министров имеют твёрдую решимость самым точным образом выполнить обязательства, налагаемые на Францию союзным договором». Однако, добавил президент, для объявления войны ему необходимо решение парламента, на созыв которого потребуются как минимум два дня. Кроме того, он опасался вопросов относительно секретных договоров с Петербургом, которые могли задать социалисты или Кайо. Поэтому, заключил Пуанкаре, «было бы лучше, если объявление войны последует со стороны не Франции, а Германии».
2 августа на франко-германской границе произошли несколько мелких стычек, в которых стороны обвинили друг друга, но война ещё не была объявлена. Извольский сообщил Сазонову: «Это даст возможность правительству заявить палатам (парламенту. — В. М), созванным на вторник (4 августа. — В. М), что на Францию сделано нападение, и избежать формального объявления войны». Только вечером 3 августа Шён получил сильно искажённую при пересылке телеграмму: Германия объявила войну Франции «по вине последней», сославшись на нарушения границы. Нарушения-были, но, как выяснилось позже, не те, о которых заявил Берлин.
Кайзер «выручил» Пуанкаре. На следующий день парламент почти единодушно проголосовал за военные кредиты. В портфеле Вивиани лежали тайные договоры с Россией на случай возможных вопросов, но их не последовало, и документы стали достоянием гласности лишь через несколько лет. «Общий подъём духа высочайший», — сообщал в Петербург военный агент Игнатьев. В этот же день хоронили Жореса. Французские социалисты, как и их немецкие товарищи, поддержали правительство, а затем приняли министерские портфели.
Перед смертью вождь социалистов предостерегал от вступления Франции в войну «за русские интересы», догадываясь о. секретных соглашениях и считая, что кабинет утратил самостоятельность и идёт на поводу у Петербурга. В свою очередь, официальная советская историография с подачи Сталина утверждала, что царская Россия находилась в «полуколониальной зависимости», прежде всего экономической, от Франции и Англии, а потому не имела иного выбора, кроме вступления в войну на их стороне. В смягчённом варианте такая точка зрения порой встречается и сегодня.
Наше историческое расследование показывает, что в руководстве обеих стран были люди, считавшие войну не только приемлемым, но и единственным путём к достижению глобальных политических целей. Россия не приказывала Франции, Франция не приказывала России. Пуанкаре и Извольский, Сазонов и Делькассе (26 августа 1914 г. он снова возглавил МИД), Жоффр и Сухомлинов понимали, что возвращение Франции Эльзаса и Лотарингии и контроль России над Константинополем и проливами возможны в результате не просто некоей общеевропейской войны, но одной и той же войны, с неизбежным участием Германии, которую надо разгромить общими усилиями. Они сознательно шли к войне, подгоняя и подбадривая друг друга. Тем более политика Берлина сама способствовала этому.
Глава пятая. Германия: драма союза
Действующие лица в Берлине:
→ Кайзер (император) Вильгельм II
→ Канцлер (премьер-министр) Теобальд фон Бетман-Гольвег
→ Статс-секретарь (министр) по иностранным делам[19] Готлиб фон Ягов
→ Начальник Большого генерального штаба генерал Гельмут фон Мольтке
→ Морской статс-секретарь гросс-адмирал Альфред фон Тирпиц
→ Австрийский посол граф Ладислаус Сегени
→ Российский посол Сергей Свербеев
→ Французский посол Жюль Камбон
→ Английский посол сэр Эдуард Гошен
* * *
Когда война закончилась и страсти улеглись, политики и историки задались вопросом: чего конкретно хотела Германия, которую объявили главным агрессором? Цели других были понятны. Сербии нужны Босния и Герцеговина для создания южнославянского государства, России — Константинополь и проливы, Франции — Эльзас и Лотарингия, Италии — «неосвобождённые территории», населённые итальянцами, но входившие в состав «союзной» Австро-Венгрии (Триест, Трентино). Раздираемые внутренними противоречиями; Австрия и Турция стремились сохранить целостность своих империй и подавить враждебную агитацию. Вена не оставляла мыслей о продвижении к Салоникам, Константинополь — о возвращении потерянных земель. Болгария желала взять реванш за проигранную Вторую Балканскую войну, в результате которой ей пришлось уступить территории Сербии, Румынии, Греции и Турции. Среди великих держав территориальных притязаний в Европе не имели Великобритания и Германия, считавшиеся центром двух противоборствующих коалиций. Главной «головной болью» для Лондона был германский флот — военный и торговый — поскольку в перспективе он мог составить конкуренцию «владычице морей». Провозгласивший, что «будущее Германии лежит на воде», Вильгельм II стремился создать флот, который стал бы «номером два» после британского, но не надеялся превзойти era. Тем не менее уже в начале века первый морской лорд (командующий флотом и начальник морского генерального штаба) адмирал Джон Фишер предложил нанести превентивный удар по нему без объявления войны, но король не согласился. Позднее историки, в том числе немецкие, оценили масштабную программу строительства броненосцев и линкоров как ошибку кайзера и гросс-адмирала Альфреда фон Тирпица. Для разгрома британского флота на трёх океанах этого было слишком мало, для защиты позиций в Европе — чтобы не вызвать при этом враждебности Лондона — слишком много. «Военный флот Германии доказал свою неспособность померяться силами с английским и защитить колонии, — констатировал Валерий Брюсов в начале сентября 1914 г. в статье «Война вне Европы». — Почти треть её торгового флота находится в руках неприятеля, остальные суда в лучшем случае обречены на бездействие. На создание германского флота истрачены были миллиарды марок как из общеимперских сумм, так и собранных по всенародной подписке. Крушение этих заветных надежд — первый решительный и очень чувствительный удар, постигший Германию».
Альфред фон Тирпиц
Немецкая колониальная экспансия, начавшаяся в последней трети XIX в., по масштабам не могла даже близко сравниться с английской или французской. Немногочисленные колонии: Восточная Африка (нынешние Руанда, Бурунди и часть Танзании), Юго-Западная Африка (нынешняя Намибия), Того и Камерун на «чёрном континенте», порт Киао-Чао (ныне Циндао) в Китае, часть Новой Гвинеи и несколько архипелагов в Тихом океане — не представляли угрозы для Англии и Франции ни в геополитическом, ни в экономическом отношении, а с началом конфликта стали их лёгкой добычей. Тихоокеанские владения захватила Япония, вступившая для этого в войну. «Германия на помощь своих колоний рассчитывать не могла, — отметил Брюсов. — При настоящем положении дел она от них совершенно отрезана, да и вообще содержит в колониях лишь небольшие гарнизоны, преимущественно туземных войск, для местной службы». Напротив, французские «туземные» войска из северной Африки отличились в Европе, а англичане смогли перебросить сюда часть своей индийской армии.
Что было нужно Берлину? Антантовские и советские пропагандисты в этом на удивление едины. Например, «Большая советская энциклопедия» 1955 г. издания (том 32) утверждала, что «Германия в Первой мировой войне, имея целью добиться господства в Европе, стремилась: разгромить Англию, лишив её колоний и военно-морского флота; разбить Францию, Бельгию и Голландию, захватив их колонии; ослабить Россию, отняв у неё Польшу, Украину и Прибалтику, и лишить её естественных границ по Балтийскому морю; прочно укрепиться на Балканах». Согласиться можно лишь с «господством в Европе», к чему Берлин стремился со времён Бисмарка. Самые воинственные приближённые кайзера умели читать карту и понимали, что физически не могут разгромить британский флот, нанести Англии поражение в Европе и захватить колонии перечисленных держав без согласия Лондона, даже если немецкие войска пройдут по Парижу и вынудят Францию к «миру» вроде Франкфуртского. О «мировом господстве» мы поговорим в последней главе, когда речь пойдёт об Англии — единственной державе, которая в начале XX в. могла претендовать на него. Единственное уточнение: употреблявшееся в данном случае немецкое слово weltmacht означает не «мировое господство», а «мировая сила» или «мировая держава», аналогично английскому world power. To, что Германия стремилась к статусу мировой державы и по праву рассчитывала на него, отрицать не будем.
Для полноты картины надо разобраться с тремя клише, служившими для объяснения вступления Берлина в войну и доказательства его агрессивности. Это «прусский дух», «тевтонский милитаризм» и «пангерманизм».
С первыми двумя историку трудно иметь дело из-за их нематериальности и субъективности. Здесь, как в характеристике Франца-Фердинанда, одни и те же качества оценивались с противоположным знаком. У нас «патриотизм», «боевой дух», «дисциплина» и «готовность». У противника «шовинизм», «милитаризм», «тирания» и «агрессия». Верно, что германские военные мечтали о войне — как и их коллеги во всех других странах: «работа у них такая». Верно, что социальный статус и мобилизационный потенциал германской армии был самым высоким среди великих держав. Редактор американского «Журнала армии и флота» Чёрч писал осенью 1914 г.: «Германия готова, остальные не готовы. Это качество её военной системы достойно похвалы, а не порицания, поскольку чего стоит армия, если она не готова, когда пробьёт час? «Германский милитаризм» — не то, что должно быть «искоренено», а то, что надо перенимать другим странам, не исключая наши Соединённые Штаты». «Германия оказалась более готовой к войне, чем её враги», — сделал вывод военный историк генерал Андрей Зайончковский.
Милитаризм существовал во всех крупных и во многих мелких странах. Воинственных идеологов тоже хватало везде, но в 1914 г. читатели английских и французских газет твёрдо знали о существовании всего четырёх человек — разумеется, немцев — в которых воплотились милитаризм и агрессия. Это кайзер, философ Ницше, профессор Трейчке и генерал Бернгарди. Двое последних не заслуживали столь громкой славы. Изучавший историю в семинаре Генриха фон Трейчке в Берлинском университете, Бёрджес вспоминал: «Я никогда не принимал его слишком всерьёз и никогда не слышал, чтобы кто-то принимал. Он говорил много здравых вещей и кое-что странное. Никто не цитирует здравые вещи, а странные раздувают до карикатурных размеров». Генерал Фридрих фон Бернгарди написал книгу «Германия и будущая война» (1912) — в которой критиковал соотечественников за… «излишнее миролюбие», — находясь в запасе, а не на действительной службе. Тем не менее кайзер заметил: «С этим человеком надо построже, он сеет зло», — и приказал «предупредить» автора. Германская пропаганда вспоминала про сочинения французского полковника Артюра Буше «Франция победит в завтрашней войне» и американца Гомера Ли «День саксов» (имевший чин китайского генерала, Ли призывал Англию уничтожить немцев), но не смогла обеспечить им всемирную известность. Грозный призрак «пангерманизма» обязан своим существованием деятельности Пангерманского союза — шовинистической организации, возникшей в 1891 г. и в лучшие годы насчитывавшей не более 22 тыс. человек. В воображении современников «пангерманизм» противостоял «панславизму». После войны практичные американские историки попытались разобраться, что же это было. Вот вывод одного из них: «Даже на подъёме германского национализма соотечественники воспринимали членов союза как малочисленную группу фанатиков, не имеющую влияния». Экс-канцлер Бетман-Гольвег отметил, что «чрезмерное проявление пангерманизма в значительной мере было лишь эхом страстных выпадов шовинизма в странах Антанты» и что «пангерманские идеи производили в немецких головах большую путаницу и могли быть использованы нашими врагами для дискредитирования самой сущности немецкого духа». Реальный политический вес пангерманистов был не больше, чем у Антисемитской национальной лиги Франции Эдуарда Дрюмона, и меньше, чем у Лиги патриотов агитатора-реваншиста Поля Деруледа, которые всемирной славы не приобрели. И довольно об этом.
Повторим вопрос: «Что было нужно Берлину?» — поскольку он остался без ответа.
Теобальд фон Бетман-Гольвег
В политическом отношении — улучшить своё положение в Европе, поскольку Бисмарк и его наследники умудрились испортить или, по крайней мере, осложнить отношения практически со всеми соседями. Для исправления такой ситуации война послужила бы наихудшим средством, что было ясно хотя бы из опыта Франкфуртского «мира».
В экономическом отношении — добиться равных с Англией, Францией и США условий для распространения своих товаров по миру и бесперебойного снабжения метрополии всем, в чём она нуждалась, включая сырьё и полезные ископаемые. Этой цели был призван служить самый масштабный проект германского империализма рубежа XIX—XX вв. — Багдадская железная дорога, ставшая, по словам В. В. Готлиба, «олицетворением стремления к проникновению на Средний Восток». «Назначение дороги, — пояснил историк, — состояло в том, чтобы, благодаря доведению её до Персидского залива, отвлечь ближневосточную, индийскую и дальневосточную торговлю от торговли с Лондоном по морю, направив её по суше — в Германию. Более того, безопасное расположение во внутренней части Малой Азии придало ей исключительное стратегическое значение в предстоящей борьбе с Великобританией».
Для завершения строительства и обеспечения функционирования дороги требовалась согласие Турции, России и Великобритании. С Турцией вопрос решился быстро. Россия по соглашению от 6(19) августа 1911 г. — подписанному в Петербурге, но известному как Потсдамское, поскольку оно оформило договорённость двух императоров, достигнутую годом раньше в Потсдаме, — обязалась не препятствовать сооружению магистрали в обмен на признание своих специальных интересов в северной Персии. В июне 1914 г. удалось договориться с Англией: за своё «непротиводействие» она потребовала отказаться от постройки последнего участка дороги, от Басры к Персидскому заливу, тем самым признав её господство на побережье. К моменту сараевского выстрела соглашение было готово, поэтому провоцировать войну с участием Лондона в такой ситуации было нелепо. Оно так и осталось неподписанным — явно не к выгоде Берлина. Эдвард Эрл, автор ценной книги о Багдадской железной дороге, сделал вывод: «Если бы соглашение состоялось десятью годами ранее, оно могло бы предотвратить отчуждение двух стран друг от друга. Если бы оно состоялось в любое другое время, кроме самого кануна великой войны, оно стало бы мощным стимулом для англо-германского сближения».
Добавлю также, что требования «равенства в колониях» нужны были Германии главным образом для получения уступок в Европе. По соглашению 1890 г. с Англией об уточнении границ колониальных владений в Африке она, в частности, отказалась от архипелага Занзибар (1900 кв. км) в обмен на остров Гельголанд (1,7 кв. км) в Северном море, который был превращен в крепость. Нацисты, требовавшие в 1930-е гг. возвращения колоний, тоже хотели воздействовать этим на Лондон и Париж ради пересмотра Версальского «мира».
Почему же Германию включают в число главных виновников мирового конфликта? Основное конкретное обвинение: она не только не удержала Австрию от войны с Сербией, но и провоцировала её, что было частью общего, далеко идущего плана. Вена не противилась, поскольку была несамостоятельна в своих решениях и находилась в «вассальной зависимости» от Берлина. Попробуем разобраться.
Марксистские историки объясняли всё предельно просто: экономически Австро-Венгрия была слабее Германии, поэтому политически зависела от неё. Объяснить таким же образом политику Берлина они не могли: экономическая экспансия требовала мира, а не войны, — поэтому в ход шли штампы вроде «тевтонского милитаризма».
Кайзер Вильгельм II
Однако такая односторонняя трактовка не учитывает факторов, которые были важны тогда. Династия Габсбургов была старейшей в Европе, церемониал венского двора — самым пышным и классическим, поэтому там свысока поглядывали на Гогенцоллернов, Виндзоров и даже Романовых, а Обреновичей с Карагеоргиевичами и вовсе не считали за людей. К началу XX в. «пурпурный интернационал», как часто называли королевские дома Европы, похожие на одну большую семью, утратил монолитность, но многие монархи продолжали считать себя не только «помазанниками Божьими», но и «братьями». Вильгельм II дружил с Францем-Фердинандом, симпатизировал кузену Николаю II, уважал его отца Александра III и австрийского императора Франца-Иосифа, не любил «дядю Берти» — британского короля Эдуарда VII, которого считал инициатором «окружения» Германии и называл «интриганом». Но все они оставались родственниками, поэтому убийство эрцгерцога стало для кайзера не только потерей друга, но покушением на самое святое — на монархический принцип.
Вильгельм и Николай переписывались по-английски и называли друг друга на английский лад «Ники» и «Вилли». Пожалуй, лучшую характеристику им, а заодно и их знаменитой переписке, дал американский писатель германского происхождения Джордж Вирек, которого молва называла внуком Вильгельма I, а значит, ещё одним кузеном кайзера:
«Вильгельм хотел укрепить историческую дружбу Пруссии со своим могущественным соседом. Русское понимание монарха как помазанника Божия, абсолютная власть царя и патриархальное устройство русского общества укрепляли его привязанность. Царь был — по крайней мере в теории — тем, кем Вильгельм хотел быть. Возможно, было бы лучше, если бы Николай II правил в Германии, а Вильгельм II в России. Для России это точно было бы лучше. У Вильгельма были все качества, которых не хватало царю, — сильная воля, способность и мощное желание править самолично. В тоне искренней благожелательности Вильгельм — как один член «пурпурного интернационала», обращаясь к другому, — пространно писал Николаю о характере русского народа, глубоко укоренённой привязанности крестьян к «батюшке-царю» и о пагубности компромисса с революционными элементами. Этим Вильгельм раздражал царя, который не нуждался в уроках по теории самодержавия, к тому же от постороннего. Единственным последствием писем стало то, что царь, понимая собственную слабость, стал недоверчив и попытался освободиться от влияния слишком активного соседа».
Убийство эрцгерцога стало ударом не только по дому Габсбургов, но по самой империи. Правящие круги Вены и Будапешта сознавали, что двуединая монархия слабеет и что ей всё труднее отвечать на внешние и внутренние вызовы. Больше всего они боялись «дать слабину» — проявить неуверенность, нерешительность или зависимость от более сильных держав. Габсбурги и их верные слуги готовы были на всё для поддержания престижа династии. В Берлине это понимали и поддерживали их, но отнюдь не только из чувства монархической солидарности. Просто у Германии не осталось других реальных союзников.
Одним из самых беспощадных критиков внешней политики Германской империи оказался князь Бернгард фон Бюлов — бывший министр иностранных дел (1897—1900) и канцлер (1900—1909). Его воспоминания стали пространным обвинительным актом — некоторые прямо говорили «пасквилем» — против кайзера и Бетман-Гольвега, сменившего Бюлова во главе правительства. Понимая, какую бурю возмущения они вызовут, автор завещал напечатать записки посмертно. Прочитав их, Вильгельм II сказал: «Первый раз вижу человека, который совершил самоубийство после смерти». Кайзер изображён в них бездарным политиком, бездарным военным и почти сумасшедшим, Бетман — нерешительным, тщеславным и обидчивым бюрократом, ничего не понимавшим в дипломатии.
Бюлов утверждал, что оставил им блестящее политическое наследство, которым те не смогли воспользоваться. Однако именно за годы его пребывания у власти Франция договорилась с Англией, Англия договорилась с Россией, Россия повоевала, а затем договорилась с Японией, что в сочетании с франко-русским и англо-японским союзами составило Антанту. Против кого они дружили, сомнений не вызывало. Русско-германское сближение против Великобритании, намеченное договором двух императоров в 1905 г.[20], было сорвано усилиями премьера Сергея Витте и министра иностранных дел Владимира Ламсдорфа, боявшихся конфликта с Францией. Бетман-Гольвег считал это «чёрной неблагодарностью за наше отношение к России во время войны с Японией». Решительная и не слишком тактичная поддержка, австрийской аннексии Боснии и Герцеговины усилила напряжённость между Берлином и Петербургом. Улучшению отношений между Францией и Германией постоянно мешал Делькассе. Его устранение с поста министра иностранных дел можно считать главной победой Бюлова, но и оно было подготовлено противоречиями внутри французского кабинета. В Токио помнили речи кайзера о «жёлтой опасности» и его участие в Тройственном вмешательстве 1895 г., когда Германия, Россия и Франция лишили Японию части трофеев в войне против Китая. Об Англии мы поговорим в последней главе, но и там Берлину было не на что рассчитывать. Австрийцев Бюлов, как многие германские политики, недолюбливал, но других союзников у империи не осталось. Поэтому считать князя гением дипломатии едва ли стоит — даже с учётом промахов его преемников.
В этой связи стоит привести наблюдение Фабр-Люса: «Отсутствие единства цели больше, чем что-либо другое, способствовало ошибкам Германии. Конституция империи, казалось, содержала все условия, необходимые для обеспечения стабильной политики, но Бисмарк ушёл, император стал слишком могущественным, а он был самой переменчивой личностью в мире. К тому же у импульсивного монарха не было в советниках министра иностранных дел с твёрдыми традициями и определённой политикой. В 1905 г. Эдуард VII, поражённый внезапными переменами курса Германии (в связи с первым кризисом в Марокко. — В. М.), спросил Экардштейна (советник посольства в Лондоне. — В. М.). «Так кто же командует в Берлине?» В 1912 г. лорд Холден (военный министр Англии. — В. М.) нашёл, что позиции кайзера, Бетмана и Чиршки открыто расходятся друг с другом. В 1914 г. германская дипломатия являла собой картину полной анархии: от Чиршки, приближавшего войну, до Лихновского (посол в Лондоне. — В. М), который пытался сохранить мир, от Шёна, обманутого собственным правительством, до Пурталеса, обманутого противниками. Кроме того, Вильгельмштрассе[21] не имела полного контроля над дипломатией. Бетман-Гольвег и Шён поведали нам, как морское министерство вмешивалось в малые и большие вопросы, определяя как общее направление политики, так и выбор консулов».
Анализ политики империи Гогенцоллернов после Бисмарка приводит к неожиданному выводу: в отличие от более слабой Вены, Берлин не шёл напролом, а постоянно лавировал. «Никуда не годный стратег князь Бюлов был почти гениальным тактиком, — писал историк Владимир Хвостов. — Он старался не преодолевать, а обходить трудности». Похожую оценку дал его преемнику политолог Владимир Гурко-Кряжин: «В ответственный период истории Германии во главе её оказываются совершенно неспособные политики. Бетман-Гольвег дрожащими руками строит и поддерживает, по его собственному выражению, «карточные домики» европейского равновесия, однако мощное дыхание империализма беспощадно валит эти хрупкие постройки. Пацифистски настроенный канцлер и его единомышленники в трагические годы и месяцы, предшествовавшие мировой войне, напоминали растерявшихся людей, которые, боясь наступления неизбежного рокового часа, пытаются обмануть себя тем, что безостановочно переводят назад стрелку на своих карманных часах». Это написано до выхода мемуаров Бюлова, который не пожалел бранных слов для «жалкого» курса своего преемника. Гурко-Кряжин назвал его «трусливой политикой выгадывания времени, быстро переходящей от угроз к половинчатым компромиссам, преследующей единственную цель отогнать хотя бы на короткое время тот призрак войны, тень от которого уже покрывала всю Европу». Сказанное в равной мере можно отнести и к Бюлову.
Эти черты германской дипломатии отчётливо видны в её действиях по отношению к Вене. Как отметил Гурко-Кряжин, «совершенно нелепо и исторически неправильно живописать Австро-Венгрию в виде какой-то приживалки, мирно прозябающей под защитой Германии. Разоблачения, появившиеся в последние годы (написано в 1925 г. — В. М.) в Австрии, рисуют яркую картину венского милитаризма, ничуть не уступающего по своей интенсивности берлинскому, парижскому или петербургскому. Если Германии и приходилось защищать Дунайскую монархию, то это вызывалось не беспомощностью последней, а наоборот — её чрезвычайной агрессивностью. Германия, начиная с 1908 г., плыла в фарватере австрийской политики и часто принуждена была ввязываться в те конфликты, которые создавались последней».
Во время обоих марокканских кризисов Вена весьма умеренно поддерживала Берлин, давая понять, что ничем рисковать не будет. О дате аннексии Боснии и Герцеговины кайзер был извещён одновременно с другими монархами. Тогда Германия решительно заступилась за Австрию, но Вильгельм заявил Николаю, а Бетман — Сазонову, что если двуединая монархия начнёт агрессивную войну на Балканах без их санкции, то помощи она не получит. В ноябре 1912 г. Австрия хотела вмешаться в Первую Балканскую войну, но кайзер, поддержанный Римом, прямо сказал Францу-Фердинанду, что в таком случае рассчитывать на содействие Тройственного союза не придётся. Повторённые в январе и феврале 1913 г. заявления удержали Вену от вооружённого конфликта, участие России в котором стало бы неизбежным. Именно на этот прецедент позже ссылались те, кто осуждал кайзера за его действия после сараевского убийства.
«Нам нужно было лишь заявить Вене, — утверждал после войны Бюлов, — что мы ни при каких обстоятельствах не допустим разрыва отношений между Австро-Венгрией и Сербией, прежде чем сами основательно не изучим сербский ответ. Если бы Австро-Венгрия без нашего согласия совершила военное выступление против Сербии, она сделала бы это на собственный риск и страх; мы в этом случае не пришли бы на помощь, предоставив её собственной судьбе». «Могущественный союзник, — вторил ему Сазонов, — который мог бы одним словом остановить это безумное решение, как он сделал не далее как во время Второй Балканской войны, на этот раз не захотел произнести сдерживающего слова. Из Берлина вместо запрета раздавалось прямое поощрение». Насколько это верно и что этому предшествовало?
Историки отмечают, что во 2-й половине 1913 г. в балканской политике Берлина произошёл поворот. Одним из документов, фиксирующих его, можно считать секретную инструкцию кайзера статс-секретарю по иностранным делам от 16 августа 1913 г., обнаруженную югославским историком А. Митровичем в фондах германского политического архива иностранных дел в Бонне. «Ныне, — говорилось в ней, — может быть отодвинута на задний план важнейшая задача нашей политики: сохранить в Европе мир». В документе ставилась задача создать на Балканах блок под эгидой Германии в противовес проантантовской Балканской лиге, центром которой выступала Сербия, а в случае неосуществимости этого — добиться гегемонии в регионе, не останавливаясь перед применением силы. Однако готовность воевать ещё не есть решение о войне.
Поворот заметили и современники, ничего не знавшие об инструкции. Фабр-Люс считал его главным мотивом желание укрепить распадающийся Тройственный союз перед лицом консолидации Антанты. Этой цели служили и воинственные высказывания кайзера, которые он периодически делал как по своей воле, так и по совету канцлеров и Тирпица. К середине 1913 г. Вильгельм II окончательно поверил в «окружение» Германии и неизбежность нападения на неё Франции и России. Эту уверенность в нём укрепляли неудача или как минимум безрезультатность компромиссной политики Бетмана, избрание Пуанкаре на пост президента, печальные для Тройственного союза итоги Второй Балканской войны, известия о строительстве стратегических железных дорог в западных губерниях России, воинственные заявления парижской и петербургской прессы. Кайзер заметно нервничал. Попавший под влияние пангерманистов, кронпринц призывал отца переходить к активным действиям, не дожидаясь нападения, — пока не поздно.
Начиная с аннексии Боснии и Герцеговины, в тандеме Берлин—Вена Австрия играла более активную роль, но это не значит более влиятельную или определяющую. Её правящие круги стали рассматривать внешнюю экспансию как средство не только поддержания международного престижа (так поступали все великие державы), но и решения внутренних проблем, а это опасный курс. В последнем Германия не нуждалась, но кайзера и его окружение преследовало то, что Бисмарк называл «кошмаром коалиций». В такой ситуации приходилось считать не только крупных, но и мелких союзников. Именно об этом в 1-й половине 1914 г. шли переговоры между Берлином и Веной, вокруг которых нагромождено столько вымыслов.
Самый впечатляющий среди них — «Конопиштский пакт», якобы заключённый Вильгельмом II и Францем-Фердинандом, когда кайзер любовался знаменитыми розами в имении Конопишт 12—13 июня 1914 г. Его придумал обозреватель лондонской «Тайме» Уикхэм Стид, друг южных славян. В феврале 1916 г. он опубликовал статью о том, что император и эрцгерцог договорились спровоцировать Россию на войну с целью разгромить её и радикально перекроить карту Восточной Европы: создать польское королевство для Франца-Фердинанда и его старшего сына, славянско-венгерское королевство — для младшего, оставив Францу-Иосифу только германские земли Австрии. Стид намекнул, что убийство наследника престола было организовано венским двором, узнавшим об этих планах. По другой версии, в Конопиште было окончательно спланировано нападение на Сербию.
Сенсация оказалась фомкой, но недолговечной. Уже в 1920 г. была опубликована запись о переговорах, сделанная дипломатом Карлом фон Тройтлером, который сопровождал кайзера. Ни о чём подобном собеседники не говорили. Их занимали более насущные проблемы: слабость Турции и её возможный конфликт с Грецией; австро-итальянское соперничество в Албании; реваншистские планы Болгарии; позиция Румынии, склонявшейся в сторону Антанты, хотя на её престоле находился представитель дома Гогенцоллернов. Эрцгерцог раздражённо говорил о венгерской аристократии, которая притесняла славянское и румынское население. О Сербии, похоже, не было произнесено ни слова. О России — только то, что её нечего опасаться. «Её внутренние трудности слишком велики, — заметил хозяин, — чтобы позволить ей вести агрессивную внешнюю политику». Он также сообщил о предстоящей замене австрийского посла в Берлине — пожилого графа Ладислауса Сегени.
О России и Сербии кайзер беседовал с Францем-Иосифом, Берхтольдом и Тиссой в конце марта 1914 г., когда находился в Вене, но их больше волновала Румыния. Говоря о военных приготовлениях Петербурга, гость заметил: «У нас есть все основания пристально наблюдать за ними, однако я не думаю, что их главной причиной являются воинственные намерения против Австрии или Германии». «Россия побуждаема к этому Францией, — отметил он, — потому что иначе не получит от неё денег» (на строительство стратегических железных дорог у западных границ). Тисса отметил, что в интересах Австрии не давать Сербии выход к Адриатике (на этом не первый год настаивал Петербург), и предупредил, что в случае большой войны Австро-Венгрия увязнет на Балканах и вряд ли сможет прийти на помощь Германии.
«Пожалуй, главным результатом свидания в Конопиште, — заметил Фей, — было влияние, оказанное им на психологию императора. Убийство эрцгерцога сильно подействовало на его впечатлительную и склонную к неожиданным вспышкам натуру ещё и потому, что здесь был убит друг, которого он посетил в домашней обстановке всего за несколько дней перед этим. Револьверные выстрелы в Сараево прогремели, когда ещё свежо было воспоминание о розах в Конопиште, и это особенно усилило тот ужас, с которым Вильгельм всегда относился к террористическим убийствам. Если до того он удерживал Австрию от резких выступлений против Сербии, то теперь Сербия стала представляться ему каким-то гнездом убийц, и он неблагоразумно предоставил графу Берхтольду полную свободу действовать против неё так, как это сочтут уместным в Вене».
30 июня Чиршки телеграфировал из австрийской столицы: «Я часто слышу здесь, в том числе и от серьёзных людей, пожелание, чтобы были, наконец, основательно сведены счёты с Сербией». Кайзер оставил на полях одну из своих знаменитых помет: «Теперь или никогда». Как заметил Фей, «со свойственной ему необузданностью он желал, чтобы Австрия как можно скорее предприняла решительные шаги против Сербии, пока ещё весь цивилизованный мир находился под живым впечатлением убийства и сочувствовал Австрии». «Я пользовался, — продолжал посол, не имевший инструкций из Берлина, — каждым таким поводом, чтобы спокойно, но очень убедительно и серьёзно предостерегать от слишком поспешных шагов». «Кто его уполномочил на это? — отреагировал монарх. — Это его вовсе не касается, так как дело исключительно Австрии, что она думает предпринять дальше. Потом, если дело пойдёт неладно, то будут говорить, что Германия не захотела (помочь Австрии. — В. М). Пусть Чиршки изволит бросить эти глупости. С сербами надо покончить и именно теперь».
Записи Вильгельма II на полях депеш, не предназначавшиеся для чужих глаз, но опубликованные вскоре после войны, дали обильную почву для суждений. Нелишне привести подкреплённый” глубоким знанием ситуации вывод Фея: «Для того чтобы судить о позиции кайзера в июле 1914 г., нет лучшего материала, чем пометки, которые он делал на полях представляемых ему телеграмм. Этот приём он усвоил уже давно, подражая Бисмарку, который ради экономии времени указывал свои пожелания пометками на полях вместо того, чтобы писать или диктовать длинные инструкции. Но в то время как пометки Бисмарка тщательно взвешены и обыкновенно призваны служить в качестве инструкций, пометки кайзера большей частью являются поспешной эмоциональной реакцией на лежащий перед ним документ. Пользуясь этими пометками, надо помнить, что они часто отражают только первое впечатление, а не являются заключением, основанным на зрелом размышлении. В них часто встречаются противоречия и преувеличения, они часто не оказывали никакого влияния на действительный ход событий, потому что, как правило, делались несколько дней спустя после того, как министерство иностранных дел уже принимало решение по данному вопросу. Тем не менее они дают некоторое представление о направлении ума кайзера и о том решающем впечатлении, которое на него произвело убийство его друга».
«Решительных» инструкций Чиршки не получил[22]: статс-секретарь Ягов был в отпуске, а его помощник Альфред Циммерман посоветовал австрийцам «не предъявлять Сербии унизительных требований». Тогда посол счёл себя вправе действовать самостоятельно. 4 июля журналист газеты «Франкфуртер цайтунг» Гуго Ганц пересказал в венском министерстве иностранных дел слова Чиршки о том, что «Германия при всех условиях поддержит монархию, если последняя решится выступить против Сербии» и что «чем скорее начнёт Австрия, тем лучше. Вчера лучше, чем сегодня, но сегодня лучше, чем завтра». «Оставалось выяснить, — заметил Полетика, — разделяет ли германское правительство точку зрения своего посла в Вене, что свести счёты с Сербией было бы «очень хорошо», или же это всего-навсего личная точка зрения Чиршки».
Политический секретарь Берхтольда граф Гойос отправился в Берлин, везя с собой собственноручное письмо Франца-Иосифа кайзеру и обстоятельный доклад своего шефа о положении империи и «пансербских интригах», законченный до сараевского убийства. Порой считают, что он должен был послужить оправданием агрессии против Сербии, не только задуманной, но и подготовленной.
Из документов сербского военного министерства, опубликованных в начале 1980-х гг., следует, что Австро-Венгрия в апреле-мае 1914 г. начала концентрировать войска на границе, преследуя цель захватить Сербию и Новопазарский санджак[23]. По этим данным, 30 мая австрийским генеральным штабом был утверждён оперативный план нападения на Сербию, а 2 июня командующий войсками в Боснии генерал Потиорек издал секретный приказ о непосредственной подготовке вторжения. Из австрийских документов не следует, что подготовка зашла так далеко и что в Вене приняли решение воевать, хотя такой вариант соответствовал устремлениям Гётцендорфа.
Как верно отметил историк Алан Тэйлор, «опасно выводить политические намерения из военных планов». Наличие в генштабе в мирное время регулярно уточняемых и обновляемых планов как оборонительной, так и наступательной войны против всех вероятных противников говорит лишь о хорошей работе военных, а не об агрессивных устремлениях руководства страны. Что касается «плана войны» в широком смысле — плана, который «охватывает все элементы подготовки к ней, обеспечивающие достижение её целей путём применения вооружённых сил, подкреплённых всеми благоприятствующими экономическими и политическими мероприятиями», — то его, по оценке генерала Зайончковского, которому принадлежит данная характеристика, в 1914 г. не было ни у одной державы.
В воскресенье 5 июля Гойос и посол Сегени вручили оба документа кайзеру[24], который немедленно прочитал их. После сараевского убийства доклад произвёл на него сильное впечатление. Вильгельм II принял всерьёз слова австрийского собрата: «Усилия моего правительства должны быть направлены отныне к изолированию и умалению Сербии». Император сказал гостям, что Вена может «рассчитывать на полную поддержку» Германии, особенно в отношении Сербии, с выступлением против которой нельзя медлить. «Позиция России, — сообщил Сегени, — будет во всяком случае враждебной, но он (кайзер. — В. М.) к этому готовился в течение ряда лет, и если даже дело дойдёт до войны между Австро-Венгрией и Россией, то мы можем не сомневаться в том, что Германия, верная своему союзному долгу, выполнит его и будет стоять на нашей стороне. Впрочем при существующем в настоящий момент положении вещей Россия ещё не готова к войне и, наверное, серьёзно подумает, прежде чем обращаться к оружию».
Вильгельм предупредил, что не может принять окончательное решение без канцлера. На следующее утро он уехал в Киль, откуда отправился в плавание на своей яхте, успев перед отъездом переговорить с Бетман-Гольвегом и военными. Канцлер телеграфировал Чиршки, что кайзер «естественно не может занимать какую-либо позицию в вопросах, стоящих между Австро-Венгрией и этой страной (Сербией. — В. М), так как они выходят из его компетенции, однако император Франц-Иосиф может полагаться на то, что его величество в соответствии со своим союзническим долгом и со своей старой дружбой будет верно стоять на стороне Австро-Венгрии».
Это обещание известно как «карт-бланш», выданный Берлином Вене. Берхтольд и Гётцендорф приняли его с восторгом, надеясь, что оно поможет преодолеть сопротивление Тиссы и окончательно убедить старого императора. «После столь многих отказов надо было укрепить альянс демонстрацией верности», — писал после войны Фабр-Люс. Когда страсти ещё кипели, фон Мах утверждал: «Если бы Германия покинула Австрию в июле 1914 г., она, несомненно, отсрочила бы роковой день. Но когда этот день, наконец, наступил бы, Германии пришлось бы сражаться в одиночку, поскольку Австрия не простила бы её дезертирство». И ещё одно мнение: «Оставшись в стороне, мы оказались бы изолированными и опозоренными. Нас ненавидели бы те, кому мы отказали в помощи, и презирали все остальные». Неплохо подходит к данному случаю, но эти слова принадлежат… британскому министру иностранных дел Грею и объясняют, почему его страна столь решительно поддержала Францию во время первого марокканского кризиса в начале 1906 г.
Существовал ещё один фактор, о котором Ягов 18 июля откровенно писал в Лондон Лихновскому: «Австрия, всё более и более теряющая престиж из-за отсутствия силы к действию, вряд ли уже сейчас может считаться полноценной великой державой. Она отлично понимает, что упустила много возможностей, но что сейчас она ещё в состоянии действовать, спустя же несколько лет — быть может, уже нет. Сохранение Австрии, и при том возможно более сильной Австрии, и по внутренним, и по внешним мотивам, — для нас необходимость. Чем более решительной покажет себя Австрия, чем энергичнее мы её поддержим, тем скорее останется спокойной Россия». Расчёт понятный, но неверный.
Люди, придерживавшиеся самых разных взглядов, считали «карт-бланш» роковой ошибкой кайзера. Благожелательный к нему Монтгелас указал на следующие причины: переоценка монархической солидарности со стороны Николая II; недооценка военных приготовлений Франции и России; уверенность, что Англия останется в стороне от конфликта на континенте. По мнению нейтрального Фабр-Люса, император был уверен в том, что Антанта смирится с локальным «наказанием» Сербии, а если нет, то Германия сможет удержать Австрию от рокового шага. Объективный, но не симпатизировавший Вильгельму Гуч констатировал: «Он понимал, что поддержка австрийских требований может привести лавину в движение, но в судьбоносные дни не предпринял действенных шагов, чтобы её остановить. Вильгельм II и Бетман были недальновидными людьми, поощрявшими союзника вступить на опасный путь и не потребовавшими для себя участия в выработке ультиматума, от которого зависела судьба мира». Наиболее непримиримым оказался Бюлов: «Руководители германской политики не желали мировой войны, но они самым глупым образом вообразили себе, что им удастся осуществить австрийскую карательную экспедицию, чтобы «проучить» Сербию, не доводя дела до европейской войны».
12 июля посол Сегени отправил Берхтольду депешу, которая занимает важное место в книгах по предыстории Первой мировой войны. Приведу наиболее часто цитируемые фразы из неё. «Император Вильгельм, равно как и все другие руководящие здесь лица, не только твёрдо стоят как верные союзники за монархию (Австро-Венгрию. — В. М.), но и самым решительным образом подбодряют нас не упустить нынешний момент и в высшей степени решительно выступить против Сербии, чтобы раз навсегда навести порядок в тамошнем гнезде революционных заговорщиков… Руководящие германские круги — и не на последнем месте сам император Вильгельм — можно сказать, почти нажимают на нас в том смысле, чтобы мы предприняли решительное, даже военное выступление против Сербии… Германское правительство считает нынешний момент наиболее подходящим в политическом отношении». Далее посол привёл известные нам расчёты кайзера на неготовность России и на нейтралитет Англии.
Эта депеша считается одним из главных доказательств агрессивных намерений Берлина. Однако исследователи уже в середине 1920-х гг. обратили внимание на детали, которые корректируют картину. Во-первых, после 5 июля посол с императором не встречался, а Чиршки в Вене с 6 июля не получал новых инструкций — более «воинственных», чем телеграмма Бетмана о «союзническом долге» и «старой дружбе». Во-вторых, есть показания независимых свидетелей, что 73-летний Сегени, находившийся на посту уже 22 года, в силу возраста был, мягко говоря, не вполне адекватен и преувеличил настроение Берлина. Вопрос о его отставке был уже решён, о чём эрцгерцог говорил кайзеру в Конопиште.
К 18 июля в Берлине стало известно общее, но не полное содержание ультиматума. Участвовать в его составлении или редактировании Германия отказалась. Бетман-Гольвег вернулся в столицу из имения только 25 июля, император — ещё через два дня. Начальник генерального штаба Мольтке уехал на воды в Карлсбад (ныне Карловы Вары), зная, что во вверенном ему ведомстве полный порядок. Гросс-адмирал Тирпиц проводил лето в Швейцарии. Позднее их отсутствие в столице расценивалось как коварный манёвр. Но даже суровый к Германии Полетика отметил, что «Вильгельму переотправлялись далеко не все (многие в укороченном виде) и получались им со значительным опозданием телеграммы германских дипломатических представителей за границей. Если судить по опубликованным документам, Вильгельм получал информацию о развитии политической ситуации с большим запозданием. Канцлер, судя по количеству отправленных ему министерством иностранных дел телеграмм, был осведомлён немногим больше». «На хозяйстве» остались Ягов, Циммерман и Чиршки, которые ориентировались на «наказание» Сербии и «локализацию» конфликта. Отсутствие высшего начальства, по мнению Полетики, большой роли не играло, поскольку главные решения были приняты 5—6 июля.
Итоговый текст ультиматума оказался для Берлина сюрпризом. 20 июля Ягов попросил Вену сообщить его заранее, но Берхтольд приказал не делать этого. Он также пренебрёг советом коллеги поставить в известность Италию. Получив документ от Сегени вечером 22 июля, накануне предъявления, министр, согласно его позднейшему свидетельству, сказал, что «форма и содержание ноты кажутся излишне резкими», но посол ответил, что «слишком поздно что-либо сделать». Можно предположить, что Ягов задним числом преувеличил свою неспособность вмешаться и заставить австрийцев смягчить ультиматум или хотя бы увеличить срок, данный для ответа. Но очевидное стремление Вены действовать самостоятельно вряд ли согласуется с тезисом о её «вассальной зависимости». Находившийся у себя в имении канцлер узнал о нём, видимо, утром 23 июля, а император, путешествовавший на яхте «Гогенцоллерн» в открытом море, и вовсе по радио.
Первым «резким движением» кайзера стал приказ флоту вернуться в Балтийское море из Северного, который он отдал с борта яхты 25 июля, узнав о сербской мобилизации и разрыве отношений с Австрией. Канцлер пытался отговорить его, но получил ответ, что мобилизация в Белграде «может вызвать мобилизацию в России и наверняка вызовет мобилизацию в Австрии. В таком случае я должен собрать мои боевые силы на суше и на море. В Балтийском море нет ни одного корабля!!». 27 июля руководство страны было в Берлине и вечером собралось у императора в Потсдаме, чтобы обсудить перспективы возможного посредничества: одни считают, что искренне, другие — что для отвода глаз. 28 июля Австрия — без предварительного согласования с союзником — объявила войну Сербии, попутно отвергнув переданное через Берлин очередное мирное предложение Англии.
Вильгельм II получил сербский ответ на ультиматум только утром того же дня и написал на полях: «Блестящее произведение за срок всего в 48 часов. Это больше, чем можно было ожидать. Большой моральный успех для Вены, но с этим отпадает всякий повод для войны. После этого я никогда не отдал бы приказа о мобилизации». В инструкции Ягову в тот же день император отметил, что «пожелания дунайской монархии в целом выполнены. Несколько оговорок, сделанных Сербией к отдельным пунктам, вполне возможно уладить путём переговоров. Но здесь объявляется на весь мир самая унизительная капитуляция, и в результате отпадает всякий повод для войны. Однако это только кусок бумаги, ценность которого весьма ограничена, пока её содержание не претворено в жизнь. Для того чтобы эти красивые обещания стали действительностью и фактом, необходимо применить мягкое насилие. Это следовало бы осуществить так, чтобы Австрия, с целью побудить сербов выполнить обещания, оккупировала Белград и удержала его до тех пор, пока требования не будут действительно выполнены. На этом базисе я готов сотрудничать вместе с Австрией в пользу мира. Предложения, идущие против, или протесты других государств я буду безоговорочно отклонять».
Экстравагантная идея Вильгельма, известная в литературе как «план залога» или «Стоп в Белграде!», сегодня кажется либо глупостью, либо провокацией. Кайзер основывался на прецеденте частичной оккупации Франции в 1871 г. германскими войсками для гарантии того, что она заплатит контрибуцию. Однако Сербия, не говоря о её союзниках, не была разгромлена, да и методы мировой политики заметно изменились. Среди немногих, кто воспринял идею всерьёз, был британский министр иностранных дел Грей, но он вёл собственную многоходовую игру в «посредничество».
Бетман-Гольвег начал засыпать Австрию телеграммами, требуя ответ на «план залога». «Мы, конечно, готовы исполнить наш долг согласно союзному договору, но мы не можем допустить, чтобы Вена легкомысленно и без внимания к нашим советам втянула нас в мировой пожар», — говорилось в одной из них. Потянув до предела время, Берхтольд отверг предложение, сославшись на то, что боевые действия уже идут вовсю. Дальше была волна мобилизаций, разрывов дипломатических отношений, деклараций о состоянии войны, благородного негодования и заявлений о своей правоте. К этому мы подробнее обратимся в последней главе, говоря о роли Англии.
Роль двуединой монархии в развязывании конфликта очевидна, хотя её сановники, дипломаты и военные попытались «перевести стрелки» на Германию, что вполне совпадало с позицией Антанты. Ревизионисты сосредоточили огонь критики на этом тезисе, пытаясь доказать, что Берлин вмешался исключительно из чувства «нибелунговой верности». Фактор союза — точнее, смертельная боязнь остаться без союзников, один на один с враждебным окружением — сыграл важную, если не решающую роль в принятии решений Вильгельмом II и Бетман-Гольвегом. Конечно, они руководствовались не только идеалистическими побуждениями (хотя совсем отрицать таковые я бы не стал), но политическими и стратегическими расчётами, которые оказались фатально неверными, — прежде всего в отношении нейтралитета Англии и возможности «локализовать» войну, ограничив её востоком Европы. А ведь ещё в январе того же года российский посол Бенкендорф писал из Лондона Сазонову: «В Берлине прекрасно знают, что Франция, кажется, всегда готовая сражаться с Германией, пойдёт с нами». Вспомним фразу, приписываемую Наполеону: «Это хуже, чем преступление, — это ошибка». Дальнейшая оценка действий германских руководителей зависела в основном от политической конъюнктуры. Версальский вердикт 1919 г. мы знаем. В 1925 г. Гурко-Кряжин говорил о «растерявшихся политиках, напоминающих героя сказки, который испугался им же самим вызванных духов». В 1930 г. Полетика сравнил Центральные державы с «жирным и глупым карасём, клюнувшим на приманку», но через пять лет отказался от своих слов, заявив: «Сама Германия в лице её правящих классов хотела развязать войну и сделала с этой целью всё, что было в её силах». Об этом, по мнению учёного, «следует помнить особенно сейчас, когда германский фашизм пропагандирует среди широких масс Германии идею реваншистской войны за новый передел мира». Наконец, в 1964 г., выразив «сожаление», что ревизионистская точка зрения нашла отражение в советской историографии, Полетика утверждал: «Германия решила навязать и навязала Антанте мировую войну, но сделала это настолько грубо, что оказалась не в состоянии замаскировать своё участие в развязывании войны». Три цитаты из одного и того же автора показывают, как менялась ситуация. И ещё одна. В июле 1972 г. Белорусский государственный университет, где преподавал Николай Павлович, выдал ему отрицательную характеристику в связи с решением эмигрировать из СССР. Среди прегрешений историка значилось то, что он «преувеличивал вину России и умалял роль германского империализма в развязывании войны».
Глава шестая. Турция и Италия: драма сателлитов
Действующие лица в Константинополе:
→ Султан Мехмед V
→ Великий визирь и министр иностранных дел Сайд Халим-паша
→ Военный министр Энвер-паша
→ Морской министр Джемаль-паша
→ Министр внутренних дел Талаат-паша
→ Генерал Лиман фон Сандерс, он же Лиман-паша
→ Германский посол Ганс Вангенгейм
→ Российский посол Михаил Гире
→ Французский посол Морис Бомпар
→ Британский посол сэр Льюис Маллет
Действующие лица в Риме:
→ Король Виктор-Эммануил II
→ Премьер-министр Антонио Саландра
→ Министр иностранных дел маркиз Антонино ди Сан-Джулиано, Сидней Соннино (с ноября 1914 г.)
→ Германские послы Ганс фон Флотов, Бернгард фон Бюлов (с декабря 1914 г.)
→ Российский посол Анатолий Крупенский
→ Французский посол Камиль Баррер
→ Английский посол в Риме Реннел Родд
* * *
Турция и Италия занимали своеобразное место в европейской Большой Политике начала века. Их можно назвать «великими державами второго ряда». Формально статус великой державы в то время признавался тем, что другие великие державы поддерживали дипломатические отношения с ней на уровне послов, а не посланников. Например, Япония впервые добилась этого только в 1906 г., и то от своей союзницы Англии. Пост посла в Константинополе был почётным и трудным, хотя его реальное политическое значение с течением времени постепенно убывало. Пост посла в Риме во многих странах, включая Россию, долгое время считался чем-то вроде хорошо оплачиваемого отпуска или почётной отставки, но затем резко «возрос в цене».
Это отвечало изменениям в положении обеих стран в мировой политике: значение Турции ослабевало, значение Италии возрастало. Османская империя оставалась «Блистательной Портой» и «Высокой Портой», но терпела поражение за поражением в локальных конфликтах, начиная с Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., и теряла всё новые и новые части своей территории. Разгромный исход Первой Балканской войны в 1913 г. привёл Валерия Брюсова к следующему выводу: «Господству турок в Европе пришёл конец. У них, по-видимому, ещё останется небольшая территория на Балканском полуострове, сохранённая им соперничеством держав между собою. Но значение Турции как европейской державы отныне может считаться уничтоженным». Куски от Турции отрывали все, кто мог, включая Италию. Но всё-таки с ней ещё приходилось считаться.
Турция вступила в войну раньше, поэтому сначала рассказ о ней.
Летом 1908 г. турецкая буржуазно-реформистская партия «Единение и прогресс» при поддержке молодых офицеров свергла султана Абдул-Хамида II, прозванного «кровавым», и осуществила революцию, к которой готовилась почти двадцать лет. В стране была провозглашена конституционная монархия, на которую согласился новый султан Мехмед V, и началась модернизация под либеральными лозунгами, но проводившаяся авторитарными методами. Образованные на европейский лад кабинет министров и парламент (меджлис) были вполне декоративными. Богатый и тщеславный великий визирь (глава правительства) и министр иностранных дел Сайд Халим-паша довольствовался церемониальной ролью. Реальная власть оказалась в руках «младотурок», как прозвали в Европе руководство партии «Единение и прогресс». Воспользовавшись неудачей Турции в войне с Италией за Триполи в 1911—1912 гг., консер-вативная проанглийская партия «Свобода и согласие» в июле 1912 г. организовала в Константинополе военный переворот и отстранила «младотурок» от власти. Однако её правление оказалось недолговечным из-за поражения в Первой Балканской войне, закончившейся почти полной потерей Европейской Турции. 23 января 1913 г. правительство сменилось вновь. Конституционный «декорум» сохранился, но фактический контроль над страной сосредоточился в руках «триумвирата». Его составили военный министр и начальник генерального штаба Энвер-паша, считавший себя Наполеоном турецкой революции, морской министр и губернатор Стамбула Джемаль-паша и министр внутренних дел Талаат-паша.
Ахмед Джемаль
«Младотуркам» досталось тяжёлое наследство, особенно в экономике. Страна давно жила в долг, гася постоянный дефицит бюджета с помощью новых займов. Займы, разумеется, давались не просто так. В руках кредиторов — англичан, французов, немцев, итальянцев и американцев — оказались все наиболее доходные статьи государственного бюджета: табачная и соляная монополии, гербовые сборы и таможенные пошлины, земельные налоги, акциз на спиртные напитки и т. д. Инфраструктура и транспортная сеть, включая железные дороги, также контролировались иностранцами. Наконец, низкие ввозные пошлины привели к господству на внутреннем рынке дешёвых товаров из-за границы, что устраивало как производителей, так и местную компрадорскую буржуазию, делавшую деньги не на развитии национальной экономики, а напротив, на обслуживании интересов великих держав. Этнически в этой категории доминировали не турки, а греки, армяне и евреи. Для довершения картины надо упомянуть коррупцию, казнокрадство и кумовство, поразившие государственный аппарат сверху донизу. Это была настоящая «полуколониальная зависимость» от Парижа, Лондона и Берлина, несравнимая с той, которую пытались приписать России или Австро-Венгрии. «Напрасно младотурки говорят на изысканном французском языке, — иронизировал Брюсов в 1913 г., — напрасно мечтали открыть в Стамбуле университет со всеми факультетами, напрасно совсем поевропейски устраивают дворцовые перевороты и свергают премьеров, — Европа не хочет признать их за своих». Он прямо назвал «изгнание турок из Европы» целью не только русской, но и общеевропейской политики.
«Младотурки» считали, что путь к ослаблению экономической зависимости лежит через дипломатические и военные успехи, а для этого необходима мобилизация населения с помощью новой национальной идеи. В 1908 г. таковой был провозглашён «оттоманизм», призванный объединить все народы империи, однако, как заметил В. В. Готлиб, «нетурецкие элементы не шли на льстивые уговоры. Балканские войны, во время которых греки, болгары, сербы, албанцы и македонцы — подданные Порты — показали свою преданность её врагам, развеяли доктрину оттоманизма. Эта доктрина была заменена новой — тюркизмом, провозгласившим превосходство турецкой расы». Триумвират сделал ставку на воинствующий национализм, что вскоре после начала войны привело его к одному из страшнейших преступлений XX в. — геноциду армян. В 1921—1922 гг. его главные виновники Талаат и Энвер, а также бывший великий визирь Сайд Халим, были убиты армянскими патриотами.
Если финансы, налогообложение и образовательная система Турции находились под контролем французов и англичан, немцы укрепляли свои позиции в транспорте, промышленности, политической и военной сферах. В. В. Готлиб удачно описал сложившуюся ситуацию:
«Влияние кайзера было велико ещё при Абдул-Хамиде. Оно было велико не потому, что кайзер воздерживался от присоединения к другим державам в навязываний султану реформ (в основном касавшихся улучшения положения христианского населения Турции. — В. М.), а потому что он обеспечивал обучение турецких офицеров (обратим внимание! — В. М.), предоставлял Порте субсидии и оказывал ей дипломатическую поддержку. События 1908 г. не только не уменьшили, а, наоборот, усилили доминирующее влияние рейха[25]. Западные финансисты и коммерсанты, начавшие проникать в Турцию, выбирали себе основных помощников (компрадоров) главным образом из числа местной греческой и армянской средней буржуазии. Более поздние пришельцы — немцы — поддерживали и опирались на компрадоров из среды нарождавшейся турецкой буржуазии. Младотурки, получившие власть в результате буржуазной революции, в свою очередь также начали оказывать поддержку национальным компрадорам. Благодаря этому они оказывались связанными с Берлином и не только не могли, но и не хотели изменить это положение… Рейх мог сказать, что только он один среди европейских держав не захватил никакой территории Оттоманской империи. Как одно из наиболее молодых империалистических государств, он не играл существенной роли в системе капитуляций, столь ненавистной младотуркам. Более того, с тех пор как Антанта начала проводить политику, конечной целью которой был раздел Турции, Германия вынуждена была прилагать усилия, чтобы сохранить прежнее положение».
Остаётся добавить немногое. Во-первых, по оценке американского учёного Эдварда Эрла, «экономические перспективы Турции никогда не были лучше, чем непосредственно перед началом войны», прежде всего благодаря Багдадской железной дороге. Во-вторых, турецкое офицерство во главе с Энвером восхищалось германской армией. Это привело к «инциденту с Лиманом», который серьёзно омрачил международный горизонт в канун нового 1914 г.
Весной 1913 г., после переворота в Константинополе, «младотурки» попросили Германию помочь им в реорганизации армии. Кайзер согласился и ещё летом сообщил о своём намерении «августейшим кузенам» «Ники» и «Джорджи», т.е. Николаю II и Георгу V. В ноябре в Турцию отправилась военная миссия — 42 офицера во главе с генералом Отто Лиманом фон Сандерсом, который был назначен командиром расквартированного в столице 1-го корпуса, членом военного совета и начальником военных училищ. На аудиенции перед отъездом император сказал генералу: «Вы должны иметь дело только с армией. Изгоните политику из турецкого офицерского корпуса. Вмешательство в политику — это их величайшая ошибка. В Константинополе вы встретитесь с адмиралом Лимпусом, который стоит во главе английской морской миссий. Сохраняйте с ним хорошие отношения. Он работает во флоте, вы в армии. Каждый из вас имеет свой отдельный круг деятельности». Тем не менее Сазонов немедленно заявил протест, увидев в действиях Берлина посягательство на проливы. В распиской прессе началась антитурецкая и антигерманская кампания.
Отто Лиман Сандерс
Однако Лиман был лишь одним из многих иностранных советников, приглашённых «младотурками». Немецкий генерал Кольмар фон дер Гольц находился на службе у Порты с 1909 г.; французы пытались привести в порядок её финансы, жандармерию и суд. Английский адмирал Артур Лимпус успешно руководил модернизацией флота. Весной 1914 г. это вызвало тревогу у Сазонова, который, опасаясь «утраты господствующего положения на Чёрном море», попросил англичан не слишком усердствовать, пока Черноморский флот не усилен должным образом. Выждав время, британское правительство ответило, что не разрешило бы своим офицерам «вступить на службу оттоманского правительства, если бы считало, что турецкий флот предназначается для действий, враждебных России». За этим следовал более существенный аргумент, что в противном случае «преобразование турецкого флота было бы, несомненно, поручено Германии». Миссия Лимана прибыла в Константинополь в разгар работы англичан, поэтому Лондон предложил — к неудовольствию Сазонова — ограничиться «устным запросом» со стороны трёх послов, что и было сделано 15 декабря.
Демарш был вмешательством во внутренние дела Османской империи и вызовом Германии. Под Новый год глава её внешнеполитического ведомства Ягов вызвал в Берлин из Константинополя посла Ганса Вангенгейма, чтобы обсудить ситуацию с ним и с российским послом Сергеем Свербеевым, не разделявшим воинственных настроений своего начальника. Общими усилиями дипломаты подготовили текст ответа в Петербург, сообщив, что назначение Лимана командиром корпуса имеет временный характер и служит лишь для его ознакомления с положением дел. Согласованный с «младотурками» документ был составлен в примирительном, если не извиняющемся тоне. 28 декабря (10 января) Пурталес вручил его Сазонову, но министр продолжал демонстрировать недовольство. Через несколько дней генерал сдал командование, но под именем Лиман-паша был назначен генеральным инспектором в чине фельдмаршала. Он честно сделал своё дело, что показал торжественный смотр турецкой армии полгода спустя. «То, что в январе 1914 г., — писал американский посол Генри Моргентау, — было недисциплинированной рваной толпой, маршировало теперь гусиным шагом, одетое в защитную серую форму».
Представители стран Антанты дружно бойкотировали смотр.
«История с фон Сандерсом, — сделал вывод Фей, — представляет яркий пример того, каким образом при добром желании обеих сторон может быть найден выход даже из критического положения. Его удовлетворительное разрешение есть доказательство того, что войны не неизбежны». «Виновником кризиса является не Германия, — писал Сазонову в январе из Лондона посол Бенкендорф, предостерегая от поспешных действий, — ещё менее, быть может, Турция. Причина его коренится в германо-турецком соглашении. Это соглашение создаёт между этими двумя державами величайшую солидарность. В случае конфликта для Германии было бы делом чести и достоинства взяться за оружие в защиту Турции. Из этого я заключаю, что предпринимать меры против Турции — это значит идти прямо к войне».
Опытный посол преувеличил близость между Константинополем и Берлином: «младотурки», помня о французских займах и британском флоте, ещё не сделали окончательный выбор, взвешивая, какой из противоборствующих блоков даст им больше. Но российские дипломаты воспринимали происходящее очень серьёзно, о чём говорит, например, следующий пассаж из донесения в МИД поверенного в делах в столице Порты Константина Гулькевича, датированного 18(31) января 1914 г.:
«Я не могу взять на себя ответственность в том, что даже за такой непродолжительный период времени, как две недели (речь шла о приведении Черноморского флота в боевую готовность. — А.М.), не мог бы возникнуть какой-либо новый инцидент, могущий, против нашей же воли, вынудить нас к активным выступлениям. Так, например, нынешний режим в Турции держится силою, направляемою исключительно энергиею десятка лиц. Внезапный террористический акт, который устранил бы Талаата, Халила, Джемаля, Энвера и т. д., — и в столице может возникнуть анархия, требующая немедленного появления в Константинополе нашего флота. При таких условиях и двухнедельный срок мог бы быть чрезмерно длинным».
Что стояло за этими словами, не знаю. Но звучат они пугающе — особенно когда вспоминаешь историю сараевского убийства.
Лидеры «младотурок» понимали, что европейская война приближается и их страна может окончательно превратиться в объект Большой Политики. В июле 1914 г. в Париж приехал эксминистр финансов Джемаль, считавшийся франкофилом. Турция предложила свои услуги, вплоть до вхождения в Антанту, взамен потребовав возвращения Эгейских островов, перешедших к Греции, но получила отказ. В это же время Энвер привёз из Берлина проект договора: Германия обещала Порте поддержку в отмене капитуляций, достижении соглашения с Болгарией «при разделе территорий, которые будут завоёваны на Балканах» и возвращении Эгейского архипелага, если Греция выступит против Центральных держав. От Турции требовалось участие в войне с Россией. 2 августа тайный договор был подписан; через четыре дня его дополнило соглашение с Болгарией.
С началом конфликта Турция, с согласия Берлина, объявила «строгий нейтралитет» и… военное положение, начав всеобщую мобилизацию. Однако при отсутствии состояния войны путь к компромиссу не был закрыт окончательно. Министр финансов Джавид просил французского посла Мориса Бомпара дать Порте гарантии территориальной неприкосновенности на 15—20 лет и отмены капитуляций, чтобы противопоставить их немецким обещаниям. Великий визирь говорил его британскому коллеге сэру Льюису Маллету о том, что он боится России и «мечтает» о покровительстве Антанты, а Джемаль передал послу список возможных условий этого. Даже русскому военному агенту Энвер предложил союз на 5—10 лет и помощь против Австрии на Балканах, обещая отвести войска с границ Кавказа и удалить немцев из армии.
В Петрограде туркам не верили, считая, что они просто тянут время и пытаются поссорить Россию с балканскими славянами, но и воевать с ними не спешили, чтобы не распылять силы. Сазонов предписал продолжать переговоры «в благожелательном смысле, хотя бы только для известного выигрыша времени, избегая каких-либо связывающих заявлений». Генеральный штаб поначалу исключал параллельные операции против Центральных держав и Турции. Осторожность диктовалась неготовностью к захвату проливов, а также тем, что Болгария, Румыния и Греция ещё не определились.
Англия и Франция тоже не возражали против нейтралитета Турции, но не собирались платить за него ни отказом от капитуляций, ни территориальными компенсациями, которыми можно было привлечь более перспективных союзников. Более того, 31 июля первый лорд британского адмиралтейства (морской министр) Уинстон Черчилль приказал реквизировать два линкора, построенных для Турции на английских верфях и уже оплаченных. Инициатор акции откровенно писал: «Мы не могли позволить себе действовать без этих двух превосходных кораблей. Ещё меньше мы могли бы позволить себе видеть их используемыми против нас. Таким образом, число британских кораблей сократилось бы на два вместо того, чтобы увеличиться на два». Незаконность действий с юридической точки зрения Черчилля не смущала: как говорится, «международное право — это то, что нарушают другие». Но даже он признал, что у прогерманской партии в Константинополе появился мощный козырь. Готлиб сделал вывод: «Если бы Англия заведомо хотела привести турок в ярость и толкнуть их в лагерь кайзера, то она не смогла бы выбрать более эффективного пути».
На грань войны Турцию поставил эпизод с германскими крейсерами «Гебен» и «Бреслау», которые в первой декаде августа прошли из Средиземного моря в Мраморное через Дарданеллы. Английские и французские корабли следовали за ними, но не попытались остановить, хотя об этом просил Сазонов, беспокоившийся за Черноморский флот. «Так как братство по оружию, — заметил Готлиб, — не уничтожило ни одного из основных противоречий, существовавших между союзниками, оно в сущности не ослабило противодействия западных держав стремлению осуществить вековую мечту царского правительства. Именно поэтому «Гебену» и «Бреслау» позволили достигнуть берегов Золотого Рога.[26] Корабли были объявлены «купленными» у Германии и получили новые названия, экипаж был переодет в турецкую форму и даже частично заменён. Но это никого не вводило в заблуждение.
Союзники понимали, что чаша весов в Константинополе клонится в сторону войны, и решили дать туркам возможность проявить инициативу. «Младотурки» продолжали делать авансы странам Антанты, но те брались гарантировать целостность Турции только на время конфликта, давая понять, что потом она может подвергнуться разделу. Союз с Портой, слабой в военном отношении, им был не нужен. 9 сентября турецкое правительство под бурное ликование местной прессы объявило об отказе от капитуляций. Послы великих держав поспешили заявить формальный протест, но Берлин и Вена в тот же день признали совершившийся факт. Англия отозвала военную миссию. 27 сентября Турция закрыла Дарданеллы, поставив мины и заградительные сети. 11 октября Германия предоставила ей заём в 100 млн. золотых франков. 29 и 30 октября турецкая эскадра, включая свежепереименованные «Гебен» и «Бреслау», без объявления войны обстреляла Одессу, Севастополь, Феодосию и Новороссийск.
Это было сделано под давлением Берлина и Вены, чтобы перекрыть путь к возможному отступлению. 1 ноября российский, английский и французский послы в Константинополе сообщили о разрыве отношений и потребовали свои паспорта. В Петрограде Сазонов заявил турецкому поверенному в делах: «Теперь уже слишком поздно вести какие-либо разговоры». «Триумвират» пошёл ва-банк, приняв отставку несогласных министров, к которым чуть было не присоединился сам великий визирь. Правительство проигнорировало предостережение своего же посла в Париже, писавшего: «Обманчивая привлекательность возможных военных успехов может привести только к нашей гибели. Антанта готова уничтожить нас, если мы выступим против неё. Германия не заинтересована в нашем спасении. В случае поражения она использует нас как средство для удовлетворения аппетитов победителей; в случае победы она превратит нас в протекторат».
Воззвание к нации, извещавшее о вступлении в войну, было велеречивым: «Идеал нашей нации ведёт нас к уничтожению нашего московского врага для того, чтобы благодаря этому установить естественные границы нашей империи, которые включат и объединят все ветви нашей расы». Манифест Николая II от 20 октября (2 ноября) об объявлении войны гласил: «Безрассудное вмешательство Турции в военные действия только ускорит роковой для неё ход событий и откроет России путь к разрешению завещанных ей предками исторических задач на берегах Чёрного моря».
Италия была членом Тройственного союза с момента его создания в 1882 г., хотя представить её искренним союзником Австро-Венгрии было, мягко говоря, проблематично. Объединение Италии, завершившееся в 1870 г., проходило в непрерывной борьбе с Австрией, потерявшей в результате этого часть территорий. Однако и к 1914 г. в её составе оставались земли, населённые итальянцами, прежде всего Трентино и Триест, которые в Италии называли «ирредента» или «неосвобождённые территории». Расставаться с ними Австрия не собиралась ни при каких условиях. В области внешней политики Вена стремилась не допустить экспансии Рима на Балканах. Итальянцы хотели видеть Адриатическое море своим «внутренним озером», а в перспективе мечтали о господстве и над Средиземным. «Было бы гибельным для Италии, — сделал вывод Готлиб, — способствовать возвеличению Австрии. Подлинные интересы Италии требовали поражения Австрии».
С весны 1914 г. правительство Италии возглавлял националист Антонио Саландра. Его позиция в отношении противоборствующих блоков была очень простой: выбирать следовало тот, союз с которым даст больше возможности для внешней экспансии. Несмотря на формальное членство в Тройственном союзе, Италия ещё в начале 1900-х гг. заключила два тайных соглашения с Францией, по которым стороны гарантировали друг другу нейтралитет в случае войны. В Берлине и Вене, видимо, не знали об этом, но догадывались, что рассчитывать на помощь Италии, видимо, не придётся. Главное, чтобы она оставалась нейтральной.
Реакция Рима на сараевское убийство была сдержанной. «К негодованию об этом злодеянии примешалось и чувство избавления от неопределённой опасности, — сообщил Сазонову 17(30) июня посол Анатолий Крупенский. — Его (эрцгерцога. — В. М.) недружелюбные чувства к Италии и воинственные наклонности считались установившимся фактом, и с его кончиной шансы мира увеличились. Сан-Джулиано (глава МИД. — В. М.) мне сказал: «Преступление ужасно, но дело мира от этого не пострадает». Но что хуже и бессердечнее, это своего рода демонстрация в большом кинематографе Рима, где публика, узнав о сараевской трагедии, потребовала королевский марш. Оркестр исполнил его при аплодисментах зрителей. Вот как народ любит здесь Габсбургов», — подытожил посол.
Вена предъявила ультиматум Белграду, не проконсультировавшись с Римом и поставив его в известность одновременно с другими странами. Взявший курс на войну, Берхтольд сделал это совершенно сознательно — чтобы Италия не вмешалась с «мирным посредничеством». Австрийцы видели в ней не союзника, но соперника, если не врага. В Берлине тоже промолчали. Саландра и Сан-Джулиано предпочли «ничего не знать», тем самым избежав ответственности, хотя как минимум догадывались о готовящихся решительных шагах.
Австрийская «игра в молчанку» дала итальянцам ещё один козырь. Статья I договора о Тройственном союзе гласила: «Стороны обязуются обмениваться взглядами относительно могущих возникнуть политических и экономических вопросов общего характера». По статье VII Вена и Рим обещали в случае изменения «статус-кво в области Балкан или оттоманского побережья и островов в Адриатике или Эгейском море» путём «временной или постоянной оккупации» делать это лишь по предварительному взаимному соглашению. Более того, соглашение должно быть «основано на принципе взаимных компенсаций за всякую территориальную или иную выгоду», полученную другой стороной. Одним словом, Австрия не собиралась ни предупреждать Италию, ни делиться с ней.
На этом основании римский кабинет посчитал австрийский ультиматум нарушением договора, а объявленную Сербии войну — агрессивной. «Учитывая оборонительный и предохранительный характер Тройственного союза, Италия не обязана приходить на помощь Австрии, если она окажется в состоянии войны с Россией», — телеграфировал Сан-Джулиано 24 июля своим послам в Берлине и Вене для передачи дальше. «Однако, — добавил он, — тот факт, что мы не несём никаких обязательств в этом вопросе, не исключает возможности, что мы, быть может, сочтём необходимым принять участие в могущей разразиться войне, если это будет соответствовать нашим жизненным интересам». Как заметил Готлиб, «Италия ухитрилась в одно и то же время отказаться от своих обязательств по договору и требовать для себя вытекающих из него выгод».
3 августа Италия заявила о своём строгом нейтралитете. Получив от короля Виктора-Эммануила II телеграмму об этом, кайзер сделал напротив его имени пометку: «Негодяй». Нет, Вильгельм не ждал активного участия августейшего собрата в войне, но понимал, какую политику избрали в Риме. Более жёсткая по отношению к Антанте позиция Италии могла как минимум связать какое-то количество французских дивизий на границе с ней, что было особенно важно в первые недели войны. «История отомстит Италии за её измену, — писал 5 августа начальник германского генштаба Мольтке своему австрийскому коллеге. — Да дарует вам Господь ныне победу, чтобы вы впоследствии смогли свести счёты с этими негодяями». Официальная и полуофициальная пропаганда подобных выражений избегала, но могла говорить о «номинальном участии» Рима в Тройственном союзе.
Объявив о нейтралитете, Италия немедленно начала торговаться с обеими коалициями. И та, и другая дали ей понять, что оплачено будет только участие в войне. Начало конфликта складывалось успешно для Германии. «Если бы счастье и дальше не изменяло кайзеру, — иронизировал Готлиб, — Рим, вероятно, сделал бы открытие, что данная война представляет собою крестовый поход европейской цивилизации против русского варварства и французской безнравственности. Но полководец в ранге императора споткнулся на Марне». Уже 30 сентября в докладе королю Саландра исключал возможность выступления на стороне Тройственного союза, а из оставшихся вариантов предлагал присоединиться к Антанте, но не раньше весны, чтобы успеть подготовиться.
Франция и Россия не возражали против того, чтобы Италия отвоевала у Австрии Трентино и Триест, но Саландра хотел получить что-то и без войны — например, Савойю, ставшую французской в 1859 г. Итальянцы хотели гарантий, прежде чем откажутся от нейтралитета, союзники настаивали на обратном порядке. После битвы на Марне, в которой немцы не победили — что было равносильно проигрышу, — акции Италии в союзных столицах поползли вниз. Торговый атташе посольства в Париже граф Сабини, доверенное лицо премьера Саландры, всё это время вёл конфиденциальные переговоры с французскими политиками, включая Клемансо, который не был членом кабинета, а потому имел полную «свободу рук». Никаких результатов они не дали, поэтому обойдёмся без подробностей.
Сидней Соннино
После смерти Сан-Джулиано 16 октября Саландра реформировал кабинет министров, введя в него несколько сторонников Антанты, включая нового главу МИД Сиднея Соннино. Свою политику премьер назвал «священным эгоизмом для Италии». На языке тогдашней дипломатии это было посланием заинтересованным сторонам о том, что торг уместен, но будет трудным. В Берлине намёк поняли и отправили послом в Рим князя Бернгарда фон Бюлова, бывшего канцлера и министра иностранных дел, признанного мастера Большой Политики. За «сожжение мостов» — если не участие в войне, то хотя бы открытое проявление враждебности к Антанте, — он готов был обещать итальянцам не только долю трофеев, но и австрийский Трентино. «Мы должны добиться сотрудничества Италии, а это недостижимо без ваших территориальных жертв», — сказал Бюлов австрийскому послу в Риме при первом же свидании.
Следующие месяцы, прошедшие в бесплодных дипломатических баталиях (они исчерпывающе описаны в книге Готлиба) между Берлином, Римом и Веной, показали, что Тройственный союз приказал долго жить. По мере ухудшения положения Австро-Венгрии на Восточном фронте итальянцы всё настойчивее требовали территориальных «компенсаций», прежде чем предпринять какие-либо действия. Германия призывала Австрию к компромиссу. Наконец, 8 марта 1915 г. Коронный совет под председательством Франца-Иосифа постановил принять итальянские требования и начать обсуждение вопроса о компенсациях за счёт австрийской территории. Но было поздно: пятью днями раньше по поручению Соннино посол в Лондоне маркиз Гульельмо Империали начал официальные переговоры с Греем. О французских Ницце и Корсике речь уже не шла, но колониями предлагалось поделиться.
Первые семь месяцев войны принесли всем сторонам огромные потери. И Тройственный союз, и Антанта присматривались к «свежим» армиям, даже если те невысоко котировались в военном отношении. Итальянцы, конечно, были куда более серьёзным союзником, нежели румыны, болгары или греки. Франция, выдержавшая особенно сильный удар, была готова «покупать новые жизни» где только можно. Россия не хотела чрезмерного усиления Италии на Балканах, где планировала создать южнославянское государство под эгидой Сербии и своим покровительством. Торг за земли на восточном побережье Адриатики и за острова около него оказался жёстким, но 26 апреля 1915 г. увенчался Лондонским договором между Римом, с одной стороны, и державами Антанты, с другой. Италия согласилась вступить в войну на условиях различных территориальных «компенсаций» по завершении конфликта. Большей их части она, правда, так и не получила.
«В Духов день 23 мая 1915 г., — завершил Готлиб своё исследование, — когда австро-венгерскому послу было сообщено об объявлении войны, в Риме, не считая нескольких демонстраций, организованных перед дипломатическими миссиями стран Антанты, царило спокойствие усталости и дурных предчувствий. Зато в правительственных канцеляриях Европы царило возбуждение. Десятимесячная дипломатическая борьба нанесла серьёзный и непоправимый ущерб союзу между Веной и Берлином. Отношения между Россией и Западом, уже подорванные турецкой неразберихой, стали ещё более напряжёнными. Италия стала союзником Антанты на условиях, которые не сделали её дружественной Франции и России державой».
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Великобритания: драма глобализма
Действующие лица в Лондоне:
→ Король Георг V
→ Премьер-министр сэр Герберт Генри Асквит
→ Министр иностранных дел сэр Эдуард Грей
→ Постоянный заместитель министра иностранных дел сэр Артур Никольсон
→ Первый лорд адмиралтейства (морской министр) Уинстон Черчилль
→ Французский посол Поль Камбон
→ Российский посол граф Александр Бенкендорф
→ Германский посол князь Макс фон Лихновский
* * *
В начале XX в. Британская империя занимала исключительное место в мировой политике. Её владения, включая самоуправляющиеся доминионы вроде Канады и Австралии, находились на всех пяти континентах. До последней четверти XIX в. Англия оставалась главной «мастерской мира», занимая ведущие места как в науке, так и в промышленности, пока её не начали теснить Германия и США. Британский гражданский флот господствовал в мировой торговле, что подкреплялось самым мощным в мире военным флотом. С помощью цепочки аванпостов от Гибралтара до Сингапура и Гонконга империя, прозванная «владычицей морей», фактически распоряжалась намного большей территорией, чем та, которой владела формально.
Менее известен тот факт, что англичане контролировали проложенные по дну океанов телеграфные кабели. До изобретения телевидения и Интернета и при слабом развитии радио это означало господство на мировом информационном поле. С началом войны они отрезали Германию от Америки и пропускали в Новый Свет лишь то, что выгодно Антанте. Можно лишь удивляться, что в условиях одностороннего информирования о происходящем и направлявшейся из Лондона пропагандистской войны Соединённые Штаты оставались хотя бы формально нейтральными до начала 1917 г. В создании позитивного имиджа англичане также опередили всю планету, сделав всемирными слова «джентльмен» и «парламент» и представив свой государственный строй как самый совершенный.
Если это не «мировое господство», то что?
До 1902 г. Великобритания не была связана никакими союзами с взаимными обязательствами. Первый такой договор она заключила с Японией, которая находилась далеко, конкурентной опасности ещё не представляла, но зато подходила на роль аванпоста на Дальнем Востоке и противовеса главному стратегическому противнику — России. Второго главного противника — Германию — удалось уравновесить с помощью Франции. В 1904 г. Лондон и Париж заключили ряд письменных соглашений, урегулировав спорные вопросы, которые в основном касались колоний. Но главным итогом оказалась не оформленная на бумаге договорённость о возможности совместных действий против Берлина. В дипломатии это называют «взаимопониманием». Оно началось с совместного противостояния германским интересам в Марокко во время кризиса 1905 г. и закончилось мировой войной.
В начале века британская дипломатия считалась лучшей в мире — по крайней мере, самой эффективной. Её основу составляли кадровые чиновники МИД, потолком карьеры для которых был пост «постоянного заместителя министра». «Постоянного» — потому что он не менялся вместе с министром, который назначался из числа депутатов парламента от правящей партии. Высшее руководство внешнеполитического ведомства и послы в столицах великих держав, конечно, могли влиять на шефа, но не они определяли стратегический курс. От министра зависело очень многое. Он мог утаить даже от ближайших сотрудников истинные мотивы и цели политики страны. Он мог не ставить в известность о конфиденциальных переговоpax и «взаимопонимании» ни коллег по кабинету, крфме премьера и, скажем, военного министра, ни парламент, на рассмотрение которого представлялись все формально заключаемые договоры. Он мог закрыть глаза на «взаимопонимание» военных под предлогом того, что это не входит в его компетенцию. А в критический момент мог достать из сейфа документы — скажем, в виде обмена нотами или письмами с послом одной из держав — и объявить о «моральных обязательствах», побуждающих империю к решительным действиям вплоть до вступления в войну. Так оно и вышло.
Эдуард Грей
Среди главных действующих лиц мировой драмы 1914 г. министр иностранных дел Британской империи 52-летний сэр Эдуард Грей, занимавший свой пост с декабря 1905 г., стоит особняком. Любитель сельской жизни, заядлый рыболов и знаток птичьего пения, он до назначения главой МИД двадцать лет был членом палаты общин от Либеральной партии, но никогда не входил в правительство, не считая трёхлетнего пребывания в должности парламентского вицеминистра иностранных дел в 1892—1895 гг. К тому же Грей не имел опыта жизни и работы за границей и не говорил по-французски, что было обязательным для дипломата. С»юз с Токио и «сердечное согласие» с Парижем достались ему в наследство, но оформление Антанты произошло именно при нём, равно как и заметное улучшение отношений с США. Даже с учётом того, что министра окружали высокопрофессиональные дипломаты вроде постоянного заместителя сэра Артура Никольсона, бывшего посла в Петербурге и одного из немногих британских русофилов, Грей сыграл большую личную роль в мировой политике. Тем более удивительны оценки, которые давали ему современники.
«Грей ничего не знает об иностранных делах, — говорил в октябре 1906 г. публицист Генри Брейлсфорд. — Его сила в приятной внешности, хороших манерах и умении демонстрировать здравый смысл и честность перед палатой общин». Через четыре года влиятельный либерал лорд Вердейл охарактеризовал товарища по партии как «невежественного и заурядного человека, неспособного к внешней политике». Депутат Марк Непир считал министра «тупицей и занудным оратором», хотя и не лишённым личного обаяния. Журналист Гамильтон Файф назвал его «бестолковым, плохо образованным, благонамеренным английским джентльменом, непригодным для своей должности и неспособным выпутаться из отравленной сети интриг, в которую превратилась европейская дипломатия. С момента назначения министром он был сущим несчастьем, но его ни разу не осудили в палате общин и до сих пор уважают. Мало кто понимал, насколько детские представления о мире и окружающих народах таились за благородной внешностью и глубоким меланхоличным взглядом». Такого же мнения придерживался американский историк Гарри Барнес, автор лучших, наряду с Феем, обобщающих работ о причинах Первой мировой войны. Грей, писал он, «не был изощрённым дипломатом вроде Извольского, Делькассе или Пуанкаре, но являл собой один из крайних в истории примеров беды, которая происходит с государством, вверившим свою внешнюю политику благонамеренному в своей основе и лично честному человеку, но наивному, невежественному, тупому и нерешительному дипломату».
Остановимся и зададим себе вопрос: как получилось, что на протяжении 11 лет, с конца 1905 г. по конец 1916 г., внешнюю политику Британской империи возглавлял, пользуясь большими полномочиями и доверием королей и премьеров, «невежественный и заурядный человек, неспособный к внешней политике»? Может ли такое быть? У руля государства порой оказывались бездарные и безответственные люди, вроде австрийского графа Берхтольда, но последствия их действий были катастрофическими. Грей же вёл империю от победы к победе — по крайней мере, сообразно с курсом, который выбрали его союзники «либералы-империалисты». Один из их лидеров Уинстон Черчилль был среди немногих, кто высоко оценивал таланты Грея.
Может быть, правы те, кто считал Грея «королём, которого играет свита», то есть человеком, зависевшим от своих подчинённых и советников? Конечно, он руководствовался получаемой от них информацией и советовался с ними, но лично вёл важнейшие переговоры с иностранными послами и составлял записи этих бесед, которые отсылал английским представителям в соответствующих столицах. Он старался максимально контролировать информационные потоки между МИД и кабинетом министров, пропуская в обе стороны лишь то, что считал нужным. Так что «свита» знала своё место, а «король» своё.
С началом войны противники, начиная с кайзера, обвиняли Грея во лжи и лицемерии, в ведении двойной игры и использовании двойных стандартов: для союзников — одни, для противников — другие. Как многие английские государственные мужи, Грей был не чужд морализаторской риторики, за что его прозвали «современным Макиавелли[27]. Соотечественники — которым, казалось бы, виднее — изумлялись и протестовали: откуда у этого «сельского джентльмена» не только почти сверхъестественная ловкость в дипломатических интригах, но утончённый цинизм и даже презрение в отношении собственного правительства, парламента и народа? Даже такой враг англичан, как казнённый ими в 1917 г. за попытку поднять восстание ирландский патриот Роджер Кейсмент, сказал: «Если он не верит в то, что говорит, мы должны считать его негодяем. Зная сэра Эдуарда Грея лично, я уверен, что по сути он хороший и благонамеренный человек. Я считаю, что он верит во всё, что говорит».
Чужая душа — потёмки. Мы никогда не узнаем, что творилось в голове и в душе творца британской внешней политики. Остаётся следовать древнему принципу: «По делам их узнаете их».
Значительная часть дипломатической деятельности Грея лежит за временными рамками нашего расследования, поэтому суммируем главное. Он сосредоточил усилия на укреплении Антанты, рассчитывая, что в случае необходимости Франция «прикроет» Англию на Средиземном море, Россия — на Балтийском, а Япония — на Дальнем Востоке. При этом отношения с союзниками оформлялись в виде либо соглашений по сугубо частным вопросам, либо устных договорённостей и «моральных обязательств», что формально сохраняло за Лондоном «свободу рук», чего требовало от Грея правительство: наглядный пример — отношения с Россией. Он хотел добиться такого положения, при котором Англия может вступить в войну под благовидным предлогом, когда это будет ей выгодно, и сможет, не теряя лица, остаться в стороне от невыгодного ей конфликта.
Эту тактику «сельский джентльмен» успешно применил уже в первые месяцы пребывания в должности министра. Зимой 1905/06 г., во время первого марокканского кризиса, он заверил Францию, что Англия не оставит её один на один против Германии, но не зафиксировал это в виде документа и весьма скупо проинформировал коллег по кабинету. Он дал добро на «беседы» представителей генеральных штабов двух стран, заявив, что их содержание не касается МИД, не говоря о прочих ведомствах, и никак не связывает оба правительства в отношении взаимной военной помощи. «Что они (военные. — В. М.) решили, я никогда не знал, — откровенно писал Грей в апреле 1911 г. премьеру Герберту Асквиту. — Наша позиция такова: правительства совершенно свободны, но военные знают, что делать, когда им скажут».
Поль Камбон
Лишь в конце ноября 1912 г. союз был оформлен в виде секретных писем, которыми обменялись Грей и его давний партнёр по переговорам французский посол Поль Камбон. Англия согласилась, что «если одно из правительств будет иметь серьёзные основания ожидать не вызванного им нападения со стороны третьей державы или какого-либо события, угрожающего общему миру, то оно должно обсудить немедленно с другим, будут ли оба правительства действовать вместе для предупреждения нападения и для сохранения мира, и если так, то какие меры готовы они совместно принять. Если эти меры включают военное выступление, то должны быть немедленно приняты во внимание планы генеральных штабов, и правительства тогда решат, в какой мере они будут приведены в действие». Камбон, как положено в дипломатической практике, своим ответом подтвердил содержание полученного письма. Подлинный смысл этого обещания оставался тайной для большинства английских министров до мая 1914 г., а для депутатов парламента — до объявления войны.
«Мы не обещали поддерживать Францию в войне, — объяснял Грей в мемуарах. — Напротив, мы сохраняли за собой свободу не участвовать в ней. При этом мы сохраняли и свободу помочь Франции, если она этого захочет». Пуанкаре, бывший в момент обмена письмами главой французского правительства, увидел в них «письменное соглашение общего политического характера», которого желал, — это относилось прежде всего к приведённому выше фрагменту. Уверенность в поддержке Лондона придавала ему сил.
Историк Герман Лютц, ещё при жизни Грея написавший тщательно документированную книгу, которая выглядит как развёрнутое опровержение мемуаров министра, считал, что тот шёл на поводу у своего германофобского окружения. Конкретно он назвал четверых, причём все четверо в разное время занимали должность постоянного вицеминистра. Грей работал сначала с сэром Чарльзом Хардинджем, затем с Никольсоном, которого итальянский министр иностранных дел Сан-Джулиано считал «фанатичным и непримиримым противником Германии»; оба были послами в Петербурге, а затем стали лордами. Помощник министра (третье лицо в ведомстве) сэр Эйр Кроу был одержим идеей «германской угрозы», о которой в 1907 г. представил Грею меморандум. Интересно, что Кроу родился в Германии, где служил дипломатом era отец, и впервые побывал в Англии в возрасте 17 лет, а его мать и жена были немками. Политический секретарь министра сэр Уильям Тирелль тоже страшился «тевтонского сапога». Но не будем перекладывать на них ответственность. У Грея не было принципиальных разногласий с помощниками, если не считать того, что Кроу критиковал шефа за недостаток внимания к «германской опасности». Главные решения он принимал сам вместе с Асквитом, Черчиллем и военным министром лордом Холденом, а порой ставил даже их перед фактом.
Эйр Кроу
25 февраля 1914 г. российский посол в Лондоне граф Александр Бенкендорф, внучатый племянник шефа жандармов пушкинского времени, написал письмо Сазонову. Написал, как всегда, по-французски: сын русского генерала из немцев и французской аристократки, он почти всю взрослую жизнь провёл 31 границей и плохо владел русским языком. В XIX в. дипломаты Российской империи переписывались с Петербургом и между собой по-французски, но Александр III, читавший все доклады послов, велел положить этому конец. Николай II последовал примеру отца. Едва ли не единственное исключение было сделано для опытного Бенкендорфа, представлявшего империю в Лондоне с 1902 г., а ранее служившего в Копенгагене (важность данного поста определялась тем, что императрица Мария Фёдоровна, жена Александра III, была датской принцессой). «Личные письма» послов представлялись царю, как и их официальные доклады, но в них авторы могли высказываться более свободно, не только давая анализ ситуации, но делясь собственными впечатлениями и делая прогнозы. Приведу важнейшую часть послания Бенкендорфа — характеристику Грея:
«Его постоянно беспокоит, вопреки всем видимостям, именно угроза германской гегемонии, он с тревогой следит за некоторыми её успехами. Он гораздо больше кажется нерешительным, чем это есть на самом деле. Его ум иного характера. Если он иногда быстро принимает решения, то это после очень долгих размышлений. У него очень сильно чувство, что он является здесь столпом Антанты и прирождённым борцом за неё, так как с ней связана вся его политика и всё его будущее. Он не любит повторно выступать со своими предложениями и особенно угрожать, если только нет твёрдых решений относительно дальнейшего образа действий, и в особенности до тех пор, пока Тройственный союз очевиднейшим образом не поставит себя в положение явно виновного, что необходимо для английского общественного мнения. Как мы видели, он уже близок к тому, чтобы поставить ловушку Тройственному союзу».
Посол просил не подгонять Грея к заключению формального альянса с Россией, который пришлось бы представить на рассмотрение парламента, не согласного даже на союз с Францией. Петербург хотел гарантий, поэтому 15 апреля Сазонов писал Бенкендорфу:
«Само собой разумеется, что при настоящих условиях не может быть речи о союзе между нами и англичанами наподобие существующего между Россией и Францией, но из этого ещё не следует, что никакое соглашение, заключённое в целях совместной защиты наших жизненных интересов, которые подвергаются опасности от установления германской гегемонии в Европе, не является желательным или возможным. Надо чтобы англичане, пропитанные своим старым островным недоверием, не теряли из виду непреодолимой необходимости, которая заставит их принять активное участие в борьбе против Германии в тот день, когда эта последняя предпримет войну, целью которой будет лишь нарушение, к своей выгоде, европейского равновесия.
Не лучше ли будет со всех этих точек зрения предохранить себя раз навсегда против бесконечного числа опасностей, связанных с подобной возможностью, актом политической предусмотрительности, который пресечёт в корне растущее честолюбие Германии. Этот акт, который, по моему мнению, много выиграет, если не будет секретным, Англия могла бы предусмотрительно снабдить всеми теми гарантиями, которых потребует её общественное мнение, а также традиции её дипломатии. Риск, заключающийся в подобной политике, равен нулю, преимущества же очевидны. Предстоящие переговоры короля Георга с французскими государственными деятелями послужат, может быть, к тому, чтобы наметить первые вехи на пути будущего англо-русского соглашения».
21 апреля 1914 г. британская королевская чета прибыла в Париж. Грей изменил своему обычаю и поехал с ними, что говорило о важности визита. Об «обмене мыслями между французскими и английскими государственными людьми» мы знаем из первых рук. В официальном сообщении о переговорах Грея с премьером и главой МИД Думергом говорилось, что, «устанавливая результаты политики, проводимой, обоими правительствами совместно с Россией», они «пришли к соглашению о необходимости для этих трёх держав по-прежнему направлять свои постоянные усилия к сохранению мира и поддержанию равновесия». По просьбе Извольского Пуанкаре настойчиво склонял гостей к заключению с Россией хотя бы морской конвенции, которая позволит «освободить часть английских сил для энергических действий не только в Балтийском и Северном морях, но и в Средиземном море», защита которого возлагалась на Францию. Грей согласился с предложением сообщить в Петербург тексты секретных франко-британских соглашений и признал желательной морскую конвенцию.
Французские дипломаты доверительно сказали Извольскому, что «поражены выраженной Греем ясной и определённой готовностью вступить на путь более тесного сближения с Россией. По их убеждению, высказанные им оговорки относительно Асквита и других членов кабинета имеют лишь формальный характер, и если бы он не был заранее уверен в их согласии, он воздержался бы от столь конкретных предложений». В согласии Асквита, Холдена и Черчилля Грей был уверен, а остальные его не беспокоили. Вернувшись в Лондон, он несколько недель (!) ничего не сообщал коллегам об итогах поездки, хотя правительство собиралось ежедневно для обсуждения бюджета и ситуации в Ирландии, где не прекращались кровопролитные антибританские выступления (потому Берлин считал вступление Англии в войну маловероятным). Грей отчитался только перед Асквитом, который, «не связывая пока кабинета, ответил, что он не видит никаких непреодолимых препятствий для осуществления проектов, о которых шла речь в Париже». Эти слова были переданы русскому и французскому послам.
Как говорится, умному достаточно. «Дело идёт о предполагаемых военных соглашениях между Россией и Англией наподобие существующих между Англией и Францией, — писал Бенкендорф. — Эти последние будут нам строго секретно сообщены обоими правительствами, после чего императорскому правительству надлежит сделать английскому правительству аналогичное предложение. Трудно предполагать, что все (британские. — В. М.) министры сразу подпишутся под этим без всякого сопротивления. Однако твёрдое мнение истинных лидеров кабинета (курсив мой. — В. М.) одержит верх, в чём я не сомневаюсь». «Я сомневаюсь, — продолжал посол, — чтобы возможно было найти более солидную гарантию для совместных военных действий в случае войны, чем сама идея Согласия в том виде, в каком она обнаружилась, подкрепленная существующей договорённостью по военным мероприятиям».
Умному достаточно, но Сазонов продолжал настаивать. Посол, который был намного старше и опытнее, осторожно поправлял министра, успокаивал его и просил не торопиться. Таким «успокоительным средством» можно считать фразу в одном из летних писем: «В глазах рядового обывателя единственная война, которая была бы и осталась бы популярной, — это война с Германией. Вот анализ той базы, на которой Грей располагает свои батареи. Он в ней уверен, и именно потому мы, безусловно, заинтересованы помочь ему, когда нам это возможно».
Только 13 мая министр проинформировал правительство о парижских договорённостях, заодно рассказав о своём соглашении 1912 г. с Камбоном, и получил согласие на переговоры с Россией. Через шесть дней Сазонов представил царю записку о том, что британское адмиралтейство уполномочено «вступить в переговоры с французским и русским военно-морскими агентами в Лондоне с целью выработать технические условия возможного взаимодействия морских сил Англии, России и Франции». «Очень важное известие», — пометил на полях Николай. 19 мая Грей и Камбон вручили Бенкендорфу копии своих писем. «Несмотря на эластичность формул и малую точность терминов, дело идёт об активном сотрудничестве, — подчеркнул посол в докладе Сазонову. — Я придерживаюсь того мнения, что железо следует ковать, пока оно горячо, и адмиралтейства должны вступить в контакт как можно скорее, без промедления».
В Петербурге опасались, что Грей не выполнит данных в Париже обещаний, сославшись на невозможность убедить коллег. Британский министр, с одной стороны, заверял партнёров, что всё в порядке, с другой — ждал удобного случая, чтобы «протолкнуть» проект в правительстве, когда его члены будут заняты другими, более важными для них вопросами. Морская конвенция осталась неподписанной, потому что информация о ней просочилась в прессу уже в середине июня, вызвав тревогу в Лондоне и раздражение в Берлине. В палате общин Грей повторил сделанное годом раньше заявление Асквита, что «в случае европейской войны у Англии не имеется никакого соглашения, которое связывало бы свободу её решения относительно участия в войне». Германскому послу Лихновскому он сказал: «Между Англией, с одной стороны, и Францией и Россией — с другой, не существует никакого союза и никакой военной или морской конвенции». Но счёл нужным добавить, что «отношения трёх правительств были всё же до такой степени близки, что в течение этих последних лет они постоянно «беседовали обо всём», и что связь между правительствами была так тесна, как если бы они были в союзе». Умному достаточно.
О конвенции пришлось забыть, но большого значения это уже не имело. Политические отношения держав вышли на новый уровень, несмотря на обострение вопроса о сферах влияния в Афганистане и Персии. Британские дипломаты не забывали о конкретике даже на переговорах по глобальным проблемам. Ход событий фатально ускорили выстрелы в Сараево, хотя, как заметил Фей, «вряд ли кто-либо в Англии понимал, какую серьёзную угрозу представляло для Европы убийство двух людей, совершённое в далекой Боснии».
Грей понимал. В мемуарах он утверждал, что его симпатии были на стороне Австрии, но позиция Вены вызывала тревогу. 9 июля он сказал Бенкендорфу, что известия оттуда «ему не нравятся». «Впечатления относительно намерений Берлина» министр тоже оценил как «не особенно благоприятные», поэтому «было бы важно соблюдать в отношении Германии величайшую осторожность в повседневных сношениях и избегать малейшего инцидента». «В итоге вы находите положение серьёзным?» — спросил посол. «Грей ответил, что волосы становятся дыбом при мысли о том, что из этого ужасного преступления может внезапно (курсив мой. — В. М.) возникнуть всеобщая война со всеми её потрясениями, тогда как мы избежали её в прошлом году с таким трудом». Британский министр имел в виду совещания российского, французского, германского, австрийского и итальянского послов под его председательством в конце.1912 г. и в начале 1913 г., которые не допустили перерастания Первой Балканской войны в общеевропейскую.
Роль верховного арбитра в «континентальных» распрях нравилась Грею. 12(25) июля, в день истечения срока австрийского ультиматума Сербии, Сазонов телеграфировал Бенкендорфу: «При нынешнем обороте дел первостепенное значение приобретает то положение, которое займёт Англия. Пока есть ещё возможность предотвратить европейскую войну, Англии легче, нежели другим державам, оказать умеряющее влияние на Австрию, так как в Вене её считают наиболее беспристрастной и потому к её голосу более склонны прислушиваться. Поэтому весьма желательно, чтобы Англия ясно и твёрдо дала понять, что она осуждает не оправдываемый обстоятельствами и крайне опасный для европейского мира образ действий Австрии». «В случае дальнейшего обострения положения, могущего вызвать соответствующие действия великих держав, — заключил министр, имея в виду войну, — мы рассчитываем, что Англия не замедлит определенно стать на сторону России и Франции».
Грей и на этот раз был не против роли посредника, но не собирался читать Австрии нотации, как хотел бы Сазонов. Он лишь призвал Белград дать максимально удовлетворительный ответ, а Вену — предоставить больше времени для ответа. Французский посол Камбон пытался настроить министра на посредничество между Австрией и Сербией, которые принадлежали к разным «весовым категориям» Большой Политики, поэтому даже обоюдные уступки обернулись бы для Вены потерей престижа. В случае компромисса Австрии и России — как двух великих держав — ситуация была бы иной. Поэтому 25 июля Грей сказал Бенкендорфу, что, «пока осложнения происходят между Австрией и Сербией, английские интересы затронуты лишь косвенно, но что он должен предвидеть, что австрийская мобилизация вызовет мобилизацию России и что с этого момента возникнет положение, в коем заинтересованы будут державы». То есть, называя вещи своими именами, возникнет опасность большой войны.
Грей предлагал прибегнуть к посредничеству держав только тогда, когда Австрия нападёт на Сербию, а Россия объявит мобилизацию, но не ранее. Это удивило французского посла, заметившего, что «после вторжения Австрии в Сербию будет слишком поздно» — как и произошло. Министр остался при своём мнении и продолжал беседы с послами, не предпринимая активных действий. Даже такой апологет Антанты, как американский историк Бернадот Шмитт, признал: «Его (Грея. — В. М.) публичные заявления о том, что он ничем не связан, с одной стороны, и его частные заверения в адрес Франции, с другой, побуждали обе континентальные группировки делать ставку: одну — на британский нейтралитет, другую — на британскую поддержку».
«Грей мне сказал также, — телеграфировал Бенкендорф в Петербург 25 июля, — что он с полной ясностью установил, что Англия в этом случае (нападение Австрии на Сербию и объявление мобилизации в России. — В. М.) сохранит за собой полную свободу действий». В личном письме Сазонову в тот же день посол высказался более оптимистически: «Хотя я не могу представить вам никакого формального заверения в военном сотрудничестве Англии, я не наблюдал ни одного симптома ни со стороны Грея, ни со стороны короля, ни со стороны кого-либо из лиц, пользующихся влиянием, указывающего на то, что Англия серьёзно считается с возможностью остаться нейтральной».
24 июля Грей объяснил Лихновскому, что в австросербский спор Англия вмешиваться не желает и не берётся судить, кто прав, но австро-русский спор касается всех, поскольку чреват войной. Посол просил оказать «умиротворяющее воздействие» на Петербург. Как отметил Фей, министр «не склонен был исполнить желание Лихновского и оказать давление на Россию, так как знал, что это вызовет недовольство как у России, так и у Франции. Вместе с тем он не хотел исполнить желание России и оказать давление на Австрию, опасаясь, что это в одинаковой мере вызовет недовольство в Вене ив Берлине. Поэтому Грей выбрал более осторожный средний путь». 25 июля он изложил Бенкендорфу такой план: «в случае мобилизации Австрии и России, Германия, Франция, Италия и Англия, воздерживаясь от немедленной мобилизации, тотчас предложили бы Австрии и России свои дружеские услуги» по урегулированию конфликта. После войны министр утверждал, что Центральные державы отказались от всех его предложений, но это не совсем верно.
Через посла в Петербурге Бьюкенена Грей предложил России и Австрии «вступить в непосредственные объяснения», хотя Бенкендорф заметил, что «в настоящее время они не имеют никаких шансов на успех». Идею отверг Пуанкаре, заявивший, что такие переговоры «весьма опасны». «В каком смысле «весьма опасны»? — задал вопрос Фей и сам же ответил на него. — Во всяком случае не для мира в Европе. Но, может быть, для политики Пуанкаре, которому нужно было, чтобы Тройственное согласие стояло единым фронтом против Германии и Австрии, не шло ни на какие мирные соглашения ни с одной из них и готовилось к тому, чтобы нанести им дипломатическое поражение или навязать войну с превосходными силами союзников? В течение двух лет он всячески старался укрепить Тройственное согласие и предупреждать сепаратные соглашения кого-либо из членов Антанты с Германией или с Австрией». Переговоры, которые 25—28 июля шли в Петербурге между Сазоновым и австрийским послом Сапари, начались по инициативе германского посла и результатов не дали.
Идея посредничества четырёх держав ни у кого не вызвала энтузиазма. Уверенное в ненадёжности Италии, германское правительство понимало, что соотношение сил будет 1:3, но тем не менее дало согласие. В субботу 25 июля Грей отдыхал в деревне, поэтому Лихновский послал ему записку с курьером, чтобы сообщить о принятом решении. Находившийся в открытом море, кайзер не одобрил шага своих министров, но оказался поставлен перед фактом. Вернувшись в столицу, он согласился на посредничество при условии «Стоп в Белграде!», однако ситуация успела радикально измениться. Против выступления четырёх высказался Бенкендорф, выразив опасения, что в Берлине решат, «будто Франция и Англия не поддерживают Россию». Сазонов тоже признавал только посредничество между Веной и Белградом.
В воскресенье 26 июля, когда Австрия разорвала отношения с Сербией, Сербия объявила мобилизацию, а Россия вступила в «подготовительный к войне период», Грей отправил в Париж, Берлин и Рим телеграммы с предложением созвать новую конференцию послов, на время которой Австрия, Сербия и Россия должны воздержаться от военных действий. Лихновский поддержал предложение, но Бетман-Гольвег и Ягов отвергли его как «третейский суд», на котором Германия останется в меньшинстве и решения которого скорее всего будут неприемлемы для её единственного союзника — Австрии, честь которой была поставлена на карту. Кроме того, как отметил Фей, переговоры «могли затянуться на несколько недель, а тем временем Россия деятельно готовилась к войне. Если бы потом конференция сорвалась и в конце концов началась война, то Германия лишилась бы в военном отношении многих преимуществ, которыми она пользовалась благодаря возможности быстрее мобилизовать свои войска. Между тем на этом она строила свои расчёты, надеясь таким образом частично компенсировать численное преобладание французской и русской армий». На решение Бетмана и Ягова могла повлиять и поступившая в МИД с опозданием телеграмма с пометами кайзера, в которых он высказался против посредничества.
В тот же день из Лондона пришли более обнадёживающие известия. Германский морской атташе телеграфировал: «Английский король заявил принцу Генриху (брату кайзера. — В. М.), что Англия сохранит нейтралитет, если между континентальными державами вспыхнет война». Император ухватился за эту соломинку. Даже 29 июля он говорил Тирпицу, указавшему на двойную игру Лондона: «Я имею слово короля, этого мне достаточно». Вера в «пурпурный интернационал» снова подвела монарха. То, что эти слова ничего не значили, он осознал лишь 30 июля, получив отказ Грея от «торга», о чём ниже.
27 июля в Берлине поняли, что, по словам канцлера, «отклонением всех посреднических актов мы были бы всем миром признаны ответственными за пожар и были бы поставлены в положение действительных подстрекателей к войне. Этим создалось бы для нас невозможное положение и в нашей собственной стране, где мы должны сохранить вид, что нас вынудили к войне». Однако Германию британские предложения не устраивали, а Вена вовсе ничего не хотела слушать, сославшись на то, что война Сербии уже объявлена. 29 июля Никольсон записал: «Возможности дипломатии на настоящий момент исчерпаны». «Разговоры Грея с Лихновским и Бенкендорфом 27 июля, — считал Полетика, — едва ли не последние значительные события в процессе той работы, какую провёл Грей по развязыванию войны. С 27 июля все переговоры Грея и его предложения об улаживании конфликта неинтересны». Министр мог умыть руки, поскольку его предложение провалилось. Однако возникает вопрос: насколько искренним оно было?
Одним из первых, ещё во время войны, в искренности Грея усомнился профессор Бёрджес, видевший в его действиях с самого начала кризиса единый чёткий план. Он преувеличивал, поскольку стратегия британского министра как раз предусматривала невмешательство в события и следование за ними, пока узел конфликта не завяжется намертво — чему вольно или невольно, но активно содействовали остальные державы — и пока решающее слово не останется за Англией. Лютц верно указал, что ситуацию могли изменить только немедленные решения на высшем уровне — например, решительное заявление об участии в войне на стороне Антанты, которое могло остановить Германию.
Грей же, по словам Полетики, в эти дни «по-прежнему сыплет «мирными» предложениями направо и налево, непрестанно говорит о мире, имея при этом целью до поры до времени ещё скрывать от противника подлинную позицию Англии, создать впечатление того, что он прилагает неслыханные усилия для мирного урегулирования конфликта, чтобы скрыть от масс надвигающуюся опасность, поставить Англию в положение страны, подвергающейся нападению, и, наконец, по возможности оттянуть выяснение позиции Англии до получения «твёрдых решений» кабинета. Начиная с 27 июля задача добиться «твёрдых решений» кабинета, иными словами, добиться его согласия на войну, становится для Грея самой главной и самой щекотливой, и он отдаёт ей все свои силы».
Сторонниками войны с Германией были консерваторы, находившиеся в оппозиции, и «либералы-империалисты» — меньшинство правящей Либеральной партии. Однако это «подавляющее меньшинство» в лице Асквита, Грея, Холдена и Черчилля занимало ключевые посты в правительстве и в Совете имперской обороны, члены которого, в отличие от других министров, были своевременно оповещены о соглашении Грея—Камбона и о «беседах» генштабистов. Большинство парламентариев выступало против войны, отражая мнение избирателей: с момента прихода к власти в 1906 г. либералы пользовались поддержкой рабочих и мелкой буржуазии. Противники насмешливо прозвали их «малоангличанами» (Little Englanders) в противоположность империалистически настроенным «великобританцам» (Great Britishers). На «защиту маленькой невинной Сербии» и даже на «борьбу с тевтонским милитаризмом» не собирались вставать не только рядовые англичане, но и министры.
Не было единого мнения и у деловых кругов: устранение Германии в перспективе сулило большие выгоды, но война могла нанести серьёзный и быстрый урон внешней торговле и снабжению метрополии. Сильные мира сего имели серьёзные основания опасаться — в случае войны и связанных с ней «чрезвычайных мер» — социального взрыва со стороны недовольных, от городской бедноты до ирландцев. Либералы развернули в стране масштабную программу социальных реформ, надеясь в этой области превзойти Германию, но из-за начала войны от неё пришлось отказаться. Позднее радикальные сторонники этих преобразований утверждали, что «либералы-империалисты» и консерваторы сознательно втянули Англию в конфликт, чтобы сорвать ненавистные им реформы.
Грей мог рассчитывать на санкцию парламента в случае соглашения с консерваторами и демонстрации правительством единой позиции. 27 июля на заседании правительства он предложил коллегам быстро и определённо «решить, примем ли мы активное участие в общеевропейском вопросе рядом с двумя великими державами Антанты или останемся в стороне и сохраним абсолютный нейтралитет». В случае второго варианта министр пригрозил отставкой. Об этом мы знаем из записей лорда Морли — председателя Тайного совета (заместителя премьер-министра) и лидера либералов-пацифистов. Грея открыто поддержал только его друг Черчилль; даже Асквит и Холден не спешили раскрывать карты. 11 министров выступили против войны, ещё трое заняли нейтральную позицию, выжидая, какая сторона возьмёт верх. Министр финансов Дэвид Ллойд-Джордж уверял обе стороны, что он «всей душой» с ними, но и с его участием «военная партия» насчитывала лишь 5 человек.
Дискуссии шли до 3 августа и чуть не привели к правительственному кризису. Кабинет разбился на фракции, которые совещались отдельно друг от друга перед общими заседаниями. Но если «штатские» теряли время в разговорах, «военные» начали действовать. Уже 24 июля, после заседания, на котором Грей без каких-либо комментариев огласил австрийский ультиматум, Черчилль заявил, что «может возникнуть война». Флот в полной боевой готовности находился в Портленде, поскольку в 1914 г. большие манёвры были заменены пробной мобилизацией. «Ни в одну минуту за последние три года мы не были так полностью готовы», — утверждал Черчилль. Но он, по словам Полетики, «претендовал на большее»:
«Одной мобилизации ему было мало. В разыгравшемся кризисе он считал своей главной задачей «добиться уверенности, что дипломатическая ситуация не опередит морскую и что Большой флот[28] окажется в своей военной базе ещё до того, как Германия будет в состоянии узнать, вступим мы или не вступим в войну, и, следовательно, по мере возможности ещё до того, как мы решимся сами» (слова Черчилля. — В. М.). Фактически это значило, что, пока сэр Эдуард Грей будет внушать Германии надежду, что Англия сохранит нейтралитет, Черчилль постарается поставить уже мобилизованный английский флот в исходное стратегическое положение для нанесения удара. Все меры, принятые Черчиллем в эти дни, — концентрация боевых эскадр Средиземного моря[29] и китайских вод, патрульных и тральных флотилий, усиление охраны побережья, нефтехранилищ, военных складов и т. п., сосредоточение гидроавиации и перевод Большого флота из Портленда в военную базу на Оркнейских островах — преследовали именно эту цель. В переводе на сухопутные масштабы они были бы равносильны, например, всеобщей мобилизации и сосредоточению армий на границе». Петербург был оперативно проинформирован об этих действиях военным агентом в Лондоне.
Черчилль ставил себе в заслугу оперативное принятие мер без санкции палаты общин, которая, «едва выскочив из опасности, конечно, действовала бы дальше исходя из допущения, что участие Британии в войне на континенте было бы преступным безумием». Такой тактики он придерживался и позднее. Черчилль преувеличивал германскую военную мощь и преуменьшал английскую, требуя увеличения ассигнований на оборону, а с началом Второй мировой войны не уставал напоминать о своей правоте: дескать, я предупреждал. Задумывался ли он о том, что сам приближал новый конфликт, поддерживая непрерывное состояние «военной тревоги», чем разрушал остатки доверия в международных отношениях и побуждал Гитлера к ответному блефу и авантюрам?
В борьбе с собственным правительством британским «либералам-империалистам» опять помог Берлин. Утром 30 июля Грей получил оттуда депешу с заявлением Бетман-Гольвега: «Мы можем заверить английский кабинет, исходя из предпосылки, что его позиция будет нейтральной, что в случае победоносной войны мы сами не стремимся к территориальным обогащениям в Европе за счёт Франции. Мы можем далее заверить его, что нейтралитет и неприкосновенность Голландии будут соблюдаться нами до тех пор, пока они будут соблюдаться нашими противниками. Что касается Бельгии, мы не знаем, к каким контр-операциям нас могли бы вынудить действия Франции в возможной войне. Но при условии, что Бельгия не займёт враждебной нам позиции, мы также были бы готовы в этом случае дать заверение о том, что после окончания войны целость Бельгии не может быть затронута». Британскому послу Гошену канцлер разъяснил, что в отношении французских колоний он подобную гарантию дать не может.
В Лондоне ждали подобного демарша, но заявление Бетмана оказалось одной из тех ошибок, которые хуже преступления. Грей, как и следовало ожидать, ответил исполненной благородного негодования телеграммой на имя посла для передачи канцлеру — и для истории: «Предложение о том, чтобы мы взяли на себя обязательство нейтралитета на таких условиях, не может быть поддержано ни одной минуты. В то время, когда будут отбираться французские колонии и когда Францию будут бить, он просит нас дать обязательство остаться в стороне до тех пор, пока Германия не начнёт отбирать помимо колоний французскую территорию. С материальной точки зрения подобное предложение неприемлемо, так как Франция могла бы быть настолько разбита, что потеряла бы своё положение великой державы и могла бы попасть в подчинение германской политике без того, чтобы у неё была отнята какая-либо территория в Европе. Но независимо от этого заключать такой торг с Германией за счёт Франции было бы для нас позором, от которого доброе имя нашей страны не освободилось бы никогда». На следующий день Сазонов через Бьюкенена поблагодарил министра «за дружественный и твёрдый тон, усвоенный им в переговорах с Германией и Австрией, благодаря коему не утрачена ещё надежда на мирный выход из нынешнего положения». «Дружественным» тон, конечно, был по отношению к Антанте.
На что рассчитывал Бетман-Гольвег, если он всерьёз на что-то рассчитывал, сказать трудно. Зато Грей получил в руки отличный козырь. 31 июля он сказал Лихновскому, что «если война станет более общей и Франция будет в неё вовлечена, Англия не сможет остаться незаинтересованной». Это предупреждение было сделано без санкции правительства, которое, как министр сообщил Бенкендорфу, ещё «не готово взять на себя формальные обязательства». Одновременно в генеральный штаб полетела телеграмма российского военного агента генерал-лейтенанта Николая Ермолова: «Ночью призваны двадцать пять тысяч резервистов флота. Эскадры вышли из Портленда к восточным берегам».
Утром 1 августа Грей позвонил Лихновскому и «спросил, считаю ли я (посол. — В. М.) возможным дать ему заверение, что, в случае если Франция останется нейтральной в русско-германской войне, мы (Германия. — В. М.) не нападём на Францию». Ухватившись за этот призрачный шанс, Лихновский немедленно телеграфировал в Берлин. Вечером Грей повторил ему сделанный накануне запрос, намерена ли Германия уважать нейтралитет Бельгии, на который не было получено чёткого ответа (Франция — обещала).
Полетика, строгий критик дипломатии Грея, считал это предложение — опять сделанное без санкции кабинета — «торгом» и даже потенциальным «предательством». Думаю, министр просто хотел выяснить, как далеко заходят германские требования, точнее, насколько в Берлине потеряли голову, а заодно получить оттуда ещё один ответ с неприемлемыми условиями.. Вдобавок он тянул время, чтобы «либералы-империалисты» успели договориться с консерваторами.
Король Георг V
Грей не ошибся в расчёте, ибо в ответ Бетман-Гольвег прислал очередной дипломатический «шедевр»: «Германия готова пойти на английское предложение, если Англия гарантирует всей своей вооружённой силой (!) безусловный нейтралитет Франции в германо-русском конфликте, притом нейтралитет вплоть до окончательного разрешения этого конфликта. Вопрос о том, считается ли конфликт ликвидированным, решает одна Германия. Продвижение наших войск к французской границе уже не может быть изменено. Мы гарантируем однако, что не перейдём французскую границу ранее 7 часов понедельника 3 августа, если до тех пор будет получено согласие do стороны Англии».
За неучастие Англии в войне Лихновский готов был обещать сохранение нейтралитета Бельгии и неприкосновенность французских колоний. Грей ответил, что «окончательно отказывается дать обещание о сохранении нейтралитета на подобных условиях и может лишь сказать, что мы (Англия. — В. М.) должны сохранить свои руки свободными». Это означало, что условия нейтралитета Англия будет диктовать сама, причём тогда, когда сочтёт нужным. Точки над i расставили две телеграммы, пришедшие в Берлин поздно вечером: одна — кайзеру от короля Георга о том, что произошло «недоразумение» и Лихновский неправильно понял Грея; вторая — от самого Лихновского о том, что Грей так и не сделал никакого положительного предложения. Вильгельм написал на ней: «Господин Грей, лживый пёс, боящийся своей собственной подлости и лживой политики, всё же не хочет открыто выступить против нас, но хочет, чтобы его вынудили к этому», — и отдал приказ перейти люксембургскую границу.
Тем временем запаниковали французы. Камбон требовал от Грея «формальных обязательств» ещё решительнее, чем Бенкендорф, и встречал тот же самый приём. 31 июля начальник оперативного отдела генштаба Генри Вильсон, один из главных разработчиков военных планов против Германии, посоветовал французскому военному атташе генералу Луи Панузу «воздействовать на Камбона, чтобы он сегодня же вечером пошёл к Грею и сказал ему, что прервёт дипломатические сношения и уедет в Париж, если мы не присоединимся к ним (французам. — В. М.)». Эти слова взяты из дневника самого Вильсона.
Кроу подал шефу меморандум: «Аргумент, что нет письменных уз, связывающих нас с Францией, строго говоря, правилен. У нас нет договорного обязательства. Но Антанта была создана, укреплена, подвергнута испытанию и возвеличена в тоне, оправдывающем уверенность, что выкованы моральные узы. Вся политика Антанты не имела бы никакого смысла, если бы она не означала, что в справедливой ссоре Англия станет на сторону друзей. Этого от нас добросовестно ждали. Мы не можем теперь отказаться, не подвергнув наше доброе имя суровой критике». Грей не нуждался в напоминаниях, но трудно было ссылаться на «обстоятельства чести» и военные конвенции перед министрами и депутатами, которые не знали об их существовании или не в полной мере представляли себе их содержание и масштаб обязательств.
1 августа влиятельная газета «Лондон дейли ньюс» назвала главным виновником войны русского императора, представленного как покровителя погромщиков. «Объявим наш нейтралитет всему миру, — говорилось в статье. — Это единственная надежда, другой нет. Заявим, что, пока на нас не нападут, мы не примем участия во всемирном безумии и не отдадим ни капли крови за царя или Сербию. Мы можем спасти Европу от войны даже в последний момент. Но сделать это мы можем, лишь сказав царю, что он будет сам вести свою войну и отвечать за последствия собственны* действий. Если британское правительство поступит таким образом, оно сослужит человечеству величайшую службу в истории. Если нет, оно совершит величайшее в истории преступление против человечества».
В тот же день, после заседания кабинета, Грей окатил Камбона ледяным душем: «Ныне положение таково, что Германия соглашается не нападать на Францию, если Франция останется нейтральной в войне между Россией и Германией. Если Франция не может извлечь выгод из этого положения, то потому, что она связана союзом (русско-французским. — В. М.), участниками которого мы не являемся и условий которого не знаем. Это не значит, что мы ни в коем случае не захотим помочь Франции. Это значит, что Франция должна принять в настоящий момент своё собственное решение, не рассчитывая на нашу помощь, которую ныне мы не в состоянии обещать. Что касается вопроса об обязательстве помочь Франции, я (Грей. — В. М.) указывал, что у нас нет никаких обязательств. Я не раз заверял парламент, что наши руки свободны».
Это был уже верх цинизма, чтобы не сказать хуже. Камбон заявил, что отказывается передавать сказанное в Париж, и просил позволения сообщить, что ответа ещё нет. Грей сказал, что во всяком случае об отправке экспедиционного корпуса на континент речи быть не может. «Честь! Да знает ли Англия вообще, что такое честь?» — зло воскликнул посол после этого разговора.
Сохранить Антанту помогли консерваторы и немцы. Утром 2 августа лидеры оппозиции собрались в Лондоне и обратились к Асквиту с письмом, в котором предложили безоговорочную поддержку «во всех мероприятиях, которые будут сочтены необходимыми вследствие вмешательства Англии в войну», поскольку «было бы роковым, гибельным для чести и безопасности в настоящих условиях колебаться относительно поддержки Франции и России». Кабинет в этот день согласился, и то после жестоких споров, только на обещание защищать французские берега Ламанша от немцев. Оставалось обратиться к парламенту. «Ночь со 2 на 3 августа, — писал Полетика, — прошла, насколько можно судить, в частных переговорах Асквита с «пацифистами». Им дали понять, что, если либеральный кабинет распадётся, будет сформировано коалиционное правительство и что без них могут обойтись, так как благодаря поддержке консерваторов большинство в парламенте в пользу войны обеспечено». Четыре министра, включая лорда Морли, подали заявления об отставке. На заседании 3 августа Асквит принял её.
Утром того же дня в Лондон пришло известие о германском ультиматуме Брюсселю. Ссылаясь на продвижение французских войск вдоль реки Маас как на подготовку к вторжению в Бельгию, Берлин выразил «опасения», что эта страна не сможет себя защитить, и известил о неизбежности вступления своих войск на её территорию. В течение 12 часов Бельгии предлагалось «по-хорошему» согласиться или считаться врагом. Король Альберт и его министры отказались следовать диктату и обратились за помощью в Лондон. Лихновский просил больше не требовать от Германии соблюдения бельгийского нейтралитета. Грей отказался. Асквит объявил мобилизацию.
Через несколько часов Грей выступил в палате общин. «В чрезвычайно ясной и обоснованной речи, — писал Бенкендорф, — он сказал, что два весьма важных вопроса в кризисе затрагивают непосредственно достоинство и жизненные интересы Англии и что он ограничится трактовкой этих двух вопросов». Первый — Франция. Министр зачитал своё письмо Камбону 1912 г., но опустил последний — самый важный — абзац о военном сотрудничестве. «На Англии, — излагал посол его слова, — лежит долг чести защищать с оружием в руках французское побережье ввиду того, что Франция, считая своё побережье со времени соглашения с Англией (соглашение штабов флота от 10 февраля 1913 г. — В. М.) в совершенной безопасности, перебросила весь свой флот в Средиземное море, вследствие чего французские берега остались без всякой защиты. Англия не может позволить и не позволит напасть на них». Бельгия оказалась только на втором месте. Грей «сказал, что допустить нарушение нейтралитета Бельгии — значит скомпрометировать её независимость. В последний момент ему были сделаны предложения, имевшие целью купить английский нейтралитет за компенсации. Он отверг это предложение как не допускающее обсуждения».
«Речь была встречена с почти единодушным энтузиазмом», — продолжал российский посол. Лидер консерваторов и будущий премьер Эндрю Бонар Лоу «заверил правительство от имени своей партии в полном доверии и в полном одобрении принципов и выводов речи». Лидер лейбористов и тоже будущий премьер Рамсей Макдональд «заявил, что правительство не право и что интересы Англии требуют нейтралитета», но «отказался от голосования, сознавая, что очевидное большинство против него». Голосования не было — его заменили дружные аплодисменты депутатов.
«Уверенный в вотуме консерваторов, — пояснил Бенкендорф, — он (Грей. — В. М.) должен был стремиться получить голоса либералов или, по крайней мере, добиться, чтобы они прекратили активную оппозицию. Он воздержался также говорить об интересах России, нарисовав однако неизбежные результаты возможной германской победы. Отсюда получился самый свирепый вызов Германии. Речь была произнесена твёрдым тоном, ясно свидетельствовавшим о мысли о войне, но о войне, вступить в которую Англия была бы вынуждена не силою обстоятельств, а в силу занимаемого ею в мире положения и её интересов (курсив мой. — В. М.)». Последние слова заслуживают особого внимания. Посол прямо сказал, что Англию привела в войну драма глобализма, а не необходимость защищаться.
После германского ультиматума Бельгии и речи Грея в парламенте два министра забрали назад заявления об отставке, но Морли и министр торговли Джон Берне оказались непримиримы. 4 августа в половине десятого утра Грей телеграфировал в Берлин требование дать ответ, намерены ли там уважать нейтралитет Бельгии. Вскоре пришло сообщение, что немецкие войска вступили на её территорию. Германия могла эффективно наступать на Францию только через Бельгию, в обход короткой и тщательно укреплённой франко-германской границы[30] Грей послал вторую телеграмму, обозначив срок ответа — к полуночи по берлинскому времени или 23 часам по лондонскому, — и велел заготовить ноту об объявлении войны.
Вечером произошёл трагикомический случай. В британский МИД поступила непроверенная информация о том, что Германия объявила Англии войну. Ноту срочно перепечатали и отвезли Лихновскому вместе с паспортами дипломатов. Как только чиновник вернулся от него, из Берлина пришла незашифрованная телеграмма: Бетман-Гольвег сказал британскому послу, что ответа на ультиматум не будет, но войну не объявил. Дипломаты решили соблюсти приличия — забрать у Лихновского неправильный документ и заменить на правильный. Неприятную миссию возложили на Гарольда Никольсона, сына постоянного вице-министра, в будущем — известного дипломата. Около полуночи он приехал к послу, который уже лёг спать, категорически запретив, чтобы его будили. Добившись приёма, младший Никольсон заговорил о «маленькой ошибке, вкравшейся в текст». Лихновский молча указал ему на полуоткрытый пакет с паспортами — он даже не читал ноту, понимая, о чём в ней говорится.
Последний разговор британского посла Гошена, судя по его записи, с канцлером был более драматичным. Бетман «сказал, что шаг, предпринятый правительством его величества, ужасен до последней степени. Из-за одного только слова «нейтралитет», на которое в военное время так часто никто не обращает внимания, — ради какого-то клочка бумаги Великобритания собирается воевать с дружественной державой, которая имеет одно желание — оставаться с ней в дружбе. Этот последний ужасный шаг сделал бесполезными все его усилия в этом направлении, и его политика рассыпалась как карточный домик». Англичане сразу же предали гласности вырвавшиеся в минуту отчаяния слова о «клочке бумаге», представив их как отношение «тевтонов» к любым международным договорам и обязательствам. С тех пор этой фразой принято клеймить всю политику и Второго, и Третьего Рейха.
«Германский ультиматум Бельгии, — отметил Полетика, — спас «миротворческое» лицо Грея в последнюю минуту». Значение нарушения её нейтралитета сильно преувеличено. Оно стало лишь предлогом для вступления Англии в войну, подействовав на министров, парламент и газеты. Это избавляет нас от необходимости рассматривать вопрос о том, насколько серьёзным с точки зрения международного права в 1914 г. было нарушение договора 1839 г., который никогда не представлялся на рассмотрение английского парламента, не был им ратифицирован и, следовательно, не имел для Лондона законной силы. Грей сослался на него, потому что ему это было нужно. Он сказал Бенкендорфу: «В Англии мы верим в святость трактатов (договоров. — В. М.). Если мы позволим нарушить хоть один там, где может действовать наше оружие, всё здание рухнет. Европа существует на основе договоров». На это Лютц резонно заметил, что Англия при Грее в одностороннем порядке не раз нарушала международные договоры, начиная с Мадридской конвенции 1880 г. о Марокко, причём без предварительного оповещения других участников.
«Он не считает себя лицемером, — писал Лютц ещё при жизни Грея. — Ни в малейшей степени. Он будет честно возмущён столь несправедливым предположением. Он лишь живёт под властью необычайно тонкого самообмана, который периодически позволяет ему видеть чёрное белым, а белое чёрным, с чистой совестью и незамутнённым зрением, поскольку он хочет так видеть. Нет! Субъективно Грей не лицемер, субъективно он искренен. Он лишь производит на окружающий мир впечатление лицемера». Его фигура не лишена трагизма. Как отметил Бенкендорф в письме Сазонову 6 апреля 1915 г., «Грея почти никогда не покидает до известной степени обоснованное сознание того, что в момент колебания английского общественного мнения и всех министров главным образом он вовлёк Англию в войну».
Отбросив идеологические схемы и лозунги, британский историк и публицист Фредерик Конибир в первые месяцы войны провёл собственное расследование, опираясь лишь на официальные публикации. Причины вступления Англии в мировой конфликт он сформулировал так: «Грей, без сомнения, был таким же лицемером в последнюю неделю перед войной, как и все предыдущие восемь лет. Он напал на Германию с тремя целями: 1) уничтожить её флот, пока тот не стал больше; 2) захватить её внешнюю торговлю; 3) отобрать её колонии». Под словом «Грей» здесь, конечно, надо понимать «британский империализм».
4 августа заседал рейхстаг. Канцлер заявил, что Германию вынудили вступить в войну, и попросил депутатов проголосовать за необходимые меры и кредиты. Много шума за границей вызвали его слова о Бельгии и Люксембурге, протестами которых «пришлось пренебречь»: «Мы постараемся исправить сделанную нами несправедливость, как только наши военные цели будут достигнуты. Однако тот, кто, как мы, ведёт бескомпромиссную войну, должен думать лишь о том, как прокладывать себе путь вперёд». Бюлов считал речь «чудовищной» и «неописуемо глупой», но парламент без обсуждения и единогласно одобрил все правительственные предложения.
Слово попросил только представитель социал-демократов Гуго Гаазе, будущий деятель революции 1918 г. Заявив, что война является «следствием империалистической политики» всех стран, против которой социалисты боролись и за которую они отказываются нести ответственность, он сказал: «Сегодня мы принимаем решение не за войну или против войны, а только о мерах, необходимых для защиты нашей страны». Социал-демократы поддержали правительство с условием, что, «когда цель самообороны будет достигнута и наши враги принуждены к миру, война закончится договором, который сделает возможными дружественные отношения с соседними народами. Мы требуем этого, — подчеркнул Гаазе, — не только в интересах международной солидарности, за которую всегда выступали, но и в интересах самого германского народа».
В те дни никто не предполагал, что война продлится так долго и унесёт столько жизней.
ЭПИЛОГ
Наше историческое расследование закончено. Попробуем подвести итоги.
С чем европейские державы пришли к войне, каковы были их цели и как они намеревались достичь их?
Сербия, рассчитывая на поддержку России, делала ставку на собирание южных славян в единое государство, что требовало войны с Австро-Венгрией и Турцией. Подготовленное заговорщиками во главе с Димитриевичем убийство наследника престола должно было нанести смертельный удар Австрии, вынудив её либо к капитуляции, либо к войне. Сербское правительство, включая премьера Пашича, знало о заговоре и не препятствовало ему.
Австро-Венгрия стремилась сохранить целостность империи, трещавшей по швам из-за внутренних межнациональных противоречий. Руководство страны считало необходимой локальную войну против Сербии, рассчитывая, что она не перерастёт в общеевропейский конфликт. Главными сторонниками силового решения были министр иностранных дел Берхтольд и начальник генштаба Гетцендорф, выступавшие за территориальную экспансию в сторону Адриатики.
Россия ставила своей целью вооружённый контроль над черноморскими проливами и Константинополем и достижение доминирующего положения на Балканах за счёт Австрии. Правящие круги, включая императора Николая II, великого князя Николая Николаевича, министра иностранных дел Сазонова и военное руководство, понимали, что цели можно достигнуть только путём общеевропейской войны, и были готовы на это.
Франция, особенно с приходом Пуанкаре на пост премьера, а затем президента, рассчитывала на возвращение отторгнутых у неё провинций Эльзас и Лотарингия, осознавая, что это возможно лишь в результате европейской войны и разгрома Германии. Учитывая, что последнее немыслимо без участия России, Париж стремился вовлечь Петербург в конфликт, чему служили усилия Пуанкаре и посла Извольского.
Германия была единственной великой державой, не имевшей конкретных целей в будущей войне. Она стремилась укрепить свои позиции в Европе, ухудшившиеся с конца XIX в. из-за несбалансированной внешней политики и ошибок руководства, включая кайзера Вильгельма П. В конфликте с Сербией Берлин поддержал Вену, боясь лишиться единственного союзника, но не имел реального контроля над её политикой.
Италия и Турция в силу геополитической несамостоятельности могли рассчитывать на реализацию своих целей, только примкнув к одному из блоков. Входившая в Тройственный союз Италия отказалась выступить на стороне ненавистной ей Австро-Венгрии, а затем присоединилась к Антанте после обещания территориальных приобретений. Турция, стремившаяся удержать распадавшуюся империю, встала на сторону Центральных держав, видя в союзе с ними единственную надежду сохранить статус-кво.
Великобритания была единственной великой державой с глобальным видением событий. Действия министра иностранных дел Грея объяснялись не «нерешительностью», но политическим расчётом, направленным на эскалацию конфликта, который должен был лишить Германию военного флота, колоний и возможности эффективно вести внешнеэкономическую экспансию, что было стратегической целью британской политики. Своевременно заявив о готовности вступить в войну, Лондон мог удержать Берлин от объявления войны России и, как минимум, Франции.
Была ли Первая мировая война неизбежной? Марксисты отвечали уверенным «да», ссылаясь на экономическое соперничество и опираясь на сомнительный тезис о том, что империалисты не могут не воевать друг с другом, поскольку им это выгодно. Конечно, война возникла не на пустом месте, но её причины связаны не только с экономикой. Россия могла нормально развивать свой экспорт и без вооружённого контроля над черноморскими проливами. Во Франции было немало людей, понимавших, что с Германией выгоднее торговать, чем воевать, а напоминания про Эльзас и Лотарингию могли пригодиться как аргумент в сугубо экономическом споре. Даже англо-германское соперничество, ставшее глубинной причиной конфликта, не требовало непременного обращения к оружию, как показало соглашение о Багдадской железной дороге. Фабр-Люс утверждал: «Действия Германии и Австрии сделали войну возможной, действия Антанты — неизбежной». Я бы сказал по-другому: «Экономическое соперничество сделало войну возможной, действия политиков — неизбежной». При желании договориться можно всегда — но только при обоюдном желании. Поэтому уже после Второй мировой войны знаменитый советский дипломат Андрей Громыко часто повторял: «Лучше десять лет переговоров, чем один день войны».
Теперь попробуем оценить результаты войны, исходя из целей сторон.
В максимальном тактическом выигрыше осталась Великобритания. Ценой больших экономических, политических и военных усилий она достигла поставленных целей, хотя её руководство недооценило потенциал возрождения Германии и возможность нового столкновения с ней.
Сербия, несмотря на тяжёлые испытания, включая оккупацию всей её территории, также решила свою главную задачу и стала основой послевоенного Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. Югославия). Это государство распалось уже на наших глазах.
Победа Франции оказалась пирровой. Война шла на её территории, нанеся стране колоссальный экономический, демографический и моральный урон, а полученные от Германии репарации в основном пошли на уплату военных долгов Америке. Разгром Франции в 1940 г. был обусловлен призрачным характером её победы в 1918 г.
Положение Италии в целом не улучшилось и не ухудшилось, что породило миф об «украденной победе» и проложило путь к власти радикальной фашистской партии во главе с Бенито Муссолини.
Германия, истощённая, деморализованная, но не разгромленная, была принуждена победителями к Версальскому «миру», содержавшему сценарий новой войны в Европе. Державы-победительницы отказывались пересмотреть договор, тем самым расчистив путь к власти нацистской партии Адольфа Гитлера и сделав новую войну неизбежной. Это тема следующей книги нашей серии.
Австро-Венгерская и Османская империи в результате войны пережили революции и распались. На их месте появился ряд новых государств, которые, прежде всего Чехословакия, Польша и Венгрия в «версальских» границах, стали источником конфликтов, приведших к новой войне.
Россия вышла из войны раньше других держав в результате революции. Оказалась она в числе победителей или побеждённых — судите сами, но о Константинополе и проливах пришлось забыть навсегда.
Результатом Первой мировой войны стало превращение Соединённых Штатов Америки в великую державу не только в экономической, но и в политической сфере. Вопреки утверждениям любителей сенсацией, Вашингтон не имел отношения к планированию и возникновению войны, но сумел в полной мере воспользоваться её плодами, включая ослабление Германии, России и Франции и завязывание узла нового конфликта в Европе.
Можно согласиться с мнением историка Анатолия Уткина: «Первая мировая война представляет собой явление колоссального регресса в мировой истории». Возможность и угроза конфликта возникли в результате обострения политического и экономического соперничества держав. Однако виновниками войны являются не страны и не народы, а обладавшие колоссальной властью конкретные люди, в действиях которых сочетались безответственность, авантюризм и холодный расчёт. Осознание этого вызвало у общественности резкое неприятие тайной дипломатии, но не избавило человечество от новых войн.
Вниманию любознательных
Большая часть книг, на которых основано наше историческое расследование, выпущена давно и относится к числу редких. Однако, найдя и прочитав их, вы узнаете больше, чем рассказано на этих страницах.
Основные издания документов и исторические исследования на русском языке:
♦ Готлиб В. В. Тайная дипломатия во время Первой мировой войны. — М.: Соцэкгиз, 1960.
♦ Игнатьев А. В. Внешняя политика России. 1907—1914. Тенденции. Люди. События. — М.: Наука, 2000.
♦ Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов царского и Временного правительств. Серия III. Том I. Сокращённое издание. 14 января — 4 августа 1914. М.: Соцэкгиз, 1935. (Полное издание состоит из пяти томов.)
♦ Полетика Н. П. Сараевское убийство. — Л.: Красная газета, 1930.
♦ Полетика Н. П. Возникновение мировой войны. — М. —Л.: Соцэкгиз, 1935.
♦ Полетика Н. П. Возникновение Первой мировой войны. — М.: Мысль, 1964.
♦ Фей С. Происхождение мировой войны. — Т. 1—2. — М.: Соцэкгиз, 1934.
Иная точка зрения на события:
♦ Туполев Б. М. Происхождение Первой мировой войны // Мировые войны XX века. Кн. 1. Первая мировая война. Исторический очерк. — М.: Наука, 2002.
♦ Уткин А. И. Первая мировая война. — М.: ЭКСМО, 2002.
Примечания
1
Даты событий за пределами России даны по новому стилю, даты событий в России — по старому и новому стилю через косую черту.
(обратно)2
Заговора (от франц. complot).
(обратно)3
В это же время Пашич вёл переговоры о закупке винтовок во Франции, получая, по некоторым данным, «откат» со всех заказов, за что сербские социал-демократы обвиняли его в коррупции.
(обратно)4
Дипломатическое представительство менее высокого ранга, чем посольство; возглавлялось посланником.
(обратно)5
Немецкое» название столицы было официально заменено на «славянское» 18(31) августа 1914 г.
(обратно)6
Первое издание полнее и объективнее, но в нём не использованы французские документы, что, впрочем, не меняет общую картину.
(обратно)7
Существующее положение (лат.)
(обратно)8
Периодически созывавшиеся совещания высших сановников империи, посвященные конкретным вопросам и готовившие проекты решений для представления императору.
(обратно)9
Слово «Балтийского» вставлено рукой царя (прим. публикатора документа).
(обратно)10
Это не совсем верно — см. главы пятую и седьмую.
(обратно)11
Бёрджес использует это слово как синоним «нищих».
(обратно)12
Французское и немецкое названия провинций приведены в оригинале.
(обратно)13
Подробнее в моей книге «Россия и Франция: entente cordiale (1889—1900)», выпущенной издательством «Просвещение» в 2010 г. в серии «На грани мира».
(обратно)14
Преувеличение — см. главу пятую.
(обратно)15
13 ноября 1913 г. представитель министерства финансов в Париже Александр Рафалович отчитывался о выдаче сумм газетам: «Радикаль» — 120 тыс. франков, антисемитская «Либр пароль» — 80 тыс., «Тан» — 50 тыс., газета Клемансо «Орор» — 45 тыс., правосоциалистическая «Лантерн» — 35 тыс., «Либерте» — 30 тыс., «Фигаро» и «Галуа» — по 25 тыс.
(обратно)16
Кайо утверждал, что во время кризиса Извольский получал деньги от немцев и уговаривал премьера уступить им всю территорию французского Конго. В Париже также говорили, что его «спонсором» был итальянский посол Томазо Титтони, бывший министр иностранных дел, имевший в своём распоряжении большой «секретный фонд». Не имея возможности проверить эти утверждения, отмечу, что, по свидетельству современников, Извольский постоянно нуждался в деньгах и периодически получал их из неизвестных источников.
(обратно)17
Международное объединение социалистических партий со штаб-квартирой в Брюсселе. Основан в 1889 г. Установил международное празднование 8 марта и 1 мая. С началом Первой мировой войны фактически распался.
(обратно)18
Примечательна судьба этого человека: всю войну он провёл в заключении, находясь под следствием, а 29 марта 1919 г. был оправдан судом присяжных как «действовавший из патриотических побуждений». После освобождения Виллен поселился на испанском острове Ибица. В сентябре 1936 г., когда в Испании началась гражданская война, он был арестован и расстрелян республиканцами по обвинению в шпионаже в пользу мятежников-франкистов.
(обратно)19
Конституция Германской империи называла ответственным министром только канцлера, а глав отдельных ведомств — его статс-секретарями, т. е. заместителями. В бытность Бисмарка канцлером так и было, и только после его отставки в 1890 г. статс-секретари получили необходимую самостоятельность.
(обратно)20
Подписанный по инициативе кайзера 11(24) июля 1905 г. на борту российской императорской яхты «Полярная звезда» у балтийского острова Бьёркё договор содержал обязательства сторон о взаимопомощи в Европе в случае нападения на одну из них какой-либо европейской державы (ст. 1) и о незаключении сепаратного мира с одним из общих противников (ст. 2). Договор, срок действия которого не был ограничен, должен был вступить в силу после заключения мира между Россией и Японией; в случае денонсации одной из сторон предусматривалось информирование другой за 1 год (ст. 3). Ст. 4 гласила, что российский император после вступления соглашения в силу «предпримет необходимые шаги к тому, чтобы ознакомить Францию с этим договором и побудить её присоединиться к нему». В ноябре 1905 г. Николай II направил Вильгельму II письмо, в котором действие договора обусловливалось присоединением к нему Франции, что было фактически невозможным. Формально договор не был расторгнут, но так и не вступил в силу.
(обратно)21
Название берлинской улицы, на которой находилось министерство иностранных дел; часто употреблялось для обозначения МИД Германии.
(обратно)22
Фей указал, что депеша с пометой «Теперь или никогда» вернулась в МИД только 4 июля.
(обратно)23
Новопазарский санджак — историческая область на границе Сербии и Черногории, входившая в состав Османской империи. В 1878 г. оккупирована Австро-Венгрией вместе с Боснией и Герцеговиной; в 1908 г. возвращена Турции; по итогам Первой Балканской войны в 1913 г. поделена между Сербией и Черногорией.
(обратно)24
Встреча породила легенду о состоявшемся в тот день «Потсдамском совещании» с участием генералов, послов и финансистов, каждому из которых кайзер якобы задал вопрос: «Готовы ли вы к войне?».
(обратно)25
«Рейх» (Reich) по-немецки означает «империя», но это слово часто используется без перевода. Эпоху Германской империи 1871— 1918 гг. обычно называют «Вторым Рейхом».
(обратно)26
Бухта, на берегах которой расположен Константинополь.
(обратно)27
В своих трактатах о государственном управлении флорентийский государственный деятель и публицист Николо Макиавелли (1469—1527) выступал за сильную власть, для укрепления которой допускал применение любых средств. Его имя стало синонимом пренебрежительного отношения к морали, цинизма и двуличия в политике.
(обратно)28
Принятое в годы войны название британского Флота территориальных вод (Home Fleet).
(обратно)29
Например, гарнизон Гибралтара был мобилизован 30 июля.
(обратно)30
23 апреля (6 мая) 1914 г. исполняющий обязанности русского военного агента в Бельгии и Нидерландах ротмистр князь Давид Накашидзе представил в генеральный штаб записку «К вопросу о возможности нарушения германскими войсками нейтралитетов Бельгии и Люксембурга», где точно предсказал ход событий: проход немцев в районе Льеж—Намюр—Люксембург и неспособность бельгийской армии оказать им сопротивление.
(обратно)




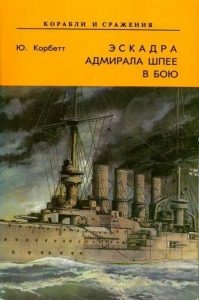

Комментарии к книге «Первая мировая: война, которой могло не быть», Василий Элинархович Молодяков
Всего 0 комментариев