Введение
Первая мировая война стала последней войной между первоклассными государствами Старого Света, ведшейся традиционными родами войск. Зарождение и становление авиации переносило борьбу в воздушные пространства. Появление на полях сражений танков коренным образом изменило соотношение значения наступления и обороны в оперативном искусстве. Даже на море строительство подводных лодок и авианосцев уже несло в себе зародыш ухода со сцены орудийного линейного флота. Химическое оружие опрокинуло любые представления о гуманности вооруженной борьбы, основанной на мало-мальском подчинении международному законодательству, касавшемуся войны. Именно Первая мировая война высветила всю ту жестокость якобы «цивилизованных» наций, кичившихся своим «превосходством» над прочими народами, что не снилась никакому Чингисхану, Аттиле или любому другому азиатскому властителю. Европейское искусство массовой жестокости в двадцатом веке превзошло любой геноцид, что до того вообще смогла бы придумать человеческая мысль.
Но все это происходило уже в ходе войны, хотя, бесспорно, подготавливалось задолго до первых выстрелов. В войну же великие державы Европы, боровшиеся за гегемонию, вступили с той традицией, что осталась в наследство от прошлых столетий. Кавалерия, артиллерия, пехота — вот те три кита, на которых базировалась мощь любых армий. Ставки изменялись, но база оставалась прежней.
Триада родов войск сухопутных Вооруженных Сил великих держав Европы к июлю 1914 года состояла из пехоты, артиллерии и кавалерии. Войны последнего полувека высветили явную тенденцию упадка конницы как одного из трех основных родов войск. Прежде всего, это произошло вследствие развития техники вооружения. Современное дальнобойное оружие, отличавшееся высокой скорострельностью и выдающейся поражаемостью живой силы на поле боя, сделало поля сражений «пустыми». Там, где всего лишь столетие, даже полстолетия назад развертывались густые колонны войск, конница проводила сабельные атаки, а артиллерийские батареи били прямой наводкой, все изменилось коренным образом.
Теперь пехота продвигалась вперед исключительно цепями, причем чем цепи были разреженнее, тем меньше она несла потерь и могла лучше выполнять свои боевые задачи. Густые пехотные цепи были свойственны только малообученной и нестойкой пехоте, которую приходилось не столько вести в бой, рассчитывая на инициативу не только младших офицеров, но и низших чинов, сколько «подталкивать». Артиллерийские орудия укрывались за складками местности, ведя стрельбу с закрытых позиций при помощи угломера. Конечно, ничто не могло измениться в одночасье, и в условиях маневренной войны нет-нет да все еще повторялись тенденции ведения боя, присущие Крымской войне 1853 — 1856 гг., если не наполеоновским временам. Однако как только пехота применяла самоокапывание хотя бы в малой степени или укрывалась в населенных пунктах, подготовленных к обороне, шрапнель легкой 3-дм артиллерии уже пропадала впустую и главная роль переходила к гранатному типу снаряда и гаубичным батареям.
Наметился бесспорный упадок конницы как основного рода войск. В новых условиях кавалерист стал представлять собой слишком большую, заметную и малоподвижную цель на поле боя. Говоря о «малоподвижности», имеется в виду не скорость передвижения конника, а невозможность всадника и лошади укрыться от огня противника посредством сооружения элементарных полевых укреплений — окопов. Последней «соломинкой, сломавшей спину верблюда», окончательно изменившей роль кавалерии в сражении, стал пулемет. Плотность пулеметного огня, даже при небольшой насыщенности пехотной цепи этим видом оружия, сделала оборону пехоты практически непреодолимой для кавалерии. Отныне конный удар, именуемый «шоком», мог быть произведен лишь на расстроенную и потрясенную пехоту. Если орудие не всегда может находиться в пехотной цепи, да и ведение контрбатарейной борьбы собственно артиллерии существенно понижает эффективность орудийного огня неприятеля, то пулемет всегда был при пехоте.
Рассматривать действия родов войск отдельно друг от друга нелегко. Однако же общая характеристика, перемежаемая примерами из истории войны, есть вещь вполне посильная. Именно этим образом и будет представлена деятельность кавалерии Российской империи в период Первой мировой войны 1914 — 1918 гг.
Традиционная роль конницы в бою — это открытая атака, имевшая наименование «конного шока». То есть удар холодным оружием по вынужденному обороняться неприятелю, его опрокидывание в кратковременной яростной атаке и последующее уничтожение. Пулемет сделал революцию в военном деле — теперь кавалерия фактически не имела возможности для выполнения своей задачи открытого удара. В связи с этим в ходе войны тактика ведения боя кавалерией постепенно изменялась, приспосабливаясь к существующим условиям. Еще в 1906 — 1908 гг., командуя 2-й гвардейской кавалерийской дивизией, будущий командарм-8 (1914 — 1915 гг.), главнокомандующий армий Юго-Западного фронта (1916 г.), Верховный Главнокомандующий (1917 г.) ген. А. А. Брусилов приказывал: «Обращаюсь к гг. офицерам с настойчивой просьбой — сбросить с себя неуважительное отношение к стрелковому делу. Современное состояние военного искусства требует от конницы умения владеть огнестрельным оружием не хуже, чем холодным оружием, и не хуже, чем конем»[1].
При этом на Западном (французском) фронте, где насыщенность боевых порядков, а потом и укрепленных линий огневыми средствами была высокой, кавалерия уже после трех месяцев войны была переведена в резерв. На Восточном (русском) фронте, отличавшемся большой пространственной протяженностью, а также невысоким уровнем огневых средств на единицу площади, конница использовалась более активно. Однако и здесь уже на второй год войны стало ясно, что конница, к сожалению, становится второстепенным родом войск, уступая свое место даже как разведки — молодой авиации. Британский автор так пишет о кавалерии и ее роли в Первой мировой войне: «Истина заключается в том, что, начиная с 50-х годов XIX века, когда на вооружение пехотинцев поступило надежное ударно-капсюльное нарезное оружие, роль кавалерии была сведена до выполнения боевых задач пехоты, посаженной на лошадей, и других перспектив у нее не было и не будет, пока какой-нибудь ученый-генетик не создаст пуленепробиваемый вид лошадей… Однако нельзя сказать, что к 1914 году кавалерийские части совсем уж устарели. Они использовались для разведки, при преследовании отступающего противника, и, кроме того, лошади в то время все еще являлись единственным средством быстрого развертывания войска при отсутствии дорог. Кавалерия оказалась полезной в период ведения «ближнего боя», характерного для начального и конечного этапов войны, и она также пережила краткий период возрождения на других фронтах этой войны… Однако, говоря о Западном фронте, справедливо считать, что большую часть войны кавалерия здесь играла «ограниченную» роль»[2].
Действительно, процент кавалерии на Западном (французском) фронте в ходе войны неумолимо понижался:
Однако мы говорим о Восточном (русском) фронте. Здесь хотя генеральная тенденция упадка кавалерии и обозначилась, но значение кавалерии в общевойсковом бою еще оставалось высоким. Это и русские удары в Восточной Пруссии, Галиции и Польше. Это и немецкие удары в Литве и Румынии. Конница воюющих держав с 1916 года стала спешиваться, используясь в окопной войне, однако процент кавалерии не спешил понижаться. Так, в начале войны в немецкой армии насчитывалось одиннадцать кавалерийских дивизий по шесть полков в каждой. В том числе на Восточном фронте — лишь одна. Итого — шестьдесят шесть полков армейской кавалерии (без войсковой конницы армейских корпусов и пехотных дивизий). К октябрю 1917 года немцы имели лишь семь кавалерийских дивизий по четыре полка и пять отдельных кавалерийских бригад по три полка. Итого — сорок три полка. Однако последняя германская кавалерийская дивизия убыла на Восточный фронт из Франции в июле 1916 года.
То есть если в августе 1914 года на Восточном фронте немцы имели шесть полков армейской кавалерии, то к моменту выхода России из войны — более сорока полков. И лишь после Брестского мира, в апреле 1918 года, были расформированы еще три немецкие кавалерийские дивизии, остались в строю только четыре: баварская, 1, 2 и 4-я. В свою очередь, русская Действующая армия в начале войны получила 124 полка армейской кавалерии, а к концу 1917 года русские имели до двух с половиной сотен кавалерийских полков (в основном — казачьих). Таким образом, если русская конница и не выполнила всех тех задач, что ставились перед ней, то тому виной не сокращение численности кавалерии, а во многом несостоятельность конного командования.
Правда, российские кавалерийские начальники в подавляющем своем большинстве оказались не на высоте исполнения поставленных перед ними боевых задач. Прежде всего это обстоятельство объясняется несоответствием реальных условий ведения современного боя с той подготовкой, которая практиковалась в русской кавалерии перед войной. Перестроиться, как это сделали многие пехотные начальники, кавалеристы, как правило, не смогли. Характерно, что данная тенденция всплыла еще в период русско-японской войны 1904 — 1905 гг. В итоге русская конница — самая многочисленная, сильная и подготовленная не только в Европе, но и в мире — в ходе Первой мировой войны не выполнила в полной мере и того, что могла и должна была выполнить. Упреки по этому поводу следует адресовать как довоенной практике подготовки русской кавалерии к современному бою, так и конным начальникам, не сумевшим воспользоваться опытом войны, а вернее всего, не пожелавшим это сделать.
Именно поэтому с расширением боевых действий в составе конницы русской Действующей армии все больший процент стали занимать казачьи соединения, так как казаки традиционно воевали в конном строю. Природная сметка и инициатива казаков побуждали использовать их для разведки в большей степени, нежели армейскую кавалерию. Кубанские пластунские бригады и попытка образования донских пластунов есть то исключение, которое подтверждает правило. Исследователь пишет, что «на 1 января 1917 года казачья конница, с учетом казачьих полков в дивизиях регулярной конницы, составляла почти семьдесят процентов всей кавалерии русской армии на театрах военных действий»[3]. В 1917 году это число еще увеличилось. Причина этому — нежелание русского командования увеличивать численность регулярной конницы вследствие изменения роли кавалерии в войне. Теперь уже конница не могла, как раньше, быть использована в качестве тарана по неприятельской пехоте, для чего регулярная кавалерия была более подходящей, нежели казачья. Помимо того, русская конница уже в первый год войны стала использоваться, как правило, в качестве своеобразной «ездящей пехоты». То есть конные части бросались на трещавшие участки фронта с целью придержать наступление противника до подхода собственной пехоты.
Русские военачальники, естественно, пытались сделать все от них зависящее, чтобы повысить коэффициент полезного действия от кавалерии. Так, в ходе войны было предпринято три попытки образования стратегической кавалерии — по разу в каждый год войны. Однако и здесь конные массы не сыграли той роли, какую должны были сыграть. В итоге оперативное значение, когда таковое бывало, имели лишь сравнительно небольшие конные соединения — от дивизии до корпуса. Причина этому, повторимся, и еще не раз будем говорить об этом во 2-й части, — несоответствие начальства превосходному составу своего рода войск. А.А. Керсновский отлично охарактеризовал это обстоятельство, резюмировав: «В общем, если характеризовать боевую работу русской конницы, то надо сказать, что корнеты совершали блестящие подвиги, а генералы упускали блестящие возможности…»[4].
Одной из главнейших задач конницы перед войной считалось ведение разведки. Причем не только ближней, перед фронтом своих общевойсковых соединений, но и дальней — в тылу неприятеля. Тем не менее участник войны сообщает, что наша конница не умела вести разведку в реальных боевых условиях: «Русская армейская конница вела разведку в течение всей кампании при самых разнообразных условиях перед фронтом и на флангах армии. Всегда и везде замечается одна и та же основная ошибка: разведка основывалась на действиях разведывательных эскадронов и разъездов, причем ядро конницы не стремилось боем очистить этим разведывательным органам дорогу через передовые и охраняющие части неприятеля. Разведывательные органы доходили только до этих передовых частей и дальше, в большинстве случаев, проникнуть не могли. Вообще в русской кавалерии не было твердо установлено, что только боем можно проникнуть до расположения крупных сил неприятеля и получить ценные сведения»[5]. Здесь имеется в виду та разведка, что предоставляет командованию ценную информацию оперативного характера. В последующем же роль кавалерии как разведки была уничтожена развитием авиации. Повышение значения техники (фоторазведка, превосходство германцев в воздухе, дирижаблестроение, устарелые самолеты русских летчиков) переломило ситуацию с получением разведданных в пользу неприятеля. Противопоставить этому равноценное средство русские не сумели: «Ошеломляющие успехи авиационной разведки в первые же недели войны привели к полному перевороту в оценке этого нового рода войск. То, о чем в мирное время и не помышляли, случилось: авиация почти совершенно вытеснила кавалерию как средство дальней разведки»[6].
Глава 1 ПРЕДВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА РУССКОЙ КОННИЦЫ
Известная военная максима гласит, что войну выигрывает тот, кто лучше подготовится к ней в мирное время: «Хочешь мира — готовься к войне». Генералиссимус А.В. Суворов писал: «Тяжело в учении — легко в бою». В то же время не менее известным является тот факт, что любая армия всегда готовится к прошлой войне. Для противоборства Первой мировой войны 1914 — 1918 гг. эта аксиома стала как нельзя более верной: если на войну противоборствующие армии выходили, следуя принципам чуть ли не франко-прусской войны 1870 — 1871 гг., то заканчивалась война в том же разительном отличии армий образца 1918 года от армий образца 1914 года, в каком эта последняя к моменту первого выстрела отличалась от армий образца Крымской войны 1853 — 1856 гг.
Войны государей окончательно переросли свои рамки, превратившись в войны народов. По итогам мирового противостояния рухнули монархические режимы великих держав. Прежде всего пали те традиционные режимы, что стояли на пути развития мирового капитала, — Россия, Германия, Австро-Венгрия. Развалившаяся на куски Австро-Венгрия, разоренная и обкорнанная Россия, урезанная и униженная Германия — вот итог Первой мировой войны для монархий, сцепившихся друг с другом в смертельной схватке во имя торжества буржуазных режимов капиталистической Западной Европы и Соединенных Штатов Америки.
К войне готовились все, и, конечно, старались готовиться как можно более тщательно. Наиболее подготовившаяся к схватке держава — Германия — форсировала развязывание агрессии, не дожидаясь укрепления мощи своих потенциальных противников. Именно немцы лучше всех подготовились к войне, и только нехватка ресурсов (прежде всего — человеческих), величайшая самонадеянность, переросшая в гордыню, и объединение почти всего мира для борьбы с германским империализмом не позволили Германии одержать победу в войне.
К Большой Европейской войне готовились и русские. Уже после Боснийского кризиса 1909 года стало ясно, что рано или поздно Австро-Венгрия бросит вызов Российской империи, а за спиной австрийцев будут стоять немцы, рвущиеся к мировой гегемонии посредством сокрушения экономической мощи Великобритании, политического веса Франции и потенциального могущества России. Капиталистическая модернизация, лихорадочно проводимая правительством П.А. Столыпина, заклинавшего императора Николая II обеспечить стране два десятилетия внешнего мира, укрепила экономику страны. Тем не менее к июлю 1914 года хотя и было сделано немало, но не было сделано еще больше. Логичным, хотя и не закономерным итогом, как ныне это пытаются представить некоторые ученые, стало падение монархии, революция и скатывание в Гражданскую войну, в которой всегда побеждает наиболее беспринципный и наименее гуманный.
В начале двадцатого века стало ясно, что один из основных родов войск в существующей триаде — пехота, кавалерия, артиллерия — постепенно откатывается на позиции вспомогательного рода войск. Относится это к кавалерии, вынужденной сдать свои позиции перед лицом совершенства современной техники, выразившейся в мощи дальнобойного огнестрельного оружия. Все это стало понятно уже в период русско-японской войны 1904 — 1905 гг. Например, перед мировой войной военное ведомство проектировало увеличить численность конницы на двадцать шесть полков. Оперативный отдел Генерального штаба возражал: «Падение в минувшую войну значения кавалерии как самостоятельного рода оружия наиболее ярко подчеркивает всю несуразность проектированной меры, особенно в русской армии, всегда страдавшей избытком кавалерии в ущерб прочим, более нужным родам оружия»[7].
Другое дело, что это увеличение должно было коснуться не кавалерийских дивизий, а войсковой конницы (!). Подробнее о важности войсковой конницы для ведения боя будет сказано в 6-й главе. Однако сделать этого, так или иначе, до начала войны не успели. В любом случае смены коннице — маневренному роду войск — пока еще не находилось. До изобретения и применения танков еще оставалось время. Следовательно, кавалерия также должна была готовиться к войне, и готовиться, как казалось бы, наиболее активно и современно, дабы окончательно не подтвердить тезис о своей второстепенности.
Русские Вооруженные Силы имели наиболее многочисленные и подготовленные конные войска в Европе и в мире. Для Восточного фронта, громадного в пространстве, слабого в инфраструктурном отношении и, наконец, выгодного в географическом отношении для действий больших конных масс, кавалерия продолжала оставаться основным родом войск. Хотя бы и на последнем месте в триаде. Как ни странно, именно конница оказалась подготовленной к Большой Европейской войне самым наихудшим образом. Участник войны, сумской гусар, справедливо замечает: «Русско-японская война в прямом смысле потрясла нас множеством изменений, и за девять лет, прошедшие с ее окончания до начала Первой мировой войны, были проделаны серьезные шаги по модернизации русской армии. Кавалерии, в силу особой специфики, эти изменения коснулись в наименьшей степени. И хотя в 1914 году Россия могла противостоять Западу, она не была готова к продолжительной войне»[8].
А как раз ведь кавалеристам необходимо было подтвердить свой пошатнувшийся статус в структуре Вооруженных Сил государства. Произошло ровным счетом наоборот, что имело следствием падение престижа кавалерии как одного из главных родов войск и сокращение его относительной численности ближе к концу войны. Как и почему так случилось — проблема данной главы.
В кавалерии, как ни в каком другом роде войск, громадную роль играет личность руководителя. Для русских Вооруженных Сил, изначально выстроенных на принципах патернализма в отношениях между солдатами и офицерами, а также в связи с выдающейся ролью придворных связей в воинской карьере, этот тезис особенно применим. Нельзя забывать, что конница, как главный род войск Средневековья, то есть торжества дворянского сословия, в первую очередь наводнялась представителями аристократии. Рядовой состав в конницу также подбирали наиболее тщательно. Отсюда и важность личности начальника, которому под командование передавались лучшие кадры. Офицер-эмигрант А. Сливинский пишет: «…нельзя не отметить и того, что если в былое время история конницы слагалась из истории ее начальников, то в современных условиях войны необходимость кавалерийскому начальнику обладать исключительными личными дарованиями и даже военным талантом сделалась абсолютной. Таланты же рождаются редко. С другой стороны, в начале Великой войны после первых боевых столкновений обнаружился перевес в качествах и боевой подготовке русской конницы над кавалерией противника. Ни германцы, ни тем более австрийцы не осмеливались вступать в единоборство с нами, уклонялись от массовых конных схваток и в большинстве случаев переходили к пешему бою»[9]. Причина столь высокого требования к начальникам проста. Она заключается в том, что конный бой требует высокого морального напряжения и отличной подготовки войск. Конный бой менее управляем, нежели огневая стычка, и несет в себе гораздо больше риска, ибо исход боя решается в чересчур короткое время.
Руководство русской кавалерией с 1895 года (то есть в течение девятнадцати лет перед Первой мировой войной) принадлежало дяде императора Николая II — великому князю Николаю Николаевичу Младшему. Эта должность согласно существовавшей в России традиции шефства членов императорской фамилии над отдельными родами войск досталась ему в наследство от его отца — великого князя Николая Николаевича Старшего. Это — тот самый великий князь, брат императора Александра II, что являлся Верховным Главнокомандующим в период русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг., веденной русской военной машиной с весьма значительной долей бездарности командования на фоне доблести войск.
История повторяется. Великий князь Николай Николаевич Младший стал первым Верховным Главнокомандующим (июль 1914 г. — август 1915 г.) в Первой мировой войне. И точно таким же образом он внес свою немалую лепту в тот бардак стратегического и оперативного руководства, что так часто властвовал в русской Действующей армии в 1914 — 1917 гг. Однако Турция в 1877 году — это не Германия в 1914 году. И если великий князь-отец имел в своем распоряжении И.В. Гурко, Ф.Ф. Радецкого, М.И. Драгомирова и, главное, М.Д. Скобелева, то великий князь-сын не мог похвастаться такими командными кадрами. Отсюда и смещение великого князя с поста Верховного Главнокомандующего в 1915 году — вряд ли император Николай II горел особым желанием лично возглавить Действующую армию, если бы не требовалось в короткие сроки переломить хаос управления.
Таким образом, подготовка русской конницы к Большой Европейской войне в определяющей степени зависела от великого князя Николая Николаевича. Об этом человеке (именно как о руководителе кавалерии, что интересует нас в данном контексте) существуют диаметрально противоположные точки зрения. Как ни странно, все они по-своему справедливы. Постараемся разобраться в этом, дабы выяснить уровень подготовки конницы к современной войне. Прежде всего приведем два различных высказывания.
Яростный критик всего того бедлама, что царил в командовании русской Действующей армии в годы войны, пишет, что русская кавалерия с 1895 года, то есть со вступления в должность генерал-инспектора кавалерии великого князя Николая Николаевича, учила порядки «линейные, фигурные и малопригодные для современной войны». При нем русская кавалерия «в течение десяти лет проделывала то, чего она не может делать в современной войне, и вряд ли делала это и прежде, если не принимать фридриховских «плацевых» упражнений, которыми он развлекал иностранцев, за действительность. Но критика в военном мире не процветала, а тем более критика действий Великого Князя… [который] держал себя сурово и неприступно, как человек не от мира сего, как полубог и как единственный носитель каких-то кавалерийских истин и откровений»[10].
Другой участник войны — кавалерист — сообщает: «Русская кавалерия — это создание Великого князя Николая Николаевича, который долгое время был ее генерал-инспектором. Это он вывел нашу кавалерию из состояния покоя, учений на шагу и рыси, воспитал в ней смелость и способность быстро покрывать пространство. Она единственная [в Европе] поэтому сохранила конный дух и дерзала атаковать в конном строю»[11].
Примечательно, что оба высказывания сделаны людьми, в годы войны воевавшими в кавалерии. Генерал Краснов (один из лидеров Белого движения на Дону) командовал 2-й казачьей сводной дивизией, а затем 3-м кавалерийским корпусом. Генерал Залесский, в годы Гражданскои войны старавшийся держаться в стороне от братоубийственной бойни, — начальник штаба 6-го армейского корпуса, а затем — 1-го кавалерийского корпуса, также командовал 8-й и 6-й кавалерийскими дивизиями. То есть оба этих человека — конники. И вот такие разные, противоположные отзывы о шефе русской кавалерии. Главным же является тот факт, что именно великий князь Николай Николаевич есть тот человек, под решающим влиянием которого русская конница участвовала в Первой мировой войне. Именно те порядки, что вводились им в коннице и (с 1905 года) в войсках Гвардии и столичного военного округа, распространялись на всю русскую армию. Совмещая эти два поста — генерал-инспектора кавалерии и командующего войсками Гвардии и Петербургского военного округа (не говоря уже о Совете Государственной обороны в 1905 — 1908 гг.), — великий князь определяющим образом влиял на подготовку русской военной машины к войне.
Конечно, какие-то его инициативы блокировались его личным врагом военным министром ген. В.А. Сухомлиновым, какие-то — Генеральным штабом, какие-то — командующими другими военными округами. Однако никакая другая личность так сильно не повлияла на русскую военную машину перед июлем 1914 года. Прежде всего это относится к кавалерии. Генерал-квартирмейстер Генерального штаба ген. Ю.Н. Данилов, бывший в годы войны одним из сотрудников великого князя, так пишет о нем и его ближайшем помощнике ген. Ф.Ф. Палицыне: «…великий князь учил конные части в поле — его начальник штаба на основании результатов этих работ подготовлял разного рода приказы, инструкции, чертежи и схемы, которые получали неофициальное распространение не только во всей гвардейской кавалерии, но и в тех армейских полках, во главе которых стояли более восприимчивые и деятельные командиры. Так как весьма многими полками командовали офицеры, проведшие свою первоначальную службу в гвардейских частях или в Генеральном штабе, то приемы и навыки, рекомендуемые великим князем, стали распространяться во всей армии довольно широко… Великий князь оставался в этой должности десять лет, и, таким образом, при его кипучей энергии личное влияние его на развитие русской конницы вылилось в совершено исключительные формы»[12].
Подготовка каждого рода войск к войне проводится в двух направлениях. Во-первых, в подготовке личного состава — как офицерского, так и солдатского. Во-вторых, в проведении общевойсковых маневров, дабы рода войск умели взаимодействовать друг с другом на войне. Нельзя забывать, что в проблеме взаимодействия родов войск на поле боя новому генерал-инспектору кавалерии досталось нелегкое наследство. И переломить его великий князь Николай Николаевич до конца не сумел (а быть может, и не хотел, считая что-то правильным). А.И. Деникин, начинавший службу в девятнадцатом столетии, вспоминал, что в девяностые годы предшествовавшего века в тактике войск все еще господствовали тенденции наполеоновской эпохи. Конечно, делалась поправка на изменение качества вооружения и, следовательно, его огневой мощи, но все-таки принцип сомкнутого строя еще имел силу. Впрочем, до применения пулемета оставалось совсем немного, да и одиночные стрелки, разбросанные по местности, превосходно уничтожали сомкнутые строи, что отлично выказала англо-бурская война 1899 — 1902 гг. А. И. Деникин сообщает: «Как в пехоте «чувство локтя», так и в коннице «чувство стремени», понимаемое не в смысле моральной близости и поддержки, а в буквальном, приводило к предпочтению «ящиков» разомкнутым строям. Боем в спешенном строю и стрельбою пренебрегали. Не скоро совершился переход к полевому галопу, к втягиванию конского состава, к полю, к новым разреженным строям»[13].
Вот в этом и заключается соль данного вопроса — о роли великого князя Николая Николаевича в подготовке русской кавалерии, с которой конница и вышла на войну. С 1882 года кузницей кавалерийских кадров стала Офицерская кавалерийская школа. Первоначально эта подготовка ограничивалась обыкновенным набором — теорией тактики и практикой конной езды. Постепенно дело подтягивалось к обучению офицеров кавалерии умению действовать на войне. А с назначением на пост начальника школы А.А. Брусилова (1902 — 1906 гг.) дело было окончательно поставлено на основу подготовки кавалериста к войне. Современник так характеризует деятельность нового начальника Офицерской кавалерийской школы: «Главным образом именно ему, генералу Брусилову, Школа, а потом и вся кавалерия были обязаны введением, взамен существующей «бессистемности», новой системы выездки лошадей (системы Филлиса), имевшей вначале много недоброжелателей… Старым кавалеристам тех времен и не снилось, что можно было требовать от коня. Энергия Брусилова вызывала зависть, и Брусилов приобрел репутацию беспринципного карьериста и интригана»[14]. Последнее замечание относится к распространенному мнению, что именно А.А. Брусилов убрал с поста своего предшественника.
С другой стороны, не менее справедливым является и тот факт, что Офицерская кавалерийская школа учила офицера в первую голову как кавалериста, а не как офицера. То есть — выдающийся конник, не умевший командовать конным подразделением в современной войне. Русско-японская война 1904 — 1905 гг. отчетливо выявила данную тенденцию. Ряд кавалерийских начальников в преддверии мировой войны пытались бороться со сложившейся практикой обучения, однако никто не преуспел в этом. В качестве примера можно привести выдержку из брошюры лучшего (по мнению участников войны) русского кавалерийского военачальника 1914 — 1919 гг. — графа Ф.А. Келлера. В войне генерал Келлер командовал 10-й кавалерийской дивизией, а затем 3-м кавалерийским корпусом. В 1910 году он писал: «Меня причисляют к заклятым врагам Офицерской кавалерийской школы, но это неправда, я враг не школы, а постановки дела в Офицерской школе, и враг потому, что вместо той громадной пользы, которую школа должна была бы принести, она приносит отечественной коннице вред… С легкой руки школы последних времен, когда руководителями и начальниками явились люди, почти не служившие в строю и специализировавшиеся только на прыжках и в езде, не знающие и не желающие считаться с нуждами и требованиями строевых частей, явилось шатание во всех полках кавалерии… К тому же школа забыла, что она воспитывает не берейторов, а строевых офицеров и средство (например, хорошую езду, преодолевание препятствий и т.д.) превратила в цель»[15].
Также граф Келлер считал, что Офицерская кавалерийская школа должна проводить однообразие в требованиях Устава. Незадолго до войны, в 1912 году, армия получила хороший кавалерийский устав (по сравнению с предшествующим Уставом), в котором пеший и конный бой признавались равноценными. Строевой кавалерийский устав 1912 года определял главную задачу конницы в «содействии другим родам войск в достижении общей цели». В данном Уставе впервые было сказано о подвижности в бою крупных сил — маневр группами на поле боя как средство подготовки последнего удара конной массой — «шока». Как считал участник войны, «Устав 1912 года — первая брешь в толще вековых «регулярных» предрассудков, и в этом его огромная историческая заслуга. Другая состоит в том, что им принципиально уничтожается (в тактическом отношении) понятие о регулярной и иррегулярной коннице»[16].
Конечно, переучить конницу за остававшиеся полтора года уже не удалось, а в отношении не желавших переучиваться кавалерийских начальников это было и вообще невозможно. Так, служивший в 5-м драгунском варгопольском полку И.В. Тюленев вспоминал, что во время учений и маневров «выигрыш боя приписывался тому, кто хорошо покажет «шок», а не тому, кто сочетает маневр с огнем артиллерии, кто искусно организует бой»[17]. Поэтому Устав одновременно был дополнен. Именно — различными инструкциями, положениями и прочими военными нормативными правовыми документами, долженствовавшими внедрить в среду командиров новейшие достижения в отношении вождения конных масс на войне. «Наставление для занятий в кавалерии» 1912 года гласило, что кавалерийское подразделение считается подготовленным, если оно в состоянии выполнить все предстоящие ему в военное время задачи. Среди этих задач особо выделялись следующие умения:
атаковать в конном строю все рода войск противника;
подготовить успех конной атаки огнем;
свободно маневрировать на всякой местности, не нарушая порядка движения, преодолевая препятствия и применяясь к местности;
действовать в спешенном порядке наступательно и оборонительно;
совершать походные движения как днем, так и ночью;
нести службу охранения и разведки как на походе, так и на бивуаке.
Характеризуя базу предвоенной подготовки, выраженную в Уставе 1912 года, Б.М. Шапошников в труде «Конница (кавалерийские очерки)» писал: «…комбинированный бой будет наиболее часто применяемым способом действия крупных сил конницы. Такой вид боя конницы нашим уставом был признан до мировой войны и только лишь не привился прочно в армии. Конница еще по-прежнему стремилась главным образом конной атакой большей части своих сил завершить удары, придавая пешему бою второстепенное значение. И, не видя благоприятно складывающейся обстановки для конной атаки, не развивала натиск своих пеших частей, оставляя конные свои части в бездействии, в результате чего проигрывала бой или сводила его на нет»[18].
Повторимся, что за остававшееся до войны время даже и по одним только объективным причинам сделать мало что удалось. Поэтому основную роль в войне играли те кавалерийские начальники, что готовились к современной войне и до 1912 года, а также молодые офицеры Генерального штаба, находившиеся при старых военачальниках — начдивах и комкорах. Впрочем, большая часть этих начальников долгое время (а то и до конца войны) оставалась на своих постах, пользуясь поддержкой в «высших сферах». Ответственность за этих людей прежде других должен нести их непосредственный шеф — великий князь Николай Николаевич. Выдающийся отечественный военный ученый А.А. Свечин впоследствии указывал, что «ужасный подбор русских кавалерийских начальников — творчество великого князя Николая Николаевича, в бытность его инспектором конницы»[19].
Говоря о подготовке русской кавалерии перед войной, мы неизбежно проецируем этот вопрос на те события, что происходили в войну. Зная, что конница не сыграла и четверти той роли, что могла и должна была сделать в военных действиях, следует констатировать, что эта подготовка была неудовлетворительной. Как ни странно, основная тенденция, проявившаяся еще в 1904 — 1905 гг., относилась к той сфере, что вообще странна для военного человека. А именно — к чрезвычайно болезненному отношению кавалерийских начальников к потерям своих войск. Если пехота бросалась в штыки, сражаясь до остатков взвода в каждом батальоне, если артиллеристы часто били «на картечь», останавливая атаки противника, то конница, как правило, оставалась в стороне от больших потерь даже в тех случаях, когда обстановка властно повелевала «умереть, но выстоять». Конечно, были и исключения. Но, как правило, конные атаки на пехоту неприятеля производились соединениями не свыше полка, а также когда велись оборонительные действия в кризисные моменты развития операции.
Гораздо же чаще конница старалась уйти «за пехоту» и держаться в тылах, нежели позволить собственным пехотинцам получить немного передышки в непрерывных боях. А ведь именно конные удары наиболее чувствительны для пехоты в маневренных боях. Причина такого поведения — соответствующая постановка взаимодействия пехоты и кавалерии на предвоенных маневрах, о чем еще будет идти речь. Так, М. Мураховский писал, что ознакомление войск во взаимодействии конницы с пехотой на маневрах играет большую роль, «ибо самую дисциплинированную пехоту волнует одно появление конницы вблизи района ее действий. И один раздавшийся откуда-либо крик «Кавалерия!» вселяет панику в самые крепкие части. Спокойная и выдержанная пехотная часть, находящаяся до конца в руках своих начальников, недоступна для самой энергичной конницы, но зато, дрогнув хоть на момент, она становится легкой и лакомой добычей для последней»[20].
Еще в 1910 году бывший главнокомандующий Маньчжурской армии ген. А.Н. Куропаткин, основываясь на опыте русско-японской войны 1904 — 1905 гг., указывал: «Главная реформа в коннице должна, по моему мнению, заключаться не во внешних преобразованиях, а в перемене воспитания. Пока конница не будет воспитана в мысли, что она должна сражаться так же упорно, как и пехота, расходы на конницу не окупятся. Если пехота, теряя двадцать пять процентов, еще совершенно свободно продолжает бой, если пехота, потеряв даже свыше половины своего состава, все еще держится на занятых ею позициях или повторяет атаки, то необходимо, чтобы тот же масштаб был применен и к коннице. Мы слишком берегли конницу в бою и слишком мало вне боя. Целые полки при первых близких разрывах шрапнели уже отводились назад, не потеряв еще ни одного человека»[21]. Практика войны показала, что чрезмерность потерь, даже в требуемых случаях, — это не для кавалерии. Причем этот подход являлся наиболее характерным для действий против немцев — то есть самого сильного противника. Деятельность кавалерии в Варшавско-Ивангородской наступательной, Лодзинской оборонительной, Августовской оборонительной операциях маневренного периода войны это ярко подтверждает. Неумело действовала кавалерия и в Восточно-Прусской наступательной и Виленско-Свенцянской оборонительной операциях, где задействовались по численности целые конные армии. А в позиционный период (кампания 1916 года) конница вообще ничего не смогла сделать.
Какая же именно подготовка клалась в основу воспитания русской кавалерии перед войной? Понятно, что в идеале такая подготовка должна охватывать все те сферы, что необходимы для боевой деятельности. К примеру, в пехоте делался упор на стрелковую подготовку, что позволяет утверждать приоритет русского кадрового стрелка перед всеми прочими армиями (возможно, на равном уровне стал только солдат немногочисленной британской армии). Соответственно, маневрирование пехотными массами уже проводилось с затруднением, что с удовлетворением отмечалось перед войной германскими разведчиками — «тяжеловесность маневрирования и управления» русскими войсками.
Точно так же обстояли дела и в артиллерии. Стрельба русских батарей и отдельных орудий в русской артиллерии были доведены до совершенства. Превосходная подготовка личного состава — как офицерского, так и солдатского — позволила русской артиллерии, уступавшей австро-германцам и в количестве орудий вообще, и в тяжелой артиллерии — в огромной степени, сравнительно успешно противостоять противнику всю войну. Если австро-германцы брали огневой мощью тяжелых гаубиц, то русские — ювелирной стрельбой с закрытых позиций. Зато в управлении массированным огнем нескольких батарей русские командиры уступали немцам. Все это разбирается в соответствующих частях нашей работы.
Таким образом, как можно видеть, подготовка родов войск русской военной машины осуществлялась поодиночке — без взаимодействия друг с другом на поле боя. Другим важнейшим упущением предвоенной подготовки стал факт превосходного обучения отдельного бойца на фоне неумения управлять большой массой этих самых бойцов. Иными словами, начиная со штаб-офицерского уровня, русские войска уже начинали уступать противнику. Конечно, были и исключения, но все-таки правилом являлся именно данный тезис — чем выше был уровень управления, тем все больше и больше русская сторона отставала от подготовки неприятеля.
Все эти выводы в полной мере относятся и к кавалерии. Тем более что уже в XIX веке стало ясно, что кавалерия постепенно сходит на нет в качестве самостоятельного рода войск. Советский ученый пишет: «…изменилась роль кавалерии. Она потеряла значение самостоятельной ударной силы и все более приобретала роль вспомогательного рода войск, обеспечивающего глубокую разведку и ведущего бой как в конном, так и в пешем строю. В связи с этим и в кавалерии [как и в пехоте] также обозначалась тенденция к унификации»[22]. Наверное, было бы странно, если бы один из родов войск готовился не так, как прочие. Правда, большая зависимость рода войск от воли высокопоставленного лица, заправлявшего им (например, генерал-фельдцейхмейстером артиллерии был великий князь Сергей Михайлович, также оказавший определяющую роль на развитие и подготовку русской артиллерии перед Первой мировой войной), вполне могла привести к иным методам обучения войск.
Однако этого не произошло. И проведение маневров в довоенный период отчетливо выявляет тенденцию, о которой мы говорили, — лучшая в Европе подготовка войск на низшем уровне (солдатский и обер-офицерский уровень) и худшая — на уровне высшем (со штаб-офицерского уровня). Это относится, конечно, к общевойсковым маневрам, где каждый род войск действовал как бы сам по себе, без осознанного понимания того простого факта, что в бою все рода войск будут драться бок и бок и, следовательно, они должны уметь сражаться таким образом. Но условия маневров готовились так, что победившей стороной считался не тот общевойсковой командир, кто сумел организовать победу, а тот, кто в максимальной степени использовал сильные стороны каждого рода войск по отдельности. Участник войны, гвардеец, вспоминал: «…дело с тактической подготовкой нашей кавалерии вообще обстояло несколько хуже, нежели в пехоте, ибо с конницей у нас весьма часто занимались меньше, чем следовало бы […] невольно досадуешь на то, сколько времени и труда тратили мы на освоение техники встречных лобовых конных атак, производимых всегда в сомкнутом развернутом строю, когда с пиками наперевес вихрем налетали друг на друга целые кавалерийские бригады и даже дивизии, сшибаясь друг с другом врукопашную. Разомкнутым строем атаковывали лишь пехоту. Такие картинные бои конницы были уместны, быть может, столетие назад, но при современной технике и вооружении вряд ли можно было ожидать практического применения подобной тактики в условиях настоящей большой войны. А между тем ни одно наше учение на военном поле, ни одни маневры никогда не обходились без подобных атак, коими традиционно завершались всякие маневры, будь то бригадные, дивизионные или даже корпусные»[23].
Таким образом, если пехота училась, в первую голову, вести огневой бой с пехотой противника, а артиллерия — контрбатарейной борьбе, то конница готовилась прежде всего к конному бою с кавалерией противника. Приведем громадную цитату из В. Рогвольда, который в своих работах, посвященных его личному опыту войны, усиленно исследовал именно этот вопрос — предвоенную подготовку русской кавалерии. В отношении обучения конных частей В. Рогвольд пишет: «Здесь прежде всего готовились к поединку с неприятельской кавалерией, который представлялся, как столкновение конных масс исключительно в конном строю. Все было направлено к тому, чтобы иметь на своей стороне всевозможные выгоды в таком столкновении, которое большей частью представляли себе как встречный бой». Выгоды:
быстрота развертывания походных колонн;
искусство выстраивания в оптимальный боевой порядок полков, бригад и дивизий;
умение менять направление и фронт в боевом порядке;
темпы и четкость спешивания войск и их посадки на коней;
соблюдение строгого порядка в частях;
соблюдение молчания вплоть до столкновения.
«В отношении движения и маневрирования больших масс конницы дошли до виртуозности: было обычным явлением, что кавалерийская дивизия двигалась и перестраивалась на полевом галопе по знаку шашкой своего начальника… В итоге русская кавалерия представляла страшное оружие на случай конных столкновений, но при условии действовать в сомкнутых порядках, в зрительной связи между частями. Как только зрительная связь нарушалась, отдельные начальники, не приученные действовать самостоятельно и согласованно для достижения указанной общей цели, терялись, не проявляли должной инициативы или задавались своими целями, ждали приказаний, бездействовали или старались восстановить зрительную связь в зависимости от характера данного лица. Обучение не приучало к поддержанию связи между частями, не давало необходимых навыков и привычек ни старшим начальникам, ни подчиненным; это было очень просто при зрительной связи и нормальных боевых порядках и совершенно не удавалось, как только боевой порядок расчленялся на самостоятельные группы, действующие на больших расстояниях друг от друга»[24].
Как видим, именно одиночная подготовка всадника и коня перед войной стояла на большой высоте. Предвоенные маневры заключались в конном столкновении на заранее избранной ровной местности. В итоге по условиям игры побеждал тот, кто успевал раньше развернуться. Подвижные же сборы, проводимые в приграничных округах, были редки и непродолжительны. Но и здесь военачальники не умели организовать взаимодействие конницы с пехотой и артиллерией, причем потому именно, что это было бы минусом для инспекторов, которых зачастую возглавлял великий князь Николай Николаевич.
Что значит «настоящий кавалерист» по восприятию идиом начала двадцатого века? Это тот боец, который превосходно использует особенности своего оружия. Именно так и воспитывались русские кавалеристы. То обстоятельство, что данный подход берет свое начало в первой половине Средневековья, когда один конный рыцарь вполне мог разогнать целую толпу пехотинцев, не учитывался. Не в последнюю очередь благодаря тому, что, как уже говорилось, конница считалась самым аристократичным родом войск. И это несмотря на то, что наиболее великий полководец Европы, с которого брали пример и который на протяжении десятилетий успешно противостоял всем европейским монархиям, вместе взятым, все же являлся артиллеристом.
Критиковать предвоенную подготовку стали уже по окончании войны, когда стало ясно, что велась она не так, как того требует современная война. Соответственно, те теоретические установки, что проповедовались высшими начальниками (личный опыт русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг.!), неизбежно накладывались и на молодых офицеров: «Перед Первой мировой войной мы все еще испытывали романтическое отношение к ярким сражениям прошлого. Хотя огромное количество времени было отведено изучению пеших боев, упор делался на сражениях в седле. Вот почему мы так легкомысленно относились к занятиям по тактике и всему тому, что имело отношение к современной войне. В конечном счете нас постигло жестокое разочарование, но зимой 1913/14 года считали, что основным оружием кавалериста является лошадь»[25].
А что значит лошадь как основное оружие кавалериста? Это понималось примерно так же, как перед Второй мировой войной существовало увлечение танками «поддержки пехоты». То есть не танковые силы сами по себе, как могучая сила современной операции, а огневая поддержка пехоты (немцы решили эту проблему созданием такого рода подвижной артиллерии, как штурмовые орудия). То есть лошадь являлась тем фактором, что позволял кавалеристу добиться победы. Это и понятно: ведь каждому коннику было ясно, что в бою сабля против винтовки пехотинца все-таки уступает. Поэтому считалось, что конница, если ей придется действовать против пехоты, должна как можно быстрее домчаться до последней и принудить к бою холодным оружием. Странно только, что данная точка зрения могла господствовать в то время, когда все европейские армии активно насыщались таким страшным оборонительно-наступательным оружием, как пулемет. Тем не менее изжить консерватизм не удалось. Участник войны вспоминает: «Конница перед мировой войной упорствовала в своем излюбленном способе конной атакой искать решающего успеха даже над нерасстроенной пехотой, почему практическое обучение конницы далеко отставало от совершенно правильных выводов военно-научной теории. Стремление уменьшить время губительного действия огня, пока шашки переносятся к противнику, быстрота движения — вот тот прием, который был избран конницей для состязания с пехотой наших дней»[26].
Уже после войны ее участники и исследователи в отношении подготовки и действий кавалерии столкнулись в спорах о вопросе использования опыта Гражданской войны в США в 1861 — 1865 гг. В этой войне активно использовались большие конные массы, которые благодаря географии сыграли большую роль в ведении военных действий. Опыт этой войны был взят европейскими странами на вооружение, в том числе и в России. Другое дело — каким именно образом он был взят. Так, А.А. Керсновский справедливо пишет: «Увлечение ковбоями американской междоусобицы — Шерманом и Шериданом — повлекло за собой то, что мы по опрометчивости сделали второй шаг, не сделав первого, — стали заводить стратегическую конницу, упустив создать войсковую». Но дело даже не в этом. Дело в том, что под влиянием Гражданской войны в США русские кавалерийские руководители взяли лишь то, что для Европы являлось совершенно неверным — использование конницы как ездящей пехоты (не надо забывать, что сами американцы считали важнейшим оружием конного боя не саблю, а револьвер). То есть опыт Гражданской войны в США, по правильному замечанию старого конника М. Баторского, учил «двум весьма существенным вещам: первое — массирование конницы и второе — действиям на тыл противника как самостоятельным актам»[27].
В России этого не поняли, а увлеклись лишь внешней стороной — ездящей пехотой, о чем и говорит А.А. Керсновский. Между тем опыт американской войны должен был дать Европе и правильный вывод — использование конницы как огневой силы в большой массе. Ведь в Первую мировую войну конница всех европейских армий вступила, используя учение «шока». Иными словами, конных «мясорубок» времен Фридриха II и Наполеона. Это был тот предрассудок, который так и не удалось изжить. А ведь Гражданская война в США давала тип современной кавалерии, возглавляемой Стюартом (южане) и Шериданом (северяне). Это должна была быть конница инициативных кавалеристов, которые отлично действуют как в конном, так и в пешем строю; маневрируют так же умело, как и стреляют.
И как будто бы на смех, в отличие от прочих европейских держав, именно Россия имела таких кавалеристов, не зависимых ни от сомкнутого строя, ни от личного примера офицеров, гибнущих в бою в первую очередь. Речь, конечно, идет о казаках — «природной коннице» нашей страны. А вот немцы поняли американский опыт лучше русских, хотя не имели столь многочисленной" кавалерии, предпочитая делать ставку на тяжелые гаубичные батареи и казаков. Как считает исследователь, оценивая Свенцянский прорыв сентября 1915 года, «германские генералы ориентировали свои вооруженные силы на маневренные наступательные боевые действия, поэтому кавалерийские соединения предназначались для выполнения оперативных или стратегических задач — глубоких рейдов в тылу противника, введения в прорыв неприятельских позиций и организации полномасштабного преследования. Такую стратегию применения кавалерии пруссаки заимствовали из опыта Гражданской войны в США»[28].
Представляется, что делать столь далеко идущие выводы о предвоенной подготовке германской конницы на основании всего лишь единственного Свенцянского прорыва было бы несколько опрометчиво. Однако против фактов идти нельзя — немцы лучше русских применяли конные массы в оперативном масштабе, и в этом Ю.Ю. Ненахов совершенно прав. Русские до войны учили конницу взаимодействовать с пехотой непосредственно на поле боя. И то — взаимодействовать в качестве конного «шока» на позиции условного противника. Иными словами, русские командиры действовали по тому правилу, что главная задача кавалерии — конная атака на поле сражения. Немцы же уже в ходе военных действий перестроились, правильно осознав, что при современной технике роль конницы — удары по флангам и тылу неприятельских армий в оперативном масштабе. Участник войны с горечью отметил: «Превосходная подготовка германских кавалерийских начальников и умелое использование конницы высшим командованием сделали то, что слабая германская конница принесла гораздо больше пользы своей армии, чем сильная русская»[29].
В 1906 году первый начальник реорганизованного Генерального штаба и верный сотрудник великого князя Николая Николаевича ген. Ф.Ф. Палицын учредил четыре кавалерийских корпуса, которые были временно уничтожены после русско-японской войны 1904 — 1905 гг. Эти корпуса были упразднены военным министром ген. В.А. Сухомлиновым (генерал Сухомлинов также являлся кавалеристом!) в 1910 году. Итог — отсутствие штабов для стратегической конницы, перевод всех кавалерийских дивизий в армейскую кавалерию, тяжелейшая нехватка (и по качеству, и по количеству) войсковой конницы. Это — невзирая на то, что накануне войны русская конница имела 129 полков, а пехота продолжала оставаться в бою «слепой» вследствие отсутствия разведки.
То есть до войны кавалеристы практически не учились действовать вместе с пехотой, раз в качестве войсковой кавалерии должны были выступать казаки 2-й и 3-й очереди. Иными словами, проводимая перед войной реорганизация сухопутных сил не затронула кавалерию. И не последняя причина здесь — личная вражда между генерал-инспектором кавалерии великим князем Николаем Николаевичем и военным министром ген. В.А. Сухомлиновым, которому протежировал император Николай И. А ведь все кавалерийские теоретики говорили, что упразднение кавалерийских корпусов — неверное деяние. Так, профессор А.Ф. Матковский писал, что для европейской войны обязательно нужны кавалерийские корпуса, причем они должны быть созданы уже в мирное время[30].
Вероятно, еще и поэтому конница воспитывалась сама по себе, не получая навыков действий в современном общевойсковом бою. Ведь даже и в артиллерийском отношении конница взаимодействовала не столько с артиллерийскими бригадами армейских корпусов, сколько со своими собственными конными батареями. Число же последних было весьма невелико: перед войной их насчитывалось двадцать три единицы в пятнадцати" кавалерийских дивизиях. Во время войны было сформировано еще четыре конные батареи, что ясно показывает на приоритет обычной артиллерии. Все тот же В. Рогвольд пишет: немецкая кавалерия уклонялась от конного боя за собственной пехотой. «Между тем подготовка в мирное время русской кавалерии велась исключительно (выделено нами. — Авт.) в направлении подготовки ее к бою с конницей противника. Отсюда каждый большой маневр начинался непременно с действий конных сил обоих противников, по окончании которых никто больше кавалерией не интересовался. Конница приучалась действовать сама по себе, вне зависимости от интересов всей армии, да и пехота приучалась к тому же, мало интересуясь тем, что и как делает кавалерия; последняя сплошь и рядом появлялась у своей пехоты только к заключительному аккорду маневра — общему бою — и производила более или менее эффектную атаку, больше Для зрителей маневра. Примерно по этой схеме представляли себе настоящую военную операцию как командование, так и кавалерийские начальники».
Мирное обучение выражалось:
«а) в исключительном внимании к конному бою и к маневрированию в конном строю на небольших пространствах;
б) в привычке действовать, маневрировать и принимать решения, только видя неприятеля;
в) в недооценке комбинированного боя, неумении его вести;
г) в неумении управлять боем на больших пространствах, когда зрительная связь между частями терялась…
з) в непривычке действовать широко расчлененным боевым порядком, без точных сведений о расположении неприятеля, и, как следствие, непривычка рисковать, ставить определенные задачи подчиненным начальникам, настойчиво преследовать поставленные цели, продолжительное время бесконечной разведки, отсутствие инициативы у частных начальников, когда они попадали в необычную обстановку»[31].
Такое положение вещей в подготовке кавалерии делало невозможным использование больших конных масс в той системе управления, что сложилась перед войной. Косвенно об этом свидетельствует расформирование кавалерийских корпусов после русско-японской войны (а затем вторично — в 1910 году), где русская сторона также не сумела использовать превосходство в коннице над японцами. Ведь русские военачальники так и не смогли приспособить тактику кавалерийского боя к требованиям современной войны. В итоге кавалерийские корпуса стали спонтанно создаваться уже после начала Первой мировой войны, а в 1916 году конные корпуса уже приняли устоявшуюся структуру — от двух до четырех кавалерийских дивизий. До этого широко использовались сводные отряды, в которых начальники кавалерийских бригад и дивизий старались сохранить как можно больше самостоятельности, хотя и были обязаны подчиняться штабам кавалерийских корпусов, создаваемых на время той или иной операции командованиями фронтов или Ставкой. Отсюда во многом проистекала нерешительность применения конницы в Варшавско-Ивангородской и Виленско-Свенцянской операциях 1914 — 1915 гг., в которых широкомасштабные действия кавалерии были призваны сыграть важную роль.
Таким образом, единственное, что умела делать русская кавалерия, это драться против кавалерии противника в открытом сражении, то есть то, что совершенно не могло пригодиться в современной войне. Конница должна была принимать то участие в операции, что способствовало бы общей победе, однако приоритет тактики в обучении над оператикой достиг чрезмерно непреодолимых масштабов. Удивительно, но с этим русские столкнулись уже в войне с Японией, где также не было крупных конных боев, так как японцы имели на театре войны всего лишь две кавалерийские бригады против многочисленной русской конницы. Никаких серьезных выводов по итогам русско-японской войны сделано не было: «…в основу всех действий конницы было положено ее участие в сражении, а оперативная работа на театре войны хотя и не умалялась, но не превалировала над тактикой. В выполнении же чисто боевых задач, встававших перед конницей, последняя стремилась разрешать их преимущественно ударом в конном строю, видя в этом наиболее полное использование своей сильной стороны. Действия с винтовкой в руках были побочным способом достижения поставленной цели»[32]. Одним словом, многочисленный и весьма квалифицированный род войск — кавалерия — был совершенно не подготовлен к современной войне.
Так что вовсе не странно, что в сентябрьских боях на левом берегу Вислы кавалеристы лучше оборонялись, чем наступали. Что конница старалась оставаться в стороне от общевойскового боя, переваливая тяжесть ведения боев на пехоту и артиллерию, в том числе и тогда, когда следовало атаковать во что бы то ни стало (брезинский прорыв немцев). Что еще и в 1916 году конница наблюдала, как победоносная пехота Юго-Западного фронта гонит врага, но участвовать в преследовании не могла, так как не умела. Вообще преследование разбитого противника стало одним из наиболее слабых мест действия русской кавалерии в Первой мировой войне.
Кавалерийские начальники оказались самыми рьяными ретроградами: пехотинцы и артиллеристы (не говоря уже об инженерных войсках, переживших настоящее второе рождение) учились, пусть и на собственных ошибках. Кавалеристы учиться не желали (вспомним в связи с этим, что и в Советском Союзе перед Второй мировой войной самым консервативным родом войск стала кавалерия, а «кавалеристами» именовали наиболее ретроградную группу советского военного руководства, группировавшегося вокруг К.Е. Ворошилова и С.М. Буденного), а широкое применение конницы в Гражданской войне зависело от «нерегулярности» военных действий: даже против только что обретшей независимость Польши этот номер уже не прошел; на каждом театре — своя специфическая тактика.
Стремясь выделить несомненные положительные моменты, А.А. Керсновский пишет, что русской конницей «было произведено до 400 атак в конном строю…», в ряде сражений «некоторые конные дела имели не только тактическое, но и стратегическое значение», наконец, «сколько раз наши пехотные дивизии и корпуса выручались беззаветными атаками ничего не боявшихся и все сметавших сотен и эскадронов»[33]. Все это так. Однако надо сказать о том, что кавалерия проявила себя в войне как вспомогательный род войск, но не как основной. Вот в чем, на наш взгляд, главный вывод данной части нашей работы.
Первая мировая война окончательно утвердила то обстоятельство, что отныне главной становится не тактика, а оперативное искусство как метод ведения боевых действий (стратегия есть вещь более высокого порядка). А следовательно, на первое место неизбежно выдвигались не атаки небольшими соединениями (как правило, это и было в числе тех четырех сотен атак, о которых сообщает А.А. Керсновский), а умелые действия конных масс — от дивизии и выше. И вот как раз в этом отношении руководство русской конницей оказалось весьма и весьма неудовлетворительным. Отсутствие надлежащим образом организованных кавалерийских корпусов (и, добавим, столь же надлежащим образом подготовленных начальников этих корпусов) в мирное время приводило к тому, что русским постоянно не хватало конницы в самый нужный момент:
при преследовании австрийцев после боев под Варшавой и Ивангородом в сентябре 1914 года;
при попытке пленения группы Шеффера в боях под Лодзью в ноябре 1914 года;
под Шавли весной 1915 года;
под Свенцянами.
Поэтому же конные корпуса занимали растянутые окопы в 1916 году, а главкоюз ген. А.А. Брусилов и его командармы (прежде всего в 8-й и 9-й армиях) не сумели использовать свою довольно многочисленную конницу для довершения поражения противника, разгромленного на первом этапе Брусиловского прорыва в мае — июне 1916 года.
Выходит, что великий князь Николай Николаевич великолепно подготовил конницу как самостоятельный род войск, но в современной войне надо тесно взаимодействовать с пехотой и артиллерией. Нужна гибкая тактика конницы в общевойсковой операции. Этого не было сделано в том числе и потому, что в военной теории не существовало отдельного вида военного искусства — оперативного искусства. Поэтому конница готовилась только в тактике плюс теории стратегической конницы, как глубокие рейды во вражеские тылы. Противник же более безболезненно перешел к новой тактике, ввиду сохранения при пехотных корпусах огромного числа войсковой конницы, в то время как у русских все ушло на стратегическую конницу. Кроме того, отсутствие хороших кавалерийских начальников (за редкими исключениями) не позволило коннице переучиться уже в ходе войны, как это сделали пехота и артиллерия, достигшие к 1916 году пика своего могущества.
Повторимся, именно на Восточном фронте в период Первой мировой войны кавалерия могла в последний раз подтвердить свой статус самостоятельного рода войск, равного по положению пехоте и артиллерии. То есть как основного рода войск. Этого русские кавалеристы сделать не сумели, скатившись в состояние вспомогательного рода войск. Да, были отдельные всплески. Но все это не мешало главному — переходу кавалерии к ведению боевых действий в спешенных порядках, неумению маневрировать большими массами для достижения победы в операции, нежеланию кавалерийских начальников учиться на собственных ошибках и активно взаимодействовать с прочими родами войск.
Глава 2 ЛИЧНЫЙ СОСТАВ КАВАЛЕРИИ
Как говорилось выше, в начале двадцатого столетия конница все еще рассматривалась в качестве одного из трех основных родов войск. При этом именно кавалерийские подразделения комплектовались отборными людьми в первую очередь. Недаром современники (не из кавалеристов) с горечью отмечали, что в то время, как на пехоту ложится вся тяжесть современного боя и именно она несет наиболее тяжелые потери в сражениях, как раз пехота комплектовалась по «остаточному принципу». Регулярная кавалерия мирного времени, с которой русская Действующая армия должна была вступить в войну, насчитывала в своем составе две гвардейские кавалерийские дивизии, пятнадцать кавалерийских дивизий, Кавказскую кавалерийскую дивизию. Также в мирное время содержались и некоторые казачьи кавалерийские соединения — например, Сводная казачья дивизия или Уссурийская конная бригада.
Вся эта конница уже в мирное время содержалась в полном составе, что не предусматривало ее пополнение запасными в ходе мобилизации: «В отличие от пехоты кавалерийские части и входящая в их состав конная артиллерия уже в мирное время содержались полностью укомплектованными, в довольно высокой степени готовности на случай военных действий»[34]. Данный факт является отражением предвоенных планов русского Генерального штаба. Согласно планированию конница должна была прикрывать развертывание и сосредоточение полевых армий, а кавалерия 1-й армии Северо-Западного фронта, развертываемой по рубежу пограничной реки Неман, должна была еще и совершить массированный набег в германскую Восточную Пруссию. Следовательно, только конница уже с начала войны находилась в идеальном состоянии — полностью кадровый состав действующих войск.
Перед войной в русской армии числились двадцать один драгунский полк, семнадцать уланских полков, восемнадцать гусарских полков. Первые бригады пятнадцати кавалерийских дивизий образовывали по одному уланскому и одному драгунскому полку. Вторые бригады — гусарские и казачьи полки. В составе 1-й Отдельной кавалерийской бригады состояли 16-й гусарский и 19-й драгунский полки, 17-й и 18-й гусарские полки — в составе 2-й Отдельной кавалерийской бригады, 16-й и 17-й уланские полки — в 3-й Отдельной кавалерийской бригаде. Еще три полка драгун — 16, 17 и 18-й драгунские полки — находились в составе Кавказской кавалерийской дивизии. 20-й Финляндский драгунский полк числился вне дивизий и бригад. Приморский драгунский полк входил в Уссурийскую конную бригаду. В годы войны были сформированы Кавказская Туземная конная дивизия («Дикая дивизия»), Текинский конный полк, шесть Заамурских конных полков, шесть Прибалтийских конных полков, два пограничных конных полка[35].
При мобилизации Россия выставила тридцать пять кавалерийских дивизий в составе шестидесяти семи регулярных и пятидесяти семи казачьих полков армейской кавалерии. Причем восемь второочередных казачьих дивизий были сформированы при мобилизации — три Донских дивизии, две Кубанских, одна Терская, одна Оренбургская, одна Уральская дивизия. Общая численность армейской конницы составляла 1158 регулярных эскадронов и казачьих сотен при 112 пулеметах. В кавполку — на шесть эскадронов — 36 офицеров (считая командира полка). Численность эскадрона, по мнению участников войны, считалась недостаточной: «В период напряженной работы конский состав быстро тает; восстановление же рядов конницы происходит с большими затруднениями, нежели в пехоте. С первых же операций 1914 года дала себя чувствовать слабость штатного состава нашего эскадрона»[36].
В свою очередь, австро-венгерская кавалерия подразделялась:
имперская армия — 42 полка 6-эскадронного состава: 15 драгунских, 16 гусарских и 11 уланских полков;
австрийский ландвер — 41 эскадрон: 6 уланских полков, 1 дивизион (3 эскадрона) конных Тирольских стрелков, 1 дивизион (2 эскадрона) конных Далматинских стрелков;
венгерский ландвер — 60 эскадронов: 10 гонведных гусарских полков.
Всего — 353 эскадрона.
Германская кавалерия: 110 полков 5-эскадронного состава. В военное время пятые эскадроны остаются для формирования резервных и запасных частей для своего полка:
10 кирасирских полков (только прусские);
4 тяжелых конных (саксонские и баварские);
28 драгунских (кроме Саксонии и Баварии);
21 гусарский (Пруссия, Саксония, Брауншвейг);
26 уланских (кроме мелких государств);
13 конно-егерских (только прусские);
8 легкоконных (только баварские)[37].
В отличие от союзников и противников русская кавалерийская дивизия имела негибкую организацию. Так, русская кавдивизия — две бригады двухполкового состава по шесть эскадронов в каждом; французская и германская кавдивизия — три бригады двухполкового состава по четыре эскадрона. То есть силы равны — по двадцать четыре эскадрона, но германская и французская кавалерийские дивизии более гибки и удобоуправляемы как войсковые организмы. Практика войны подтвердила, что войсковая единица должна состоять из трех элементов — два эшелона и резерв. В ходе военных действий на трехполковой состав перешла пехота, а затем стала переходить и конница, хотя в русской армии консерватизм оказался слишком велик, и даже «реформа Гурко» зимы 1917 года все еще предполагала образование четырехполковых пехотных дивизий.
Русская кавалерия представляла собой огромную силу, ведь в военное время русские выставляли в поле почти столько же кавалерии, сколько все прочие великие державы Европы (не считая Великобритании), вместе взятые. Так, Россия — до 1500 эскадронов и сотен, Франция — 587, Германия — 528, Австро-Венгрия — 395, Италия — 177. К октябрю 1917 года русская конница насчитывала 100 регулярных и 161 казачий полк, сведенные в 52 дивизии, в том числе 25 казачьих, и 3 отдельные бригады. Сколь велики эти цифры? Можно сравнить опыт двух мировых войн. Перед Великой Отечественной войной в насыщенной танковыми частями РККА все еще насчитывалось тринадцать кавалерийских дивизий (в том числе — горно-кавалерийские дивизии). Но в эти кавдивизии входили танковые, артиллерийские полки, ряд пехотных подразделений. К концу 1941 года в связи с большими потерями в технике в Действующей армии уже состояло восемьдесят четыре легкие кавалерийские дивизии по три тысячи сабель. К концу 1943 года и до конца войны в РККА состояло двадцать шесть кавалерийских дивизий, в состав которых входили три конных, танковый и артиллерийский полки. Дивизии объединялись в восемь кавалерийских корпусов. Наиболее эффективное использование конницы — совместно с механизированными и танковыми корпусами в составе временных оперативных объединений — конно-механизированных групп. «Но в целом опыт войны подтвердил потерю кавалерией значения как рода войск и бесперспективность ее дальнейшего существования»[38].
Слабым местом русских общевойсковых соединений являлось отсутствие сильной войсковой конницы, которая должна была прежде всего нести функции разведки. Перед войной предполагалось увеличить каждую кавалерийскую дивизию на два полка (5-й и 6-й), которые должны были с открытием военных действий образовывать войсковую конницу. То есть, с одной стороны, эти полки сразу же подразумевались как не действующие в составе дивизии, но, с другой стороны, корпуса и пехотные дивизии получали регулярную конницу для разведки, а не второочередные казачьи части. Но провести данную реформу, относившуюся к известной «Большой программе», которая должна была быть выполнена к 1917 году, не успели. В итоге войсковая конница армейских корпусов составляла один казачий полк и одну казачью сотню из казаков 2-й и 3-й очереди.
Правда, в первых операциях августа 1914 года корпуса не имели такого количества казачьих подразделений.
В свою очередь, в Германии каждая пехотная дивизия имела по одному кавалерийскому полку (4 эскадрона) войсковой кавалерии. В Австро-Венгрии — по 3 эскадрона. Во Франции — каждый армейский корпус имел по восемь эскадронов плюс один резервный эскадрон на пехотную дивизию. При этом если русская войсковая конница составлялась отнюдь не из лучших людей (казаки старших возрастов), то в Германии, напротив, пехотные дивизии и корпуса получали лучших кавалеристов. Немцы справедливо рассуждали, что лучше обеспечить общевойсковое соединение надлежащей разведкой, нежели дать победу своей кавалерии над русской кавалерией. Тем более немцы и не собирались вести противоборство с русскими в конных боях: кавалерия немцев, как правило, уклонялась от предлагаемого конного боя, предпочитая действовать в пеших порядках против русской кавалерии. Германская конница уходила за фронт своей пехоты и использовалась исключительно против флангов неприятеля в общевойсковом бою. То есть действовала именно так, как того требовало современное дальнобойное оружие, вынудившее кавалерию в львиной доле случаев отказываться от конной атаки — «шока» — на неприятельскую пехоту. Помимо того, германская и французская кавалерии действовали при постоянной пехотной поддержке, причем пехота перебрасывалась на автомобилях[39].
Перед Первой мировой войной в русской армии состояло пятьдесят семь полков регулярной кавалерии, из которых двадцать два были драгунскими, семнадцать — уланскими и восемнадцать — гусарскими. Регулярная конница сводилась в шестнадцать кавалерийских дивизий и три отдельные бригады. Пятнадцать дивизий имели по одному уланскому, драгунскому, гусарскому (с соответствующими номерами) и казачьему полку. Еще три драгунских полка составляли Кавказскую кавалерийскую дивизию. Еще шесть полков входили в состав отдельных кавалерийских бригад. Исключение составляли гвардейцы: 1-я гвардейская кавалерийская дивизия имела четыре регулярных полка по четыре эскадрона каждый, а 2-я гвардейская кавалерийская дивизия — четыре регулярных полка по шесть эскадронов. 41 казачий полк, 3 конно-инородческих полка, 5 Заамурских пограничных полков. Всего к началу войны — 117 полков, 24 дивизии и 8 бригад, отдельные полки. Общее число шашек — около 140 000 человек. За годы войны это число возросло почти вдвое, причем в львиной доле за счет казаков.
Каждый конный полк состоял из шести эскадронов (сотен); эскадрон по штату насчитывал пять офицеров, двенадцать унтер-офицеров, три трубача и сто двадцать восемь рядовых нижних чинов. Согласно штатам при каждой дивизии состояла конно-саперная команда, которая должна была иметь восемь мотоциклов и один легковой автомобиль. На практике этого усиления как средства разведки не было. В свою очередь, немцы усиливали свои конные соединения велосипедистами-пехотинцами. Это позволяло немцам при столкновении с русской конницей (а германцы принимали бой с русскими только в пешем строю) иметь огневое превосходство. Другое дело, что слабость дорожной инфраструктуры Восточного фронта не позволяла использовать велосипедистов (самокатчиков) по полной программе: «Как часть, усиливающая могущество огня конницы, самокатчики были желательными в ней и не раз оказывали существенную помощь последней… Но самокатчики — «рабы дорог», так же, как и автомобили, а потому в мировую войну на русском фронте отставали от конницы, оказываясь обыкновенной пехотой, загруженной к тому же самокатами»[40].
Усиление конницы пехотными соединениями в центральных державах предусматривалось еще до войны. Так, во время больших императорских маневров 1910 года в Австро-Венгрии каждая кавалерийская дивизия получила по самокатной роте. Уже в начале войны неприятельская конница усиливалась пехотой. В ходе боев под Варшавой и Ивангородом (сентябрь 1914 года) австро-германская кавалерия (8-я немецкая и 1-я австрийская кавалерийские дивизии) имела по стрелковому батальону на дивизию, который являлся «опорой для маневрирования». Действия при поддержке пехоты позволяли противнику сберегать силы кавалерии. В кампании 1915 года борьба в спешенных строях совместно с пехотой, которая придавалась кавалерийским дивизиям и бригадам, для австро-германской стороны стала правилом. Как пишет В. Микулин, летом 1915 года, «действуя по-пехотному, ввиду слагавшейся обстановки, германские кавалерийские дивизии показали здесь свою высокую приспособляемость к последней и достаточную техническую подготовку при ведении не только оборонительных, но и наступательных боев в пешем строю, сохранив при этом — что особенно важно — порыв к действиям на коне. Этот период операций интересен вообще в том отношении, что свидетельствует о необходимости для конницы уметь отлично действовать в пешем строю, независимо от ближайших перспектив ее работы, хотя бы последние и намечались в форме маневренной войны на малокультурном театре; эти предпосылки были здесь налицо, и тем не менее пришлось отсиживаться под конец в окопах и брать в штыки деревни»[41].
Конно-артиллерийский дивизион, придаваемый кавалерийской дивизии, имел в своем составе две батареи по шесть легких орудий. Каждая батарея имела боекомплект в тысячу снарядов, в том числе лишь сто сорок четыре гранаты, а остальное — шрапнели. К началу войны в русской коннице насчитывалось шестьдесят пять конных батарей по шесть орудий. В 1914 — 1917 гг. было сформировано еще сорок две конные батареи, по преимуществу казачьих. Конная артиллерия создавала главную огневую мощь кавалерийской дивизии, как правило, скудно обеспечиваемой пулеметами и не имевшей большого количества стрелков. Советский исследователь, участник войны, пишет: «Важнейшая задача конной артиллерии — обеспечить свободное продвижение конницы уничтожением неприятельских огневых средств борьбы. А также — борьба с живой силой противника с целью нанесения ему потерь, расстройства и деморализации, дабы дать тем самым возможность своей коннице с наименьшими потерями завершить успех ударом в конном строю. В случае успеха конная артиллерия преследует огнем отступающего противника, не давая ему возможности зацепиться за какой-нибудь рубеж и привестись в порядок, особенно зорко следя за подходом резервов. В случае неуспеха она же должна прикрыть своим огнем выход и отход конных частей из боя»[42].
Кроме того, кавалерийская дивизия имела пулеметную команду из восьми пулеметов — «конно-пулеметные команды, тогда новинка в нашей армии»[43]. То есть, в силу своей малочисленности, пулеметная команда находилась не при полках, как в пехоте, а напрямую подчинялась штабу дивизии. Чрезвычайную пользу пулеметов для конных подразделений признали уже в ходе русско-японской войны 1904 — 1905 гг. Согласно мнению самих японцев, «придача пулеметов коннице дает исключительные выгоды последней. Благодаря значительной подвижности пулеметной команды польза придачи ее к коннице гораздо больше, нежели придача пехоты, посаженной на повозки или даже на лошадей»[44].
В начале войны русская конница вооружалась ружьями-пулеметами датской системы генерала Мадсена, который в 1901 году занял пост военного министра Дании. Еще в 1912 году эти пулеметы были сняты с вооружения кавалерии и отправлены в крепости. Но огневая слабость конницы наряду с непредвиденными масштабами войны побудила вновь передать пулеметы Мадсена в войска. В боях эти пулеметы показали свою ненадежность. Поэтому их вскоре заменили на вьючные пулеметы системы Максима, принятые как в России, так и в Германии. Во вьюках перевозились и сам пулемет, и станок системы полковника Соколова, который специально разработал его для кавалерии в 1910 году[45].
Другое дело, что пулеметов все равно не хватало, а потому войска брали любое оружие, тем более такое, которое могло перевозиться на седлах всадников в специальных кобурах. В свою очередь, немцы также не имели пулеметов в штатной структуре кавалерийской Дивизии, но германское командование, признавая высокое значение пулеметов в современной войне, заблаговременно образовало одиннадцать отдельных пулеметных батареей, которые с объявлением мобилизации и были приданы одиннадцати кавалерийским дивизиям. Вдобавок в состав каждой кавалерийской дивизии вошел егерский батальон вместе со своей пулеметной ротой (еще шесть пулеметов).
Невзирая на неудачность конструкции, ружья-пулеметы системы Мадсена, во-первых, все-таки позволили увеличить огневую мощь кавалерийской дивизии (по сути, огонь кавдивизии равен двум-трем пехотным батальонам). Во-вторых же, сыграли свою роль в противостоянии богато обеспеченным пулеметами немцам. Это был прообраз ручного пулемета, хотя и тяжелый для стрелка: «Они не имели станка, и при стрельбе получалась сильная отдача в плечо, что значительно снижало меткость стрельбы и быстро утомляло стрелка. Кроме того, датское ружье-пулемет не имело устройства для охлаждения ствола во время ведения огня, и поэтому стрельбу из него нужно было вести с большими перерывами»[46].
Кроме пулеметов системы Мадсена, конница имела и свою пулеметную команду, по образцу пехотной. В 1912 году в кавалерийской дивизии числилось двенадцать пулеметов «Максим». Во время войны — по четыре пулемета в каждом полку[47]. В начале войны пулеметы придавались эскадронам боевой части кавалерийской дивизии. Так как пулеметы в коннице являлись новинкой и для русских, и для австро-германцев, то бывали случаи, когда вооруженная пулеметами русская конница сталкивалась в бою с австрийской пехотой, не имевшей пулеметов. В период Галицийской битвы августа 1914 года это явление было обычным делом. Если же помнить, что в ходе сосредоточения вдоль линии государственной границы шли стычки войск прикрытия, а это, как правило, была конница, то значение пулеметов для решения исхода таких боев нельзя недооценивать. Участник войны и военный ученый-теоретик пишет: «В подобных случаях «пробивная» сила наших спешенных эскадронов чрезвычайно возрастала. Умелое же сочетание этой силы с маневром, то есть охватами и обходами, приводило в этих случаях к неизменному успеху»[48].
Ружье-пулемет — это вещь ясная. Удобная и необходимая не только для конницы, но и для пехоты. Главное — совершенствование конструкции. Другое дело — крупнокалиберный пулемет, непосильный для владения одним конным бойцом. Незадолго до начала войны один из профессоров Николаевской Академии Генерального штаба, кавалерист (правда, в боях он показал себя неважно), писал: «Право называться и быть самостоятельной приобретает лишь конница, умеющая драться и в конном строю, и в пешем (в последнем не только обороняясь, но и наступая), усиленная пулеметами и конной артиллерией, снабженная средствами для переправ, разрушений, восстановлений и связи и, наконец, сведенная в крупные силы. Только такая конница будет действительно способной к выполнению разнообразных задач собственными силами, несмотря ни на состав противника, ни на встречаемые препятствия»[49].
Ввиду своего несовершенства, русской коннице были нужны колесные пулеметы пехотного образца (системы Максима), а не пулеметы-ружья Мадсена. В Австро-Венгрии на вооружение принимались вьючные пулеметы, в Германии — колесные. Изюминка вопроса и различие заключаются в том, что колесные пулеметы могут сразу же вступать в бой, а вьючные надо собирать. С другой стороны, колесные пулеметы пройдут далеко не по каждой местности. Однако А.Ф. Матковский резонно предположил, что колесные пулеметы вполне пройдут там, где пройдет конная артиллерия. Согласно предположениям, за исключением специализированных театров (горы), где нужны только вьючные пулеметы (в русско-японскую войну японцы вступили, имея колесные пулеметы, а потом по русскому примеру перешли на вьючные), необходимо иметь по два пулемета-ружья на эскадрон и 4-пулеметную команду на кавалерийский полк.
С другой стороны, вьючный пулемет требует для обслуживания восемь людей и десять лошадей. Это существенно больше, чем в пехоте. Поэтому тачанка Гражданской войны явилась гигантским достижением в сфере военной техники той поры. Советский теоретик, участник войн, справедливо указывал: «Пулемет придает упругость и силу лаве и разомкнутым строям… В боях с пехотой пулеметы, сохраняя подвижность и способность к маневрированию своей конницы, увеличивают ее ударную силу своим мощным огнем… пулемет спаялся с конницей, неотделим от нее, и ныне нельзя представить действия конницы без работы пулемета, они в каждой фазе боя содействуют друг другу. В пулемете конница нашла то, что ей было так необходимо — большую огневую силу, совмещенную с необходимой подвижностью»[50].
В России, учитывая собственный опыт, старались оценивать и выводы, сделанные противником. Возможно, что это и правильно. Невысокая огневая мощь конницы как стрелкового подразделения увеличивалась за счет пулеметов. При этом перед войной велась дискуссия: не лучше ли будет усилить огонь кавалерийских дивизий, если они будут действовать плечом к плечу с пехотой не только в общевойсковом бою, но и под единым руководством. Иными словами, что предпочесть: щедро оснащенную пулеметами конницу или подчинение кавалерийскому соединению пехотного подразделения с пулеметами. Делая «выжимку» из японских выводов, оценивалось: «Придача пулеметов коннице дает исключительные выгоды последней. Благодаря значительной подвижности пулеметной команды польза придачи ее к коннице гораздо больше, нежели придача пехоты, посаженной на повозки или даже на лошадей. Конница, действующая перед фронтом армии, выполняя свои задачи, нуждается иногда в усилении огня, а между тем призываемая для этого пехота нередко не успевает подойти в критический момент, вследствие чего конница не может достигнуть намеченной цели. Пулеметная же команда, обладая достаточной подвижностью, может в надлежащее время принять участие в бою»[51].
Таким образом, был сделан очевидный вывод в пользу отдельной пулеметной команды для кавалерийской дивизии. И, естественно, наиболее желаемым средством являлось недостижимое — броневик как поддержка конницы в бою. В ходе войны воюющие стороны пытались разрешить эту проблему. Появившиеся в 1917 году танки постепенно сумели одновременно заменить и конницу, и пехоту в качестве ударной силы наступающей группировки. Б.М. Шапошников сразу по окончании Гражданской войны писал: «Имевшееся в распоряжении конницы ручное огнестрельное оружие — пулемет и артиллерия, перевозимые на лошадях, — не всегда могли оказывать вовремя нужную поддержку… автомобиль с пулеметами был желанным средством для конницы, особенно ее передовым частям, зачастую оказывавшимся не в состоянии даже в маневренной войне проложить себе дорогу вперед, вследствие силы огня передовых частей противника»[52].
Главным же значением насыщения кавалерии пулеметами являлось то обстоятельство, что именно пулеметы, в силу своей огневой мощи, позволяли коннице действовать в конном строю, не прибегая к спешиванию, и, следовательно, не потерять своей маневренности в общевойсковом бою. Профессор Академии Генерального штаба незадолго до войны справедливо писал: «Придача пулеметов даст возможность коннице чаще и в большем количестве оставаться конницей и действовать в конном строю. Вот почему особенно увлекаются пулеметами в немецкой кавалерии, так не любящей спешивания, но сознающей необходимость для себя огневой силы»[53].
Итак, технические средства ведения боя русской кавалерии в начале войны — двенадцать конных орудий и восемь пулеметов на дивизию. Таким образом, как видно из этих данных, по своей огневой мощи кавалерийская дивизия не могла равняться даже с одним пехотным полком. Германская пехотная дивизия трехполкового состава имела семьдесят два легких орудия (не считая тяжелых гаубиц корпусной артиллерии), то есть двадцать четыре орудия на полк, а также двадцать четыре тяжелых станковых пулемета — по восемь на полк. Пехота германского полка — четыре тысячи стрелков против хорошо если полутора тысяч стрелков в спешенной кавалерийской дивизии. Н.Н. Головин так писал о боях 1914 года: «Пехотные начальники в своих расчетах на конницу, находящуюся у них на фланге, обыкновенно делали тоже грубую ошибку. Они применяли в оценке устойчивости конницы масштаб обороноспособности пехоты и постоянно забывали, что кавалерийский полк дает стрелковую силу не более чем две роты. А вся сила конницы заключается в ее подвижности, и потому оборона фланга должна основываться на обороне пехотных частей; кавалерия же может дать только «охрану» фланга»[54]. Разница была даже в количестве носимого боеприпаса. Если пехотинец имел 180 — 200 патронов, то всадник — 40 патронов.
Общий итог огневой мощи русской кавалерии, вынужденной, как правило, действовать против австро-германской пехоты, подводит Б.М. Шапошников. Он сообщает, что до Первой мировой войны среди кавалеристов бытовал термин «завеса» как средство ведения боя с неприятельской пехотой. Этот принцип не оправдал себя уже в начале войны (Варшавско-Ивангородская наступательная операция) именно в силу слабости огня в коннице. «Более пяти с половиной наших кавалерийских дивизий создавали эту завесу на левом берегу Вислы в сентябре 1914 года, чтобы задержать быстро наступавшую 9-ю немецкую армию. Но едва ли такая кавалерийская завеса могла долго противостоять превосходящим силам противника. Напомним, что немецкая пехотная дивизия имела 72 орудия, а наша кавалерийская дивизия могла противопоставить им лишь 8 — 12 орудий. Мы выигрывали только время, заставляя противника развертываться в боевой порядок… Большей частью кавалерийские дивизии, открывая дальний артиллерийский огонь, при приближении пехоты противника отходили назад… Опыт нашей кавалерийской завесы на левом берегу Вислы осенью 1914 года доказал, что давно прошли те времена, когда конница могла действовать с той же огневой мощью, которую она имела в конце XVIII или начале XIX века…»[55].
На вооружении всадников находились шашки и трехлинейные винтовки со штыком (у казаков винтовки до 1915 года были без штыка). Незадолго перед войной регулярная конница, как и казаки, получила пики. Поначалу это нововведение вызвало немало нареканий и недовольства, так как пики оказались вещью, чрезвычайно неудобной на походе. Однако с открытием боевых действий войска убедились, что в конном бою пика оказалась просто незаменимой, будучи гораздо лучшим оружием, нежели сабля. Тот же знаменитый казак К. Крючков также совершил свой подвиг, действуя пикой, а не шашкой. Так что довольно скоро пикой вооружились и унтер-офицеры, и даже часть молодых офицеров, непосредственно участвовавших в конных стычках.
Подытоживая, следует сказать, что конница не могла состязаться с пехотными подразделениями противника в огневом бою. Причем даже небольшие пехотные нерасстроенные части с успехом противостояли конным массам, если последние позволяли втягивать себя в стрелковый бой в спешенных строях. Это обстоятельство выявилось уже в самом начале войны — бой под Каушеном 6 августа 1914 года конной группы ген. Г. Хана Нахичеванского (1-я армия Северо-Западного фронта), на второй день с начала вторжения русских армий в Восточную Пруссию. Главным назначением кавалерии являлись удары по флангам противника, лучше — расстроенного огнем пехоты и морально надломившегося. В этих условиях конница принимала на себя задачу скорее преследования отступающего врага, нежели открытого противостояния ему в прямом лобовом бою. В период Первой мировой войны, когда значение кавалерии как одного из основных родов войск неуклонно падало, конница зачастую играла психологическую роль. Личный состав потерпевшей поражение стороны часто впадает в панику, что приводит к распространению самых нелепых слухов, становящихся причиной для необдуманных и ненужных действий. Существенным компонентом панических слухов, по свидетельству участников войны, являлся слух о неприятельской кавалерии, находящейся поблизости и готовой в любую минуту ударить по расстроенным войскам. Значение панических слухов описывает врач 70-й артиллерийской бригады в августе 1914 года (5-я армия): «Сакраментальное слово «кавалерия» оказало немедленное действие, и всех охватило неукротимое желание бежать, бежать без оглядки… Глубокое молчание леса казалось преисполненным враждебной и загадочной тайны. Повсюду, куда ни глянешь, чувствуешь занесенную над тобой свинцовую лапу войны. От каждого шороха в лесу несется заразительный шепот: «Кавалерия». И страх леденяще-мертвыми пальцами прикасается к сердцу. Чувствуешь себя охваченным судорожным припадком»[56].
Для восполнения потерь и подготовки пополнений внутри империи располагались три запасные кавалерийские бригады, включавшие в себя восемь запасных конных полков. Также — Кавалерийский запасной дивизион для подготовки кадров конной артиллерии. Три кавалерийских училища — Николаевское, Елисаветградское, Tвepcкoe — давали Действующей армии кавалерийских офицеров. Сравнительно малое количество офицеров кавалерии (немногим более двух тысяч в регулярных кавалерийских дивизиях и бригадах к началу войны), наряду с выбором лучших людей, обеспечивало высокое качество офицерского корпуса. М. Мураховский вспоминал: «…наша доблестная конница, насчитывающая всего лишь 56 регулярных армейских полков, представляла как бы особую, замкнутую касту в рядах блестящей Российской Армии. Наличие всего лишь трех кавалерийских училищ вливало в наши полки вполне однородный элемент, прошедший через горнило «цука», проникнутый глубокой любовью к конному делу и бесконечно гордящийся званием кавалерийского офицера. Эта однородность создавала крепкую спайку офицерского состава. Ограниченное количество полков и юнкерских училищ закрывало в нашу касту доступ всяким самозванцам, а пресловутый «цук», вокруг которого создавалось столько критики, проводил строгую грань между старшим и младшим, остающуюся в сознании кавалерийского офицера в течение всей его последующей службы»[57].
Небольшие потери, тщательный отбор кадров, преемственность и спайка обеспечили сохранение моральной стойкости и кадрового состава русской конницы вплоть до конца войны. К 1914 году в кавалерии состояло до трех с половиной тысяч офицеров. Во время войны конница получила еще более трех тысяч офицеров. При этом безвозвратные потери офицерского состава русской кавалерии достигали всего около шестисот человек (примерно семнадцать процентов), в то время как безвозвратные потери офицерского корпуса всей русской армии достигли цифры в 71 268 человек. Особенности комплектования русской конницы преимущественно выпускниками кадетских корпусов также подчеркивали качественный состав кавалерийских офицеров. Кроме прочего, «в кавалерии, как и в гвардии и на флоте, особенно сильно были развиты традиции наследственной службы в кавалерии вообще и службы родственников в одних и тех же полках в частности. Здесь и до 1914 года был вдвое выше, чем в пехоте, процент потомственных дворян по происхождению». Таким образом, замечает исследователь, «духовные и дружеские связи между офицерами кавалерийских полков не были разрушены, как то произошло в пехоте, где к 1917 году часто оставалось по 2 — 3 кадровых офицера на полк, а полки успевали сменить по 4 — 5 составов»[58].
Действительно, в кавалерии был наивысший процент потомственных дворян (в гвардии — исключительный процент). При этом большая часть из них служила в определенных полках не в первом поколении, продолжая службу отцов и дедов. Лучшие фамилии русского дворянства служили именно в кавалерии. Многие общевойсковые военачальники являлись генералами от кавалерии (например, первый Верховный Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич или, скажем, весь высший начальствующий состав Северо-Западного фронта в начале войны). Из двенадцати кавалерийских корпусов, числившихся в русской армии в 1914 — 1917 гг., большей частью и в большей мере командовала аристократическая знать:
— Гвардейский кавалерийский корпус: Г. Хан Нахичеванский;
— 2-й кавалерийский корпус: сначала Хан Нахиче-ванский, затем, после месячного командования ген. Г. О. Раухом, брат императора великий князь Михаил Александрович;
— 3-й кавалерийский корпус: граф Ф. А. Келлер;
— 4-й кавалерийский корпус: Я. Ф. фон Гилленшмидт;
— 7-й кавалерийский корпус: князь Г. А. Туманов;
— Кавказский туземный кавалерийский корпус: князь Д. П. Багратион;
— Сводный кавалерийский корпус: барон П. Н. Врангель.
Роль начальника в кавалерии особенно велика. Прежде всего потому, что «кавалерийский бой — не пехотный. Его нельзя ни затягивать, ни своевременно прекращать. Решение атаковать дает два результата — победу или уничтожение. Середины нет»[59]. Все без исключения участники войны различных родов войск подчеркивали, что в действиях конницы важнейшим фактором является личность кавалерийского командира. Дело в том, что конница обыкновенно решает тактические задачи низшего и среднего уровня. Поэтому основной приоритет отдается командирам бригад и дивизий. А на этом уровне необходим личный пример начальника. Если артиллерия бьет из-за цепей своей пехоты, а пехотный (общевойсковой) командир координирует действия своих людей, находясь в штабе, то конный начальник зачастую должен не посылать свои войска в бой, а вести их за собой.
Это положение было известно еще в девятнадцатом веке. Так, один из историков-теоретиков кавалерии писал, что при изучении деятельности кавалерии на войне «сразу обрисовывается то явление, что успешные действия не связаны с именем того или другого народа иди с каким-либо техническим улучшением, а исключительно с личностями великих вождей конницы». При этом кавалерийский начальник должен обладать: «а) знанием материала и своих средств; б) способностью угадывать намерения противника; в) инициативой. Инициатива (характерный признак великих вождей) дает ему возможность привести в исполнение раз задуманное и найденное подходящим с полной энергией и решительностью, без колебаний и задержек. Качество это, вообще важное на войне, совершенно неоценимо в коннице, вся деятельность коей заждется на решительной атаке и где все дело зависит от удачно схваченной минуты»[60].
Впрочем, о кавалерийских командирах будет много говориться на протяжении всей 1-й части. Другое дело, что в современной войне — борьбе огневой тактики — стать выдающимся кавалерийским начальником — это дело весьма нелегкое. Особенно при том подборе конных командиров, что дал русской армии предвоенный период. А.И. Деникин, например, выделяет только двух кавалерийских начальников, один из которых так и остался в рядах кавалерии, а другой перешел в командармы. «В победных реляциях Юго-Западного фронта все чаще и чаще упоминались имена двух кавалерийских начальников — только двух — конница в эту войну перестала быть «царицей поля сражения» — графа Келлера и Каледина, одинаково храбрых, но совершенно противоположных по характеру. Один пылкий, увлекающийся, иногда безрассудно, другой спокойный и упорный. Оба не посылали, а водили в бой свои войска»[61].
Одним из самых боеспособных контингентов населения Российской империи, с давних времен составлявших русскую конницу, являлось казачество. С началом войны казачьи контингенты составили до половины русской кавалерии; в ходе военных действий, к моменту выхода России из войны, более семидесяти процентов русской кавалерии состояло из казаков. Уже только одно это заставляет сказать несколько слов о казачестве, чье значение в период Первой мировой войны подробно изучалось исследователями.
Всего в России существовало одиннадцать казачьих войск; формировались Енисейское и Иркутское войска. Также был образован отдельный Якутский казачий полк. В начале 1917 года стало формироваться Евфратское казачье войско, по преимуществу из армян; образование этого войска было прервано Февральской революцией. Всего казачьи войска Российской империи, по некоторым подсчетам, выставили на войну громадное количество бойцов — до трехсот тысяч человек:
— Астраханское войско — 2600 чел.;
— Амурское войско — 3500;
— Донское войско — более 100 000;
— Забайкальское войско — около 14 000;
— Кубанское войско — 90 000;
— Оренбургское войско — 60 000;
— Семиреченское войско — 4000;
— Сибирское войско — 11 500;
— Терское войско — 18 000;
— Уральское войско — свыше 13 000;
— Уссурийское войско — 2500.[62]
При мобилизации казачьи войска выставляли 943 конные сотни, 72 пластунские сотни (только кубанцы), 39 артиллерийских батарей и запасные части. Действительно, казаки, как правило, воевали исключительно в конном строю, исключение составляли кубанские пластуны, чрезвычайно отличившиеся уже в первой же операции на Кавказском фронте — Сарыкамышской оборонительной. К 1917 году казаки дали армии 164 конных полка и 179 отдельных сотен, плюс артиллерия и пластуны. Все казаки, способные держать оружие, ближе к окончанию войны стали в строй: в конце 1916 года в запасных казачьих частях находились уже те казаки, кто был ранее освобожден от несения службы по состоянию здоровья. Потери казачества в войне составили 44 799 человек, в том числе 8314 убитыми, 6453 пленными и без вести пропавшими.
Казачьи контингенты находились практически во всех без исключения соединениях русской Действующей армии. Во-первых, это армейская конница — те отдельные дивизии и бригады, которые являлись полностью казачьими. Большая их часть была сформирована в ходе мобилизации. Высокое качество казачьих частей в боях прекрасно сознавалось русским командованием. Напомним о подвиге донского казака Кузьмы Крючкова, широко известного в России и за рубежом. В индивидуальных стычках и боях, как с австрийцами, так и с немцами, русский казак выходил победителем. Будущий белый казачий вождь в Сибири вспоминал: «Наш казак оказался лучшим индивидуальным бойцом, чем немецкий регулярный кавалерист. За полтора месяца практики моей в действии разъездом, при регулярной смене казаков, я захватил в плен свыше пятидесяти германских всадников и не потерял ни одного со своей стороны. В конце концов это настолько терроризовало германских кавалеристов, что они продвигались для разведки в наше расположение, имея позади себя небольшие пешие части, часто на телегах»[63].
Именно поэтому как только в составе русской Действующей армии стали возникать кавалерийские корпуса, то во всех них, за исключением Гвардейского кавалерийского корпуса, как правило, числились конные казачьи дивизии. Первым сводным кавалерийским корпусом стал 1-й корпус ген. А.В. Новикова (конкомдив-14), действующий в сентябре 1914 года на левом берегу Вислы (Варшавско-Ивангородская операция). В состав этого корпуса вошли три регулярные конные дивизии: 5-я кавалерийская дивизия ген. А.А. Морица, 8-я кавалерийская дивизия ген. Г.А. Зандера, 14-я кавалерийская дивизия самого ген. А.В. Новикова, которого в ходе операции на данном посту замещал ген. И.Г. Эрдели. А также и казачьи соединения: 4-я Донская казачья дивизия ген. В.М. Хитрово, 5-я Донская казачья дивизия ген. Г.М. Ванновского, Отдельная казачья Туркестанская бригада. В октябре 1914 года был образован 2-й кавалерийский корпус (ген. Г. Хан Нахичеванский) в составе 9-й (ген. князь К.С. Бегильдеев) и 12-й (ген. А.М. Каледин) кавалерийских дивизий, а также Кавказской Туземной конной («Дикой») дивизии (великий князь Михаил Александрович). В декабре 1914 года в составе 5-й армии была образована конная группа ген. Я.Ф. фон Гилленшмидта (начальник 2-й гвардейской кавалерийской дивизии): 1-я и 2-я гвардейские кавалерийские дивизии, Уральская казачья дивизия, Забайкальская казачья бригада. В мае 1915 года генерал Гилленшмидт встанет во главе 4-го кавалерийского корпуса: 2-я казачья Сводная (ген. А.А. Павлов) и 16-я кавалерийская (ген. Н.Г. Володченко) дивизии. В марте 1915 года для вторжения в Венгрию в составе 9-й армии был образован 3-й кавалерийский корпус ген. графа Ф.А. Келлера в составе 10-й кавалерийской (ген. В.Е. Марков) и 1-й Донской казачьей (ген. Г. И. Чоглоков) дивизий. Вскоре в корпус были влиты 1-я Терская казачья дивизия (ген. Т.Д. Арютинов) и гвардейская кавалерийская бригада (ген. барон К.-Г. Маннергейм). В ходе войны создавались и отдельные крупные войсковые единицы, состоявшие из казаков. Например, Сводный казачий корпус: в ноябре 1915 года сибирские казачьи 4, 5, 7 и 8-й полки свели в Сибирскую казачью дивизию. Эта дивизия вместе с Уральской и Туркестанской казачьими дивизиями составила Сводный казачий корпус[64]. А в начале 1917 года Ставка Верховного Главнокомандования приступила к образованию 2-й Кавказской армии под командованием ген. Н. Н. Баратова. Если главные силы на Кавказе (1-я Кавказская армия ген. Н.Н. Юденича) должны были наступать в Турцию, то 2-я армия предназначалась для действий в Персии. В состав этой армии должны были войти „1-й Кавказский кавалерийский корпус и 7-й Кавказский армейский корпус (преобразован в феврале из 2-го Кавказского кавалерийского корпуса), состоявшие из казачьих подразделений и соединений.
В течение войны численность личного состава в кавалерийских корпусах нормального состава (то есть если в ходе боев не происходило вливания дополнительных частей) была примерно одинаковой — немногим более девяти тысяч сабель. В то же время количество техники увеличивалось, как только происходило насыщение Действующей армии артиллерией и пулеметами. Например, в середине апреля 1915 года в составе 3-го кавалерийского корпуса (три дивизии) насчитывалось 9490 сабель при 38 орудиях и 26 пулеметах. К 22 мая 1916 года в состав 4-го кавалерийского корпуса (четыре дивизии плюс пехотное усиление) входило 9126 сабель при 112 пулеметах и 82 орудиях.
Казачьими дивизиями и бригадами присутствие казаков в войсках отнюдь не исчерпывалось. Так, в составе регулярных кавалерийских дивизий насчитывалось четыре полка, в том числе один казачий, — уланский, драгунский, гусарский и казачий. Следовательно, четвертая часть регулярных дивизий также состояла из казаков. При императоре Александре II кавалерийская дивизия состояла из трех бригад — драгунской, уланской и гусарской. В эпоху императора Александра III в связи с общей унификацией конницы казаков было решено объединить с регулярной кавалерией. При последнем императоре Николае II, старавшемся в точности исполнять заветы отца (порой, к сожалению, даже в ущерб государственным интересам), последняя организация сохранилась. Военный министр ген. В.А. Сухомлинов так объясняет сохранение александровской организации: «В то же время считали, что казачьи сотни не имеют той ударной силы, которая свойственна сомкнутым, стройным эскадронам регулярной кавалерии. На этом основании признано было за благо кавалерийские дивизии составить из четырех полков шестиэскадронного состава: драгунского, уланского, гусарского и казачьего. Такая организация должна была привести к тому, что от близкого единения с казаками регулярные полки усовершенствуются в сторожевой, разведывательной службе, партизанских действиях и вообще предприятиях так называемой малой войны. С другой стороны, ожидалось, что казаки приобретут навык к сомкнутым атакам, развивая для этого надлежащую силу удара, необходимую при встрече стройных неприятельских атак»[65].
Это также еще не все. Из казаков набиралась войсковая кавалерия, главным образом из донцов: «Ввиду недостаточности этих формирований, боевое расписание предусматривало обеспечение корпусной и дивизионной конницы из расчета семь сотен (один полк и одна отдельная сотня) на корпус и три-четыре сотни на отдельную второочередную пехотную дивизию»[66]. Войсковая конница — это те небольшие конные подразделения, что состояли при армейских корпусах и пехотных (стрелковых) дивизиях. Их назначение — разведка, конвой командиров, последний резерв, обеспечение штаба, ординарцы. Корпусная и дивизионная конница в русских армейских корпусах состояла из отдельных казачьих полков и сотен 2-й и 3-й очереди. Интересно, что казачьи соединения старались выполнять приказы только своих командиров, не обращая внимания на распоряжения тех генералов, во временном подчинении которых оказывались в ходе операции. Так, А.А. Свечин вспоминает, что «казаки, как правило, не выполняли боевых приказов случайных, временных начальников, коим их подчиняли»[67]. Имеются в виду пехотные, общевойсковые начальники.
Казачьими дивизиями зачастую командовали назначаемые командиры, не казаки. Однако офицерский состав, как правило, состоял из казаков. Всего казачество в период войны дало российским Вооруженным Силам свыше 8000 офицеров. Помимо общих военных училищ, офицеров для казачьих войск готовили в Новочеркасском, Оренбургском, Иркутском и Ставропольском казачьих военных училищах. Наказным атаманом всех казачьих войск в 1914 году являлся наследник российского престола цесаревич Алексей Николаевич. Весной 1915 года, для удобства руководства казачьими формированиями «сверху», был создан пост Походного атамана всех казачьих войск при императоре (после занятия Николаем II поста Главковерха — при Верховном Главнокомандующем). Эту должность занимал ген. В.И. Покотило, а затем великий князь Борис Владимирович.
Нельзя не сказать и о том, что лучшим строем для конной атаки была признана традиционная казачья лава. Опыт русско-японской войны 1904 — 1905 гг. показал, что именно лава как эшелонированный и одновременно развернутый боевой порядок конницы необходима для атаки на неприятельскую пехоту, так как при таком конном строе меньше потери и больше эффект действия на врага. Кавалерийские уставы взяли лаву на вооружение. Однако большинство кавалерийских начальников до войны выступали против этого. Ответ на причины противодействия дает лучший русский кавалерийский военачальник Первой мировой войны: «…в лучшем случае не сочувствует лаве тот, кто страдает хронической болезнью недоверия к способностям наших офицеров и нижних чинов, и тот, кто по складу своего ума, склонного к точно определенным формам и шаблонам, не способен усмотреть в лаве ничего, кроме беспорядка, и не может уловить в этом беспорядке и кажущихся разрозненных действиях разумное стремление к конечной цели. В худшем — врагами лавы являются те, кто, опасаясь и отделываясь от напряженной работы и подготовки подчиненных им частей, старается отделаться от этой работы, предпочитая шаблонные построения и давно изученные ими плацпарадные боевые порядки»[68]. Практика войны с первых же дней подтвердила правоту графа Келлера и его сторонников. Однако сколько еще прошло времени, пока тактику лавы стали применять все командиры регулярной кавалерии? Например, Е. Тихоцкий так пишет о бое 10 августа 1914 года у городка Бучач: «…при выходе из ложбины [я] посадил людей и развернул взводы в эшелонный строй. В таком порядке, ведя каждый взвод за взводом, в одну линию, разомкнуто, я шел рысью. Этот новый боевой порядок, введенный в наши уставы после Японской войны, был особенно удобен при атаках на артиллерию и пехоту. Эшелонный строй представлял собой как бы ряд взводных лав, имеющих между собой дистанцию от 30 до 40 шагов»[69].
Труднее всего охарактеризовать деятельность казаков на театре войны. С одной стороны, все современники отмечают, что именно казачьи части отличались высокими боевыми качествами (среди казаков был наименьший процент попавших в плен, и бежали казаки в массовом порядке)[70]. С другой стороны, участники войны отмечают, что как раз казаки отличались высокой склонностью к разбою и мародерству. Л.Н. Войтоловский так вспоминал о летнем периоде Великого отступления 1915 года: «Пьяные полки и дивизии превращаются в банды мародеров и на всем пути устраивают грабежи и погромы. Особенно буйствуют казаки. Не щадя ни пола, ни возраста, они обирают до нитки все деревни и превращают в развалины еврейские местечки»[71].
И то и другое — правда. Дело в том, что казаки рассматривали ведение боевых действий, исходя из сложившихся вековых традиций порубежного воинского сословия. Это был даже чуть ли не целый народ, в течение многих и многих десятилетий оборонявший границы России с южными соседями. На такой войне трофей являлся обыденным делом, а в качестве трофея выступало все имущество врага — от замка до пуговицы. В связи же с тем, что казаки вели себя достаточно независимо от общевойскового командования и пользовались расположением императора, то те меры, что могли быть применены к военнослужащим регулярных войск, не применялись к казакам. Нельзя также забывать, что разложение всегда идет сверху, и если бы высшие чины не отправляли трофеи в тыл вагонами, то и низы не грабили бы мирное население, и наводить порядок в отношении мародерства стало бы значительно легче. Развязанная в конце 1914 года кампания «шпиономании» объявляла «шпионами» как целые местечки, так и народы — например, евреев. Отсюда и соответствующее отношение войск к еврейскому населению. Но разве не сама Ставка развязала эту кампанию? Почему же многие командиры сетовали, что, мол, казаки своим поведением «развращают» регулярные войска? Таким образом, получается эдакий двуликий Янус: отчаянные храбрецы и умелые, считающие плен позором (на фоне двухсот тысяч пленных в месяц тем же летом 1915 года, когда многие сдавались добровольно!), воины и грабители, мародеры, насильник и проч. Ясно одно, что казаки действительно грабили сравнительно больше прочих, однако же и сражались они лучше многих прочих. На наш взгляд, эту дилемму прекрасно разрешает мнение участника войны — казачьего офицера-артиллериста А.А. Прудникова: «Я все же горд сознанием, что я донской казак, и пусть в тылу вешают на нас каких угодно собак, в бою с нами счастлив быть каждый»[72].
Своеобразие внутренних отношений среди казачьих частей неизбежно отражалось и на деятельности казаков в бою. Прежде всего — это система комплектования подразделений на основе землячества и служба многочисленных родственников друг с другом (ведь все казаки призывного возраста находились на фронте). Так, Б.М. Шапошников пишет о казаках (2-й казачий Уральский полк) следующим образом: «…что поражало — это родственные отношения между казаками и офицерами, все это была близкая или отдаленная родня. Так, командир 1-й сотни есаул Астраханцев, командир 1-го взвода хорунжий Астраханцев и вахмистр этой же сотни, также Астраханцев — все родные братья, причем хорунжий по годам был моложе вахмистра. Обращались казаки к офицерам на «ты» с прибавлением только «ваше благородие»… Дисциплина была также своеобразная — родственная»[73].
Как же здесь можно было струсить, если вокруг тебя родственники и друзья детства, земляки? После этого казак уже не смог бы вернуться в родные места. Но даже и без этого — вкоренившаяся в кровь и плоть традиция воинского сословия понуждала казака не допускать того, что мог себе позволить простой пехотинец, конник или кто другой, — струсить, бежать, тем более сдаться в плен. Отсюда стойкость казака в бою (уж если панике поддавались — так все подразделение целиком), и его отношение к главной силе войны кавалериста — коню. Ф.И. Елисеев приводит пример того, как ночью на взвод драгун налетели курды, и в завязавшейся перестрелке двенадцать лошадей были утеряны, а затем найдены казаками-кубанцами. «Трудно предположить, чтобы подобный случай мог быть у казаков. Уже потому, что они сотворены из другого теста, а потому, что у казака лошадь собственная, а не казенная. И, как собственник ее, он бы при нападении курдов шашкой, руками, ногами, зубами отбивался, чтобы не потерять «своей собственности». И он тогда думал бы не о позоре своей сотни или полка, а думал бы, что же скажет на это его отец в станице. Да ведь это позор всей семье! «Сукин сын… бросил своего коня, а сам убежал», — сказал бы его отец. Могло бы это позорным пятном остаться и на его сыне, на его внуке»[74].
Свои воинские качества казаки сохраняли вплоть до выхода России из войны. Недаром в 1917 году, когда разваливались страна и фронт, командование рассчитывало только на казаков и «батальоны смерти». Сошлемся на противника. Осведомительный отдел Главного австро-венгерского командования в начале 1917 года издал руководство «Русская армия, начало 1917 г.», в котором в том числе давались краткие характеристики русским дивизионным подразделениям. Из кавалерии отмечены как «выдающаяся» или «хорошего качества»: 1-я Гвардейская кавалерийская дивизия, 9-я и 14-я кавалерийские дивизии, Сводная кавалерийская дивизия, 6-я Донская казачья дивизия, 1-я Терская казачья дивизия. А 3-я Оренбургская казачья дивизия удостоилась эпитета «Очень хорошая часть. Храбра»[75].
Одним из своеобразных и ранее невиданных в русской армии соединений стала Кавказская Туземная конная дивизия, также называвшаяся «Дикая дивизия». Это подразделение было сформировано из мусульман Кавказа и Средней Азии, в мирное время освобожденных от воинской повинности. То есть эти люди являлись добровольцами. Львиная доля личного состава состояла из горцев, а существенная часть офицеров были русскими, однако военные власти постарались сделать все возможное, чтобы те русские офицеры, что входили в «Дикую дивизию», так или иначе были бы связаны с Кавказом. Например, одним из полков командовал сын наместника на Кавказе генерал-адъютанта графа И.И. Воронцова-Дашкова — полковник И.И. Воронцов-Дашков.
В «Дикой дивизии» служила масса знати из известнейших в России и на Востоке фамилий. Так, в Ингушском полку служил правнук наполеоновского маршала И. Мюрата — принц Наполеон Мюрат. В Дагестанском полку служил сын Л.Н. Толстого граф Михаил Львович Толстой. Кроме того, именно здесь стремились служить представители мусульманской элиты Империи. Характерно, что количество аристократов, желавших вступить в ряды «Дикой дивизии», существенно превышало количество существовавших офицерских вакансий.
Одной из причин образования «Дикой дивизии» стала угроза вступления Османской империи в войну на стороне Германии и Австро-Венгрии. Как известно, пришедшее в результате младотурецкой революции правительство одним из приоритетов своей внешней политики провозгласило создание так называемого «Великого Турана». То есть единого государства всех тюрок Азии. Помимо собственно Турции в состав такого территориального образования должны были войти Иран и те области Российской империи, что были по преимуществу населены мусульманами. Иными словами — от Азербайджана до Татарстана. Следовательно, Сибирь отрезалась от Европейской России и также, рано или поздно, должна была войти в состав «Великого Турана».
Бесспорно, что образование единого тюркского государства, да еще под главенством турок, являлось утопией. Собственно, это провозглашение являлось не более чем декларацией, призванной замаскировать прогерманскую ориентацию младотурецкого правительства и его неудачи в экономической политике государства. Так или иначе, но исключать влияние турок на русское Закавказье было нельзя. Поэтому, чтобы убрать с Кавказа весь «горючий материал», способный поднять восстание против русских властей, а параллельно и получить в свои ряды храбрейших людей (ясно, что лидеры восстания не могли быть трусами), и было заявлено об образовании данного соединения.
Приказ императора Николая II о создании Кавказской Туземной конной дивизии последовал 23 августа 1914 года. Как видим, произошло это еще до вступления Турции в войну, а значит, русское правительство уже было уверено, что младотурки втянут Османскую империю в войну против Антанты. Турецкая мобилизация, объявленная с началом Первой мировой войны, и эпопея германских крейсеров «Гебен» и «Бреслау» подтверждали эту уверенность.
Бесспорно, что кто-то должен был внушить военному ведомству такую мысль. Образование дивизии было предпринято по почину кабардинцев и балкарцев Нальчикского округа. А затем уже было решено включить в состав соединения всех тех мусульман, что могли оказаться нелояльными к России (в кабардинцах и балкарцах можно было не сомневаться). Рядовых называли не нижними чинами, а «всадниками»; их жалованье составляло двадцать пять рублей в месяц. Единственным поводом для недовольства служило правило, согласно которому мусульманин, представленный к награждению орденом Святого Георгия, получал этот орден с изображением не святого Георгия Победоносца, а специальным крестом с изображением двуглавого орла. Вскоре после начала войны старое правило было отменено, и потому бывшие ранее на этой почве недоразумения прекратились.
В связи с тем обстоятельством, что личный состав «Дикой дивизии» комплектовался из горцев, связанных между собой разветвленными и сложными родовыми отношениями, внутри частей господствовала патриархальность отношений. Рядовой и офицерский состав обращался друг к другу на «ты». Точно так же самый последний воин обращался и к начальнику дивизии, которым, дабы подчеркнуть элитный статус соединения, был назначен вернувшийся из Европы с началом войны брат императора Николая II — великий князь Михаил Александрович. После назначения (зима 1916 года) великого князя командиром 2-го кавалерийского корпуса на посту начдива его сменил командир 1-й бригады ген. князь Д. П. Багратион. Кстати говоря, именно в состав 2-го кавалерийского корпуса, которым командовал ген. А.М. Каледин, с конца 1914 года и входила «Дикая дивизия».
Конечно, никакая личная храбрость не смогла бы заменить воинскую выучку регулярного соединения. Кроме того, «Дикая дивизия» изначально предназначалась для действий против австро-германцев и переброске против Турции, если бы та и вступила в войну, не подлежала. Поэтому, а возможно, и для вящего надзора, унтер-офицерский состав в большей части состоял из русских сверхсрочников и кубанских казаков-пластунов. Горцы здесь имели минимум вакансий. Пулеметная команда была набрана из моряков Балтийского флота — добровольцев. Дивизионную артиллерию составили батареи Донского казачьего войска.
Состав Кавказской Туземной конной дивизии:
— 1-я бригада (полковник князь Д.П. Багратион) — Кабардинский (полковник граф И.И. Воронцов-Дашков (сын Наместника на Кавказе) и 2-й Дагестанский (подполковник князь Г.И. Амилахвари) полки;
— 2-я бригада (полковник К.Н. Хагондоков) — Татарский (подполковник П.А. Половцев) и Чеченский (подполковник А.С. Святополк-Мирский) полки;
— 3-я бригада (генерал-майор князь Н.П. Вадболь-ский) — Ингушский (полковник Г.А. Мерчуле) и Черкесский (подполковник князь А.З. Чавчавадзе) полки;
— Осетинская пешая бригада;
— 8-й Донской казачий дивизион;
— инженерные команды[76].
Боевое крещение «Дикая дивизия» приняла в составе 9-й армии ген. П.А. Лечицкого, входившей в Юго-Западный фронт ген. Н.И. Иванова. Впоследствии дивизия служила своеобразной «пожарной командой» главкоюза, которая перебрасывалась на те участки фронта, где положение было особенно тяжело. Прежде всего это относится к периоду Великого отступления 1915 года. Как и многие прочие соединения русской армии, Кавказская Туземная конная дивизия также послужила основой для создания нового подразделения. В 1915 году из Туркменского конного дивизиона был развернут Текинский конный полк, чрезвычайно отличившийся в Брусиловском прорыве, а затем служивший личным конвоем лидера Белого движения ген. Л.Г. Корнилова.
Храбрость воинов дивизии была чрезвычайно велика. Ею восполнялось отсутствие необходимой для регулярной армии воинской дисциплины. Следствием были блестящие дела в наступлении и обороне, что влекло за собой массовые награждения личного состава дивизии. Когда в августе 1915 года для награждения чинов «Дикой дивизии» Георгиевскими крестами от имени императора приехал великий князь Георгий Александрович, то это неожиданно привело к смешному недоразумению. Оказалось, что большая часть крестов, привезенных великим князем, — 3-й и 4-й степеней, в то время как почти все всадники уже имели эти награды и теперь ждали крестов 1-й и 2-й степеней[77].
Высокие боевые качества Кавказской Туземной конной дивизии были отлично известны противнику. Кроме того, как вспоминают современники, горцы вели войну так, как они привыкли это делать. То есть борьба действительно не на жизнь, а на смерть, когда пленение считается несмываемым позором, а гибель в бою (лучше — с превосходным в силах врагом) — высшей доблестью. Именно так воевали на Кавказе, не признавая Гаагских и Женевских конвенций. Репутация зачастую делала за всадников дивизии уже половину успеха. Так, австрийский словенец, добровольно сдавшийся русским и затем воевавший в составе Сербской добровольческой дивизии (1916 год) и корниловского ударного полка (1917 год и Гражданская война), вспоминал, что сдаться в плен было не просто, так как за всеми славянами в составе австро-венгерских войск строго следили. В июне 1915 года, в ходе боев в Галиции, он с двумя чехами сумел уйти в лес и стал пробираться в сторону русских. В лесу они столкнулись с двумя русскими солдатами, которые желали сдаться в плен австрийцам. После дебатов выяснилось, что на данном участке со стороны русских стоит «Дикая дивизия», чьи бойцы, по словам русских солдат, пленных не берут. Тогда чехи и словенец, решив не рисковать, вернулись назад, отведя с собой этих русских в плен[78].
Можно привести пример одного из боев, когда доблесть горцев и гусар 12-го Ахтырского полка спасла пехоту от поражения. В бою 1 октября 1915 года у деревни Гайворонки 126-й пехотный Рыльский полк (32-я пехотная дивизия) из состава 11-го армейского корпуса (ген. В.В. Сахаров) закрепился на высоте 382, взяв одно орудие. Но при этом рыльцы понесли большие потери. К вечеру к австрийцам подошел германский гвардейский фузилерный полк и пошел в атаку. Исполняющий обязанности начдива-32 полковник В.З. Май-Маевский бросил в контратаку все, что у него оставалось, — Ахтырский гусарский полк и две сотни Туземной дивизии. Комкор-11 был против такого мероприятия, так как атаковать приходилось по изрытой окопами местности. Пока русская конница подошла к месту боя и развернулась, уже наступили сумерки. В темноте, подсвеченной германскими ракетами и прожекторами, кавалеристы ударили по противнику. Атака имела столь фантасмагоричный вид, что немцы не выдержали и побежали. Потери конников в личном составе были незначительны, правда, до полутора сотен коней переломали-таки себе ноги в чужих и своих траншеях. Но зато были спасены пехотинцы, а высота осталась за русскими.
Как отмечается исследователями, только за доблесть, проявленную в Брусиловском прорыве и Румынском походе осени 1916 года, «Дикая дивизия» получила двести сорок два Георгиевских креста различных степеней. В 1917 году Кавказская Туземная конная дивизия была оплотом порядка и дисциплинированности на Юго-Западном фронте. А затем именно она, совместно с 3-м кавалерийским корпусом ген. A.M. Крымова, была брошена на Петроград сначала Верховным Главнокомандующим ген. Л.Г. Корниловым в его противостоянии с министром-председателем А.Ф. Керенским (август 1917 года). Тогда же личный состав «Дикой дивизии» был разделен на две дивизии (цель — образование Кавказского Туземного конного корпуса), получившие 1-й и 2-й номера, а ее командир — князь Багратион — назначен командиром этого корпуса. В октябре же 3-й кавалерийский корпус и горцев пытался использовать уже А.Ф. Керенский в борьбе с большевиками. Правда, «проболтавшегося» министра-председателя, сосредоточившего в своих руках всю высшую официальную власть при фактическом безвластии в стране, уже никто не поддержал.
Глава 3 ЛОШАДЬ — РОСКОШЬ ИЛИ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ?
Как говорит известная воинская мудрость, лошадь есть первейшее оружие одного из родов войск в триаде военной машины начала двадцатого века — кавалерии: «Главное оружие конницы — ее конский состав». Следовательно, нельзя не сказать хотя бы нескольких слов о собственно самой лошади — точно так же, наверное, как, рассказывая о действиях танковых армий в годы Великой Отечественной войны, необходимо дать характеристику танкостроения в военный период. Кроме того, именно лошадь являлась главным транспортным средством Первой мировой войны, особенно на Восточном фронте, где слабость инфраструктуры заставляла отказываться от широкомасштабного применения еще достаточно несовершенных автомобилей того времени. Первая мировая война стала лебединой песней лошади в войнах на Европейском континенте. Хотя лошади активно использовались и во Второй мировой войне, и опять-таки прежде всего в начальный период войны, и снова — в первую очередь на Восточном фронте, однако машинизация армий в 1939 — 1945 гг. достигла столь высокой степени, что нельзя не отдать автомобилю пальму первенства перед тысячелетним гужевым транспортом.
Известно, что любая война — это не столько стратегия или напряженнейшая операция, а труд. Тяжелейший труд десятков и сотен тысяч людей, приближавших победу. Это труд и солдата-фронтовика, и работника тыла, и руководителей армии и государства. Необходимым облегчением труда является использование машин. Чем более воюющее государство оснащено машинной силой, тем больше у него шансов на выигрыш войны. Ведь машина не только экономит количество людей в каждом отдельном звене общего процесса производства, но и создает то оружие, чье существование было бы невозможно без помощи машины — будь то заводской станок или судоверфь, ибо вручную сделать современное вооружение невозможно.
И также поэтому нельзя забывать, что мощность любой машины измеряется в лошадиных силах. То есть — в мощности того помощника человека, что стоит рядом с нами на протяжении всего периода существования человеческой цивилизации. Без лошади не были бы возможны ни завоевательные поводы прошлых времен (наиболее яркий пример — это почти мировая Монгольская империя, созданная кочевниками), ни освоение новых пространств вне речных акваторий, ни, вероятно, «покорение рая» — колонизация Америки. Тем более насущным является краткая характеристика состояния столь важнейшего военного фактора, как лошадь, в период войны, ставшей одновременно и Первой мировой войной, и последней крупномасштабной войной, в которой лошадь играла ведущую роль в качестве необходимой силы мощности.
Для Восточного же фронта лошадь явилась единственно доступным и единственно возможным в начале двадцатого века транспортным средством достижения победы в войне. Ни железная дорога, ни тем более автомобиль в 1914 — 1917 гг. не смогли заменить обычную лошадь в борьбе на Востоке. При этом чем больше затягивалась война, тем больше, вследствие изношенности вагонно-паровозного парка, возрастала роль лошади. Д.В. Ковалев превосходно отметил, что для Российской империи «ухудшение и перебои в работе транспорта делали все более ценным наличие гужевой скотины»[79]. Россия, сильно отстававшая от прочих великих держав Европы в машинизации народного хозяйства, так или иначе, была вынуждена сделать ставку на лошадь. Лошадь явилась тем транспортным условием, альтернативы коему вообще не существовало.
Чрезвычайная бедность Российской империи в железнодорожном отношении вынуждала к широчайшему использованию транспорта гужевого, то есть лошади. Конечно, это бедность относительная по сравнению с Европой (кроме, наверное, Балкан). Но ведь Россия воевала против первоклассной европейской державы — Германии в союзе с другими первоклассными державами — Францией и Великобританией. Поэтому и сравнивать в данном случае следует именно с этими странами, точно так же, как и Россия, претендовавшими на сохранение и приумножение своего положения великой державы в послевоенном мире. Надо вспомнить, что в Великобритании уже существовало метро, что французское народное хозяйство имело в несколько раз больше машин, нежели русское, что в Германии даже многие сельские поселки были электрифицированы, в то время как в России не все даже губернские города могли похвастаться электрической станцией. Таким образом, становится ясно, что, невзирая на многочисленные успехи России на пути индустриализации и модернизации, достигнутые за сравнительно короткий срок буржуазных реформ, все-таки Российская империя в экономическом отношении отставала от своих непосредственных конкурентов (политическая близость в данном случае вовсе не важна).
Несмотря на то что Россия в начале двадцатого века являлась одним из крупнейших добытчиков нефти, несмотря на богатство полезными ископаемыми, все это богатство пока еще ждало своего применения. Русские реформы всегда шли с невероятным опозданием и непонятным размахом: реформы сменялись контрреформами такого толка, что по прошествии некоторого времени приходилось начинать все чуть ли не с самого начала. В отличие от многих европейских стран, развивавших свою экономику по принципу «три шага вперед, шаг назад», в России действовали хорошо если «два шага вперед, полтора шага назад».
Но и в этом случае русский потенциал был столь очевиден и грозен, что даже в своем технологически отсталом состоянии Россия представала грозным противником для любого врага. Последним громадным шагом перед Первой мировой войной стала модернизация, связанная с именем П.А. Столыпина, славная именно тем, что она продолжилась и после его гибели, несмотря на сопротивление чуть ли не всего общества, огромной доли чиновничества и не менее чем половины нации. Правда, такова судьба любой жизненно необходимой реформы. Только внешняя война могла остановить движение России на пути к непобедимости, и Германия поспешила развязать эту войну вместо того, чтобы отказаться от достижения военно-политической гегемонии в Старом Свете.
Русскими было сделано многое, но срок отводился малый. Эта ахиллесова пята Российской империи сознавалась всеми — нехватка всего того, что необходимо для современной первоклассной индустриальной державы. От оснащенных по последнему слову техники заводов и фабрик до числа подготовленных человеческих кадров. Не хватало и лошадиных сил, выраженных в машинном эквиваленте: не хватало ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве, ни в транспорте. С таковой проблемой Российской империи пришлось вступать в мировую борьбу.
Отсутствие автомобилей и хороших шоссе, слабость речного и транспортного флота, незначительная в соотношении с площадью и населением густота железнодорожной сети побуждали вновь и вновь обращаться к извечному транспортному средству — крестьянской лошадке. Если германцы и союзники активно использовали на Западном фронте автомобильный транспорт, то Восточный фронт был лишен такой роскоши. Между тем совершенно очевидно, что автомобиль имеет массу преимуществ перед лошадью, что отлично сознавалось современниками. Так, сравнивая гужевой транспорт с автомобильным, участник войны делал вывод, конечно, не в пользу первого: «Лошадь представляет собой двигатель, подверженный многим несчастным случаям. Переход от мирного времени к военному (ночи на бивуаках, продолжительные походы, частые перемены корма) вызывает у лошади быстрый упадок сил, бронхит, хромоту. Вслед за тем лошади начинают страдать от повального сапа, чесотки и пневмонии. Чтобы сохранить лошадь, ей нужно предоставить удобный приют, откуда вытекает необходимость более разбросанного квартирования. Наконец, в пунктах остановок она требует внимательного ухода. Пища ее, как то: сено, солома, овес — весьма громоздка и требует значительных обозов»[80].
С другой стороны, гужевой транспорт выручал войска в той местности, где отсутствовали железные дороги. Если немцы, продвигаясь вперед на Восточном фронте, старались строить в своих тылах узкоколейные железные дороги, то русские масштабы строительства их уступали неприятелю. Здесь-то и выручала лошадь: «Только гужевой и вьючный транспорт обладает наибольшей гибкостью и возможностью эксплуатации в самых трудных условиях обстановки местности, погоды, состояния дорог и переправ. Гужевой транспорт обладает еще тем неоценимым свойством, что, помимо постоянно находящихся в руках командования и органов тыла штатных гужевых транспортных средств, в случае необходимости почти всегда в достаточном количестве можно найти на месте требуемые обывательские гужевые транспортные средства»[81].
К началу Первой мировой войны положение дел с поголовьем скота и фуражом для него не было выправлено. Столыпинская аграрная реформа только-только набирала обороты, проходя первый, самый трудный и необходимый этап набора количества перед его переходом в качество. Крестьянство выделялось на хутора и отруба, количество поданных заявлений о выделе заметно превышало возможности государственного аппарата по исполнению законодательных мер, часть населения выжидала. Очевидно, что «перекачка» людей из деревни в город объективно понижала число скота и особенно рабочего скота, укрупняя хозяйства и заменяя лошадей сельскохозяйственной техникой. Но к 1914 году этот процесс, по сути, только начинался.
В начале двадцатого столетия Россия имела самое большое в мире конское поголовье, что отчасти объясняется особенностями крестьянского землепользования, способами земледельческого хозяйствования и географией. Громадные пространства требовали своего освоения, и необходимым подспорьем в решении этой задачи выступала лошадь. Другая причина — это отставание в машинизации народного хозяйства страны. Это и численность населения: каждое крестьянское хозяйство (а восемьдесят пять процентов населения России проживало в деревне) стремилось иметь лошадь. А то и не одну. Отсюда и масса лошадей, не столь уж необходимых в странах с большей долей городского населения и оснащенных рабочими механизмами. Также нельзя забывать о лошадях скотоводческих племен, в избытке населявших южные окраины империи. К 1913 году число лошадей рабочего возраста великих держав (лошадь в рабочем возрасте — с пяти лет) в круглых цифрах составляло:
— Россия — 22 800 000 голов;
— США — 21 000 000;
— Германия — 4 600 000;
— Франция — 3 200 000;
— Австро-Венгрия — 1 800 000;
— Великобритания — 1 600 000.[82]
Общее же число лошадей в 1914 году предстает в следующих примерных цифрах: Россия — почти 35 000 000, США — 25 000 000, Германия — 6 500 000, Австро-Венгрия — 4 000 000, Франция — более 4 000 000, Великобритания — 2 000 000. Как видно, количество лошадей в России превосходило их число во всех великих державах Европы, вместе взятых. И особенно характерно сравнение количества лошадей на душу населения в Европе. В России одна рабочая лошадь приходилась на семь человек, в Германии — на пятнадцать, во Франции — на двенадцать, в Австро-Венгрии — на двадцать девять человек. Степень механизации народного хозяйства из этих цифр видна весьма отчетливо, особенно если вспомнить уровень жизни людей в каждой из этих стран.
Следовательно, как то предполагалось задолго до войны, русская Действующая армия не должна была испытывать недостатка в конском составе. Подобным же образом считалось, что Россия, ее население и Вооруженные Силы не испытают кризиса продовольствия, так как перед войной именно Российская империя выступала «житницей Европы». Логика больших цифр была на стороне таких статистических расчетов, проводимых и отстаиваемых «светилами» экономической науки начала двадцатого столетия. Реальность же, как часто бывает, опрокинула эти расчеты. Ведь мало иметь в своем распоряжении определенный ресурс, необходимо еще уметь его использовать, причем использовать качественно и эффективно. Если продовольственный кризис стал одной из главных причин падения самодержавия в феврале 1917 года, хотя наличного хлеба в стране и вкупе с будущим урожаем хватало еще на пару лет войны, точно таким же образом военное ведомство испытало нехватку лошадей уже через два года военных действий.
Ясно, что лошадь как важный фактор ведения боевых действий заблаговременно учитывалась военным ведомством. Для выяснения количества лошадей и их качественных характеристик, а также возраста в России периодически проводились так называемые военно-конские переписи. Кроме того, лошади учитывались и при проведении сельскохозяйственных переписей. Поэтому в распоряжении исследователей исчерпывающие данные — военно-конской переписи 1912 года, проведенной в преддверии подготовки к войне, а также цифры сельскохозяйственных переписей 1916 и 1917 годов, которые проводились с целью выяснения дальнейшего потенциала страны для продолжения ведения войны.
Обычно военно-конские переписи проводились несколько лет. Но страна целенаправленно готовилась к войне, и потому военно-конская перепись 1912 года была проведена в течение одного года. Согласно этой военно-конской переписи, по семидесяти восьми губерниям и областям Российской империи насчитывалось 32 835 963 лошади всех возрастов у 12 866 145 владельцев (конечно, не только крестьян). При этом 43,7% владельцев имели одну лошадь, 29,5% — две лошади, 11,1% — три лошади, 6,0% — четыре лошади, 3,1% — пять лошадей. Отметим сразу же цифру 43,7%, а также и 29,5%. Вместе взятые, они составляют почти три четверти общего количества лошадей в стране. Что это значит? Согласно существующему законодательству единственная лошадь в хозяйстве освобождалась от мобилизации. Это связывалось с тем, что крестьянское хозяйство нельзя было оставлять без рабочей силы, так как иначе откуда было бы брать продовольствие для населения?
В 1912 году в сорока семи губерниях Европейской России насчитывалось 13 125 900 крестьянских дворов. В том числе безлошадных — 31,6%, с 1 лошадью — 32,3%, с 2 лошадьми — 22,2%, с 3 лошадьми — 7,6%, с 4 и более — 6,4%. Из этого количества лошадей:
— жеребцов рабочего возраста — 1 307 478;
— меринов рабочего возраста — И 197 809;
— кобыл рабочего возраста — 10 479 004;
— всего лошадей рабочего возраста — 22 984 291;
— сосунов-жеребят — 2 290 800;
— малолеток моложе четырех лет — 5 750 886;
— 4-леток — 1 809 986.
Именно здесь заключалось противоречие: невзирая на громадное количество лошадей в стране, существующее законодательство оставляло вне призыва львиную долю лошадей. Как видно из приведенных цифр, 64% крестьянских дворов уже сразу исключалось из числа поставщиков лошадей в армию. Плюс 22,2% хозяйств балансировало на грани: очевидно, что они могли дать лошадь для Вооруженных Сил только один раз. Следовательно, крестьянское население России не могло выступать надежным поставщиком лошадей для Вооруженных Сил. А ведь крестьянские лошади составляли 91,6% всего количества конского состава армии, при этом 87,5% лошадей принадлежали общинникам.
Недаром уже в годы войны, когда оказалось, что все без исключения предвоенные предположения о характере и масштабах Большой Европейской войны оказались несостоятельными, высказывалось мнение, что следует держать не только специальные заводы, дающие армии лошадей в кавалерию, но и побуждать кочевые народности к разведению лошадей. Ведь лошади требовались в обозы в несравненно большем количестве, нежели в конницу, Вторая мировая война также предъявила свои требования на лошадей, несмотря на машинизацию государств и, следовательно, Вооруженных Сил. Например, в ходе подавления восстания 1916 года в Туркестанском крае генерал-губернатор Туркестана ген. А.Н. Куропаткин полагал, что в будущем Киргизия должна давать армии «коневые средства», для чего следует отменить практику принудительного перевода кочевников на оседлое положение, на занятия земледелием. Генерал Куропаткин отмечал в своем дневнике: «Для сего всех киргиз надо обратить в коневодов для производства нужной для нашей армии лошади… первоначальной задачей надо поставить увеличить рост киргизской лошади на один вершок»[83].
Поэтому надлежащее число конского состава Вооруженные Силы получили только в начале войны, когда мобилизация прошла с массой злоупотреблений — брали и единственную лошадь в хозяйстве. Затем, в ходе всей войны, военное ведомство должно было идти на всяческие ухищрения, обусловленные обстоятельствами военного времени, чтобы иметь в Действующей армии нужное количество лошадей. Таким образом, в планах военного ведомства вопрос обеспечения Действующей армии, тыловых частей, военных служб и инстанций вообще конским составом стоял особой строкой.
При мобилизации в войска брали лучших лошадей, но большинство из них по своей кормовой даче в мирное время «не дотягивали» до нормы военного времени. Поэтому в армии приходилось подкармливать крестьянских лошадок, взятых по мобилизации, ибо в деревне лошади редко видели такой корм, как овес. Отношение крестьян к лошади зачастую было более нежным, нежели к членам семьи, так как лошадь — это первый работник, кормилец всей семьи. Да и уход солдата на фронт представлялся естественным, в то время как лошадь — это все-таки не солдат: «Помню, когда, тоже по призыву, забрали наших вороных коней тоже на войну, мы все плакали, прощаясь с ними. Плакали больше, чем по ушедшим [на фронт] братьям. Может быть, это покажется странным, но когда уходили братья, было в душе сознание чувства долга. А вот мне, когда я прощался со своими красавцами вороными, все казалось, за что, за что лошади должны идти и гибнуть на войне?»[84].
Какова же должна была быть численность лошадей в Действующей армии? Умозрительный ответ на этот вопрос дает все тот же один из высших чинов русской военной машины, занимавший перед войной пост начальника Генерального штаба, а с объявлением войны ставший начальником штаба Верховного Главнокомандующего в Ставке ВГК первого состава. Это — генерал от инфантерии Н.Н. Янушкевич. Перед войной в Академии Генерального штаба ген. Н.Н. Янушкевич читал курс лекций о довольствии войск в военное время и об организации тыла Действующей армии. В его вышедшем накануне войны учебнике по военной администрации цифра указывалась четко: потребность Вооруженных Сил в лошадях составляла двести тысяч голов на миллион людей[85].
С объявлением мобилизации шинели должны были надеть немногим более пяти миллионов человек. Следовательно, количество лошадей в начале войны должно было бы несколько превышать миллион голов. Даже если считать, что часть людей неизбежно оседала бы в тыловых учреждениях или обучалась в запасных частях, то и тогда лошадей все равно не могло быть меньше 750 — 800 тысяч голов. Согласно теоретическим расчетам, разрешение проблемы по поставке лошадей для Действующей армии и тыловых войск и учреждений представлялось, в принципе, элементарным. Предполагалось ежегодно брать по миллиону лошадей из общей их численности около двадцати миллионов голов рабочего возраста. В таком случае ни крестьянство, ни народное хозяйство в целом не испытывали никакого напряжения своих возможностей в смысле степени обеспеченности рабочей силой. Повторимся, что, по данным военно-конской переписи 1912 года, в семидесяти восьми губерниях и областях Российской империи насчитывалось 32 835 963 лошади, в том числе рабочего возраста (4 лет и старше) — 70%.
Конечно, военное ведомство понимало, что Россия сильно отстает от других держав по уровню механизации сельского и народного хозяйств, что побуждало русские власти осторожно подходить к проблеме конского состава армии в будущей войне. Однако гигантская цифра мобилизационных ресурсов успокаивала русское военное ведомство. Однако с затягиванием войны, рано или поздно, указанное выше противоречие между законами страны и потребностями армии должно было войти в противоречие, и основная задача властей заключалась в удачном и успешном разрешении этого противоречия.
Надо затронуть и другой вопрос, касающийся комплектования Вооруженных Сил конским составом. Лошади в Действующей армии подразделялись на несколько категорий, будучи предназначены для различных функций. Поставляемые в войска лошади, в зависимости от своих качеств, шли в кавалерию, артиллерию (считая здесь и пулеметные команды) и обозы. Соответственно, цены на лошадей разных категорий также были различными: цены на верховых и артиллерийских лошадей в полтора раза превышали цены на обозных лошадей 2-го разряда. При этом цены военного ведомства, по которым лошадей брали в войска, могли существенно отличаться от рыночных цен на лошадь. Например, по воспоминаниям В.М. Наумова, проживавшего в Сарапульском уезде Вятской губернии, рядом с Боткинским заводом, в 1915 году по мобилизации взяли пару вороных коней. За каждого военное ведомство заплатило всего по 165 рублей. Чтобы не оставаться без рабочей силы, в семье Наумова за 230 рублей купили трехлетнего жеребца[86]. В начале 1917 года цена на лошадей в Центральной России поднялась в среднем до 200 — 250 рублей за голову. Так, в Тульской губернии верховая лошадь стоила 355 рублей, артиллерийская — 355, обозная первого разряда — 270, обозная второго разряда — 195 рублей за голову[87].
В обозы шли обыкновенные крестьянские лошадки. В артиллерию — крестьянские и степные лошади — более выносливые по сравнению с основной массой лошадей. Ведь специальных артиллерийских лошадей, как германские першероны, в России не выращивали. Зато кавалерия должна была комплектоваться исключительно скаковыми породами лошадей. И вот здесь-то, в связи с многочисленностью русской конницы, начинались проблемы, так как годная для строя лошадь, разумеется, бралась не в львиной доле конского состава страны — крестьянском хозяйстве.
В начале века в России выращивали такие скаковые породы, как текинская (ахалтекинская), стрелецкая, орловская, скаковая, донская, кабардинская, терская. Основные поставщики строевых лошадей — частные степные донские конезаводы. Также верховых лошадей давали Херсонская, Екатеринославская, Таврическая губернии. Обозные лошади — крестьянские великороссийские, киргизские, калмыцкие, сибирские, монгольские.
Таким образом, при комплектовании кавалерийских частей военное ведомство должно было рассчитывать на мощь отечественного конезаводного дела. В 1878 году в Российской империи было зарегистрировано 3430 конских заводов при 9560 жеребцах и 92 791 матке. В 1904 году эта цифра возросла до 6138 заводов при 17 041 жеребце и 176 725 матках. В том числе в Сибири — 41 при 92 и 783, на Кавказе — 713 при 2575 и 27 717, в русской Польше — 578 при 836 и 10 028 соответственно[88]. К 1914 году число заводов увеличилось до 8714 единиц. В них числилось 22 300 жеребцов и 213 208 маток. В то же время чистокровных лошадей не хватало. Известный исследователь российского коневодства С.А. Султан-Гирей писал, что к началу Первой мировой войны чистокровное коневодство России составляло до 2800 маток. Полукровный материал, по приблизительным подсчетам, равнялся до пяти тысяч жеребцов и шестнадцати тысяч маток. «Отличные верховые лошади получаются от скрещения английской лошади с арабской — англо-арабы. Наши степные лошади, улучшенные английской кровью, дали великолепных полукровок, которыми ремонтировалась вся наша кавалерия, сидевшая на отличных лошадях, что дало ей возможность в последнюю великую войну вести самостоятельные действия»[89].
Любое дело требует денежных вливаний. Средством финансирования конезаводства являлся ипподром и игpa на скачках. Тотализатор в России был учрежден в 1876 году. Итог действий тотализатора налицо: 1879 г. — 3430 заводов, 1904 г. — 6138 заводов. Финансирование в 1907 году: 25 000 рублей от государства и 4 600 000 рублей доходов от тотализатора[90]. Однако деятельность тотализатора была ограничена, а государство, как показано, отпускало на конезаводство малые средства. Качество конского состава неизбежно понижалось с ограничением игр, поэтому определенные крути, озабоченные не только обогащением, но и усилением отечественной кровной лошади, просили о тотализаторе. Правда, эта проблема к 1914 году так и не получила разрешения.
В чем суть борьбы за качество конского состава? Лошадь высотой до 1 м 40 см называлась «лошадью в первобытном состоянии» и не могла быть поставлена в кавалерию. Из тридцати пяти миллионов лошадей, бывших в стране перед войной, шестнадцать миллионов были ростом до 1 м 31 см, двенадцать миллионов — до 1 м 40 см, и только семь миллионов соответствовали армейским требованиям. Конечно, если следовать расчетам мобилизации по миллиону голов в год, то этого количества хватало. Да и в обозы возможно было брать маленьких лошадок — это же не конница.
Вдобавок нельзя забывать, что русский Генеральный штаб, под влиянием немцев и французов, необоснованно считал, что война будет недолгой — от шести до восьми месяцев. Во всяком случае, вести войну больше года не предполагалось, поэтому считалось, что наличного количества строевых лошадей непременно хватит для кавалерийских дивизий, как и того числа лошадей, что отдается командованию пехотных полков и высшим штабам. Можно также сказать, что, например, каждый офицер кавалерийского подразделения отнимал не одну, а трех лошадей — для себя, для вьюка и для денщика.
Другое дело, что расширение масштабов военных действий и постепенное ухудшение работы железнодорожного транспорта, как уже говорилось, ставили жизнь Действующей армии и страны во все большую зависимость именно от лошади. Приходилось жертвовать качеством для конницы. В итоге борьба за качество конского состава русской кавалерии велась непоследовательно и противоречиво. Государственных конезаводов было мало, а из частных государственная помощь оказывалась лишь донским заводам. Вдобавок эти последние лошади, как правило, шли в казачьи подразделения — казачьи полки в регулярных кавалерийских дивизиях и казачьи дивизии. Анализируя положение дел в этой сфере, участник войны, кавалерист, резюмирует, что в основном «пополнение лошадьми производилось за счет покупки лошадей у мелких коннозаводчиков ремонтными комиссиями. Эти лошади в целом были удовлетворительного качества, но оставляли все же желать много лучшего. Поэтому коневодство в России до 1914 года нельзя рассматривать, как хорошо поставленное и установившееся»[91].
Конечно, с каждым новым годом войны положение дел в данной сфере только усугублялось, как и во всех прочих сферах, что было напрямую связано с неэффективностью системы управления монархического режима при последнем императоре Николае И. Отечественный исследователь пишет: «Прежде всего довольно быстро был исчерпан запас лошадей, годных к строю по инструкциям мирного времени: высококровных, быстроаллюрных, с красивым экстерьером. В полки стали поступать лошади русской деревни: неказистые, но выносливые, приученные к неприхотливому уходу и скудному кормлению. Не было в кавалерийских полках и возможности доводить до совершенства навыки верховой езды у вновь призванных солдат, ведь для этого требовалось гораздо больше времени, чем для подготовки в пехоте»[92].
Каким же образом лошади поступали в Действующую армию? Все вопросы комплектования и пополнения армии лошадьми были сконцентрированы в Управлении по ремонтированию армии. Начальником этого управления в начале войны состоял генерал от кавалерии Николай Александрович Винтулов. Под ремонтированием подразумевается способ комплектования конского состава армии покупкой лошадей по средней рыночной цене. В мирное время закупка лошадей производилась армейскими ремонтными комиссиями, которые сдавали их в запасные кавалерийские полки. И уже отсюда лошади после года обучения сдавались в ряды действующих полков, где их также какое-то время приучали к военной деятельности. Характерно, что разные полки в кавалерийских дивизиях — уланы, гусары, драгуны, казаки — первоначально, пока еще существовала возможность комплектовать войска по принципам мирного времени, получали разных лошадей. Так, офицер 14-й кавалерийской дивизии, а в будущем — Маршал Советского Союза, Б.М. Шапошников вспоминал: «По кавалерийским преданиям и приметам, самой крепкой породой были гнедые кони, затем шли рыжие, слабыми считались серые и караковые. Так было и у нас. Самый лучший конский состав был в 14-м уланском полку, а самый слабый — в гусарском. Казаки имели преимущественно гнедых дончаков»[93].
Система ремонтирования в мирное время заключалась в следующем процессе: ремонтная комиссия покупала лошадь возрастом 3,5 года. Эта лошадь шла в запасной кавалерийский полк, где в течение года воспитывалась и обучалась. На пятом году жизни она поступала в регулярный полк: «Только пятилетняя лошадь складывается настолько, чтобы ее пустить в работу». Через год лошадь проходила экзамен, после чего окончательно отправлялась в строй. При этом в год перед экзаменом нельзя было ставить лошадь в строй и посылать на учения с аллюрами, чтобы дать лошади возможность втянуться в ту работу, что связана с деятельностью кавалерии. Участник войны, генерал от кавалерии, последовательно командовавший 2-м армейским корпусом, 2-й армией, 1-м Туркестанским корпусом, пишет: «Ремонтирование в коннице играет очень важную роль в том смысле, что надобно, чтобы конь был вполне подходящий для той роли, для которой он предназначен, чтобы он не был груб, но и не был слаб, чтобы он был способен развивать надлежащую скорость, не выдыхаясь и сохраняя силу»[94].
В начале войны при проведении мобилизационных мероприятий еще соблюдались принципы мирного времени. Приемка лошадей в июле — августе 1914 года, согласно воспоминаниям кадрового офицера, проводилась следующим образом: лошади, подлежащие реквизиции согласно закону по военно-конской повинности по определенному району, собирались на специальном плацу. Состав комиссии: офицер, член земской управы, два обывателя, ветеринарный врач, два чиновника (делопроизводитель и кассир), полицейский чин. Сама же приемка лошадей проходила так: «По волостям, по подготовленным уже в мирное время ведомостям, вызывали по очереди владельцев с их лошадьми. Комиссия их осматривала и решала: 1) годна ли лошадь к службе по состоянию здоровья и 2) если да, то к какому классу ее отнести — упряжных или артиллерийских, обозных ли и какого разряда обозных, кавалерийских ли и многих других. Соответственно классу и разряду была нормирована за нее плата, и владелец здесь же получал от кассира соответствующую сумму, а я назначал лошадь в воинскую часть, приемщики от которой немедленно ее забирали»[95].
Таким образом, плата за лошадь проводилась военным ведомством согласно существующим местным средним ценам. Возраст войсковых лошадей — от четырех до шести лет. Срок службы обычно составлял десять лет. Категории конского состава по росту: 1-я (выше 2 аршин, 3 вершков), 2-я (выше 2 и 2), 3-я (выше 2 и 1,5). В гвардию брали лошадей выше 2 аршин и 4 вершков. Аршин — 70 сантиметров, вершок — 4,5 сантиметра. Напомним, что лошадь ростом до 1 м 40 см не могла быть поставлена в кавалерию, поэтому приводимые здесь категории по росту относятся к тем лошадям, что могли быть переданы в регулярную конницу. Интересна и система даваемых лошадям кличек, принятая в русской армии: «По установившемуся порядку каждой воинской части приписаны для всех конских названий одна или две буквы. Имена нашей бригады начинались на буквы «Ч» и «Ш». Всех лошадей было свыше тысячи. Придумать тысячу названий на Ч и Ш задача весьма нелегкая»[96].
В начале войны мобилизация запасных солдат и поставка лошадей для армии согласно военно-конской повинности проходили параллельно. Тем самым одновременно заполнялись штаты войск как в человеческом составе, так и в конском. Необходимо помнить, что в связи с франко-русскими договоренностями русские армии должны были максимально форсировать свои мобилизационные мероприятия и наступать в Германию еще до их завершения. Такой подход обязывался тем обстоятельством, что главный удар германцев согласно «Плану Шлиффена» должен был наноситься по Франции, и задачей русской стороны было оттянуть на себя часть германских войск из Франции. Достичь этой цели было возможно, конечно, только быстрым наступлением в германские пределы — Восточную Пруссию. Поэтому в начале войны бывали и неизбежные ошибки при распределении мобилизованных животных по войскам. Участник войны вспоминал: «Среди лошадей, попавших в команду, было штук семь рысистых жеребцов. Жалко было впоследствии смотреть на этих несчастных животных, которые, покрытые пеной, выбивались из сил, чтобы тащить какую-нибудь двуколку, в сущности, очень легкую, но к которой они не привыкли»[97].
Несмотря на то что поставка лошадей в войска зачастую осуществлялась без соблюдения буквы закона (то есть в ходе первой мобилизации взять могли и единственную в хозяйстве лошадь), отношение к качеству верхового и тяглового транспорта было довольно жестким. В числе брака назывались: вислоухость, неправильный постав ног (саблистость), наросты на бабках, прикуска. Отсюда придирчивое отношение армейских ремонтных комиссий к качеству лошадей (правда, это соблюдалось только в первый год войны, так как затем особенного выбора уже не было). Так, в октябре 1914 года по Епифанскому уезду Тульской губернии было поставлено на сдаточные пункты 953 лошади, а в войска направили, по рекомендации ремонтной комиссии, только 224 (23%). Назывались две основные причины выбраковки: худосочность крестьянского скота и наличие трещин в копытах, в связи с тем что рабочие лошади не были кованы на задние ноги[98]. Первая причина, кстати, к вопросу о фуражном снабжении.
Цифры конского состава были велики даже в пехоте, даже оставляя пока в стороне собственно конницу. В 1914 году русская пехотная дивизия имела 81 повозочную единицу и 294 лошади на батальон пехоты[99]. В пехотной дивизии начала войны насчитывалось шестнадцать батальонов. То есть каждая пехотная дивизия имела 4704 лошади. Например, 21-й армейский корпус ген. Я.Ф. Шкинского в начале войны имел в своих рядах семьдесят тысяч человек и двадцать одну тысячу лошадей (соотношение один к трем).
Конница несла на своих плечах и разведку, и охранение, и разнообразные тыловые службы и, наконец, также непосредственно участвовала в боях, сражениях и стычках. В кризисные моменты развития операций на угрожаемые участки бросалась кавалерия, она же обязывалась преследовать отступающего противника, а при собственном отходе часто играла роль последнего арьергарда. В связи с этим интересно, что одним из методов сбережения конского состава, выработанного на местах, стала организация движения конных соединений. Начальник штаба 1-й Донской казачьей дивизии капитан П. Липко писал: «За три месяца войны опытом было выработано и признано наилучшим ходом — переменный аллюр — десять минут рысью и десять минут шагом, но не по пять минут, как было указано уставом. В первом случае конь успевает открыть как следует дыхание и, втянувшись в бег, быстро и ровно двигаться, не переутомляя легких, в течение десяти минут, а в последующие десять минут движения шагом вполне восстановить и дать отдохнуть легким. При переходе с шага на рысь неизбежна растяжка, и необходимо восстановить нормальные дистанции при переходе с рыси на шаг. При десятиминутной очереди аллюров приходится исполнять эту операцию в два раза реже, чем при пятиминутной, когда по вышеозначенному явлению лишь головы колонны идут нормально, а хвосты все время болтаются на рыси: не успеют еще восстановить дистанцию, как уже надо вновь идти рысью без передышки. И лишь благодаря десятиминутной очереди аллюров дивизия не измоталась и не потеряла конского состава, делая переходы по шестьдесят и более километров почти ежедневно целыми неделями и более, без дневок»[100].
Достойно упоминания, что если кавалерийские начальники, как правило, старались сберегать силы лошадей, то артиллерийские и пехотные начальники далеко не всегда оказывались на высоте в вопросе заботы о конском составе. Другое дело, что такая «забота» весьма часто шла в ущерб боевым действиям. Конница 1-й армии в Восточно-Прусской наступательной и Лодзинской оборонительной операциях «блестяще» это подтвердила. Действительно, кавалерийские начальники очень любили ссылаться на ослабленность конского состава своих частей и просились на отдых в тыл. Разумеется, что сделать это можно было лишь при затишье на фронте, но часто отпускали и просто так.
В итоге пехота и артиллерия могли наблюдать, как конница отдыхает в тылу, в то время как на фронте не хватает войск, а в оборонительных линиях то и дело возникают «провалы». Повторимся, что в таком положении вещей были виноваты не войска (конные атаки на атакующую пехоту противника в критический момент боя тому подтверждение), а их начальники, которые привыкли к безнаказанности при своем августейшем шефе — великом князе Николае Николаевиче. Общевойсковое начальство пыталось бороться с такими явлениями, но, как правило, безрезультатно.
Наиболее радикально к этому вопросу подошел командующий Кавказской армией ген. Н.Н. Юденич. В составе 4-го Кавказского армейского корпуса к сентябрю 1915 года насчитывалось сто двадцать эскадронов и сабель. По сути, это был кавалерийский корпус. Многие кавалерийские начальники стали доносить, что конский состав ослаблен от бескормицы, и поэтому их войска необходимо отвести в тыл. Это была правда, фуража не хватало, однако пехоты, чтобы закрыть образующиеся в случае отвода конницы «провалы» в общем фронте, не было. Отвод конницы в тыл означал, что командованию придется отказаться от инициативы действий. Командир корпуса ген. П.И. Огановский на свидании с генералом Юденичем пожаловался на ситуацию с кавалерийскими начальниками. В ответ генералу Огановскому «командующий армией предложил предупредить командиров частей, что те из них, кто особенно будет настаивать на отводе их частей в тыл на отдых, будут отправляться в тыл, но одни, без частей, отрешенные от командования. С этого времени все донесения о невозможности несения службы от ослабления конского состава прекратились»[101].
С другой стороны, если быть объективным, темпы маневренных операций начального периода войны являлись столь высокими, что сил гужевого транспорта не жалели. Железных дорог, ввиду недостаточной развитости стратегической сети на передовом театре, в русской Польше не хватало, и потому пот войны выносили на себе лошади, устилая своими телами поля сражений. В этом отношении сильно помогала трофейные лошади, наличие которых помогало минимизировать собственные потери (лошадь — это ведь тоже имущество войск). Участник войны так вспоминал о восьмидневном форсированном марше соединений 5-й армии ген. П.А. Плеве к Люблину в начале сентября 1914 года, откуда войска перебрасывались на линию Средней Вислы уже по железной дороге: «Погода окончательно испортилась. Зачастили дожди. Дотащить по размолотым дорогам пушки и обозы удалось лишь благодаря сверхкомплектным «трофейным» австрийским лошадям. Более кровные, красивые, но холодные и изнеженные, они не выдержали «русской» грязи»[102].
Данный марш, как известно, был предпринят главнокомандованием Юго-Западного фронта в стремлении прикрыть крепость Ивангород от удара неприятеля. Австро-германские войска, воспользовавшиеся Краковским железнодорожным узлом, уже разворачивались для наступления на первом этапе Варшавско-Ивангородской операции, а русские намеревались им противостоять лишь теперь. От неразвитости железных дорог лошади страдали первыми, а затем люди исправляли все инфраструктурные недостатки «избыточной» кровью, восполняя героизмом превосходство противника в силах и средствах на избранных направлениях ведения операции.
То же самое — неумение правильно использовать лошадей — относилось и к обозным частям, которые, в принципе, возглавлялись худшими офицерами и военными чиновниками, оставляя лучших людей для строя. Все те командиры, что в первых боях сказывались «больными», «нервными», «не привыкшими быть с войсками» и проч., отправлялись в обозы. В отставку убирали лишь генералитет, а в обозах все равно должны были быть люди, так что лучше эти, нежели те офицеры, что хорошо показывали себя под огнем. Правда, худшие люди, как правило, остаются таковыми всюду. Например, здесь кроется одна из причин боебоязни обозных чинов во время боев, отмечаемой участниками войны. Также трусоватый офицер чаще всего оказывался недобросовестным организатором и в тылах. Поэтому Ставка старалась контролировать проблему и на своем уровне. Например, приказ Верховного Главнокомандующего от 24 октября 1914 года гласил: «…Приказываю принять к неуклонному исполнению, чтобы как казарменные, так и вообще все помещения и конюшни, занимаемые войсковыми частями, хотя бы временно, подвергались самой тщательной очистке и дезинфекции при оставлении таковых. Что же касается до казарм и конюшен, занимаемых войсками постоянно, то таковые надлежит чистить и дезинфицировать возможно чаще»[103].
Действительно, с объявлением мобилизации пехотные полки получали множество лошадей. В мирное время лошадей имели только командир полка, старший полковник, старший адъютант и два командира батальонов. Теперь же лошадей должны были получить все командиры вплоть до ротных, врачи, пулеметчики, образовывалась команда конных разведчиков, а также существенно увеличивался обоз. При этом, конечно, забывалось, что «обозы — это враг каждой армии. Это смерть маневра. Это уязвимая цель для неприятельского огня»[104].
А ведь с увеличением числа лошадей в пехотных подразделениях количество специалистов по уходу за ними отнюдь не стало большим. Конечно, командиры старались отбирать для ухода за лошадьми знающих солдат из крестьян. Однако уход за крестьянской лошадью и за лошадью кровной — это все-таки некоторая разница. К новым лошадям приходилось привыкать во всем — кормлении, чистке, поении и т.д. Многое отличалось, и разительно. Младший полковой врач 11-го Финляндского стрелкового полка (22-й армейский корпус) вспоминал, что среди присланных в полк мобилизованных лошадей «оказалось очень много ценных животных. И вот, как это ни кажется теперь странным, у господ офицеров, из коих большинство сидело на лошадях, как собака на заборе, разгорелись глаза. Я собственными ушами слышал, как эти люди, из которых мало кто остался в живых после первых же боев, с восторгом рассчитывали, сколько они заработают, продав свою лошадь по возвращении с похода! Выбирали они себе лошадей не с точки зрения их применимости на войне, а с точки зрения их ценности. Когда же им предложили их поседлать и попробовать, на это мало кто решился»[105].
Ясно, что строевая лошадь являлась большой ценностью. Поэтому их старались беречь с особенной тщательностью — обыкновенная крестьянская лошадка под седло кавалериста не годилась. В частях часто страдали офицерские лошади, которые навьючивались разнообразными грузами сверх всякой нормы. Перегрузка вела к тому, что лошади сбивали себе спины, а это, в свою очередь, выводило лошадей из строя. Как вспоминает А.В. Горбатов, нормальный вес вьюков на запасных офицерских лошадях не должен был превышать трех пудов. Эти почти пятьдесят килограммов складывались из двух чемоданов по бокам лошади и постели сверху[106]. Здесь также интересен вопрос относительно казачьих лошадей. Если регулярные войска получали казенных лошадей, то казаки, как известно, выходили на войну с собственной лошадью. С другой стороны, такой подход освобождал казака от случайностей — с какой лошадью явился на службу, с той и будешь воевать. Однако многочисленность казачьей конницы (к 1917 году казаки составляли более семидесяти процентов всей конницы Действующей армии; в начале войны — около половины) вскоре сравняла их с прочими конными подразделениями. Да и домой лошадь казака уже не могла возвратиться. В случае гибели казака в бою его лошадь и седло оставались собственностью полка, а семья получала деньги — по минимальной государственной расценке — 250 рублей за лошадь и 38 рублей за седло[107].
Как только стало ясно, что решить судьбу войны одним победоносным ударом не удалось, командование еще более активно занялось проблемой сбережения конского состава Действующей армии. Слишком многое стало зависеть от одного из главнейших помощников человека. Лучшие лошади отправлялись в строй, под седло, худшие — в обозы. А ведь в войсках увеличивалось количество конницы, артиллерии, пулеметов. Скачками, но все равно увеличивалось. Соответственно, в то время как в стране понемногу иссякал годный для войны конский запас (потери, болезни, оставление территории вели к общему сокращению конского поголовья в России), фронт требовал еще больше лошадей. Их же требовал и разраставшийся с каждым днем тыл. При этом, конечно, возраставшие нужды фронта в лошадях были гораздо больше, нежели безвозвратные потери конского состава. Это увеличивавшееся требование Действующей армии на лошадей можно проследить на статистических данных относительно числа лошадей на фронте в различные периоды войны. Можно видеть, что это число только увеличивалось, ни разу не получив тенденции к своему уменьшению. Цифры показаны в конце главы.
Прежде всего забота о сбережении конского состава касалась общего изнурения лошадей в ходе войны. В чем здесь дело? Смысл вопроса заключается в том, что как кавалерийские дивизии, так и обозы, и артиллерия несли потери в лошадях от непроизводительности их деятельности. Известно, что это человек может перенести очень и очень многое, а вот лошадь — не может. С началом войны кавалерийские дивизии, естественно, были подчинены общевойсковому командованию — корпусным и армейским штабам. Царствовавший в первые месяцы войны значительный хаос управления вынуждал войска совершать ненужные переходы и нелепые маневры. И если пехота сносила это с крестьянской покорностью судьбе, то лошади выбывали из строя: «Серьезность предъявляемых кавалерийскому коню требований делает его службу крайне тяжелой. Та огромная убыль лошадей из кавалерийских частей, которая наблюдается в военное время, достаточно ясно показывает, что ряды эскадронов тают не столько от огня противника, сколько от чрезмерно тяжелой работы»[108].
Этой проблемой русские кавалеристы были озабочены еще задолго до войны, ориентируясь на действия общевойскового командования, что проводились на маневрах. В 1945 году И.В. Сталин отмечал, что современный общевойсковой начальник обязан в деталях знать особенности деятельности, использования и применения отдельных родов войск — от танков до авиации. В период Первой мировой войны родов сухопутных войск было всего три (молодость авиации и ее малочисленность в русской армии не позволяют говорить о ней как о полноценном отдельном роде войск). Однако и здесь высшие начальники — командиры корпусов — оказывались не на высоте требований. Задолго до войны один из лучших кавалерийских командиров русской армии — граф Ф.А. Келлер — писал: «Сбережение кавалерии должно пониматься в смысле сбережения ее конского состава, но не в бою, а до боя, в не переутомлении его ординарческой службой, не держании лишнее время под седлом, не изнурении сторожевой службой, и не гоняний бесцельно на разведки, то есть не назначая два и три разъезда туда, где один легко справится с задачей»[109].
Разумеется, что благие пожелания так и оставались благими пожеланиями. Поэтому командование и стало предпринимать меры во имя сбережения коней. Для изнуренных лошадей организовывались тыловые сборные пункты. При этом кавалерийские лошади помещались отдельно от артиллерийских и обозных, так как разные лошади требовали несколько отличающегося ухода. Да и кавалерийские дивизии нуждались в более быстром ремонтировании своего конского состава, нежели артиллерия и обозы, так как заменить строевую лошадь равноценной было гораздо сложнее. На этих пунктах под наблюдением ветеринарных врачей лошади получали усиленную подкормку, чтобы опять стать годными для фронта. Те же лошади, что не годились для продолжения службы в коннице, передавались в тыловые конские запасы. Эти лошади использовались в тыловых войсках, где не требовалась тяжелая, зачастую с надрывом, работа лошадей. Например, приказ по 7-й армии от 31 октября 1916 года гласил: «В целях сбережения конских запасов фронта и бережливого их использования, Главнокомандующий [армий Юго-Западного фронта] признал соответственным назначать для обслуживания ополченских частей бракованных лошадей кавалерии и артиллерии, которые могли бы еще нести службу в названных частях в отношении путей сообщения. Назначение бракованных лошадей в тыловые части дает возможность использовать часть имеющихся в них хороших лошадей»[110].
Следовательно, о сохранении строевых лошадей старались заботиться особенно тщательно. Однако здесь вставала иная проблема — перемещение лошадей не обратно в свои подразделения, а туда, где в них имелась насущная необходимость. Лошади, убывавшие на слабосильные пункты, исключались из списков частей, посылаясь затем в войска уже в качестве укомплектований. То есть хозяева-кавалеристы, отправив своих любимцев и друзей (а отношение к лошади на фронте часто было лучше и трогательнее, нежели к другу) в тыл, могли уже не получить их назад. В то же время объективно происходившее снижение требований к лошадям вынуждало командование требовать от войск «браковать не по формальным признакам роста или возраста, а лишь в случае действительной непригодности к службе».
Однако кавалерийские лошади, по идее, должны были возвращаться обратно к своим хозяевам, для этого их снабжали соответствующими документами при поступлении на слабосильные пункты. Но этого часто не соблюдали. В итоге войсковые части, боясь, что лошадей не возвратят, вообще не отсылали их в тыл, что вызывало усиленный падеж лошадей на передовой. Ведь и заботиться о них было некому, и фураж на них невозможно было выписывать, так как по строевым спискам части данные лошади проходить не могли. Как ни странно, но подобные опасения не являлись напрасными, что признавалось и на самом высоком уровне. Например, приказ по армиям Северо-Западного фронта от 9 февраля 1915 года за № 577 гласил: «Во избежание подмены в отделениях конского запаса хороших лошадей дурными, предписываю, чтобы при переездах с позиций в конские отделения лошади, отправленные из частей, обязательно таврились или же прибывали с пломбами».
Невзирая ни на что, утаивание лошадей от тыловых служб продолжалось в течение всей войны. Причина пояснена выше. В то же время большинство маток, ходивших под седлом, вполне могли приносить приплод. И всей этой массе лошадей, не числившихся в списках, но не состоявших на довольствии, хотелось кушать. Это — громадная перегрузка транспорта, снабжавшего фронт.
В 1916 году, когда транспортная разруха стала отчетливо намечаться, командованием неоднократно отдавались распоряжения командировать в тыл всех находящихся на фронте жеребят «для продажи и раздачи населению через местные органы самоуправления» при посредстве представителей Государственного коннозаводства.
Непригодные для несения службы лошади подразделялись на следующие категории, в зависимости от своего состояния:
— слабосильные пункты кавалерийских, артиллерийских и обозных лошадей — подкормка и поправка изнуренных и истощенных лошадей;
— этапно-ветеринарные лазареты — лечение больных лошадей;
— уничтожение — совершенно непригодные к службе, неизлечимо больные и заразные лошади.
Обратимся к цифрам. В русской армии за годы войны, по некоторым сведениям, насчитывалось около миллиона больных лошадей. Ежедневно лечилось 4,6% от общего числа лошадей. Безвозвратные потери составили четыреста тысяч голов[111]. И это было еще лучше, чем в других армиях. Например, в германской армии выбыло из строя от истощения 558 500 лошадей и заболело коликами 418 000. Немцы имели и наибольшее количество павших лошадей — 168 000 — от истощения (правда, существенная доля этой цифры относится к заключительному периоду войны, когда Россия уже вышла из борьбы). Подытоживая, советский специалист пишет: «Сохранение численности лошадей армии зависит от двух факторов: от постановки в частях дела сбережения конского состава (предупреждение заболеваний) и правильной организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск… Анализируя заболеваемость и причины гибели конского состава в мировую войну 1914 — 1918 гг., мы видим, что подавляющее большинство потерь во всех армиях приходилось на заболевания эксплуатационные (конечностей, нагнеты), органов пищеварения и заразные. Большие потери были результатом истощения лошадей»[112].
Что касается истощения, то оно заключалось в недостатках фуражного обеспечения Действующей армии в начале войны. Не получая достаточного количества зернового фуража, войска были вынуждены увеличивать фураж травяной. Это немедленно вело к потере работоспособности, сказываясь на ходе операций. Высокоманевренные боевые действия, свойственные первому периоду войны, требовали от лошадей, как конницы, так и пехотных частей и обозов, тяжелой работы. А фуража не хватало, причем не только у русских, но и у противника: «При совершении больших маршей необходимо заботиться о достаточном довольствии людей и лошадей. Дача в восемь фунтов овса при больших напряжениях недостаточна. Людской состав должен получать горячую пищу два раза в день. Если производить одну из этих выдач на последнем большом привале, то это позволит сэкономить время на стоянке и использовать его для забот о конском составе»[113].
Что бы там ни говорилось, начало войны внушало оптимизм в отношении лошадей русской Действующей армии. Отбор был тщателен, штаты заполнены до предела и с запасом, войска подготовлены максимальным образом. Ведь необходимо напомнить, что регулярные кавалерийские дивизии в мирное время содержались по полному штату, что и позволило коннице в 1914 году в качественном отношении превосходить прочие рода войск. То есть лошади начала войны были лучшим материалом, что только могла дать своим Вооруженным Силам страна (то же самое можно сказать и о людях — в конницу шли лучшие). Участник войны В. Рогвольд вспоминает: «Конский состав был, в общем, очень хорош. В армейских частях это были в большинстве лошади из Задонских степей, сильные, малоприхотливые; в гвардейских частях были более кровные, пополнялись в значительной мере из заводов южных и западных губерний, но были более изнежены. Хуже были лошади, полученные при мобилизации; это мало отзывалось на кавалерии, где эти лошади пошли только в обоз 2-го разряда, но давало себя чувствовать в конной артиллерии, где ими была запряжена половина зарядных ящиков». О том же свидетельствует и В. Звегинцов: «Конский состав полка, с которым кавалергарды выступили на войну, был выше всяких похвал. Лошади были крупные, хороших кровей, резвые, выносливые. Они отлично передвигались по местности и были прекрасно втянуты в работу. Значительно хуже были лошади, полученные полком с первым и вторым маршевыми эскадронами. Разномастные, взятые по конской мобилизации, они были сравнительно стары и в большинстве упряжного типа. Плохо выезженные и плохо втянутые в работу, они были мало пригодны для несения строевой кавалерийской службы. Немного их осталось в строю. Командиры эскадронов и вахмистры, пользуясь различными командировками в обоз, в пулеметную команду и в штабы, в первую голову отправляли туда этих лошадей. Дальнейшие пополнения, полученные со следующими маршевыми эскадронами, уже ничем не отличались от обычных ремонтного типа и отлично несли тяжелую боевую кавалерийскую службу наравне с кадровыми лошадьми»[114].
Однако радужные обстоятельства первых месяцев продолжались недолго. Неожиданный размах фронтовых операций, слабость инфраструктуры на передовом театре военных действий, умелые действия противника, широко использовавшего железнодорожный транспорт, выматывали русскую лошадь. Все «дырки» в общем фронте непременно «затыкались» конницей, так как нерасторопность командования не позволила на первом этапе войны сравниться с немцами в маневренном отношении. Наиболее ярким примером здесь являются действия 1-го кавалерийского корпуса ген. А.В. Новикова в начале Варшавско-Ивангородской операции, вынужденного закрывать громадный «провал» фронта по всему течению Средней Вислы.
Пользуясь своим превосходством в железнодорожном отношении, австро-германцы перебрасывали на наименее закрытые русскими войсками участки большие силы и бросались в наступление. В ожидании подхода резервов первой на пути противника становилась кавалерия, поддерживаемая незначительными пехотными заслонами. И так продолжалось всю осень. В результате русская конница не могла надлежащим образом выполнять возможные для себя боевые задачи. Б.М. Шапошников считал, что главная причина несоответственных результатов действий русской кавалерии в период Первой мировой войны — это «отсутствие к войне у конницы конского состава, подготовленного по своей выносливости ко всем невзгодам походной и боевой службы…». И далее он пишет, что «опыт первых месяцев войны совершенно не был учтен в этом вопросе, и русская конница для своего пополнения получала сырых, не втянутых в тяжелую повседневную работу лошадей. Запасные части были оторваны от своих действующих полков»[115].
К этому же периоду относятся и широкомасштабные изнурительные марши войск (в августе это свойственно разве только для 2-й армии ген. А.В. Самсонова во время вторжения в Восточную Пруссию). Целые армии перебрасываются своим ходом на десятки километров в кратчайшие сроки, что не могло не сказаться на положении конского состава кавалерии, артиллерии и обозов маневрирующих войск. О марше 5-й армии в начале сентября уже говорилось выше. Очевидец так вспоминал об осени 1914 года в Галиции: «Лошади задыхаются от натуги, и многие падают от разрыва сердца… Повсюду, где проходили накануне обозы, множество конских трупов… овса нет. Сена едва хватает на одну дачу в сутки. Кругом на десятки верст все съедено до последней соломинки»[116].
Действительно, с увеличением временных рамок войны штаты войсковых обозов стали неимоверно разбухать. Кроме того, постепенно увеличивалась и численность Действующей армии, образуя новые войсковые единицы. Так, в ходе войны были образованы десятки новых пехотных и кавалерийских дивизий, новые корпуса и армии, новые артиллерийские батареи и пулеметные команды. И всем им требовались лошади — в полковые, дивизионные, корпусные, армейские обозы и транспорты. Соответственно, в Действующей армии стало увеличиваться количество лошадей, к Брусиловскому прорыву превысив предвоенное число в два с половиной раза.
Согласно предвоенным нормам обозы пехотного полка составляли девяносто восемь повозок и сто восемьдесят лошадей. Обозы кавалерийского полка насчитывали тридцать четыре повозки, два вьюка и пятьдесят четыре лошади[117]. Армейский корпус имел три с половиной тысячи парных повозок. Однако эти нормы были превзойдены в самом скором времени. Тенденция же к увеличению числа обозных повозок, а значит, и лошадей сохранилась в течение всей войны. Понятное дело, что командиры шли на любые ухищрения, чтобы получать от интендантства фуражное довольствие и на тех лошадей, что являлись «лишними» для существующих штатов. Вспомним и о тех лошадях, что не сдавались на слабосильные пункты. И о личных лошадях командиров, не предусмотренных штатом, а значит, и реестром на фуражное довольствие. И о жеребятах, которых жалко было отдавать. Например, занявший пост полкового командира на втором году войны известнейший отечественный военный ученый А.А. Свечин вспоминал: «Если в количестве наличных людей не было твердой уверенности, то еще большая неясность заключалась в определении количества лошадей в полку. Оказывается, их можно было считать различным образом. С интендантства фураж или фуражные деньги требовались на полный штат полка; кроме казенных лошадей, полк имел около сотни своих полковых лошадей, представлявших его частную собственность. Но в казенных лошадях полк показывал большой некомплект, требуя от государства его пополнения; государство на лошадей было несравненно экономнее, чем на людей; пополнения лошадей поступали очень скудно, и некомплект все рос. Убыль казенных лошадей была тем значительнее, что каждая павшая полковая лошадь в момент составления акта о ее падеже становилась немедленно казенной… Я незнаком с нашими ветеринарными отчетами на войне, но убежден, что в основе их лежат совершенно ложные данные»[118].
Если в кампании 1914 года предвоенные нормы конского состава худо-бедно, но все же соблюдались, то переломным моментом в этом отношении стало Великое отступление 1915 года. Причин увеличения числа лошадей в войсках именно в этот период войны (в полтора раза по сравнению с началом войны) несколько. Во-первых, уже само по себе отступление вынуждало части эвакуировать впереди себя все войсковое имущество. Во-вторых, принудительная эвакуация оставляемых областей позволила войскам увеличить свое имущество за счет того, что было брошено населением и интендантством. В-третьих, и, наверное, в главных, общее состояние инфраструктуры вынуждало в полной мере использовать транспортные возможности лошади.
Суть последней проблемы составлял тот факт, что Российская империя оказалась чрезвычайно бедна железнодорожной сетью и паровозо-вагонным парком.
Отступление 1915 года отдало в руки неприятеля все те стратегические железные дороги, что были построены на французские займы перед войной. Напряжение железных дорог не выдержало тотального испытания. Снабжение армии и населения, топливный кризис, массовые перевозки зимы 1916/17 года, усугубившие расстройство западной сети после эвакуации Польши, окончательно добили возможности министерства путей сообщения. Нельзя забывать и о процессе беженства. Отсутствие автомобильного парка заставляло использовать гужевое тягло как единственно доступный вид транспорта на фронте и войсковых тылах.
Конечно, «эпоха моторов» еще не наступила. Но в России все скатилось в катастрофу: чем хуже железнодорожная сеть и слабее возможности автомобильного транспорта, тем большее количество нестроевых (обозных) лошадей забивает театр военных действий. Войсковые обозы русских армий всецело базировались на конской тяге. Именно здесь и переплетались самым теснейшим образом интересы гужевого и железнодорожного транспорта. Лошадь позволяла войскам вести бой, а железные дороги снабжали ее фуражом. Также железные дороги занимались и перебросками конных транспортов корпусов и армий на новые участки фронта. Велик был и процент конницы в удельном весе общего состава русской Действующей армии.
Громадным подспорьем, в условиях малой разветвленности и густоты железнодорожной сети, мог стать автомобильный транспорт, которого в России, к сожалению, не было. При пробеге на сто километров одна трехтонная машина заменяет восемнадцать-двадцать парных повозок. Соответственно, для автотранспорта требуется меньше обслуживающего персонала, более легкая организация деятельности, меньше самых разнообразных издержек и т.д. На Западном (французском) фронте роль конского транспорта была второстепенной, да вдобавок густота железных дорог позволяла снизить издержки зависимости фронта от тыла до минимальной величины.
Малая глубина и протяженность французского театра военных действий по сравнению с Россией также способствовали развитию автомобильного транспорта и его первенству в снабжении действующих войск. На Востоке же, где железнодорожная сеть (особенно после Великого отступления 1915 года) не могла удовлетворить потребности войск, на лошадь выпала максимальная нагрузка, что привело к тенденции «разбухания» русского тыла, всецело зависимого от состояния гужевого транспорта. Советский исследователь пишет: «Транспортировка грузов от конечно-выгрузочных станций к войскам производилась на всем протяжении грунтового участка военных дорог с помощью гужевого транспорта, состоявшего из военных и обывательских повозок. Только на отдельных участках фронта, там, где боевые действия принимали позиционный характер, на помощь гужевому обозу приходила узкоколейная железная дорога»[119].
Увеличение числа лошадей в войсках прежде всего зависела от увеличения обозов. А такая тенденция нарастала не только вследствие образования новых соединений, но и просто потому, что лавинообразно разрастались обозы уже существовавших подразделений. Частью это было вызвано тем обстоятельством, что в ходе войны войска обязаны были обзаводиться таким войсковым имуществом, использование которого не было предусмотрено перед войной. Например — железные щиты для прикрытия стрелков, музыкальные инструменты, разнообразное шанцевое имущество. «Одной из существенных причин, вызывавших увеличение неофициального полкового обоза, являлась полная беззаботность высших штабов относительно позиционного имущества. Занимая участок укрепленной позиции, полк нуждался в перископах, пистолетах для стрельбы светящимися пулями, стальных щитах, больших лопатах и кирках, продольных пилах для пилки досок под нары и для бойниц, железных скобах для скрепления бревен в перекрытии блиндажей, дверях и небольших застекленных рамах для окошечек землянок; если дело происходило зимой — в чугунных плитах для устройства маленьких очагов для разогревания кипятка, в керосиновых лампочках и пр. и пр. В августе 1915 года полковой обоз был еще очень скромным… в момент Луцкого прорыва обоз 2-го разряда полка шел перекатами; не имея возможности поднять все имущество полка сразу, он возвращался назад за оставленными вещами и каждый переход совершал в два приема. Если бы русские войска не были вынуждены ездить в Тулу со своим самоваром, если бы штабы корпусов представляли не сборище бюрократов, а действительно вели позиционное хозяйство, количество полкового обоза можно было бы сократить на сорок процентов»[120].
Кроме того, бросать войсковое имущество, даже сломанное и ненужное, было строго запрещено под личную ответственность командиров. А железные дороги были не везде и не всегда (кстати говоря, в стремлении преодолеть пространство в транспортном отношении, по мере своего продвижения вперед, немцы старались как можно скорее строить в своих тылах узкоколейки для подвоза артиллерии и прочих средств тылового обеспечения). Опора же русской стороны на лошадь не позволяла на равных действовать против немцев в оперативном отношении: «Сочетание железнодорожного транспорта с гужевым приводило к чрезвычайной громоздкости тылов (восемьсот тысяч лошадей только в армейском звене подвоза), лишало армию оперативной и тактической подвижности и приводило к постоянному опасению большого отрыва от конечно-выгрузочных станций»[121].
Поэтому в поломанные автомобили, разломанные понтонные парки, всякий хлам запрягали лошадей, и те тащили. Соответственно, высоким был падеж лошадей, что постоянно требовало пополнения некомплекта. А в связи с тем что количество лошадей в обозах непрестанно увеличивалось, то, наверное, ни один пехотный начдив не смог бы точно сказать, сколько у него в дивизии лошадей. Ставка попыталась повлиять на ситуацию: с декабря 1915 года армии должны были докладывать в штаб фронта «представления начиная с 15 сего декабря первого и пятнадцатого числа каждого месяца общими цифрами сведения о некомплекте лошадей в частях армии отдельно: верховых, артиллерийских и обозных. Причем некомплект лошадей в казачьих частях должен показываться отдельно»[122].
Однако в большей мере увеличение обозов в 1915 году происходило в связи с тем, что войска увеличивали количество своих трофеев, как правило, отбиравшихся у местного населения либо по минимальным ценам, либо и вовсе бесплатно. Обстановка всеобщего хаоса, сумятицы и беспорядка, в сочетании с приказами Ставки об оставлении наступающему противнику «выжженной земли», способствовала разбуханию обозного имущества. Ведь все то, что нельзя было вывезти, сжигалось. А уничтожать имущество становилось по-человечески жалко. В связи с этим командованием предпринимались попытки понизить число повозок в обозах. Например, приказ по армиям Северо-Западного фронта от 28 июня 1915 года за №1520 сообщал, что проверка войсковых обозов выявила значительное их увеличение в количестве 65 — 70 обывательских повозок на каждый пехотный полк. То есть как минимум полторы сотни лишних лошадей на полк или полтысячи лошадей на дивизию сверх существующих штатов.
Другое дело, что подобные попытки высших штабов бороться с разбуханием обозного имущества оказывались тщетными. Тем более что практика войны отчетливо показала, что тыловые службы не успевают снабжать войска всем необходимым. Это понуждало войсковых командиров увеличивать свои обозы, дабы не зависеть от капризов железнодорожной инфраструктуры и нерасторопности интендантских служб. То есть, иными словами, в какой-то мере увеличение обозов и лошадей обусловливалось объективными обстоятельствами. Так, участник войны, артиллерист, говоря о переходе легких 3-дм батарей на шестиорудийный состав осенью 1914 года, писал: «Лошадей же не отдам ни за что. Каждая лишняя лошадь батарее необходима. Не говоря уже о том, что при тяжелой дороге постоянно приходится припрягать выноса, заменять лошадей измученных, набитых, больных, нам необходимо еще во что бы то ни стало сильно увеличить свой обоз. Что значит шесть повозок на батарею, обрастающую со временем все больше и больше необходимым имуществом и запасами фуража, без которых зачастую обойтись невозможно? [Ведь] интендантство не всегда отпускает фураж для лошадей или отпускает его в недостаточном количестве. Нет фуража, и делу конец. Купить же часто негде. Лошади при усиленной работе принуждены голодать»[123]. Получается, что «лишние» лошади перевозили корм и для себя, и для «штатных» лошадей.
Напомним, что, по предвоенным расчетам, соотношение между людьми и лошадьми в Действующей армии должно было составлять одну лошадь на пять человек. Уже в 1915 году к концу лета, приблизительное соотношение — одна лошадь на трех человек. Это классическое соотношение войн девятнадцатого столетия. То же самое соотношение было и в Великой армии Наполеона: на 680 000 человек — 180 000 лошадей. Предвоенные стандарты оказались неверными, как, впрочем, и многие разнообразнейшие расчеты, которыми так любили заниматься в Генеральном штабе вместо создания единой военной доктрины.
Характерно, что исчисление соотношения людей и лошадей в Действующей армии зависело от артиллерийского обеспечения (и сам Наполеон ведь был артиллеристом). Войны, предшествовавшие Первой мировой, дали опыт использования артиллерии в соотношении пять орудий на тысячу пехотинцев. Как сообщает участник войны Е.К. Смысловский, «такая норма определялась возможностью передвижения усилиями лошадей по любым дорогам и местности, доступным действию полевых войск, наибольшего, но не обременительного для передвижения количества орудий и боевых припасов»[124]. Это — маневренная война. С установлением позиционной войны количество орудий стало возрастать, так как теперь артиллерийские батареи ставились в несколько линий обороны. Стало расти и число лошадей, вследствие роста грузоснабжения закапывавшихся в землю войск.
В ходе отступления 1915 года масса лошадей подбиралась полками и отправлялась в обоз. Напомним, что согласно приказам Ставки о «выжженной земле» крестьяне-мужчины угонялись вслед за отступавшими войсками. За ними отправлялись и семьи, ибо их урожай все равно уничтожался, а хаты часто сжигались. Оставаться же в этой обстановке без кормильцев — значило погибнуть. Крестьянские обозы следовали за армией, по пути распадаясь и теряя массу предметов и животных. Вот этих-то лошадей и подбирали войска. В обозах многие из них даже не ставились на официальный учет и питались за счет казны без всякого на то основания. Относительный порядок был наведен только после установления позиционного фронта зимой 1916 года: сам автор воспоминаний о данных пертурбациях военного времени служил в это время в 275-м пехотном Лебедянском полку (69-я пехотная дивизия)[125].
С другой стороны, можно привести и противоположный пример. В городе Рославль Смоленской губернии, куда для посадки в эшелоны прибывали десятки тысяч беженцев, в августе — сентябре 1915 года скопились тысячи лошадей, которых их владельцы, естественно, не могли взять с собой в эвакуацию (до Рославля беженцы шли гужем, своим ходом). В связи с тем что фуража для беженских лошадей не хватало, животные стали гибнуть. Уполномоченный по делам беженцев в данном районе обратился к воинским властям с призывом взять лошадей под свою руку, так как беженцам они все равно не были уже нужны: «Страна нуждалась в конском составе, а здесь, в Рославле, обречены на голодную смерть тысячи лошадей. Среди них было немало прекрасных, породистых — беженцы взяли с собой лучший свой скот, побросав дома худший». Однако ни военные власти, ни даже местные земства взять лошадей не пожелали, мотивировав свой отказ трудностью гона животных (поездов железнодорожники предоставить не могли). Одна из прибывших войсковых комиссий предложила передать им лошадей, но с условием, что военные будут платить фуражные деньги, а кормить лошадей продолжит сам уполномоченный по делам беженцев, в чьем распоряжении временно лошади останутся. То есть теперь он должен был бы нести ответственность еще и за неминуемый падеж животных, так как купить ничего было нельзя. Уполномоченный в резкой форме отказался, и дело закончилось ничем — «военным ведомством не было взято ни одной лошади». Кроме смерти лошадей, конечно: «Скоро дошло до того, что лошади настолько обессилели, что начали падать, и хищные птицы садились на живых еще животных и выклевывали им глаза и куски мяса из тел»[126].
После перехода к позиционной войне и на Восточном фронте штабы смогли наконец-то навести относительный порядок в статистических данных. Правда, позиционная война целиком строится на истощении противника, а потому тыловая работа конского состава заметно превалирует над боевой деятельностью конницы. Кавалерия в окопах попросту не нужна и требуется для развития прорывов в наступательных операциях.
Однако недостаточное снабжение кавалерийских дивизий, многие из которых вследствие недостатка пехоты занимали отдельные участки оборонительных позиций на передовой, становилось причиной падения качества лошадей. Как считали даже немцы, «конница приходит в упадок во время позиционной войны как конный род войск. Состояние здоровья конского состава страдает от плохого ухода и недостатка движения. Втянутость пропадает». При недостатке питания лошади, в отличие от людей, не могут дать значительных усилий в случае перехода к маневренным действиям, вызываемым, к примеру, необходимостью преследования разбитого в ходе прорыва противника[127].
Переход к маневренным действиям в кампании 1916 года вновь снизил контроль высших штабов за состоянием дел с конским составом войск. Потери не могли учитываться надлежащим образом в смысле контроля, а потому полковые командиры утаивали действительное число лошадей в полках, справедливо опасаясь, что всех лишних лошадей немедленно отберут. Именно теперь военные власти принялись за новые массовые реквизиции лошадей, что привело к вмешательству в дела сельского хозяйства — поставщика продовольствия в армию. Пришлось договариваться с министром земледелия. Так, циркуляр мобилизационного отдела Главного управления Генерального штаба военным округам от 8 июня 1916 года указывал: «Министерство земледелия возбудило ходатайство о том, чтобы в уездах, занимающих значительную территорию, сдаточные пункты для приема лошадей, поставляемых в войска, по военно-конской повинности по реквизиции, назначались не только в уездных городах, но и вне таковых, дабы сократить до минимума время, потребное для передвижения лошадей со сгонных пунктов на сдаточные. Такое сокращение времени на сгон лошадей признается необходимым в интересах сельского хозяйства, чтобы население и его лошади отвлекались от полевых работ по возможности не более как на два-три дня». В свою очередь, ГУГШ рекомендовало образовывать «два сдаточных пункта, и лишь в крайнем случае — три»[128].
В итоге теперь количество лошадей в пехотных частях резко увеличилось, вдвое превосходя положенные штаты. Образование нового Румынского фронта осенью 1916 года еще более усугубило положение дел, так как связь России с Румынией в железнодорожном отношении была столь слабой, что кавалерийские дивизии Румынского фронта зимой 1917 года пришлось выводить в глубокий тыл в Молдавию, дабы избежать массового падежа лошадей. Участник войны пишет: «После Луцкого прорыва осенью 1916 года положение было таково: полки имели от 75 до 100% сверхкомплекта лошадей, а показывали некомплект около 50%, чем ставили высшие штабы и Брусилова перед тяжелой проблемой — способны ли мы еще вести подвижную войну при таком катастрофическом положении с лошадьми. Я также не смог стать в этом вопросе на государственную точку зрения, так как тайный сверхкомплект лошадей был нужен мне для многих целей — в том числе для запряжки восьми нештатных австрийских пулеметов, чтобы довести количество пулеметов в полку до жизненно необходимого максимума — 32»[129].
Неразберихе в отношении количества лошадей на фронтах способствовала и передача ряда прифронтовых губерний в подчинение фронтов. То есть население и администрация этих областей должны были подчиняться требованиям и распоряжениям военных властей. В числе прочих мер военные широко применяли реквизиции как продовольствия и фуража, так и тягловой силы. Крестьяне прифронтовых районов были обязаны определенное время (как правило, произвольно устанавливаемое военными властями) нести гужевую повинность для нужд Действующей армии. Произвол был столь велик, что в прифронтовых районах крестьяне продавали лошадей, дабы не нести эту самую тяжелейшую гужевую повинность. Итог — лишение крестьянских хозяйств тягловой силы, что вело к падению сельскохозяйственного производства. А ведь именно хлеб подчиненных военным властям областей служил первым подспорьем для снабжения войск в случае транспортных неурядиц. Это так называемые «местные средства», которые должны были выручать фронт при перебоях в снабжении.
Гражданские власти пытались противостоять военному произволу, хотя, понятное дело, как правило, безуспешно. Никаких административных санкций гражданские не имели, а потому единственным приемлемым способом воздействия на военных была система договоренностей. Часто — при посредничестве министерства земледелия, чей глава являлся председателем Особого Совещания по снабжению армии продовольствием и фуражом, а потому военные были вынуждены с ним считаться. Правда, и тогда гражданские власти могли разве что бессильно констатировать сложившуюся ситуацию, но не изменить ее. Например, совещание по вопросу об установлении твердых цен на хлебопродукты урожая 1916 года в Волынской губернии 27 — 29 июля указало, что «наряду с принудительным привлечением на военные работы людей в течение двух лет десятки тысяч подвод привлекаются по нарядам властей в состав обозов, обслуживающих воинские части, что подняло цены на рабочий труд лошадей до крайних размеров»[130].
Военные власти признавали тяжесть гужевой повинности, оправдывая ее необходимостью военного времени. Как всегда в России, организация входила в противоречие с объективными условиями — ведь количество лошадей в войсках было достаточно для того, чтобы не отвлекать крестьян от собственного хозяйства. Однако проконтролировать число лошадей в войсках высшие штабы не могли, а потому, ничтоже сумняшеся, накладывали обязательства на крестьян. Из обывательских лошадей составлялись целые конные транспорты, которые выполняли распоряжения военных начальников. И тяжесть повинностей признавалась чаще всего в кризисные периоды, когда в наибольшей мере проявлялась неизбежная зависимость фронта от тыла. Так, приказом по Особой армии от 5 февраля 1917 года за №144 указывалось, что «на транспорты возлагаются непомерно тяжелые работы, чрезвычайно быстро изнашивающие материальную часть и конский состав». Для пресечения данного явления прежде всего необходимо:
— предоставлять через три-четыре дня работы дневку или давать ежедневный отдых четверти конского состава;
— вес полезного груза для двуколки должен составлять не более тридцати пудов;
— суточный переход транспорта, не вызванный обстоятельствами боя, не должен превышать двадцати пяти верст.
Состояние ситуации с конским составом в Вооруженных Силах рано или поздно должно было сказаться на конских ресурсах тыла, раз уж войну не удалось завершить в короткие сроки. Правда, напряжение в смысле несения военно-конской повинности крестьянское хозяйство стало испытывать лишь с половины 1916 года. Расширение боевых действий, увеличение войсковых штатов, массовое поступление технических средств ведения боя требовали новых наборов тягловой силы в армию. Многочисленные злоупотребления интендантских служб и обозных чиновников, постоянный падеж лошадей в дальнем армейском тылу, донельзя гипертрофированное разбухание обозов приводили к тому, что в отделениях ремонта фронтов состояло до шестидесяти процентов общей штатной численности лошадей. Зачастую войска, особенно в районах, бедных железнодорожной сетью, скрывали реальную численность конского состава от соответствующих учетных органов. Для них гужевой транспорт оставался последней возможностью обеспечить людей продовольствием.
Даже тяжелой зимой 1917 года, когда людям и лошадям на фронте не хватало питания, на фронт продолжали идти эшелоны с пополнениями, занимая необходимые для подвоза продфуража вагоны и паровозы. Готовясь к весенним сражениям, высшие штабы как будто забыли, что сначала следует сохранить силы уже имевшихся в строю людей и лошадей, а уж потом подвозить резервы. Соотношение количества людей и лошадей в пехотных частях оставалось прежним: один к трем. Например, в феврале 1917 года в войсковых частях 12-го армейского корпуса состояло на продовольственном довольствии 64 717 человек и 19 288 лошадей, плюс 7789 человек и 1496 лошадей в организациях, обслуживавших корпус[131].
То есть уже имевшихся на фронте лошадей было нельзя кормить достаточной дачей. Но новые лошади продолжали прибывать и прибывать. Весной, когда в России полыхала революция, а на фронте, по идее, должно было бы начаться наступление, много лошадей было потеряно безвозвратно: «Конский состав армии весной, при теоретической норме в шестьдесят семь фунтов зернового фуража, фактически падал от бескормицы в угрожающих размерах, ослабляя подвижность армии и делая бесполезным комплектование ее лошадьми, которым грозила та же участь»[132]. Это и есть нецелевое использование конского запаса страны.
Помимо собственно самого фронта, нецелевое использование лошадей для войны ударило и по тылу. Основные издержки мер подобного рода несло на себе крестьянство, так как именно ему принадлежала львиная доля русских лошадей. Также цены на лошадь, подлежавшую набору в армию, как правило, были не менее чем на сто процентов ниже ее действительной стоимости. Такое явление приняло массовый характер уже в 1915 году, когда сдача проходила по 150 рублей при рыночной цене в 175 — 180. «Ножницы цен» имели тенденцию к росту в ходе войны: крестьянин терпел неизбежные убытки, сдавая свою лошадь военному ведомству. В периоды, когда лошадь особенно требовалась для сельскохозяйственных работ, цены на лошадей, естественно, возрастали. Причем не на двадцать процентов, как до войны, а более чем вдвое. Приведем местные цены Московской губернии на крестьянскую лошадь в рублях, варьирующиеся в ходе войны[133].
Правда, необходимо заметить, что общее поголовье лошадей в Российской империи в годы Первой мировой войны не претерпело особенных изменений. В этом отношении, как и во многих прочих, Россия могла еще продолжать успешную борьбу, и только беззастенчивая ложь оппозиции, клеветнически извращавшей действительные факты, позволила свершиться Февральской революции, затем планомерно скатившейся в Октябрь. Да, царская власть испытывала массу трудностей, и прежде всего в снабжении. Это подробно показано выше. Однако, преодолев трудный период времени года (зиму), русские вновь наращивали силы, решая возникавшие проблемы — по крайней мере частично, чтобы продолжать войну. Австро-германцы же были настолько истощены, что лишь великая Русская революция позволила им продержаться еще два года мирового конфликта, выключив из него Восточный фронт.
В 1914 — 1917 годах в Российской империи наблюдается рост числа конского поголовья в крестьянских хозяйствах, правда, идущий параллельно со снижением количества лошадей в рабочем возрасте — до 85% в 1916 году и 65% — в 1917 году. Однако этот факт свидетельствует лишь о временных затруднениях, вызванных войной, а общий рост поголовья имел вполне положительную роль с точки зрения перспективы — по окончании войны Россия не испытала бы никаких затруднений в отношении лошадиных сил. Экономического истощения страны не было и близко, а сокращение народного потребления во время войны — явление неизбежное. Исследователь Московского региона отмечает: «…затруднения 1914 — 1915 гг. носили большей частью временный характер и были обусловлены, с одной стороны, издержками ориентации хозяйства на условия военного времени, а с другой — иными, непосредственно не связанными с войной обстоятельствами. На это, в частности, указывает резкий рост молодняка в 1916 — 1917 гг., а как следствие, и общего поголовья. Причем лошадиное стадо за указанный срок увеличилось более чем на тринадцать процентов и, таким образом, значительно превысило даже уровень довоенных лет»[134].
В то же время итоги сельскохозяйственных переписей 1916и 1917 годов сводят данную проблему к величине вовсе ничтожной. Следует отметить, что эти данные были неполными (особенно для 1917 года) и касались только крестьян и только в Европейской части России. Как ни называй статистику, но до революции в России она проводилась достаточно добросовестно, за счет использования земских органов. Кроме того, военные переписи имели реальную задачу: выяснить возможности народного хозяйства Российской империи для продолжения борьбы. Так что фальсифицировать данные не было никакой нужды. Крестьянское хозяйство Европейской России накануне и в годы войны (по обеспеченности конским составом) — 1912 — 1916 гг. имело[135]:
* По переписи 1917 года.
По подсчетам статистиков, одна лошадь могла управиться с обработкой пяти десятин посева. Как кажется, с учетом этого наличного числа лошадей для обеспечения самого крестьянского хозяйства и образования товарного запаса во имя нужд фронта было недостаточно. Тем не менее в целом крестьянское хозяйство было обеспечено тягловой силой, хотя действительно реквизиционным мерам подверглись прежде всего лошади в возрасте четырех-пяти лет, в расцвете сил. Небольшие крестьянские наделы могли, с известной оговоркой, быть обработаны скотом и более старшего возраста. Поэтому перепись и отмечает общий рост числа рабочих лошадей. Помимо прочего, в конце 1915 года, как только выяснилось, что война затягивается на неопределенное время, а значит, надо заняться нуждами народного хозяйства страны, было твердо установлено, что в каждом крестьянском дворе обязательно оставляется пара лошадей.
В крупных помещичьих и хуторских хозяйствах оставлялись по две лошади на каждую десятину посева. То есть вдвое, а то и втрое больше. Причина этому заключается в том, что именно данный тип хозяйств давал главную долю товарного хлеба, который, собственно, и шел в армию, в то время как крестьянское хозяйство в годы войны имело тенденцию своего развития к натурализации — самообеспечению. Представляется, что это сравнительно справедливо: крупные хозяйства имели большую прибыль, однако только они и могли обеспечить фронт продфуражом.
Тем не менее крестьяне стремились к соблюдению «равенства» в несении военного тягла, а потому доводили до властей сведения о наличии лошадей у помещиков. Особенную силу это явление приобрело с развязыванием кампании «шпиономании» в 1915 году. Стремясь уклониться от ответственности за неудачный ход военных действий, Ставка и ряд высших штабов стали перекладывать эту ответственность на «происки темных сил». Для великого князя Николая Николаевича и его сотрудников это, разумеется, было легче и удобнее, нежели признаться стране и Вооруженным Силам в своей бездарности, халатности и одновременно нежелании добровольно уйти с занимаемых высоких постов. Обвинения следовали самые необычные, парадоксальные и невозможные. Тыл подхватил инициативу Ставки. Теперь практически любой донос связывался с деятельностью на благо противника. Например, крестьянская анонимка еще в марте 1915 года указывала: «…Прибалтийские бароны-патриоты, укрывающие лошадей от мобилизации, оказались и у нас в Новосильском уезде [Тульской губернии] в лице земского начальника 1-го участка В.Ф. Навроцкого и потомственного дворянина И.Н. Шатилова…»[136].
Даже Центрально-Черноземный регион, в котором было сосредоточено более половины всех однолошадных хозяйств Центральной России, находился в довольно благоприятном положении. Так, только Тульская губерния за 1914 — 1915 гг. поставила в армию 18 485 лошадей. К январю 1917 года эта цифра достигла 20 877 голов, причем намеченная допоставка — еще около 8000 голов. При этом к январю 1917 года в губернии было 302 250 лошадей (в 1915 году — 395 199)[137]. То есть перед нами расхождение между статистикой довоенных критериев определения рабочих возможностей лошади и новых оценочных условий, выдвинутых военным временем и воплощаемых на практике. Несмотря на то что военно-конская повинность ставила хозяйства различной состоятельности в неравное положение, данные статистики говорят о сохранении дворов без рабочего скота на предвоенном уровне. Другое дело, что одну лошадь в хозяйстве было нельзя реквизировать, и число таких хозяйств за годы войны увеличилось по сравнению с предвоенным периодом.
Кризис снабжения фронта конским составом, наряду с сокращением усилий по поставке в войска фуража, начался с осени 1916 года. В это время Северный и Западный фронты застыли в позиционной борьбе. Юго-Западный фронт постепенно останавливался в своих наступательных потугах, продолжая последние удары по Ковельскому укрепленному району. В то же время разворачивались боевые действия в Румынии, и постепенно на помощь неудачливому союзнику русские перебросили более четверти всех своих сил. В том числе и лошадей в составе кавалерийских дивизий, артиллерийских частей и разнообразных обозов.
Бой и желудок всегда взаимосвязаны. Положение являлось еще более тяжелым, так как снабжение армий Румынского фронта только по одному объективному состоянию инфраструктуры, по своему объему, отставало от снабжения любого другого русского фронта. А ведь помимо отступившей в Бессарабию румынской армии и полутора миллионов русских штыков и сабель русские должны были кормить еще и более миллиона румынских беженцев.
Тем не менее именно этот период сравнительного успокоения на всех фронтах, кроме Румынского фронта, был признан подходящим для проведения ряда реорганизационных мер по насыщению войск техническими средствами ведения боя. В сентябре 1916 года было решено сформировать шестьсот пять 8-пулеметных команд Кольта в связи с резким переломом в пополнении Действующей армии техникой. Увеличение собственного производства тяжелых станковых пулеметов системы Максима на Тульском оружейном заводе позволило отправлять в войска все то оружие, что поставлялось союзниками, в том числе и пулеметы.
В свою очередь, это мероприятие требовало по штату 34 485 лошадей, по пятьдесят семь голов на каждое подразделение — или примерно по семь лошадей на каждый пулемет. Пополнения требовались и в новообразуемые саперные и тыловые части. Согласно расчетам Генерального штаба, только на первое полугодие 1917 года Северному фронту было необходимо семьдесят семь тысяч лошадей, а Западному и Юго-Западному — по семьдесят восемь тысяч голов. Мобилизационный отдел Генерального штаба сначала предполагал не проводить новых реквизиций, а наладить поставку за счет сокращения в запасных учреждениях и частях.
Однако военачальники, как сообщает А.А. Свечин, часто имея от 75 до 100% сверхкомплекта лошадей, показывали некомплект до 50%, а потому Ставке не удалось провести образование новых подразделений посредством использования внутренних ресурсов своих войск. В результате в высших штабах полагали, что необходимой для маневренных действий конской тяги нет, и гнали лошадей на фронт, забирая их из тыла. А на фронтах лошади гибли от бескормицы, как только начинались проблемы с железнодорожным транспортом. Но даже и без транспортных проблем фуражная проблема являлась самой что ни на есть насущной проблемой.
Проведем нехитрый расчет для самого низового уровня. Уже говорилось, что предвоенный штат пехотного полка в лошадях — сто восемьдесят голов. Прибавив стопроцентный сверхкомплект, получаем триста шестьдесят голов. Но фураж идет только для штатного комплекта. Вследствие небрежностей даже пусть и объективного характера (например, то же гниющее без брезента сено) часть фуража портится — допустим, не более двадцати процентов. На выходе расчетов получаем, что фураж поставлен на сто сорок четыре лошади, а налицо их — триста шестьдесят. Вот и дели как хочешь! А если отсутствуют местные средства, то приходится лихорадочно посылать людей в глубокий тыл, пытаясь закупить фураж по повышенным ценам. Между тем в тылу действуют запретительные нормы, введенные Особым Совещанием по продовольствию, и ситуация купли-продажи фуража контролируется уполномоченными министерства земледелия.
Именно здесь и кроется главная причина падежа конского состава Действующей армии. Характерно, что спекуляции с конским составом имели опыт — период русско-японской войны 1904 — 1905 гг. За десять лет до Первой мировой войны командиры различных уровней точно так же махинаторствовали с лошадьми. Только в Маньчжурии это делалось с целью присвоения казенных денежных средств, а в Польше и Галиции — во имя тягловой силы для распухших от невоенных грузов обозов. Так, В.В. Вересаев вспоминал о махинациях начальства одного из пехотных полков: «Из обозных лошадей двадцать две самых лучших мы продали и показали, что пять сбежало, а семнадцать подохло от непривычного корма. Пометили: «Протоколов составлено не было». Подпись командира полка… А сейчас у нас числится на довольствии восемнадцать несуществующих быков»[138].
Зимой 1916/17 года это сказалось особенно ярко: министерство путей сообщения и все вышестоящие штабы забрасывались слезницами о помощи гибнущим лошадям, но никто не посетовал на отвратительную постановку дела учета конского состава в армиях и корпусах. Никто не заметил, что внештатные лошади скрываются командирами полков и дивизий. Например, только в Сибири к марту месяцу в распоряжение Главного управления Генерального штаба было передано около тридцати тысяч лошадей для обозных, пулеметных, артиллерийских частей, которых было невозможно вывезти в европейскую часть России.
А ведь скрыть от людей факт перенасыщения фронта лошадьми было невозможно. Отпускники, в том числе и офицеры, находясь в тылу, открыто свидетельствовали, что «конский состав фронта, и особенно тыловых учреждений, используется далеко не полностью», вследствие чего и образуется сверхкомплект. То есть вместо того, чтобы передать тылу часть лошадей в сельское хозяйство, фронт, напротив, требует еще лошадей, хотя, в принципе, в них не нуждается. Именно это обстоятельство, кстати говоря, явилось главной причиной массового падежа лошадей на фронте начиная с зимы 1917 года, когда железнодорожный транспорт не мог в надлежащей степени справляться со своими обязанностями снабжения фронта. Например, штаб Северного фронта 19 апреля 1917 года сообщал в Главное управление Генерального штаба, что так как нет фуража, то нужно немедленно прекратить подвоз лошадей, а фронт должен изыскать «средства более производительного использования конской тяги имеющимися коневыми средствами армий»[139].
Ставка же вместо борьбы с лживыми сведениями командиров приказывала разъяснять войскам вред разглашения таких сведений в тылу, чтобы не волновать население. То есть рассудили, как всегда в России, — скрыть произвол и некомпетентность власть предержащих, лишь бы сохранить статус-кво и усилить нажим на низы в данном конкретном случае в смысле новых реквизиций. Так, дежурный генерал при Верховном Главнокомандующем ген. П.К. Кондзеровский 30 января 1917 года сообщал главнокомандующему армий Западного фронта ген. А.Е. Эверту: «…многие возвращающиеся из армии офицеры и нижние чины сообщают населению, что конский состав фронта, и особенно тыловых учреждений, используется далеко не полностью, и в различных учреждениях нередко образуется значительный сверхкомплект лошадей. Эти рассказы крайне волнуют население…» Ставка полагала, что необходимо разъяснять офицерскому составу весь вред этих разговоров[140].
Как известно, император Николай II возлагал свои последние надежды по удержанию страны от революции на весеннюю кампанию 1917 года. Во имя этого делалось все, что возможно: это сражение было нужно выиграть во что бы то ни стало и закончить наконец-то затянувшуюся войну. В связи с предстоящими операциями в начале 1917 года было предположено провести новые реквизиции конского поголовья внутри империи. Так, Ставка Верховного Главнокомандования в предписании главному полевому интенданту от 2 декабря 1916 года указывала, что к лету 1917 года в войсках должно быть около двух миллионов лошадей. В то же время сетования на исчерпание конского ресурса страны, без изменения существующего законодательства, не принимались во внимание. Действительно, положения дел в деревне не смогла выправить и практика уступки бракованных лошадей из отделений конского запаса и войсковых частей по особой оценке специальных комиссий на основании приказа № 343 по военному ведомству за 1916 год[141].
К 1 января 1917 года, по данным интендантства, положение дел с конским составом на фронтах (без войск военных округов и тыловых гарнизонов) обстояло следующим образом[142]:
Разумеется, власти отлично сознавали взаимосвязь между положением в сельском хозяйстве и военными нуждами. Поэтому Ставка предложила первоначально закупать лошадей, прежде чем приступить к практике реквизиции. Главное управление Генерального штаба отметило, что покупки не могут дать много лошадей и тем более значительного их количества сразу, порекомендовав фронтам и армиям сообщить свои потребности. Кроме того, как и раньше, Генеральный штаб настаивал на сокращении конского состава в тыловых службах Действующей армии и передаче лошадей, которые могут быть даны без ущерба боевым интересам, на фронт: «Только при условии полной экономии в лошадях со стороны армий явится возможность действительно удовлетворять их потребности конским составом путем покупок».
Действительно, в отличие от фронтовых командований, почему-то полагавших, что людей и лошадей не может быть слишком много, и требовавших все новых и новых эшелонов с пополнениями, Генеральный штаб старался оставаться на государственной точке зрения. Как назревал кризис человеческих ресурсов (всего полтора миллиона людей, остававшихся еще вне призыва), точно так же начинала проявляться нехватка лошадей для фронта. Рабочих рук (люди) и тягловой рабочей силы (лошади) в русской деревне начинало не хватать. А деревня — это продовольствие и фураж. Следовательно, к 1917 году русское военное ведомство уже приблизилось к той грани, за которой начиналась разруха народного хозяйства вследствие нехватки производительных мощностей.
В этих условиях Генштаб и военное министерство старались делать все от них зависящее, раз уж ни Ставка, ни фронты не обращали внимания на объективное положение дел. Например, в тыловые войска лучших лошадей с осени 1916 года не давали вовсе. Так, 26 февраля 1917 года мобилизационный отдел Главного управления Генерального штаба сообщил в канцелярию главного начальника снабжений армий Северного фронта, что «в конские запасы тыловых округов верховые лошади попадают от населения как редкое исключение, так как по военно-конской повинности и по реквизиции означенные лошади вовсе не берутся, дабы сохранить их у населения для ремонтных комиссий, комплектующих покупкой верховых лошадей запасные кавалерийские полки»[143]. Приоритет оснащения лошадьми кавалерии, а не обозов и тыловых структур, несомненен.
В любом случае вопрос о широкомасштабной реквизиции в преддверии кампании 1917 года, долженствовавшей носить решительный характер, был решен. В январе 1917 года военный министр, министр внутренних дел и министр земледелия должны были договориться о распределении между губерниями Европейской России количества подлежащих реквизиции лошадей, которая должна была проводиться при посредничестве земских учреждений. Предполагалось, что вместе с ранее поставленными в ходе военных действий лошадьми эта цифра составит около двенадцати процентов лошадей рабочего возраста, если исходить из данных военно-конской переписи 1912 года. Это небольшая цифра для страны, уже два с половиной года ведшей мировую борьбу. Было решено, что в тех уездах, где земства откажутся от реквизиции, набор конского состава следует проводить по правилам военно-конской повинности, но по принципам разверстки, указанным губернской земской управой. Министерство внутренних дел, в принципе, не было против реквизиционных мер, предложив губернаторам «безотлагательно сделать все необходимые распоряжения к успешному и своевременному выполнению в пределах губернии реквизиции», каковую предполагалось закончить за две недели до начала полевых работ[144].
Однако в феврале — марте 1917 года с мест в центр обрушился шквал телеграмм с просьбами отложить либо отменить вовсе разверстку лошадей. Данное условие было необходимо ввиду угрозы волнений, нарушения хозяйственных интересов населения, транспортного кризиса, недостатка рабочего скота и т.д. Порочность практики реквизиций в условиях тяжелой зимы подтвердило и поведение местных гражданских властей. Уже в феврале Генеральный штаб был засыпан рапортами из военных округов, в которых отражался ход проблемы внутри страны.
Только в Московском военном округе от реквизиции лошадей отказались сорок одна уездная земская управа: Валуйская, Скопинская, Галичская, Кинешемская, Нерехтская, Солигаличская, Котельническая, Богородская, Клинская, Макарьевская, Богучарская, Нижнедевицкая, Тульская, Алексинская, Богородицкая, Белевская, Веневская, Епифанская, Ефремовская, Каширская, Крапивенская, Новосильская, Одоевская, Чернская, Нижегородская, Владимирская, Александровская, Вязниковская, Пороховецкая, Ковровская, Меленковская, Муромская, Переяславская, Покровская, Судогорская, Суздальская, Шуйская, Юрьевская, Костромская, Варнавинская, Юрьевецкая. Остальные уезды просили отложить реквизицию ввиду опасения возможности волнений, нарушения хозяйственных интересов населения, кризиса гужевого транспорта и т.д. Военный министр ген. М.А. Беляев в конечном счете оказался вынужденным приостановить практическое воплощение данного мероприятия.
Уже после Февральской революции приказом военного министра от 7 марта по военным округам реквизиционные меры были приостановлены «впредь до особых распоряжений», ибо теперь уже свеженазначенные комиссары отказывались от производства набора лошадей для армии. Тем не менее фронты требовали наивозможно скорейшего пополнения конских запасов Действующей армии, сообщая о прогрессирующем некомплекте ввиду формирования новых подразделений и подготовки к решающим операциям. Попытка замены реквизиций закупками со стороны органов Земского Союза и Ремонтирования Армии провалилась. Впрочем, этого следовало ожидать, так как именно такой результат был просчитан еще царскими министрами. Надежды же лидеров Временного правительства на то, что их власть, в отличие от монархии, почему-то является непременно «народной», были ничем не обоснованы.
Крестьянство же, в свою очередь, весной 1917 года настаивало на возврате забранных для нужд армии лошадей, ссылаясь на то, что лошади были «взяты по-старому неправильно». В этих условиях Главное управление Генерального штаба предложило командованию военных округов разъяснить населению, что «лошади крайне необходимы для нужд действующих армий, при наступающих боевых действиях, и поэтому все лошади, уже принятые, подлежат немедленному направлению по данным нарядам». Стремясь избежать эксцессов, Временное правительство в заседании 23 марта постановило «немедленно сдать лошадей военному ведомству» «во имя интересов армии»[145].
В 1917 году на Действующую армию навалилось то явление, которое давным-давно ожидалось и прогнозировалось, — массовый падеж лошадей в войсках. Сначала это происходило вследствие затруднений со снабжением фуражом зимой — весной. Затем — в связи с увольнением солдат старших сроков службы, которые в основном и служили в обозах и тылах. А.И. Деникин сообщает, что увольнение солдат старше сорока лет на сельскохозяйственные работы внутрь страны и демобилизация лиц старше сорока трех лет имели следствием начало стихийной демобилизации. Помимо прочего, «некоторые полки, сформированные из запасных батальонов, потеряли большую часть своего состава; войсковые тылы — обозы, транспорт — расстроились совершенно, так как солдаты, не дожидаясь смены, оставляли имущество и лошадей на произвол судьбы. Имущество при этом расхищалось, лошади гибли»[146].
Чтобы не допустить гибели конского состава, военные должны были взяться за дело сами. В отличие от дореволюционного периода, когда еще возможно было что-то потребовать (пусть не всегда эти просьбы удовлетворялись), теперь любое мероприятие проходило «вхолостую». Представители войск отправлялись в глубь страны и, пользуясь наличием в полках громадных сумм, скопленных за время войны, скупали продфураж. Гражданские власти старались не допускать самочинных закупок, заваливая центр жалобами на произвол. Нельзя не отметить, что крестьяне охотнее продавали продукты военным: во-первых, потому что военные давали большую цену, не обращая особого внимания на вводимые правительством твердые цены; во-вторых, крестьянство сознавало, что этот хлеб пойдет на фронт, а в каждой семье были свои фронтовики. То есть крестьяне, не желая отдавать хлеб абстрактному государству по твердым ценам, отдавали его военным представителям — фактически непосредственно своим же детям, служившим в армии.
Таким образом, конфликт интересов между военными и гражданскими властями в смысле снабжения Действующей армии, несмотря на кажущееся единство вертикали власти, в период революции углублялся и усугублялся. Провозглашаемая Временным правительством хлебная монополия осталась пустыми словами: деревня скорее согнала бы хлеб на самогон, нежели отдала бы его по твердым ценам. Хлеб приходилось отбирать, так как уговоры по мере развития революционного процесса действовали все меньше. И потому центр закрывал глаза на самоснабжение фронта, на бумаге, впрочем, резко осуждаемое. Иного выхода не было: революционные органы продовольственного снабжения работали куда хуже царских: лишь опора на кооперативы позволила Временному правительству поднакопить немного продфуража к осени, да и то все это досталось большевикам. О характере происходивших процессов снабжения в революционное время говорит телеграмма главнокомандующего армий Западного фронта ген. В.И. Гурко министру продовольствия, начальнику штаба Верховного Главнокомандующего и главному полевому интенданту от 27 мая 1917 года: «…Губернские и уездные продовольственные комитеты жалуются на самостоятельную покупку представителями войсковых частей главным образом фуража по ценам, превышающим установленные министром земледелия, заявляя, что такие покупки вносят дезорганизацию в дело заготовок… трудность положения в том, что фураж есть, но те учреждения, которые обязаны снабжать им войска, найти фураж не хотят или не умеют, а когда войска находят фураж и рады заплатить сколько угодно, лишь бы спасти от падежа голодающих лошадей, их обвиняют в повышении цен и запрещают покупать… следует обязать комитеты искать фураж, как ищут и находят войска, а не пользоваться тем, что найдут войска… прошу категорических указаний продовольственным комитетам о необходимости полного использования каждым своего района при самом широком применении в подлежащих случаях реквизиции. Только таким путем возможно удовлетворить потребности армии, избежать самостоятельных войсковых заготовок и справедливых нареканий армии на недостаточное удовлетворение их потребности»[147].
Таким образом, революция не только не разрешила тех проблем, что получила Россия с вступлением в Первую мировую войну, как обещала антиправительственная пропаганда либеральной буржуазии, рвавшейся к власти любыми средствами. Эти проблемы лишь усугубились и еще больше ломали народное хозяйство страны. Населению, отчетливо видевшему банкротство политики новой власти, ничего не оставалось, как сосредотачиваться на самовыживании. Провал июньского наступления, наряду с нежеланием Временного правительства передать крестьянству Землю и заключить мир, во имя чего, собственно говоря, деревня и фронт вообще поддержали революционеров, показал, что надеяться на власть невозможно.
В завершение главы остается привести только несколько цифр. Конский состав на театре военных действий (по статистическим данным сборника 1925 года):
— на 1 октября 1914 года — 670 775 (100%);
— на 1 января 1915 года — 1 035 682 (154%);
— на 15 мая 1915 года — 1 072 178 (159%);
—на 1 февраля 1916 года — 1 589 909 (237%);
— на 1 июня 1916 года — 1 672 430 (249%);
— на 1 ноября 1916 года — 1 804 817 (269%);
— на 1 сентября 1917 года — 2 760 000 плюс 404 000 в составе общественных организаций.
Хотелось бы добавить к этим цифрам немного архивных материалов, которые несколько разнятся с приводимыми выше данными интендантства, а также отличаются от цифр статистического сборника. Очевидно, что эта разница образовывалась за счет отсутствия единства в подсчетах. Следует отметить, что проводимые различными инстанциями во время войны переписи людей на фронте и то сильно отличались друг от друга. Например, сведения дежурного генерала при Ставке Верховного Главнокомандующего, куда стекались все статистические данные из Действующей армии в отношении количества людей, могли порой на четверть отличаться от данных интендантства. Одни считали «штыки и сабли», другие — «едоков», а в документации проходили разные цифры. Начальник штаба Верховного Главнокомандующего ген. М.В. Алексеев неоднократно негодовал на неразбериху, требуя точных сведений, однако дело так и не было разрешено до конца войны. В 1917 году, после Февраля, статистика еще более запуталась, что вообще позволяет говорить о любых цифрах этого периода, за исключением, быть может, октябрьской однодневной переписи Действующей армии, как о приблизительных. Так или иначе, следует говорить не столько о точности тех или иных цифр, сколько о тенденциях, отражавших реальное положение дел на фронтах войны.
Согласно всеподданнейшему докладу, подведшему итоги кампании 1915 года, по данным военного министерства, к 1 декабря 1915 года в Действующей армии числилось 1 342 032 лошадей[148]. Можно сравнить эту цифру с австро-венгерскими данными. Перед войной в Австро-Венгрии поголовье лошадей составляло 3 900 000 голов. В конце 1915 года общее поголовье сократилось до цифры в 2 100 000. Соответственно, согласно сведениям австрийского военного архива, в начале войны на двух фронтах (Русский и Сербский театры военных действий) насчитывалось 704 000 лошадей. То есть больше, чем у русских, по данным статистического сборника на 1 октября 1914 года. А ведь не следует забывать, что к октябрю месяцу на Восточном фронте действовали еще две германские армии — 8-я и 9-я. К концу 1915 года австро-венгерские армии на трех фронтах (Русский, Балканский и Итальянский) имели 944 000 лошадей[149]. Это — почти на треть меньше, чем в одной только русской армии (правда, надо учитывать русский Кавказский фронт). С другой стороны, в конце 1915 года на Востоке сражались семь германских армий — 8, 9, 10, 11, 12-я, Южная, Бугская (две последние — смешанные австро-германские армии). В свою очередь, немцы в начале войны имели свыше 1 088 000 лошадей, мобилизованных в вооруженные силы. Напряжение конского состава в Германии было столь велико, что в 1918 году общее поголовье немецких лошадей сократилось на четверть (в то время как в России к моменту выхода из войны поголовье оставалось примерно на предвоенном уровне)[150].
Возвратимся к России. Согласно данным Главного управления Генерального штаба, к 1 октября 1916 года в Действующей армии состояло 1 808 004/1 773 229 лошадей (по списку/налицо). В том числе Северный фронт ген. Н.В. Рузского имел 387 528/385 089 лошадей, Западный фронт ген. А.Е. Эверта — 417 588/ 410 555 лошадей и Юго-Западный фронт ген. А.А. Брусилова — 860 000/ 843 000 лошадей. Кавказский фронт ген. Н.Н. Юденича насчитывал 142 888/134 585 лошадей[151].
В начале 1917 года русская Действующая армия насчитывала 1 699 035/1 508 077 лошадей (всего/в боевых частях). В том числе Северный фронт имел 345 814/ 307914 лошадей, Западный фронт — 441 160/359 677 лошадей, Юго-Западный фронт — 596 065/525 722 лошадей, Румынский фронт — 315 996/314 764 лошадей. О Кавказском фронте сведений нет[152]. Это количество лошадей приходилось на 6 309 525/4 673 593 человек. Таким образом, общее соотношение людей и лошадей на фронте составляло 1:3,7, а в боевых частях — 1:3. Следовательно, предвоенное соотношение людей и лошадей, показанное ген. Н.Н. Янушкевичем (см. выше) как 1:5, оказалось существенно превзойденным. В боевых частях — полтора миллиона лошадей на четыре миллиона семьсот тысяч людей.
Разруха железнодорожного транспорта в 1917 году, наряду с увеличением фактически бездельничавшей Действующей армии, возложила снабжение войск на плечи гужевого транспорта. Отсюда — рост лошадей на фронте. К 1 сентября 1917 года в русской Действующей армии находилось 3 164 000 лошадей — 470% от численности конского состава войск в начале войны. Много это или мало? Так, в достаточно высокотехнологичной армии фашистского вермахта в 1945 году насчитывалось около двух миллионов лошадей. В то же время общая численность автопарка СССР в 1945 году насчитывала 664 500 машин. Впрочем, зачем ходить далеко? В германской армии периода Первой мировой войны, широко использовавшей узкоколейки на театре военных действий и резко сократившей свою кавалерию в войсках, имевшей мощную железнодорожную сеть общего назначения, в мае 1918 года состояло 956 850 лошадей[153].
Глава 4 РУССКАЯ КОННИЦА: ТАКТИКА И ОГОНЬ
С самого начала Первой мировой войны в боевой деятельности русской кавалерии выявилось несколько определяющих тенденций, господствовавших в течение всей войны. Во-первых, это выдающаяся отвага атак русской конницы на неприятеля, правда, соединениями не свыше дивизии. Во-вторых, это предпочтение конного боя («шока») всем прочим действиям, а также склонность вести скорее оборонительный бой, нежели наступательный. В-третьих, это неумение кавалерийских начальников руководить большими конными массами в общевойсковом бою, зачастую даже кавалерийские дивизии не оправдывали своего предназначения. Следствием стало отсутствие конницы в общем бою пехоты и артиллерии; исключение — конные атаки на неприятеля (как правило, силами не свыше полка), дабы прикрыть отход пехоты. Неумение вести маневренные действия, организовать преследование, ввести конницу в прорыв, к сожалению, стали отличительными чертами боевой деятельности русской конницы в войне. Кавалерийские начальники всеми силами старались беречь вверенных им людей вплоть до пренебрежения выполнением поставленной задачи. Исключения — несколько выдающихся командиров — не смогли исправить общей картины. К тому же именно в среде кавалеристов особенно сильно господствовали безобразные корпоративные отношения, выражавшиеся в приоритете придворных связей в системе назначений и производства перед боевыми заслугами.
Уже в августе 1914 года все эти тенденции проявили себя и принесли разочарование в среду пехотинцев и артиллеристов, выносивших на себе тяжесть сражений. О действиях стратегической конницы в Восточной Пруссии будет сказано ниже. Что же касается кавалерии Юго-Западного фронта, то с объявлением мобилизации и до перехода русских армий в наступление она блестяще выполнила поставленные задачи — действия русской конницы перед началом Галицийской битвы позволили русскому командованию скрыть группировку и сосредоточение своих войск. Кроме того, в ряде столкновений и стычек с австро-венгерской кавалерией русская конница вышла победителем, оттеснив противника в глубь его территории, что облегчило развертывание русских армий в приграничной полосе.
В ходе Галицийской битвы кавалерия, которая, разумеется, не могла на равных вести огневой бой с неприятельской пехотой, использовалась командованием в качестве подвижных резервов. Искусно маневрировавшая кавалерия позволяла своей пехоте перевести дух и занять более выгодные условия для ведения боя. Первый погибший в войне русский генерал — Сводная кавалерийская дивизия 5-й армии — ген. СП. Ванновский (бой под Каменкой Струмиловой). Конечно, не во всех армиях Юго-Западного фронта конница действовала одинаково хорошо, хуже всех — в сдерживавшей главный удар австро-венгров 4-й армии ген. А.Е. Эверта. Но зато именно конница сумела предотвратить разгром 19-го армейского корпуса 5-й армии, а вместе с тем — и поражение всей армии в сражении под Томашовом. Здесь отличилась 1-я Донская казачья дивизия ген. А.Д. Кузьмин-Короваева, которая превосходным сочетанием огня и маневра сорвала планы противника по окружению и уничтожению 19-го армейского корпуса ген. В. Н. Горбатовского.
Включение в состав фронтов крупных масс подвижных войск обеспечивает устойчивость их в обороне и расширяет возможности ведения наступательных операций в высоком темпе, с решительными целями. Однако конница Юго-Западного фронта действовала разрозненно — отдельными кавалерийскими дивизиями, действовавшими совместно с армейскими корпусами. Безусловно, отсутствие кавалерийских корпусов сильно сковывало действия кавалерии, делая ее придатком пехотных дивизий, так как взятая сама по себе отдельно одна кавалерийская дивизия не могла добиться того впечатляющего успеха, что решил бы судьбу сражения. Например, в сражении 17 августа 1914 года на Гнилой Липе, «когда 10-й корпус овладел высотами западного берега р. Гнилой Липы у д. Бржуховице и прорвал фронт австрийцев, в прорыв бросилась 10-я кавалерийская дивизия. Переправившись через Гнилую Липу, кавалерия нагнала отходящих австрийцев и обратила их в бегство по направлению к Свиржу. Вслед за тем атаковала в конном строю колонны австрийцев, следовавшие от Бржуховице на Свирж. Развернувшие пять линий пехоты австрийцы не могли устоять против энергичной атаки и побежали на подходящие части 10-го корпуса. В этом бою 10-я кавалерийская дивизия взяла 4 гаубицы и много пленных. Этим действия этой дивизии и кончились, так как не были поддержаны находившимися невдалеке двумя другими дивизиями»[154].
Конница необходима на растянутых флангах для увеличения разрыва фронта противника. Но массовые атаки на нерасстроенную неприятельскую пехоту уже невозможны в силу развития техники. Пехота придает коннице устойчивость при обороне, и достижение более решительного успеха при атаке — комбинированный бой родов войск. Следовательно, русское командование в первых же операциях старалось использовать кавалерию в спешенных боевых порядках как средство усиления общего огневого фронта. Исследователь пишет: «Конница обоих противников вышла на войну с вооружением, мало отвечающим условиям ведения огневого боя. Поэтому стратегическая разведка конницы не дала тех результатов, которые ожидались командованием в тех частых случаях, когда конница встречала даже небольшие пехотные части противника. Зато мы видим поучительные примеры использования крупных кавалерийских масс, как оперативных резервов командования. Пользуясь подвижностью конницы, австрийское и русское командования направляют кавалерийские корпуса в угрожаемые районы, обычно в прорыв или на фланги армий, где они обычно в спешенных строях сдерживали наступающую пехоту противника (бои у Равы-Русской, Томашевское сражение и др.)»[155].
То есть конница зачастую использовалась в качестве пехотного прикрытия для удержания важных позиций в общем фронте наступающих (или обороняющихся) русских частей. Порой такой подход оправдывался нехваткой пехоты для выполнения поставленной задачи. Так, на завершающем этапе Галицийской битвы русская 8-я армия (ген. А.А. Брусилов) была вынуждена сдерживать контрудар сразу двух австро-венгерских армий — 3-й и 2-й, рвавшихся на выручку к окружаемой 4-й австрийской армии. Пехоты не хватало, и спешенная конница занимала окопы вперемешку с пехотинцами. Так, только своевременная поддержка всадниками 12-й кавалерийской дивизии (ген. А.М. Каледин) спасла от поражения 24-й армейский корпус ген. А.А. Цурикова, оборонявшийся против двойных сил неприятеля. Девятнадцать эскадронов дрались в спешенном строю, а еще пять эскадронов в конной атаке опрокинули 38-ю гонведную дивизию, выходившую русским в тыл. Такие действия были для генерала Каледина не первыми: точно таким же образом он действовал в сражении на Двух Липах, закрывая внутренние фланги корпусов 3-й армии ген. Н.В. Рузского. Высочайший приказ от 7 октября 1914 года, относившийся к 12-й кавалерийской дивизии ген. А. М. Каледина, гласил: «В сражении при Гнилой Липе 16 августа 1914 г. по своей инициативе, спешив (выделено. — Авт.) всю дивизию и заняв своей артиллерией позицию… предотвратил прорыв значительных сил противника… и удержался до подхода к утру 17 августа пехотного полка»[156].
Русские армии Юго-Западного фронта перешли в общее контрнаступление 21 августа, переломив операцию в свою пользу. В этот же день, 21-го числа, главнокомандующий армий Юго-Западного фронта ген. Н.И. Иванов, определяя задачи командармам, в своем оперативном приказе отметил: «Всем армиям иметь кавалерию ближе к противнику, которой всемерно развивать самые энергичные действия в его тылу и на флангах». После поражения австрийцев конница должна была довершить разгром неприятеля «жестоким преследованием»[157]. Между тем преследование врага должно вестись на широком фронте. Русские же военачальники собирали все силы в кулак и ждали открывающейся возможности к массированной атаке, которая при современном огне, как правило, не может удаться. Маневр крупных войсковых соединений без конницы не может привести к полному результату.
Однако же что значит «кулак»? Это — сосредоточенная на узком фронте кавалерийская дивизия. Образовать же большие конные массы в ходе Галицийской битвы штаб Юго-Западного фронта не сумел. Правда, уже в ходе преследования в 5-й армии была образована сводная кавалерийская группа ген. А.М. Драгомирова, но ее действия оказались безрезультатными вследствие пассивности командиров. Генерал-квартирмейстер 3-й армии вспоминал: «Еще в самом начале Львовской операции я обратил внимание на странный обычай конницы — отходить на ночлег за свою пехоту. В действиях трех кавалерийских и одной казачьей дивизий, входивших в состав [3-й] армии, не было заметно той решительности, которую следовало проявить. Вероятно, это происходило потому, что конницу придали армейским корпусам, а не собрали в кулак, как это следовало сделать. Должно быть, мы переоценивали и боевые свойства конников»[158]. При таком подходе телеграмма главкоюза ген. Н.И. Иванова командармам: «Из поступающих донесений о первых столкновениях усматриваю, что отбитый противник даже при наличии большого числа нашей кавалерии отходит незамеченным, соприкосновение утрачивается, не говоря уже о том, что преследование не применяется» — отражала реальное положение вещей. Именно в начале войны, и как раз на Юго-Западном фронте, произошло самое большое конное сражение Первой мировой войны: столкновение в открытом бою двух дивизий — русской и австро-венгерской. Как говорилось выше, в ходе сосредоточения русская конница сумела скрыть это мероприятие от неприятельской кавалерии, ведшей ближнюю разведку и пытавшейся пробиться сквозь русские заслоны в приграничных боях. Прежде всего это относится к 8-й армии ген. А.А. Брусилова, образование которой из так называемой «Проскуровской группы» явилось своеобразным импровизационным моментом в развертывании Юго-Западного фронта. В результате противник, ожидавший встретить перед собой восточнее Львова одну сильную русскую армию — 3-ю, оказался перед перспективой борьбы с двумя русскими армиями. Недооценка гибкости русского развертывания стала одной из основных причин поражения 3-й австрийской армии в сражении на Двух Липах.
Рассчитывая на своевременный подход армейской группы ген. Г. Кёвесса фон Кёвессгаза, австро-венгерский командарм-3 ген. Р. фон Брудерман бросился вперед, на 3-ю русскую армию ген. Н.В. Рузского. Однако вместо Кёвесса к полю сражения подошла русская 8-я армия, перед тем в двухдневном затяжном бою разгромившая группу Кёвесса. Исход сражения восточнее Львова был предрешен. Н.Н. Головин так пишет о результате «доблестной работы нашей кавалерии» в завязке Галицийской битвы: «…везде наша кавалерия имела успех и оттесняла австро-венгерскую конницу с громадными для последней потерями. Постоянный боевой успех нашей конницы и приводит к тому, что глаза австро-венгерского высшего командования оставались все еще завязанными, в то время как наше высшее командование уже могло увидеть действительную обстановку»[159].
Итак, для того чтобы скрыть сосредоточение, русская конница Юго-Западного фронта бросилась вперед. В отличие от немцев, австро-венгерская кавалерия, усиленная местной жандармерией и отрядами ландштурма, не отказывалась от кавалерийских боев. В результате 7 — 10 августа вдоль всей австро-русской границы заполыхали конные бои, но теперь уже — не мелкие стычки разъездов, а рукопашные сражения целых дивизий. Наиболее известным из них стало одно из самых больших кавалерийских сражений Первой мировой войны у Ярославице[160]. Поэтому оно, наверное, заслуживает несколько более подробного описания.
7 августа русские 9-я (ген. князь К.С. Бегильдеев) и 10-я (ген. граф Ф.А. Келлер) кавалерийские дивизии из состава 3-й армии атаковали австрийские заслоны из ландштурмистов и жандармов, чтобы захватить переправы через реку Серет у местечка Залощице. В ходе боя русская конница разошлась по разным направлениям, дабы очистить свой берег реки от противника. На следующий день, 8-го числа, к месту переправы подошла австрийская 4-я кавалерийская дивизия генерала Э.-Р. фон Зарембы, которая вместе с пехотой (около батальона) попыталась выбить русских из данного района.
К этому времени у деревни Ярославице находилась лишь одна 10-я русская кавалерийская дивизия, подход 9-й кавдивизии ожидался только во второй половине дня. Тем не менее генерал Келлер решил принять бой, несмотря на неравенство в силах: помимо пехоты, генерал Заремба имел «лишних» восемь эскадронов. Дело в том, что пять сотен 1-го Оренбургского казачьего полка (полковник Тимашев) атаковали австрийскую пехоту, опрокинув ее и рассеяв по местности, но как раз в этот момент австрийская конница и начала свою атаку. Таким образом, в завязке сражения русские казаки имели дело с австрийской пехотой, оборонявшейся в Ярославице, что позволило австрийской коннице получить перевес над русской.
Этот бой протекал в классической манере. Конные массы выстроились друг напротив друга одной линией. При этом противник имел шесть эскадронов во второй линии, а у ген. Ф.А. Келлера резервов уже не было: помимо пяти сотен оренбуржцев, дравшихся с пехотой, еще одна сотня казаков в это время заходила неприятелю в тыл, чтобы занять переправу. А два эскадрона 10-го гусарского Ингерманландского полка (командир — полковник Богородский) находились в боевом охранении и не успели принять участия в первой фазе боя. Таким образом, в полном составе конкомдив-10 имел только 1-ю бригаду генерала Маркова: 10-й драгунский Новгородский полк (полковник Клевцов) и 10-й уланский Одесский полк (полковник Данилов). 3-й Донской артиллерийский дивизион полковника Персианова обеспечивал артиллерийскую поддержку 10-й кавалерийской дивизии. В этом бою донские конные батареи сначала нейтрализовали австрийскую конную артиллерию, а затем своим огнем внесли расстройство в ряды австрийской кавалерии. В итоге русские орудия поддерживали своих, а австрийская артиллерия — нет, что помогло гусарам, атаковавшим с левого фланга, атакой взять неприятельские орудия[161].
Неудивительно, что граф Келлер решительно атаковал превосходящие силы противника — он всегда придерживался такого подхода, отказываясь от склонности многих русских кавалерийских начальников «беречь» конницу, не допуская ее до боя. Особенно ярко эта «бережливость» выразилась в действиях армейской конной массы 1-й русской армии ген. Г. Хана Нахичеванского в Восточной Пруссии, что не позволило русской коннице выполнить возложенные на нее боевые задачи. Еще в 1910 году Ф.А. Келлер писал: «Во всех почти учебниках тактики мы находим, что кавалерия — такой дорогой род оружия, который надо беречь, дабы не подвергать напрасным потерям… [однако] как только раздался первый выстрел, сбережение конницы неуместно, ее место в конном или пешем строю, но непременно в первых рядах сражающихся частей, она должна жертвовать собой, нести громадные потери и добиться громадных результатов»[162]. К сожалению, громадное большинство русских кавалерийских начальников не разделяли данную точку зрения.
Как то и следовало, после построения друг напротив друга конные массы бросились навстречу друг другу. В рукопашной рубке приняло участие около трех тысяч всадников с обеих сторон. Постепенно чаша весов стала склоняться на сторону австрийцев: их вторая линия прорвала русские ряды. Долгому сопротивлению русских, несмотря на перевес сил у неприятеля, во многом способствовало то обстоятельство, что австрийская конница не имела на вооружении пик, что и позволило русской коннице иметь превосходство в первых боях 1914 года. Офицер-кавалерист П. Маковой, в начале войны служивший в 14-й кавалерийской дивизии, писал: «Не знаю почему, но в душе каждого из нас, офицеров и солдат, какое-то подсознательное чувство говорило, что воевать с немцами будет труднее, чем с австрийцами. До сих пор война главным образом с австрийской кавалерией не была сопряжена с большими затруднениями и с большими потерями. Рукопашного удара австрийцы обыкновенно не принимали, и мы, находясь в разъездах, никогда не задумывались атаковать австрийские разъезды, какой бы численности они ни были. Так как результат был почти всегда один и тот же: австрийцы уходили, и лично мне, не говоря о других, удавалось захватить в погоне некоторое количество пленных. Этому помогало в значительной степени то обстоятельство, что австрийская кавалерия не была вооружена пиками, что давало нашей коннице громадное преимущество»[163].
Все-таки, как говорил Наполеон, «Бог на стороне больших батальонов». Австро-венгерские конники стали заходить с тыла русским линиям. Так как у графа Келлера резервов не осталось, то он бросился в бой сам: конвой (взвод оренбуржцев), группа штабных офицеров, ординарцы. Конечно, командир не должен лично участвовать в рукопашном бою, однако есть и исключения из правил. Как еще в 1879 году писал теоретик конной войны Г. Брике, «только в особенных случаях, когда совершенно необходим личный пример, старший начальник берет на себя ведение атаки. Например, когда таковая производится большей частью вверенных ему отдельных частей под командой нескольких отдельных начальников, когда вводятся в дело последние резервы, когда нужно пробиться через окружившего со всех сторон неприятеля и т.д.»[164].
Австрийцы продолжили теснить русских, и в бою назрел перелом. В критический момент боя начальник конвоя генерала Келлера сотник Цензин из револьвера застрелил командира прорвавшейся австрийской группы, и противник смешался. В это время наконец-то на флангах конной массы успех окончательно склонился на сторону русских, и противник, не выдержав отчаянной рубки, бросился бежать. Как сообщает участник войны, «удар этого сборного резерва комдива, под непосредственным его командованием, решил дело: австрийцы повернули и, преследуемые нашей конницей и конной артиллерией, отступили в полном беспорядке, оставив нам трофеи и пленных»[165].
Откуда взялся этот самый успех на флангах? Когда главные силы 10-й кавалерийской дивизии сближались с австрийской 4-й кавалерийской дивизией, 1-й Оренбургский казачий полк атаковал деревню Ярославице, расположенную для русской стороны на левом фланге. В то время, когда конники рубились друг с другом, оренбуржцы выбили из Ярославице австрийский пехотный батальон. В итоге, когда в конном бою наступил критический момент и граф Ф.А. Келлер сам бросился в рубку, уже вышедшие из боя с пехотой оренбуржцы атаковали австрийцев во фланг, с ходу взяв конную батарею: «Момент был выбран весьма удачно. Австрийцы расшиблись на фронте наших трех полков и почувствовали удар в правый фланг. В следующий момент дивизия противника обратилась в бегство»[166].
Преследование велось вплоть до берегов реки Стры-па — около двух километров. Характерно, что австрийский кавалерийский начальник пытался взять пример со своего русского коллеги. Генерал Заремба лично возглавил атаку 15-го драгунского полка, но произошло это, когда русские уже переломили исход боя. Поэтому-то, так как сам момент контратаки был выбран неверно, победа досталась русским. Примечательно, что в этом полку служил младшим офицером третий сын самого австро-венгерского главкома — ген. Ф. Конрада фон Гётцендорфа[167].
Как справедливо сообщают участники войны, осмысливавшие ее опыт, успех русских в сражении у Ярославице достался уступавшей в силах русской стороне только потому, что начальник русской конницы лично возглавил атаку, подав тем самым пример подчиненным. Понятно, что при виде любимого командира, находящегося внутри рукопашной схватки, ни один боец не посмеет даже и подумать о том, чтобы лично самому выйти из боя. Ярославице — пример того, как высший кавначальник берет на себя непосредственное командование боем, отходя от общего руководства. «Общее руководство конницей по самой природе ее боя, построенного на большем выявлении моральных сил, с одной стороны, и на быстроте темпа его — с другой, имеет то существенное отличие от руководства в том же случае пехотой, что здесь часто управление высшего начальника переходит в командование. Отсюда в критические моменты высший кавалерийский начальник, передав управление своему заместителю и штабу, бывает вынужден взять под непосредственное свое командование ударную группу конницы, действием каковой решается иной раз участь всей операции кавалерии»[168].
Потери русской 10-й кавалерийской дивизии составили полторы сотни человек. Противник же потерял несколько сотен человек убитыми и ранеными, а также две с половиной сотни пленных кавалеристов, около четырех сотен пленных пехотинцев и восемь орудий. Причина такого несоответствия потерь заключается в том, что неприятель понес львиную долю потерь (особенно пленными) в период бегства. Но главным итогом была не эта победа сама по себе. Что такое тысяча человек для столкнувшейся в Галицийской битве многотысячной массе войск обеих сторон? Главное — это то, что русская конница сумела очистить себе дорогу в глубину неприятельского расположения. Не имея перед собой неприятельских конных заслонов (изрубленных под Ярославице), русская 10-я кавалерийская дивизия через несколько дней сумела добыть ту информацию о неприятельской перегруппировке, что позволила русскому командованию 3-й и 8-й армий вырвать победу в сражении на Двух Липах. Как пишет советский исследователь, «…затем мы видим, какую важную роль сыграли во встречном бою на р. Золотой Липе действия 10-й кав. дивизии. Правда, добытые конницей 25 [12 — по старому стилю] августа сведения о движении 12-го австрийского корпуса, не дошли вовремя до командования 10-м русским корпусом вследствие плохой работы связи. Но в то же время утром 26 августа 10-я кав. дивизия первая завязала бой с наступающими колоннами австрийцев, замедлила их движение и удержала до подхода своей пехоты тактически важный рубеж ручья Гнилая Липа»[169].
Вот это и есть яркий пример того, как победа в небольшом конном бою становится залогом победы общевойсковой армии в большом сражении, ставшем одним из ключей к выигрышу фронтовой операции. Неудивительно, что именно 10-я кавалерийская дивизия наиболее высоко проявила себя в ходе Галицийской битвы. Например, сами же австрийцы говорят о том, что конница графа Келлера сыграла решающую роль в окончательном разгроме группы Кёвесса в преддверии сражения на реке Гнилая Липа 3-й и 8-й русских армий с австрийской 3-й армией ген. Р. фон Брудермана и группой Кёвесса. Так, составлявший костяк группы Кёвесса 12-й армейский корпус понес поражение 16 августа от частей русской 8-й армии ген. А.А. Брусилова. Генерал Г. Кёвесс фон Кёвессгаза попытался собрать войска, наладить оборону арьергардами и на следующий день возобновить сражение, не позволяя русской 8-й армии оказать поддержку 3-й армии ген. Н.В. Рузского. Однако «русская 10-я кавалерийская дивизия оказалась на месте раньше, чем морально надломленные и перемешавшиеся собственные части. Сильно выдвинутыми вперед батареями русская конница вызвала панику у противника, которой подвергся находившийся также в передовых окопах штаб командира корпуса. Быстро и в беспорядке неслись войска и обозы между колонн бежавшего населения…»[170]. А. А. Керсновский добавляет, что преследование австро-венгерских войск после 29 августа вела только 10-я кавалерийская дивизия. На ее долю достались полтысячи пленных и шесть орудий. Прочая же русская конница — двадцать кавалерийских дивизий — не сделала и этого. За Галицийскую битву ген. граф Ф. А. Келлер был награжден орденом Св. Георгия IV степени.
Смысл операции армий Юго-Западного фронта заключался в двойном охвате находящегося в Галиции противника. Внешнее кольцо окружения должны были образовывать фланговые армии — 4-я (северный фас фронта) и 8-я (южный фас). Ход событий развивался совсем не так, как рассчитывало русское командование. Однако наличие сильной кавалерийской группы из нескольких дивизий на левом (южном) фланге 8-й армии способствовало бы решению сразу нескольких задач. Во-первых, конница одним своим присутствием предохранила бы фланг 8-й армии от возможного контрудара со стороны Днестра. Командарм-8 ген. А.А. Брусилов опасался этого и образовал целый Заднестровский отряд генерала Павлова, который в результате практически не принял участия в операции. Генерал Брусилов считал Заднестровский отряд слишком слабым для обеспечения движения 8-й армии на Галич — Миколаев и потому все время оглядывался на этот район, стреноживая порыв армии вперед. Тем не менее на необходимость образования такой конной группы, которая вдобавок еще прочнее захлестывала бы «мешок», указывал Н.Н. Головин. Не называя его имени, советский исследователь пишет: «Один из молодых офицеров Генерального штаба, профессор военной академии, в докладной записке прямо указывал, что наличие сильного кавалерийского корпуса на левом фланге армий Юго-Западного фронта поможет более цельному осуществлению идеи охвата австрийцев с правого фланга. И в то же время обезопасит левый фланг наступающей 8-й армии. Конечно, такое предложение нужно признать вполне целесообразным, однако высшее командование отнеслось к нему отрицательно»[171]. В результате кавалерия 3-й и 8-й армий была распылена среди армейских корпусов и не смогла добиться впечатляющих оперативных успехов. Особенно — в период преследования.
Однако нет худа без добра. Волей обстановки к концу Галицийской битвы на левом берегу Вислы был создан импровизированный корпус ген. А.В. Новикова. В него вошли 5, 8, 14-я кавалерийские, 4-я и 5-я Донские казачьи дивизии, Туркестанская казачья бригада. Задачи: разведка, прикрытие завесой подступов к Ивангороду и установление связи с конницей Северо-Западного фронта. Смысл образования этого корпуса заключался в необходимости сбить темпы развития австро-германского наступления на рубеж Средней Вислы, к переправам у Ивангорода и Варшавы. В ходе Варшавско-Ивангородской операции корпус был вынужден разделиться на две части, отступая перед двумя группировками противника к переправам. Но сам факт образования первого кавалерийского корпуса говорил, что и впредь кавалерийские дивизии будут сводиться в корпуса, дабы исполнять поставленные перед ними задачи оперативного характера: «Мировая война застала армейскую конницу всех армий, сведенную лишь в дивизии. Кавалерийская дивизия в принятом составе уже с первых дней мировой войны оказалась несоответствующей той численности конной массы, каковую требовалось сосредоточить на одном оперативном направлении для выполнения выпадающих на ее долю задач по обеспечению (активному) такового направления. Стремление сгруппировать значительные силы конницы на одном направлении, при соблюдении основных принципов организации и управления войсковых организмов, выдвинули вопрос о создании кавалерийских корпусов… [вообще] Конный корпус следует рассматривать как орган чисто оперативного значения, лишенный всяких громоздких тылов»[172].
Таким образом, практика первых месяцев войны показала, что конница должна соединяться в кавалерийские корпуса. Иными словами, расформирование этих единиц перед войной являлось большой ошибкой, изжитой лишь по истечении года войны, когда кавалерийские корпуса обрели более-менее постоянную структуру. Задолго до Первой мировой войны, осмысливая опыт Японской кампании, военные ученые указывали, что кавалерийский корпус должен входить необходимой организационной единицей в состав общевойсковой армии, а не кавалерийские дивизии — придаваться отдельным армейским корпусам. Так, Ф. Гершельман писал: «Организация эта выражается в том, чтобы кроме так называемой корпусной кавалерии, предназначаемой для обслуживания корпусов, для чего достаточно иметь в каждом корпусе по бригаде кавалерии, армия имела в своем составе самостоятельной крупной кавалерийской единицы армейской кавалерии для стратегической службы, для работы на театре войны. Части эти могут быть сведены в отдельные кавалерийские дивизии и корпуса, это безразлично, и должны быть подчинены непосредственно командующему армией. При такой организации кавалерия всегда будет под рукой в минуту необходимости в потребном количестве, в составе единиц постоянного соединения, а не импровизированных, и потому способных развить самостоятельные действия, наконец, корпуса не будут лишены своей кавалерии»[173].
Как видим, речь идет о том, что армия должна иметь как войсковую (корпусную) конницу, так и армейскую. В период русско-японской войны 1904 — 1905 гг. русские военачальники зачастую сводили эскадроны (сотни) и полки войсковой конницы в импровизированные соединения, тем самым нисколько не увеличивая мощи общевойсковых частей и одновременно лишая армейские корпуса разведки. Предвоенное реформирование, как обычно в России, сошло на компромисс. С одной стороны, была образована армейская кавалерия, но соединениями не свыше дивизии. С другой стороны, войсковой конницей стали казачьи сотни и полки 2-й и 3-й очередей, что ослабляло ведение разведки армейских корпусов. Кроме того, казачьи части не успели прибыть в свои армейские корпуса к моменту первых операций, что стало одной из причин разгрома 2-й армии ген. А.В. Самсонова под Танненбергом. Н.Н. Головин так пишет об отсутствии войсковой конницы в начале войны (у немцев каждая пехотная дивизия имела свой собственный полк хорошей кавалерии): «В результате наши пехотные дивизии шли навстречу к еще не скованному врагу слепыми и, будучи вместе с этим лишенными возможности в случае встречного боя с противником сразу же установить с соседними колоннами боевую связь конницей, которая обеспечивала бы от внезапного проникновения неприятеля между колоннами и сопряженного с этим охвата им флангов… Так неправильные отправные точки в отвлеченных верхах науки создавали в низах исполнения условия, затрудняющие победу и облегчающие поражение»[174].
Правда, что ни одна из воюющих сторон не предполагала в начале войны образования кавалерийских корпусов. Так, австро-венгры, как и русские, действовали отдельными кавалерийскими дивизиями. Немцы придали конницу в состав армий для содействия армейским корпусам. Французы создали импровизированный конный корпус генерала Сордэ, как и русское командование в 1-й армии ген. П.К. Ренненкампфа (группа ген. Г. Хана Нахичеванского). Однако лучшие умы все-таки размышляли над использованием конницы в крупных масштабах. Цель — достижение оперативного успеха, способствующего (если не определяющего) выигрышу генерального сражения, ибо каждая сторона полагала, что исход войны будет решен в первых операциях, которые примут характер широкомасштабных генеральных сражений. Так, советский ученый М. Галактионов сообщает, что уже у графа А. фон Шлиффена была мысль составить 1-ю армию целиком из конных корпусов, дабы выиграть темпы операции. То есть все десять германских кавалерийских дивизий должны были составить фланг охватывающего правого плеча, удлиняя его и, следовательно, кромсая и раздробляя сопротивление французов. Если такая мысль и была, то она так и осталась в проекте. Преемник графа Шлиффена на посту начальника Большого Генерального штаба ген. X. Мольтке-младший не только не решился использовать кавалерию как оперативно-стратегическую единицу, но и нарушил «План Шлиффена» таким образом, что битва на Марне была выиграна французами. М. Галактионов так пишет о действиях конницы на Западном фронте в начале войны: «В действиях кавалерии начального периода обнаруживается органическое противоречие между оперативными целями, которые ей ставились, и оперативно-тактическими возможностями, которыми она обладала. Теоретически она рассматривалась как очень подвижный род войск, способный осуществлять самостоятельные задачи стратегического порядка (глубокий удар в тыл и во фланг противнику, стратегическая разведка, преследование)… [Однако] оперативная подвижность кавалерии была низка прежде всего вследствие слабой ударной мощности в конном строю. Спешившись, кавалерия теряла свое преимущество в подвижности, так как коней приходилось отводить далеко в тыл. В результате получалось, что пехота даже опережала кавалерию в наступлении. Сверх того, оперативное использование было неудовлетворительным… Таким образом, создание армии целиком из кавалерийских корпусов в 1914 году на западно-европейском фронте не имело под собой реальной базы. Другой вопрос, что имевшиеся кавалерийские части не были использованы с полной целесообразностью»[175].
На наш взгляд, М. Галактионов не прав в своем выводе относительно целесообразности образования конной армии. Действительно, действия кавалерии на поле боя против неприятельской пехоты в конном строю вели к неоправданно большим потерям. А спешивание кавалерии, фактически — использование конников в качестве ездящей пехоты, вело к потере темпов операции, и здесь лучше было бы использовать пехоту. М. Галактионовым недооцениваются два фактора. Первый и неглавный — психологический. Само только наличие сильной кавалерии, нависающей над оборонительным флангом, в период маневренной войны (каковая и была во Франции в первые три месяца), само по себе дезорганизует пехоту. Причем — даже стойкую пехоту. А ведь англо-французы были разбиты в пограничном сражении, потерпели ряд неудач в период отступления к Марне и вообще ничего не могли противопоставить неумолимому «катку» 1, 2 и 3-й германских армий, вплоть до образования Парижской группировки и переброски немцами двух корпусов на Восточный фронт после Гумбиннена.
Иными словами, в августе 1914 года французская пехота была в какой-то мере подломлена психологически серией поражений. Заслуга французского главнокомандующего ген. Ж. Жоффра, не только своевременно свершившего перегруппировку, но и переломившего пассивные настроения (французы готовились даже сдать Париж!), велика. А будь у немцев на крайнем заходящем фланге еще и конница в десять дивизий — более тридцати тысяч сабель? После одного из боев в Восточной Пруссии русский поэт Н.С. Гумилев писал: «Теперь я понял, почему кавалеристы так мечтают об атаках. Налететь на людей, которые, запрятавшись в кустах и окопах, безопасно расстреливают издали видных всадников, заставить их бледнеть от все учащающегося топота копыт, от сверкания обнаженных шашек, грозного вида наклоненных пик, своей стремительностью легко опрокинуть, точно сдунуть, втрое сильнейшего противника, это — единственное оправдание всей жизни кавалериста»[176].
Психологический фактор на войне всегда велик. И маневренное средство ведения боя всегда ужасно неумолимостью и быстротой темпов своего удара. Участник войны пишет: «Существенными особенностями, выгодно отличающими конницу от пехоты, в отношении способности к накапливанию моральной силы, являются большая скорость ее движения, дающая ей инициативу действий, и сохранение благодаря наличию боевого коня физической силы бойцов-всадников, обеспечивающей им тем самым и известный импульс морального характера»[177]. Хорошая конница всегда навязывает пехоте свою маневренную инициативу. Хотя бы уже вследствие своей скорости на поле боя и вне его.
Действительно, спешенная конница чрезвычайно слаба. О неудобстве ведения боя спешенной конницей участник войны справедливо сообщает: «…когда массы конницы наслаивались на сравнительно небольшом пространстве, лишаясь вследствие этого своего главного преимущества: способности к быстрому маневру. Спешиваясь на узком фронте, коннице трудно состязаться с пехотой, так как спешенная дивизия по числу ружей могла дать только один-два батальона, которые при том стеснены в своем тылу тысячами лошадей с коноводами»[178]. То есть военачальник не должен допустить главной ошибки — использования кавалерии как ездящей пехоты. Бесспорно, что конница имеет меньшую по сравнению с пехотой огневую силу и высокую потребность в фураже. Для компенсации этого прежде всего необходимо придавать коннице подвижную пехоту, артиллерию и специально образуемые пулеметные команды. Во-вторых, использовать конницу в местности, где потребность в фураже может быть покрыта за счет местных средств.
Но в начале войны конница еще действовала без непосредственной придачи стрелковых подразделений и большого количества пулеметов. Поэтому ее роль заключалась в ведении оперативных действий: ударам по флангам и тылам противника. При этом не столько вступая в огневой бой с неприятельской пехотой, сколько растягивая угрожаемые фланги, дабы собственная пехота могла бы с меньшими потерями вклиниваться в ослабленную оборону противника. Конница — единственное маневренное средство оперативного уровня. Конница обеспечивает высокий темп наступления армий и фронтов в целом. Прорывы конницы на большую глубину позволяют экономить силы пехотинцев. Кавалерия мешает отступающему врагу восстанавливать фронт. При этом именно она формирует внешний фронт окружения отдельных группировок противника. Пехота же добивает обойденные кавалеристами очаги сопротивления.
Именно поэтому действующая на флангах армейских группировок кавалерия должна была иметь значительный состав — кавалерийские корпуса, а также не вступать в общевойсковой бой непосредственно на самом поле сражения. Конница должна угрозой флангу и тылу неприятеля заставить его ослабить фронт, что облегчит выполнение задачи собственной пехоте и артиллерии. Кроме того, конница должна быть всегда готова к удару в тыл расстроенного противника (германская 1-я кавалерийская дивизия под Гумбинненом), довершая его поражение. И если этого не удавалось осуществить в значительном масштабе, то потому, что конница не готовилась к таким действиям до войны, а затем борьба перетекла в позиционную фазу. Советский исследователь пишет: «…Несмотря на все неудачи, опыт маневренного периода войны совершенно отчетливо выявил, что фланговый удар, завершающийся окружением противника, является сильнейшей формой оперативного маневра, и если он не удавался, то причина этого, во всяком случае, была не в существе этого маневра. Основной причиной неудачи операции на окружение в кампаниях 1914 и 1915 гг. было недостаточное превосходство в силах наступающего и отсутствие такого подвижного средства борьбы, которое позволило бы, преодолевая возможное сопротивление, выполнить маневр окружения раньше, чем противник организует контрманевр. Единственным подвижным родом войск того времени была конница, которая не имела вооружения, отвечающего требованиям подобного рода маневра, была плохо подготовлена для его выполнения в широком размахе, оперативно неправильно использовалась и часто плохо руководилась своими начальниками»[179].
Ярким примером отвратительного вождения кавалерийских масс, причем неважно, какого размера, явились действия русской конницы в ходе завершающего этапа Лодзинской оборонительной операции ноября 1914 года. Как известно, в ходе этой операции германское командование, дабы остановить готовившееся русское вторжение в Познань с целью — Берлин, нанесло упреждающий фланговый удар от крепости Торн. Воспользовавшись перегруппировкой русских армий Северо-Западного фронта, приведшей к возникновению внутренних флангов между растянувшимися армиями, немцы бросились в стык между 2-й (ген. С.М. Шейдеман) и 1-й (ген. П.К. Ренненкампф) русскими армиями, имея целью окружение и уничтожение 2-й русской армии в Лодзи.
На острие 9-й германской армии ген. А. фон Макензена, осуществлявшей прорыв, шла группа ген. Р. фон Шеффера-Бояделя, разбросав в стороны русские заслоны; немцы вошли в прорыв, окружая 2-ю русскую армию. При этом пехота противника на первом этапе операции выигрывала темпы движения у русской кавалерии, так как русские командармы не сумели толковым образом распорядиться действиями вверенной им конницы: «Невольно приходишь к выводу: как только крупные силы конницы попадали в армию, которой командовал «коренной» кавалерист, то она, конница, использовалась не в соответствии с ее ролью и назначением. Такие «завзятые кавалеристы», как командующий 2-й армией генерал Шейдеман, стремились использовать конницу в основном на поле боя, не понимая ее превалирующего значения в оперативном маневре… Факты свидетельствуют, что наше высокое начальство не понимало роли конницы в боевых операциях 1914 года… [Генерал Шейдеман] стремился возложить на конницу решение задач не в оперативном просторе. Тактические же задачи одна конница, без поддержки пехоты, решить не могла: у нее не хватало сил»[180].
В ходе ожесточенных боев группа Шеффера сумела почти окружить 2-ю русскую армию, которая оказалась заперта в Лодзи и получила приказ во что бы то ни стало удерживаться на своих позициях, так как Ставка справедливо опасалась, что приказ об отходе приведет ко всеобщему бегству и разгрому. К счастью русских, у немцев не хватало сил: вся группа Шеффера насчитывала около пятидесяти тысяч штыков и сабель, а ведь ей предстояло не только окружить одну русскую армию, но и удержать внешний фронт окружения от контрнаступления другой русской армии. В ходе деблокирующих ударов германскому командованию стало ясно, что уничтожить 2-ю русскую армию не удастся, а так как русское широкомасштабное наступление было сорвано, то генерал Шеффер получил приказ на прорыв к своим.
В ходе преследования группы Шеффера по русским тылам был создан импровизированный Ловичский отряд, который шел вслед за прорывающимися немцами. Ясно, что впереди прочих продвигалась кавалерия: 1-й кавалерийский корпус ген. А.В. Новикова (8-я и 14-я кавалерийские дивизии) и 5-я кавалерийская дивизия ген. А.А. Морица. С флангов окружение группы Шеффера должны были замкнуть 1-я гвардейская кавалерийская дивизия ген. Н.Н. Казнакова и Кавказская кавалерийская дивизия ген. Г.Р. Шарпантье. Однако сам же ко-мандарм-2 уже после войны заметил, что «приемы использования конницы, уменье поставить ей определенные задачи и настоять на выполнении их не были у нас в достаточной мере выработаны. С другой стороны, надо сознаться, что для талантливого выполнения этих задач, для «вождения конницы» у нас было мало подготовленных начальников. Мы по-прежнему, как в Турецкую и Японскую войны, отстали в этом деле. А между тем от правильного употребления и талантливого вождения конницы зависит в значительной мере успех дела. Нужны полководцы, понимающие первое, и кавалерийские начальники, усвоившие второе»[181].
Отметим, что вслед за каждым конным соединением спешила пехота, и в случае затяжного боя она успевала подойти на место боя. Иными словами, конница должна была остановить прорывающихся немцев на срок не более суток, чтобы успели подойти армейские корпуса 1-й и 5-й армий и раздавить противника.
Несмотря на тот факт, что к 11 ноября 1914 года группа Шеффера насчитывала всего около шести тысяч штыков и сабель, многочисленная русская кавалерия позволила противнику не только выйти из «мешка». По пути прорыва немцы разбили 6-ю Сибирскую стрелковую дивизию, а затем вывели за собой в качестве трофеев шестнадцать тысяч русских пленных и несколько десятков орудий. Все это время — пока германцы прорывались, пока громили сибиряков, пока выводили трофеи — русская конница пассивно созерцала происходящее. В качестве оправдания кавалерийские начальники выдвинули то обстоятельство, что конница не может атаковать подготовившуюся к бою и усиленную пулеметами пехоту. Кто мешал атаковать внезапно и неожиданно для противника? Генерал Шейдеман, чьи войска в Лодзинской операции деблокировала кавалерия, пишет: «Успех неожиданного нападения конницы основывается главным образом на впечатлении ужаса, которое производит на неготового к бою противника внезапная. А иногда и веденная в темноте атака, когда, как показывает опыт, силы атакующего представляются преувеличенно большими и когда обороняющемуся приходится отражать нападение и исправлять его последствия, находясь еще под его ошеломляющим впечатлением». По замечанию Н.С. Гумилева, «пехота в походном порядке, не подозревающая о присутствии неприятельской кавалерии, — ее добыча»[182].
Конечно, атака конницы на пулеметы, как правило, бессмысленна. Однако кто же мешал русской кавалерии ударить по врагу, когда тот находился на марше? Суть отказа русской конницы от атаки заключался в вопиющем консерватизме кавалерийских командиров. Приведем пример из предвоенных маневров 1910 года. Эскадрон С. Гребенщикова неожиданно ударил на двигавшуюся без охранения пехоту условного противника с двухсот шагов. При пехоте находился пулемет, который успели снять с передка за несколько секунд до столкновения. Пехотинцы успели дать лишь несколько выстрелов. Однако часть посредников стала настаивать на том, что открытая конная атака на пулемет невозможна, а потому эскадрон потерпел поражение, будучи по большей части уничтоженным. Возмущенный рутинерством офицер писал в военной печати: «Хотя признано, что огонь пулемета для атакующей пехоты почти невыносим, но, мне кажется, считать из-за этого кавалерийскую атаку на пулеметы невозможной, будет уже слишком осторожно. Стрелять по медленно двигающейся пехоте и по несущейся коннице — это большая разница». С. Гребенщиков справедливо заметил, что нельзя атаковать издалека на уже установленные и готовые к бою пулеметы. Однако внезапный удар на двигающиеся пулеметы при слабом пехотном прикрытии просто необходим. «На маневрах мы должны учиться тому, что мы должны будем делать на войне. Если же посредники… будут всегда приговаривать конницу к бездействию даже за атаки, произведенные чуть ли не с места в карьер, то это приучит более или менее осторожных кавалерийских начальников к тому, что на войне они будут упускать самые удобные случаи для атак, отговариваясь или оправдываясь тем, что среди пехотной колонны или цепи находилось чудовище, именуемое пулеметом… Было бы крайне полезно как для конницы, так и для пехоты, если бы в инструкции для посредников было точно и определенно указано, что атаки конницы на пехоту и пулеметы, произведенные внезапно, то есть с 200 — 500 шагов, в рассыпном строю и соответствующим аллюром, то есть полным карьером, должны признаваться безусловно успешными и вполне возможными; пехоту это заставит лучше нести охранную службу, а кавалерии даст толчок к более энергичным действиям»[183].
Сделанные в 1910 году офицером С. Гребенщиковым выводы по результатам маневров в точности описывают ту ситуацию, что сложилась в ходе Лодзинской оборонительной операции ноября 1914 года. Повторимся, что практический итог такого рутинерства в данном случае — выход из «мешка» группы Шеффера с трофеями — 16 000 пленных и около 60 орудий! А ведь суть успеха прорыва немцев в том, что русская конница не была объединена в крупную кавалерийскую единицу (корпус) во главе с толковым командиром. Первые кавалерийские корпуса постоянного состава (то есть не переподчинение одних дивизий другим для выполнения той или иной малой задачи) будут образованы лишь зимой 1915 года в Карпатах.
Германский участник войны справедливо пишет, что существует два основных момента в боевой деятельности конницы: «…применение конницы в массах, что одно только обещает крупные успехи, и способность конницы вступать в бой непосредственно с похода, что обеспечивает всестороннее и полное использование ее быстроты и подвижности»[184]. Как кажется, данный тезис явится применимым скорее к наступательным действиям. Однако первый русский кавалерийский корпус импровизированного характера был образован в ходе отступления. Конная группа ген. Г. Хана Нахичеванского в Восточно-Прусской наступательной операции предполагалась еще до войны в качестве ударного средства относительно небольшой Неманской (1-й) армии Северо-Западного фронта. Практика войны показала, что кавалерийские дивизии не имеют возможности для выполнения оперативных задач, и потому необходимо их объединение в кавалерийские корпуса — то есть в те самые войсковые единицы, что были расформированы незадолго до войны.
1-й кавалерийский корпус, правда, еще не получивший официального оформления, был образован уже в сентябре 1914 года, сразу по окончании Галицийской битвы, из шести кавалерийских дивизий Юго-Западного фронта, действовавших на левом берегу Вислы. Парадоксальным образом причиной его образования стала задача сдерживания австро-германского контрнаступления на крепость Ивангород, долженствовавшее разорвать единство русского фронта в самом его слабом месте и опрокинуть русское наступательное планирование в отношении вторжения в Германию. Теория говорит, что «особенно желательно присутствие конницы за участком главного удара, где мы хотим нанести наибольшие потрясения врагу. После того как часть начальников в войсках неприятеля выбудет из строя, вся масса противника будет потрясена напряжением смертельной опасности: когда связь нарушается, то в настроении войск, в ведении ими боя наступает перелом. Если этот перелом немедленно использовать, то часть противника может быть целиком уничтожена, взята в плен и т.п. Если же такого положения не использовать немедленно, то командование врага будет в состоянии взять часть снова в руки, влить в нее свежие силы, новый комсостав и привести ее в порядок. Использовать минуту потрясения — дело конницы»[185]. Конница должна продвигаться вслед за наступающей пехотой на поле боя, причем держась свободного фланга боевого порядка. Однако же русскому командованию пришлось бросать кавалерию для преграждения неприятельского прорыва, дабы иметь возможность подтянуть к угрожаемому участку фронта (переправа через Вислу в районе крепости Ивангород) свою пехоту.
Кавалеристам генерала Новикова удалось выполнить эту задачу. С помощью подтягивавшихся на выручку частей пехоты, хотя и терпевшей поражения (например, отряд ген. П.А. Дельсаля), конница сумела немного сбить наступление 9-й германской армии. В итоге, когда передовые корпуса Гинденбурга вышли к Висле, комендант Ивангорода ген. А.В. Шварц уже получил пехотную поддержку. Все еще пытаясь переломить успех операции, Гинденбург бросил к Варшаве часть своих сил под командованием комкора-17 ген. А. фон Макензена, что заставило ген. А.В. Новикова разделить свой громадный корпус на две части. Три регулярные кавалерийские дивизии отступали к Ивангороду, а три казачьи дивизии — к Варшаве.
И вновь казаки сбивали темпы неприятельского порыва, позволив Ставке своевременно перебросить в столицу русской Польши Сибирские корпуса. Основное свойство кавалерии — подвижность в сочетании с маневром и широким применением кавалерийских масс. То есть «весь успех действий конницы поставлен в зависимость от уменья использовать элемент подвижности»[186]. Войска 4-й русской армии сдержали противника под Ивангородом, а 2-й армии — под Варшавой. Немцы не смогли переправиться через Вислу, а превосходство русских в живой силе стало причиной образования плацдармов и перехода русских армий в контрнаступление на левом берегу Вислы. Конница — представительница подвижности — имеет в маневренной войне все преимущества. Кавалерия перед фронтом наступающего противника вынуждает его развертываться в боевые порядки, что позволяет обороняющейся стороне выиграть время для переброски пехоты и артиллерии на угрожаемое направление. Как только противник подтягивал артиллерию, русская конница тотчас снималась с обороняемых позиций и отходила, занимая следующий рубеж — в паре десятков верст от предыдущего. И здесь все повторялось сначала.
Какого-то особенного ущерба австро-германцы, разумеется, не несли, так как огневая мощь кавалерийских дивизий довольно низка. Однако потеря времени перед каждым очередным импровизированным рубежом обороны, который занимала спешенная русская конница, предполагала выигрыш времени русскими для перегруппировки. Такой тактический прием — оборонительные действия кавалерии на широком фронте — получил наименование завесы: «Завеса является могучим органом в руках высшего командования, обеспечивающим наиболее беспрепятственное и скрытое сосредоточение войск в желаемом направлении, лишая противника возможности раскрыть наш маневр и встретить его соответствующим контрманевром»[187].
Поражение австро-германцев в ходе Варшавско-Ивангородской наступательной операции подразумевало организацию преследования. Правда, противник отходил в полном порядке, разрушая за собой инфраструктуру. Но в таком случае действия конницы на флангах тем более являлись безальтернативными, потому что для продвижения пехоты требовалось восстановить железнодорожную сеть, мосты, шоссе. К сожалению, как раз в преследовании русские кавалерийские начальники по ряду объективных и субъективных обстоятельств оказались подготовленными наиболее слабо. Участник войны писал: «Раз совместное действие конницы с другими родами войск на поле сражения почти невозможно, то кавалерия тогда окажется в состоянии принять участие в решении боевых операций, когда широко использует свою подвижность и силу огня. Сосредоточенная в больших массах на флангах, направляясь в обход этих флангов и в тыл, конница, отбросив встретившуюся кавалерию противника и широко используя свой огонь, должна отвлечь резервы последнего от участия в решительном бою»[188]. Сосредоточение на флангах конной массы было произведено. Но ни разу эта кавалерия не смогла добиться тех результатов своих действий, что вынудили бы противника приостановить свой отход. Тем более ни разу русская конница не смогла придержать отступавшего неприятеля на тот срок, что оказался бы достаточным для подхода к району сражения своей пехоты.
Таким образом, уже в Варшавско-Ивангородской операции отчетливо выявилось то противоречие, что было свойственно русской кавалерии в ходе всей войны. Во-первых, конница выше всяких похвал держалась в обороне, когда было необходимо прикрыть отступление армий, сбить темпы наступления противника, удержать какой-либо район до подхода общевойсковых соединений. Наиболее ярко такая сторона деятельности русской кавалерии сказалась в период Великого отступления 1915 года, когда на всем протяжении Восточного фронта в широких размерах применялась кавалерийская завеса, прикрывающая отход переутомленной тяжелыми многодневными боями пехоты. Небольшие конные отряды вполне могли придерживать движение значительных войсковых колонн противника, а также сдерживать конную разведку неприятеля. О сторожевом охранении в коннице Б.М. Шапошников пишет: «…Обычно это была застава силою в один взвод. Если учесть, что у взвода часть людей оставалась коноводами, то для отражения противника на заставе в лучшем случае было 15 — 16 винтовок. Таким образом, сторожевое охранение особой устойчивости не имело. Оно было скорее величиной морального порядка, нежели существенным огневым барьером. Однако через такое охранение все же не могли пробиться ни австрийские, ни немецкие разъезды. Объясняется это тоже чисто психологически. Если конный разъезд встречали ружейным огнем, то начальник разъезда в большинстве случаев решал, что он натолкнулся на пехоту, которая сильна огнем, и атаковать ее, в конном строю немыслимо. Так на это смотрели не только в австрийской и немецкой коннице, но и в русской»[189].
Характерно, что придание кавалерии задачи арьергарда в отступлении стало обыденным явлением в самом начале Великого отступления — во время Горлицкой оборонительной операции апреля — мая. Также в ходе этой операции конница прикрывала то и дело оголявшиеся стыки между корпусами, которые с большими потерями отступали под ударами австро-германцев. Например, командарм-3 ген. Р.Д. Радко-Дмитриев, чьи войска вынесли на себе всю тяжесть поражения, 3 мая сообщал главнокомандующему армий Юго-Западного фронта ген. Н.И. Иванову: «Все кавалерийские дивизии вверенной мне армии в настоящее время совместно с ослабленными продолжительными боями частями пехоты непрерывно участвуют в боевых действиях. И в случае дальнейшего вынужденного отхода армии эти дивизии послужат единственной гарантией твердого, вполне упорядоченного отхода, особенно имея в виду присутствие перед фронтом армии неприятельской конницы»[190].
Во-вторых, русская конница, как правило, не умела организовать преследование — то преследование, что должно было бы добивать надломленного поражением неприятеля. Иными словами, насколько хороша была русская кавалерия в обороне, настолько же малоприменима она оказалась в наступлении, и речь здесь идет, разумеется, об оперативных масштабах — действиях не менее дивизии. Кавалерия захватывает важные пункты и рубежи в тылу противника, чей оборонительный фронт рухнул под ударами общевойсковых армий. Разумеется, что захват местечек и железнодорожных узлов осуществляется в пешем строю. Прорыв кавалерии во вражеский тыл вынуждает противника вводить контратакующие соединения и резервы в бой по частям, по мере прибытия. Противник, следовательно, реагирует на наши действия, импровизирует, что вынуждает его делать ошибки уже при развертывании. Не зная дальнейшего направления действий нашей кавалерии при выходе ее на оперативный простор, инициатива принадлежит нам, и враг всегда реагирует на наши действия с некоторым запозданием.
Однако русские общевойсковые командиры привыкли, что кавалерия, участвующая в наступлении, должна быть подпираема с флангов наступающей рядом с ней пехотой. В итоге конница обращается в простой боевой участок общего фронта с пониженным боевым коэффициентом в силу слабости кавалерийской дивизии в простом фронтальном столкновении по сравнению с пехотным полком. А причина тому — в неумении использовать конницу в операции в качестве маневренной силы. Военачальники, ориентировавшиеся на довоенные маневры, привыкли, что конница в общевойсковом бою просто бросается в преследование уже в самом сражении. Не ударом через оголенный фланг в тыл, а просто, практически в лоб на пехотный и артиллерийский огонь пусть и потерпевшего поражение, но ведь еще не совершенно разгромленного противника. «Ошибочно возлагая на крупные соединения конницы преследование на поле сражения, русское командование и не видело такового от своих кавалерийских дивизий и корпусов. Не будучи в состоянии вследствие дальности и губительности современного огня располагаться за пехотными линиями для своевременного преследования противника, крупные соединения русской конницы опаздывали появиться на поле сражения… Крупные соединения конницы ведут оперативное преследование, наилучшее направление которого будет параллельное… Стараясь опередить отступающие колонны противника, конница должна остановить их и дать возможность уничтожить настигнувшей нашей пехоте»[191].
В отличие от русских и австрийцев, в оперативном отношении действовавших еще хуже русских, немцы умело применяли свою относительно немногочисленную конницу. При прорыве русского оборонительного фронта, как только немцы прорывались в глубь заблаговременно подготовленных рубежей, они старались тут же выбросить вперед конницу. Конные отряды стремились выйти на коммуникации русского отхода и своим порывом, смешанным с неожиданностью, остановить отходивших русских и пленить как можно больше людей. Данная тактика, в значительных масштабах являвшаяся, по сути, уже преддверием оперативного искусства, была взята немцами на вооружение из опыта русско-японской войны 1904 — 1905 гг. Прежде всего — Мукден. Если бы во время Мукденской операции, когда две русские армии из трех в панике катились к Харбину по Мандаринской дороге, японцы имели сильную конницу и бросили бы ее на пути русского отхода, то война была бы кончена одним ударом. Львиная доля русской группировки в Маньчжурии могла быть уничтожена только своевременным выходом в русский тыл сильной японской кавалерии. Другое дело, что японцы имели в Маньчжурии лишь несколько кавалерийских бригад слабого состава. Однако опыт есть опыт, и он должен был использоваться в Большой Европейской войне: «Немцы это постигли прекрасно, и все свои наступательные операции: Сольдау, Лодзь в 14-м году, Праснышскую и Цехановскую операции в феврале и июне 15-го года, Сморгонскую и т.п. они сопровождали решительными и весьма успешными действиями конницы в тыл противника»[192].
Конечно, бывали и исключения — и в успехе фронтальных контратак, и в преследованиях. Например, во второй половине апреля 1915 года, во время боев на южном фасе Юго-Западного фронта, противоборствующие стороны старались обойти южный фланг противника. Австро-германцы намеревались развить успех Горлицкого прорыва, а русские стремились парировать поражение на северном фасе Юго-Западного фронта, победой на южном его фасе. В итоге, подобно «бегу к морю» 1914 года на Французском фронте, линии сторон растягивались все более и более. К середине месяца австрийцы сумели выйти к реке Онут и стали охватывать левый фланг 9-й армии ген. П.А. Лечицкого. Для контрудара был предназначен только что переброшенный в 9-ю армию с левого берега Вислы 3-й кавалерийский корпус ген. графа Ф.А. Келлера. В состав корпуса входили 10-я кавалерийская дивизия (с образованием конного корпуса на посту начдива графа Келлера сменил ген. В.Е. Марков) и 1-я Донская казачья дивизия (ген. Г.И. Чоглоков). В качестве резерва располагалась 1-я Терская казачья дивизия ген. Т.Д. Арютинова.
Дабы обеспечить успех, следовало бить по укрепившимся австрийцам (42-я гонведная пехотная дивизия), которые обеспечивали исходный район для возобновления флангового наступления. В течение 24 — 26 апреля конная артиллерия кавкорпуса (двадцать четыре легких орудия) непрестанно обстреливала австрийские позиции у Баламутовки и Ржавенцев, чтобы дать коннице возможность развернуться для удара. Здесь следует напомнить, что в огневом отношении 3-й кавалерийский корпус уступал противнику: одна кавалерийская дивизия по мощи ружейного огня равна одному пехотному батальону. Таким образом, только в ружейном огне русские уступали неприятелю на треть (австрийская дивизия — три батальона). Плюс нехватка боеприпасов у русских, плюс более сильная артиллерия у австрийцев. Выход мог быть только один: атака в конном строю с решительными целями. Для удара граф Келлер построил свои части в два эшелона: донцы как ударная группа и 10-я кавалерийская дивизия в качестве группы развития успеха. 27-го числа русские неожиданно перешли в атаку: казаки в конном строю прорвали неприятельскую оборону и погнали противника на запад. К австрийцам вовремя подошли резервы — польские «легионы», создаваемые под патронажем будущего президента независимой Польши Ю. Пилсудского, и генерал Келлер был вынужден ввести в дело второй эшелон. Всего русские ввели в дело девяносто конных сотен и эскадронов. Упорная борьба перед австрийскими позициями завершилась днем 28 апреля, когда противник был сломлен непрестанными конными атаками и побежал. Преследование велось двое суток, вплоть до реки Прут. Сюда же подошла пехота, закрепившаяся на занятых рубежах. Только на самих австро-венгерских позициях во время прорыва трофеями русских стали почти три тысячи пленных, в том числе до двухсот офицеров[193]. Это контрнаступление получило название Заднестровского сражения.
Высшее русское командование предполагало активно использовать свою многочисленную кавалерию в кампании 1915 года. Именно теперь кавалерийские корпуса создаются в качестве постоянных единиц. Правда, кавалерийские корпуса, как и часть пехотных армейских корпусов в течение всей войны, как правило, включали в себя разные дивизии и (или) бригады. Ротация дивизионных и бригадных соединений в корпусах стала обычным делом, в зависимости от складывающейся обстановки и ставящихся перед конницей задач. Объединение кавалерийских дивизий в корпуса прежде всего было вызвано осознанием того обстоятельства, что одна дивизия не в состоянии выполнить задачу оперативного характера, а тактические рамки превосходно выполнялись и войсковой конницей.
Во-вторых, несколько кавалерийских дивизий обладали той огневой мощью, что была необходима для действий армейской конницы. Одна дивизия все-таки была слабовата и успешно сдерживалась арьергардами противника. Кавалерия, рубящая обозы отступающего врага, вносит расстройство в его тылы, а между тем русская конница все время давала противнику возможность прикрыться арьергардами. Это отчетливо показала уже Галицийская битва августа 1914 года: «Формирование конных корпусов из нескольких дивизий и вообще концентрация конных масс для боевых действий производилась широко в течение Великой войны, и к этому приводила современная мощь огнестрельного оружия»[194].
Первые кавалерийские корпуса были образованы в районе Днестра в начале апреля 1915 года: 2-й корпус ген. А.М. Каледина у Залещиков и 3-й корпус ген. Графа Ф.А. Келлера у Хотина. Эта конница передавалась в подчинение 9-й армии ген. П.А. Лечицкого, готовившейся к броску через Карпаты. То есть кавалерийские корпуса формировались на Юго-Западном фронте специально перед предполагаемым выходом на венгерскую равнину, где конница могла быть использована в полном объеме. Тогда же на Северо-Западном фронте сформировали 1-й кавалерийский корпус ген. В.А. Орановского. В мае 1915 года, для выполнения арьергардных задач в ходе отступления, был сформирован 4-й кавалерийский корпус ген. Я.Ф. фон Гилленшмидта. В 1915 году в кавалерийские корпуса входили по три-четыре дивизии, так как предшествующие бои кавкорпусов, имевших в своем составе по две дивизии, выявили недостаточную огневую и маневренную мощь таких соединений. Высокоманевренные операции еще больше повышали требования: осенью 1916 года, во время боев в Румынии, 3-й кавалерийский корпус ген. Ф.А. Келлера был развернут в целую армию, имея в своем составе восемь дивизий, в основном казачьих.
В весенне-летней кампании 1915 года русская кавалерия прикрывала общее отступление действующих армий. Конница отходила последней после сражений, сбивая темпы преследования победоносного неприятеля, закрывала то и дело образовавшиеся «провалы» в оборонительном фронте (прежде всего на стыках армий и фронтов), проводила контратаки во имя спасения пехоты и артиллерии. При общем отходе кавалерия, особенно казаки, выполняла приказы Ставки, пытавшейся проводить отступление «по образцу 1812 года», о превращении оставляемой территории в «пустыню», а также по выселению населения очищаемых губерний. Повторимся, что в период оборонительных боев конница показала себя лучше, нежели в наступательных операциях лета — осени 1914 года. Причина этого заключается в следующем: русские военачальники не умели использовать большие массы конницы.
Известно, что использование кавалерийских корпусов, не говоря уже о конных армиях, в наступательных операциях придает операциям громадный пространственный размах и маневренный характер в действиях наступающих войск. Повышение темпов наступления развивает тактический успех в оперативную победу. Использование конницы в качестве подвижного оперативного средства позволяет удерживать в своих руках инициативу. Перед Первой мировой войной среди русских командиров существовало представление о притягивании конницы к месту сражения для оказания непосредственного содействия другим родам войск. То есть, по сути, кавалерия как род войск ограничивалась войсковой конницей.
Но в ходе войны выяснилось, что стратегическая кавалерия должна иметь самостоятельные, в смысле выполнения оперативной задачи, операции, тесно связанные с общим планом действий армии или даже фронта. В этом случае конница совершает глубокий прорыв в тыл и фланг расположения противника: «Содействие армии самостоятельной конницей выразится либо в развитии прорыва неприятельского фронта на данном участке поля сражения, либо в виде заполнения прорыва или противодействия ему на собственном фронте. В виде преследования частей противника или в прикрытии своей армии в пределах поля сражения, в производстве охватов или в противодействии им, то есть в действиях на ближних флангах своей армии. В работе в ближнем тылу, направленной для внесения беспорядка в полосе резервов и ближайших к боевой линии органов боевого и продовольственного снабжения армии. К работе самостоятельной конницы по непосредственному содействию армии относится также использование конницы как маневренного подвижного резерва, а равно и для окопной службы».
В любом случае в 1915 году русская конница была вынуждена вести оперативные оборонительные действия. В периоды тех операций, что влекли за собой большие потери в личном составе пехоты, кавалеристы спешивались и занимали окопы, ведя позиционную борьбу. Кризис пополнений, испытываемый русской Действующей армией в 1915 году, наряду с кризисом вооружения часто побуждал военачальников отправлять конницу в окопы. Участник войны пишет, что в позиционной войне «конница обычно в мировую войну занимала участки боевого фронта, которые, по местным условиям, затрудняли ведение наступательных действий в крупном масштабе и где достигалась возможность ограничиться наличием незначительных огневых средств… К применению конницы для окопной службы следует прибегать в крайних случаях, так как гораздо целесообразнее, пользуясь подвижностью конницы, применять ее в качестве резерва»[196].
Как бы то ни было, за редчайшими исключениями, русская конница в 1915 году практически ни разу не смогла повлиять на исход операции. Причин этому много, и приоритетная среди них, наверное, — мощь огневого поражения. Однако же, по признанию немцев, русские кавалеристы не умели развивать достигнутый успех, ограничиваясь выполнением локальной тактической задачи. Так, М. Позек пишет, что во время боев под Свенцянами в сентябре 1915 года русская конница «проявила особенность, вообще свойственную русским, — останавливаться, прорвав наши иногда до смешного слабые линии и довольствоваться достигнутым успехом, вместо того чтобы использовать его дальше. Эта привычка русских позволила нам выйти и в этот период из ряда затруднительных положений [прорывы германских рубежей у Поставы, у Козяны, у озера Оболе, южнее и западнее озера Дрисвяты; порой на двадцать километров в глубину обороны], оставляя нам время для подвода резервов и ликвидации успеха противника»[197].
В преддверии кампании 1916 года Ставка решила усилить огневую мощь кавалерии. Уже весной было очевидно, что для русской Действующей армии предстоящее лето будет носить наступательный характер. Во-первых, к этому обязывали союзные соглашения в Шантильи, в главной квартире французского командования. Во-вторых, после начала Битвы за Верден стало ясно, что в 1916 году немцы переносят свои главные усилия на Западный фронт. В свою очередь, австро-венгерское командование намеревалось предпринять решительное наступление на Итальянском фронте. В своем оперативно-стратегическом планировании австро-германцы исходили из того, что русские, казалось бы, надломленные тяжелыми поражениями 1915 года, уже не смогут предпринять широкомасштабного наступления. Продолжение вторжения в Россию не сулило перспектив, так как каждый удар на Востоке ослаблял немцев на Западе. Поэтому австро-германцы решили ограничиться на Восточном фронте стратегической обороной. Провал Нарочской наступательной операции марта месяца, по оценкам, только подтверждал уверенность германского Большого Генерального штаба в пассивности русских в кампании 1916 года вследствие невозможности взлома австро-германской обороны.
Однако русские были полны уверенности в своих силах и готовились к широкомасштабному наступлению. Итог его планированию был подведен на Совещании всего высшего генералитета в Ставке Верховного Главнокомандования (Могилев), где было решено наступать всеми тремя фронтами одновременно. То есть в первый раз после августа 1914 года русские армии (одиннадцать единиц) в составе трех фронтов (Северный, Западный, Юго-Западный) должны были наступать все вместе. На Кавказе русская Кавказская армия ген. Н.Н. Юденича уже зимой одержала блестящую победу в Эрзерумской наступательной операции и не собиралась останавливаться на достигнутом. Соответственно предстоящим обширным задачам должны были готовиться и войска.
Приказ начальника штаба Верховного Главнокомандующего ген. М.В. Алексеева от 5 марта 1916 года гласил: «Сформировать при каждом кавалерийском полку особый стрелковый (пеший) эскадрон… В каждой кавалерийской дивизии означенные эскадроны свести в дивизионы, с придачей последним по одной пулеметной команде, вооруженной пулеметами системы Кольта». В состав стрелковых дивизионов офицеров должны были дать кавалерийские полки, а солдаты набирались: 1 из строевого состава кавалерийского полка, временно не имеющего лошадей; 2 из запасных кавалерийских полков; 3 из запасных батальонов фронта. Штат такого пешего эскадрона (дивизиона) — 4 офицера, 236 солдат, 15 нестроевых.
Спешивание части кавалеристов предпринималось еще в ходе боев 1915 года, но тогда стрелковые дивизионы носили временный характер и образовывались вследствие нехватки строевых лошадей либо для усиления оборонительных порядков тех кавалерийских соединений, что закрывали «провалы» в общем фронте. Предполагалось, что стрелки при кавалерийских дивизиях существуют как непродолжительное явление. Однако русское командование трезво оценивало положение вещей и учитывало, что конский состав тает, что кавалерийские дивизии не оправдывают своего назначения в позиционной войне, что в новых условиях (вместо маневра 1914—1915 гг. — прорыв неприятельской обороны с последующим его развитием) большого количества конницы не нужно. Как указывал Б.М. Шапошников, «мировая война с ее громадными потерями в конском составе привела конницу армий Западной Европы к принудительному спешиванию. Русская конница мировой войны стояла лишь в преддверии этого, начав сокращаться в численном своем составе и отдавая часть лошадей для более могущественного рода войск — артиллерии»[198].
Следует сказать, что противник гораздо раньше русских перешел к реформированию кавалерии, причем это реформированию было в первую голову связано именно с сокращением числа именно кавалеристов в конных подразделениях. В Австро-Венгрии уже к началу 1916 года из безлошадных всадников при каждой кавалерийской дивизии были сформированы стрелковые дивизионы[199]. В то же время конница спешивалась, занимая наиболее выгодные для ведения обороны участки в общем оборонительном фронте. Кавалерийский полк к маю 1916 года имел четыре эскадрона по сто двадцать сабель, а четырехполковая кавалерийская дивизия — два-три стрелковых дивизиона.
Так, именно спешенная кавалерия вкупе с Польским Легионом не позволила двум русским кавалерийским корпусам пробиться к Ковелю в завязке Брусиловского прорыва (подробнее — ниже, в последней главе). Летом 1916 года сформированные при австрийских кавалерийских дивизиях стрелковые дивизионы были развернуты в полки — каждый стрелковый полк по три дивизиона в четыре пеших эскадрона (сохранение прежней структуры). Кроме стрелковых полков, часть кавалерийских полков имела пешие эскадроны, в которых состояли безлошадные люди кавалерийского полка, использовавшиеся в качестве ближайшего пополнения. Теперь количество пеших стрелков в кавалерийских дивизиях стало превышать число собственно конников. Когда в 1916 году австрийские пехотные дивизии перебрасывались в Италию (до Брусиловского прорыва), то войсковая конница этих дивизий осталась на Востоке, причем эти эскадроны в основном придавались кавалерийским дивизиям и кавалерийским бригадам, служа, следовательно, пополнением для армейской кавалерии[200].
К 1917 году австрийский кавалерийский полк официально стал состоять из двух дивизионов — конного и стрелкового. Это — следствие спешивания кавалерийских дивизий из-за нехватки конского состава. Войсковая конница теперь имела не более восьмидесяти конников на пехотную дивизию, причем все, что возможно в отношении человеческого и конского материала, было передано в состав кавалерийских дивизий. А 2-я и 10-я кавалерийские дивизии были окончательно спешены, причем лошади передавались в артиллерию[201]. В итоге к 1917 году большая часть австрийских кавалерийских дивизий была спешена и переформирована в стрелковые полки.
В Германии также перешли к реформе перевода кавалерийских дивизий в стрелковые части. Но, как писал сам Э. Людендорф, «солдаты, выделенные из специальных родов войск, в большинстве случаев также неохотно шли в пехоту. Многие в пехоте видели себя лицом к лицу с опасностью, которую им до этого времени удавалось избегать»[202]. Тем не менее немецкая армейская конница к середине 1916 года сократилась на треть. К концу 1917 года немцы спешили около пятидесяти кавалерийских полков, преимущественно резервных и запасных. Только резервных кавалерийских полков за годы войны было образовано тридцати девять единиц[203]. При этом вся она находилась на Восточном фронте.
Сосредоточение кавалерии на Востоке позволило германскому командованию одержать ряд внушительных успехов в Румынии после прорыва румынской обороны в Трансильвании. Немцы предпочитали усиливать конницы пехотными частями и самокатчиками, насыщать артиллерией и пулеметами. Целесообразная организация кавалерийской дивизии, согласно германским представлениям, — три бригады по два-три полка в каждой. Также кавалерийская дивизия должна была иметь все необходимые вспомогательные войска: егерские батальоны, самокатчики, пулеметные отделения, артиллерийские батареи (в том числе и тяжелые), зенитные орудия, саперные отделения. Такие бригады могли использоваться и самостоятельно[204].
В условиях позиционной войны, в которой с конца 1915 года по примеру Французского фронта застыл Восточный фронт, конница должна была быть использована в качестве средства развития прорыва. Если учесть, что наступать должны были все три русские фронта, то кавалерия, казалось бы, получала значительные возможности для показа своих умений. Еще в ноябре 1915 года были сформированы 5-й и 6-й кавалерийские корпуса, а в марте 1916 года — 7-й кавалерийский корпус. Исходя из условий местности и задач, поставленных перед фронтами, четыре кавкорпуса были переданы на Юго-Западный фронт, а прочие три располагались севернее Полесья. Нельзя забывать и о том, что, помимо корпусов, армейские командования имели в своем распоряжении еще и отдельные кавалерийские дивизии.
Осмысливая опыт предшествующих сражений, русские военачальники уже поняли, что кавалерия должна применяться как комбинированный род оружия — маневр лошадью, удар — огнем. Ведь «конный бой построен на «шоке», на ударе холодным оружием накоротке, рассчитан на скоротечность, быстроту действий, бьет на впечатлительность, требует большой силы воли и решимости, правильного и верного нацеливания и способности быстрого маневрирования до удара, зачастую при бое небольшими конными частями, рассчитан на внезапность»[205]. При прорыве же сильно укрепленного неприятельского фронта конница не могла быть брошена во фронтальную атаку, чтобы не нести ненужных потерь. Следовательно, она должна была развивать успех прорыва, свершаемого пехотой во взаимодействии с артиллерией. Уже подводя итоги в эмиграции, Н.Н. Головин указывал на требования современной войны к кавалерии: «Конница для возможности своей работы должна владеть большим пространством». Отсюда вытекают принципы новой кавалерийской доктрины:
«1) кавалерия бьет не силой шока, а быстротой маневра;
2) кавалерия не боится широких фронтов;
3) управление даже небольшими частями принимает часто характер стратегического руководства»[206].
Тем не менее добиться надлежащего применения конницы русским полководцам так и не удалось. Западный фронт ген. А.Е. Эверта не смог прорвать германскую оборону (Барановичская наступательная операция), почему сосредоточение там кавалерии явилось напрасным. Северный фронт ген. А.Н. Куропаткина вообще не решился на прорыв. А успех Луцкого прорыва Юго-Западного фронта ген. А.А. Брусилова не был поддержан кавалерией вследствие неумения штаба фронта и штабов армий правильно использовать свою многочисленную конницу (см. главу 7). В результате, в то время как австро-венгерские армии громились и в панике отступали на запад, нагнать их и вырубить было некому.
Из выжидательного района сосредоточения в ночь перед прорывом конница выходит на вероятный участок ввода кавалерии в прорыв — туда, где стоят ударные общевойсковые группировки. С успехом прорыва конница тотчас начинает свое движение вперед, дабы не пропустить благоприятный момент. После развала неприятельской обороны и образования коридора прорыва кавалерия вводится в прорыв. Ключом к успеху операции должна была стать стремительность продвижения на направлениях главных ударов, обеспечивающая упреждение контрмер противника. Инструмент для этого — кавалерия. Продолжительные оперативные паузы, неизбежные в современной войне, позволяют врагу создавать мощную позиционную оборону. Поэтому переход к маневренным действиям неизбежно связывается с предварительным прорывом насыщенной огневыми средствами тактической зоны обороны противника.
Следовательно, надо пробить в обороне такую брешь, через которую конница могла бы без потерь выводиться на оперативный простор. Войдя в прорыв, конница должна, используя свою мобильность, уходить в отрыв, создавая своим продвижением в оперативную глубину благоприятные предпосылки для быстрого продвижения главных сил на направлении главного удара. Прорыв фронтовой группировки осуществляется либо навстречу удару другого фронта (концентрическое окружение), либо в оперативно-стратегическую глубину (рассекающие удары на расчленение неприятельской группировки). При условии быстрого продвижения конницы в оперативной глубине окружаемые или рассекаемые неприятельские группировки не успевают своевременно выйти из-под удара. Таким образом, войска первого оперативного эшелона прорывают тактическую зону обороны противника, после чего в прорыв вводятся эшелоны развития прорыва, основу которых составляют подвижные группы. Главный враг кавалерии — не «техника», а «непрерывность пехотного фронта». Поэтому конница становится главным родом войск, когда фронт противника раздроблен и деморализован[207].
Развитие прорыва маневром против обнажившихся флангов неприятельской обороны обеспечивает возможность вторжения конницы в глубокий тыл противника. Непрерывность кавалерийского давления вызывает у врага панику и деморализацию, увеличивающуюся в геометрической прогрессии. Конница развивает прорыв маневром, дабы избежать неприятельского контрманевра резервами, в то время как первый эшелон атаки уже разрушил систему огневой обороны врага на данном участке фронта. Наличие в тылу врага достаточно крупной конной группировки деморализует неприятеля. То есть такая группа должна быть снабжена всем необходимым вооружением для самостоятельных продолжительных боевых действий. Конницу же первоначально бросили в лобовые атаки на неприятельскую оборону, а затем так и оставили втуне, не решившись на действия кавалерийскими корпусами в оперативном масштабе.
В ходе летнего наступления Юго-Западного фронта в 1916 году (Брусиловский прорыв) русская кавалерия вновь не смогла проявить себя в надлежащей степени. Конница имела ряд блестящих дел, однако в оперативном масштабе ее применение практически ничего не дало. Исход сражений решался пехотой и артиллерией, а конница по ряду причин (в том числе и не зависящих от самой кавалерии) ни разу не смогла развить тактический прорыв в оперативный. Разочарование действиями кавалерии было слишком велико, чтобы и в дальнейшем усиливать этот род войск. Даже сам кавалерист, главнокомандующий армий Юго-Западного фронта ген. А.А. Брусилов, считал, что «сами по себе эти кавалерийские и казачьи дивизии были достаточно сильны для самостоятельных действий стратегической конницы, но им недоставало какой-либо стрелковой части, связанной с дивизией, на которую она могла бы опираться. В общем, кавалерии у нас было слишком много, в особенности после того, как полевая война перешла в позиционную…»[208].
Конница так и осталась орудием тактики, в то время как задачей командования было превратить ее в силу оперативного значения. Кавалерия должна использоваться оперативной деятельностью, то есть резать тылы и операционные линии противника. Фронтальный бой в условиях современного огня не для конницы. Надо вносить дезорганизацию в тылы и фланги неприятеля. Такие удары, понятно, должны наноситься в период операции армий. Иными словами, непосредственно на поле боя бегущий противник должен преследоваться сильной войсковой (дивизионной и корпусной) конницей, а уже затем в очищенное от неприятеля пространство бросается стратегическая (армейская) кавалерия в качестве маневренного средства. Ее задача — разгром подходящих резервов противника и поражение врага в оперативной глубине.
Преследование должно быть преимущественно не прямым (под ударами вражеской артиллерии), а параллельным: обойти отступающего противника и задержать его до подхода пехоты. Стратегическая кавалерия действует в оперативном масштабе ударами во фланги отступающего неприятеля, одновременно заходя в его глубокий тыл, дабы расстроить подход резервов к полосе прорыва. Именно таким образом, осмыслив негативный опыт первого этапа Брусиловского прорыва, главкоюз ген. А.А. Брусилов намеревался использовать кавалерию в июле 1916 года. После прорыва германской обороны под Ковелем усилиями Гвардейского отряда ген. В.М. Безобразова и 8-й армии ген. А.М. Каледина в прорыв должна была быть введена конница, в том числе и гвардейский кавалерийский корпус. Прорыв не удался, а потому конница так и не была применена по своему прямому назначению.
Итак, в кампании 1916 года по различным обстоятельствам русской кавалерии вновь не пришлось оправдать свое существование в качестве многочисленного и основного рода войск. В результате Ставка, поддержанная фронтовыми командованиями, стала сокращать конницу. Новое реформирование русской кавалерии пришлось на зиму 1916/17 года, когда на Восточном фронте уже затихли бои. Продолжал вести активные боевые действия только Румынский фронт, однако и там дело с конницей обстояло неважно. Вследствие эвакуации в Молдавию массы румынских беженцев, износившаяся за годы войны железнодорожная сеть не справлялась со снабжением войск. Между тем лошадь требует громадного количества фуража и, в отличие от людей, не может высидеть на чечевице и последних сухарях.
Разоренная войной Молдавия не могла дать необходимого снабжения, и продфураж приходилось везти из России по одной железнодорожной ветке. Так как обозы армейских корпусов и без того поглощали все запасы Румынского фронта, командование распорядилось отвести всю кавалерию в тыл. Причем это произошло под давлением кавалерийских начальников, сознававших бесполезность дальнейшего присутствия конницы на Румынском фронте, ибо из-за бескормицы русская конница все равно не могла надлежащим образом выполнить ставящиеся перед ней задачи. Так, донесение начальника 3-го кавалерийского корпуса ген. графа Ф.А. Келлера указывало: «Ходатайствую об отведении корпуса в составе 10-й кавалерийской, 1-й Донской казачьей и 1-й Терской казачьей дивизий в глубокий тыл хотя бы на короткое время, чтобы дать ему возможность пополниться и привести в порядок материальную часть для дальнейшей работы»[209].
На всех фронтах конница выводилась в резерв, так как фуража не хватало, лошади погибали, и потому конные части все равно не представляли собой мощного боевого элемента. Требовалось подправить конский состав — особенно это касалось Румынского фронта. Барон П.Н. Врангель писал о районе Кишинева зимы 1916/17 года: «Здесь сосредоточивалась большая часть русской конницы с Румынского фронта. Богатая местными средствами, и главным образом фуражом, Бессарабия давала возможность нашей коннице занять широкое квартирное расположение и в течение зимнего затишья на фронте подправиться и подкормиться»[210].
Конечно, главной причиной реформирования кавалерии стали не проблемы с фуражом, а отсутствие необходимости в большом количестве кавалерийских соединений. Если же вспомнить, что казаки воевали на коне (исключение — кубанские пластуны и один пластунский дивизион из донцов на Кавказском фронте), то сокращению должны были подвергнуться регулярные конные части. Хотя, конечно же, о снабжении не забывали. Современник событий указывал, что «дислокация сенокосных угодий не соответствовала дислокации воинских частей. Отсюда и приходили те явления, на которые указывают участники войны, а именно, что не сено доставлялось в районы расположения конницы, а конница располагалась там, где было сено… В результате неудовлетворительной доставки сена на фронт и несоответствия дислокации сенных угодий дислокации армии, эскадроны один за другим спешивались, а конница постепенно теряла свою боеспособность, лишаясь лошадей»[211].
Решение о реформировании всей русской Действующей армии было принято на совещании в Ставке 17 — 18 декабря 1916 года. Кампания 1917 года согласно намерениям императора Николая II должна была принять решительный характер. И дело было не столько в самой затянувшейся войне, сколько в том, что Российская империя трещала под следствиями общей неготовности России к Большой Европейской войне таких масштабов, а также под ударами либерально-буржуазной оппозиции, рвавшейся к власти любой ценой. Следовательно, русская армия должна была принять такую организацию, что позволила бы ей решить исход войны уже в 1917 году. Люди были, техника поступала, дело — за самой структурой.
Подробнее эта реформа, получившая название по имени своего вдохновителя — ген. В.И. Гурко, временно исполнявшего обязанности начальника штаба Верховного Главнокомандующего, будет рассмотрена в третьей части. Здесь же скажем, каким образом она отразилась на русской кавалерии. Боевая работа конницы на 31 октября 1916 года: 494 эскадрона (сотни) — 50% — в окопах; 72 эскадрона (сотни) — 7% — служба охранения и разведки; 420 эскадронов (сотен) — 43% — в резерве армий[212]. Как видим, половина конницы несла окопную службу, что отражало взгляды высшего генералитета на ее использование. Ясно, что сам генерал Гурко не мог принять исключительно своего собственного решения на реорганизацию. Прежде — он выслушивал мнения высших генералов, прежде прочих — главнокомандующих фронтов. Отсюда и принципы реформирования.
Первый шаг к изменению положения кавалерии сделал генерал Алексеев. Приказ Верховного Главнокомандующего от 7 декабря 1916 года предписывал при каждом кавалерийском полку иметь уже не один, а два стрелковых эскадрона, а стрелковые эскадроны кавалерийских дивизий свести в 6-эскадронные стрелковые полки. То есть на вооружение фактически брался австро-венгерский образец. При всех казачьих дивизиях требовалось сформировать по одному 3-сотенному дивизиону. Исследователь резюмирует: «По всей видимости, создание стрелковых эскадронов являлось закономерным результатом невозможности широко использовать в условиях позиционной войны весьма многочисленную в русской армии конницу»[213].
И действительно, это было так. Приказ Ставки указывал, что «громадная масса нашей конницы не находит достаточного применения своих сил и ей приходится работать в пешем строю». Отсюда делался вывод, что сокращение конницы вольет кадры в понесшую большие потери пехоту и одновременно отдаст часть своего конского состава артиллерии, решающей исход сражений. Иными словами, сокращение кавалерии будет проходить не ради самого сокращения как такового, а во имя усиления основных родов войск — пехоты и артиллерии.
При этом, дабы не «понижать» кавалеристов «в ранге» простой передачей части всадников в пехоту, командование просто-напросто образовало стрелковые части при кавалерийских дивизиях за счет самих этих дивизий. В итоге общий процент пехоты, так или иначе, увеличивался, а конницы — сокращался. Таким образом, в январе 1917 года уже существовавшие стрелковые дивизионы развертывались в стрелковые полки при кавалерийских дивизиях. Кроме того, резкому сокращению подлежали те кавалерийские подразделения, что придавались армейским корпусам, — войсковая конница. В значительной степени именно это сокращение позволяло экономить усилия транспорта на поставках в войска фуража.
Для получения людей в стрелковые полки два конных эскадрона спешивались, и в конном строю кавалерийского полка оставались только четыре эскадрона. Следовательно, кавалерийская дивизия вместо двадцати четырех эскадронов (сотен) должна была теперь иметь только шестнадцать эскадронов (сотен). Главными инициаторами такой реформы стали начальник штаба Верховного Главнокомандующего ген. М.В. Алексеев (пехотинец), полевой генерал-инспектор артиллерии великий князь Сергей Михайлович (артиллерист) и главнокомандующий армий Юго-Западного фронта ген. А.А. Брусилов (кавалерист, не сумевший использовать конницу в прорыве). Генерал Гурко фактически стал только исполнителем. Участник войны — кавалерист, служивший в 9-й кавалерийской дивизии, сообщает о формировании стрелковых дивизионов (затем — полков) при кавалерийских дивизиях зимой 1916/17 года: «Целью образования таких частей при кавалерийских дивизиях являлась необходимость придания большей устойчивости действиям конницы вообще и в особенности в условиях постоянного спешивания конницы для боя на широком фронте. Кроме того, являлась возможность быстрого использования безлошадного элемента в полках включением его в организованную и сплоченную боевую часть, какой являлся стрелковый дивизион. Позже, при развертывании стрелкового дивизиона в полк, на его укомплектование пошли по жребию полностью по два эскадрона от каждого полка дивизии»[214].
Дело в том, что согласно «реформе Гурко» увеличивалось количество пехотных дивизий. «Старые» дивизии давали кадры для «новых», после чего в них вливались пополнения. Ясно, что эти дивизии должны были получать и технику. И хотя Вооруженные Силы испытывали нехватку артиллерийских орудий и пулеметов, штаты все равно утверждались. Соответственно, эти пехотные дивизии требовали необходимого числа лошадей для обозов, артиллерии и пулеметов. Ведь нельзя забывать, что если в союзных армиях (главным образом во французской) войска уже переходили на ручные пулеметы, то русские все еще пользовались почти исключительно станковыми пулеметами, для передвижения которых на марше требовались лошади. Конечно, станковый пулемет гораздо мощнее ручного, но зато массовое насыщение пехоты удобными в бою ручниками позволяло до предела усиливать огневую мощь наступающей пехоты. Союзные поставки ручных пулеметов в Россию были невелики, автомат системы В.Г. Федорова только-только проходил испытания, поэтому рассчитывать, кроме как на станкачи, в кампании 1917 года было не на что.
Правда, командование все-таки пыталось в какой-то степени усилить огонь кавалерийских соединений. Образование стрелковых полков и проектировавшееся увеличение числа пулеметов в коннице усиливали дивизии. В свою очередь, дивизии сводились в корпуса. И вот уже каждый кавалерийский корпус должен был получить по батальону самокатчиков и автоброневому дивизиону.
Тем не менее налицо была политическая ошибка: единственный сохранившийся род войск накануне революции и развала армии терял треть своего состава. Правда, кавалерийское командование пыталось сопротивляться реформированию, заваливая высшие штабы и Ставку просьбами и жалобами. Примечательно, что во главе сопротивления данной реформе оказались казаки, указывавшие, что спешивание казачьих сотен унижает достоинство казачьего сословия. Дело в том, что первоначально частичному спешиванию должны были подвергнуться только именно казачьи дивизии, так как в Ставке считали, что «регулярная кавалерия сможет выделить для формирования пехотных батальонов достаточное количество офицеров и нижних чинов из состава полковых резервов…». Тем не менее, как вспоминает сам «реформатор», ген. В.И. Гурко, по настоятельному предложению главкоюза реформе была применена ко всей кавалерии[215].
И именно в казачьих частях реформа саботировалась вплоть до ее отмены. В связи с назреванием революционного кризиса в стране Ставка отменила реформу в отношении казачьих частей, что относилось и к казачьим полкам в составе регулярных кавалерийских дивизий. Теперь вместо 12-сотенных стрелковых полков при казачьих дивизиях формировались стрелковые дивизионы в четыреста человек. В кавалерийских дивизиях 12-эскадронные стрелковые полки были теперь без 13-й (казачьей) сотни.
Февральская революция 1917 года прекратила всякое рациональное реформирование в Вооруженных Силах. Первоочередной задачей Временного правительства стала подготовка широкомасштабного наступления, чтобы и оправдать кредит доверия от союзников по Антанте, и практическими действиями подтвердить «прогрессивный» характер падения монархии в России. Июньское наступление окончилось провалом, не закончившимся разгромом только лишь потому, что немцы опасались консолидации различных сил внутри России в случае угрозы военного поражения. В кампании 1917 года кавалерия исполняла две основные задачи — «завеса» на фронте и усмиряющая сила в тылу. Наличие сохранившихся кадров позволило коннице разлагаться под ударами революционного процесса не так стремительно, как пехота. Кроме того, своеобразным оплотом порядка служили и казаки, чья доля в составе русской конницы была громадна. К Октябрю кавалерия уже не могла выступать опорой Временного правительства, и переход власти в руки большевиков подвел итог существованию как всей старой русской армии, так и императорской кавалерии.
Глава 5 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КАВАЛЕРИЯ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ (1914)
Русская мобилизация, как это было известно задолго до войны, вследствие недостаточной развитости российской железнодорожной сети и огромных просторов империи проходила гораздо медленнее мобилизации армий противников и союзников. Германцы — пятнадцать дней, русские — более шестидесяти дней. Однако же франко-русские соглашения предполагали, что русские армии бросятся в пределы Германии, не дожидаясь окончания мобилизации, так как французы справедливо опасались, что не смогут в одиночку сдержать натиск главных германских сил на Париж обходом через Бельгию согласно «Плану Шлиффена». В любом случае, даже при максимально благоприятном раскладе, русские армии могли начать вторжение в германскую Восточную Пруссию не ранее пятнадцатого дня мобилизации. И то — без тылов, с задержками в подвозе боеприпасов и продфуража, без вливания резервов в наступающие войска на первом этапе наступательной операции. То есть русское наступление должно было проводиться одними только перволинейными дивизиями, не ожидая подхода из глубины страны второочередных дивизий Европейской России, а также Сибирских и Кавказских корпусов.
Тем не менее именно данные обязательства были закреплены русской стороной перед французами — наступление в Восточную Пруссию на пятнадцатый день мобилизации. Иными словами — в самый еще разгар мобилизационных мероприятий, пользуясь только войсками мирного времени, наскоро пополняемых запасными. Эти обязательства были выработаны на последнем совещании (1913 год) начальников Генеральных штабов Франции и России (соответственно ген. Ж. Жоффр и ген. Я.Г. Жилинский). В русском военном ведомстве сознавали, что необходимо использовать свои немногочисленные козыри, дабы помешать противнику, обороняющему Восточную Пруссию, провести собственные мобилизационные меры и успешно сосредоточить войска в ожидании русского наступления. Несмотря на активное строительство стратегической железнодорожной сети (на французские займы) в пределах русской Польши, на передовом театре выполнить всю намеченную работу не удалось. Наверное, и не могло удаться.
Следовательно, было необходимо задуматься о том, чтобы ударить по Германии еще в период мобилизации, чтобы, во-первых, прикрыть собственную мобилизацию, а во-вторых, сорвать мобилизацию неприятельскую. Единственной возможностью для проведения такого замысла в жизнь являлось использование многочисленной русской кавалерии. Предвоенные наработки русского Генерального штаба предполагали проведение удара по Восточной Пруссии усилиями значительной конной массы. Цели показаны выше — прикрытие собственных и срыв неприятельских мобилизационных мероприятий. Профессор Академии Генерального штаба так писал перед войной о целеполагании действий больших конных масс при вторжении в Германию: «Главной целью набегов конницы при мобилизации или до нее является отсрочка боевой готовности противника. Значит, здесь приобретает значение все, что способствует быстроте сосредоточения неприятельских армий и обеспечивает начало их боевых действий». К их числу относятся такие мероприятия, как:
«1) Разрушение железнодорожных линий, а мостов и разных сооружений на них в особенности.
2) Уничтожение различных складов с боевыми и вообще имеющими военное значение запасами.
3) Расстройство формирования частей и обозов путем истребления подходящих пополнений, в виде людского и конского состава, а также материальной части.
4) Вторжение в часть неприятельской страны, с населением, враждебно настроенным к противнику»[216].
Кроме того, такой удар имел и определенную психологическую цель — в свое время император Александр III пригрозил молодому кайзеру Вильгельму II, что в случае военного конфликта русский царь наводнит Германию казаками. Немцы постоянно помнили об этой угрозе, насыщая восточную часть прусской провинции железнодорожными узлами, чтобы иметь возможность противостоять русской угрозе. В свою очередь, русский Генеральный штаб также постоянно учитывал данную константу при разработке наступательного планирования в случае Большой Европейской войны. В итоге, как характеризует начало войны советский исследователь, с открытием военных действий «осторожные немцы, опасаясь действий в своем тылу многочисленной русской конницы, предусмотрительно отвели линию своего стратегического развертывания на нашем фронте несколько назад… то. обстоятельство, что одна возможность такого рейда заставила немцев принять план войны с развертыванием, гарантирующим, до известной степени, невозможность выхода русской конницы на сообщения, весьма характерно и показательно»[217].
В течение многих лет русские поддерживали в немцах убеждение, что с началом войны в Восточную Пруссию и Силезию с Познанью хлынут массы русской конницы. Однако постепенно Генеральный штаб, оказавшийся под давлением нового военного министра ген. В.А. Сухомлинова, отказался от этой идеи: в 1910 году были расформированы штабы двух кавалерийских корпусов и уведена за Волгу 5-я кавалерийская дивизия. Б.М. Шапошников пишет: «Конечно, набег конницы на Германию был бы делом нелегким, но на левом берегу Вислы образовался такой плацдарм, на котором действия конницы в больших массах оправдали бы себя. Так это, в сущности, и случилось в начале войны. Но ту же 5-ю кавалерийскую дивизию пришлось везти обратно в Варшаву уже с Волги»[218].
Что означала данная передислокация русской вооруженной силы, в том числе и кавалерии, в глубь страны? Дело в том, что с приходом к руководству российским военным ведомством бывшего командующего войсками Киевского военного округа ген. В.А. Сухомлинова, которого в свое время продвигал сам М.И. Драгомиров, в планировании войны с центральными державами возобладали оборонительные тенденции. Так, была разрушена единая крепостная система в русской Польше, а часть корпусов была выведена в глубь Европейской России, где должна была пополняться запасными с объявлением мобилизации. То есть если ранее призванные по мобилизации запасные доставлялись в свои дивизии в западной части страны, то теперь организационный аппарат этих дивизий был выведен в места призыва запасных. Следовательно, теперь на западную границу пришлось бы перевозить не только призывников, но и сами дивизии со всем их немалым имуществом мирного времени.
Подобная мера вызвала противодействие со стороны ряда командующих военными округами, и вскоре планирование было изменено вновь на активно-наступательное. Стал восстанавливаться ряд крепостей, а часть войск вернулась к местам прежней дислокации. Но главное, что относится к действиям кавалерии в начале войны, — это то обстоятельство, что не были восстановлены кавалерийские корпуса. В войсках остались лишь отдельные кавалерийские дивизии, придаваемые армейским корпусам.
Что это означало на практике? Во-первых, с началом войны образовывались новые структуры — армии и фронты. Соответственно признавалось, что конница может сводиться в большие массы, чтобы ими управляли не армейские корпуса, у которых и без того хватало собственных задач, а именно армейские штабы. Однако заблаговременно организованный кавалерийский корпус и несколько конных дивизий, сведенных вместе с началом войны, — это далеко не одно и то же. В период объявления мобилизации пришлось заново образовывать большую конную массу для удара по Восточной Пруссии. Однако руководство этой массой формировалось на основе одной из кавалерийских дивизий — в данном случае в 1-й армии Северо-Западного фронта, о которой в этой главе будет идти речь, на основе 2-й кавалерийской дивизии ген. Г. Хана Нахичеванского. Импровизированный штаб не смог заменить подготовленного перед войной штаба, что и сказалось на результатах деятельности русской кавалерии в Восточной Пруссии. О пагубности ликвидации незадолго перед войной кавалерийских корпусов как структуры участник войны пишет: «Еще в мирное время в случае войны с Германией предполагалось сформировать большой конный отряд из 4 кав. дивизий, но вместе с тем никаких предположений о сформировании управления этого отряда не было. Считали возможным, как во время маневров, четыре дивизии подчинить начальнику, а штаб его дивизии превратить в штаб отряда. Упустили из виду, что то, что годилось в мирное время на несколько дней, не годится в военное время на продолжительный срок. В результате оказалось, что штаб конного отряда Хан-нахичеванского составился из малого числа случайно подобранных людей, которые не могли справиться со всей выпавшей на их долю работой. Прикомандирование же людей из частей не помогло и не могло помочь: эти люди, незнакомые со штабной работой, увеличивая число сопровождающих начальника отряда лиц, могли быть лишь ординарцами»[219].
Образование заблаговременно подготовленных корпусных штабов как жизненно насущной необходимости было подтверждено опытом войны. Все воюющие стороны, в случае создания конной группы более дивизии, старались объединить действия конных подразделений этой группировки с помощью того штаба, что заранее предназначался для руководства такой частью. Германский автор сообщает: «Кавалерийский корпус нельзя импровизировать. Для управления им нужен заботливо подобранный штаб, не стесненный в штатах, хорошо сработавшийся и располагающий всеми вспомогательными средствами, необходимыми для проведения крупной операции. Механическое возложение обязанностей командира корпуса на старшего из командиров двух или нескольких временно объединенных кавалерийских дивизий едва ли обеспечит интересы управления на протяжении даже одного дня боя, не говоря уже о самостоятельных стратегических операциях. Поэтому настоятельно необходимо основательно готовить штабы кавалерийских корпусов еще в мирное время»[220].
Существовало и второе негативное обстоятельство перемены дислокации конницы в 1910 году, которое не было исправлено при отмене данных мероприятий военного министра, а, напротив, подтверждено планами Генерального штаба. Дело в том, что ранее русская кавалерия должна была действовать с естественного плацдарма, образованного конфигурацией государственной границы Российской империи с Германией и Австро-Венгрией, расположенного на левом берегу Вислы. Еще в 70-х годах девятнадцатого столетия начальник Главного штаба ген. Н.Н. Обручев разработал план задержания неприятельской мобилизации путем разрушения железнодорожной сети в Восточной Пруссии. Эта мера должна была быть достигнута набегом русской конницы в больших массах. Поэтому в мирное время русские кавалерийские дивизии размещались вдоль германской и австрийской границ. Интересно, что в 1873 году на 3-м (дополнительном) курсе Академии Генерального штаба эта тема досталась для стратегической разработки как раз корнету В.А. Сухомлинову — будущему военному министру в 1909 — 1915 гг[221].
Так вот, к 1914 году, после реорганизационных мероприятий 1910 — 1911 гг., русские конные массы возвращались в западную часть империи. Более двадцати пяти процентов русской кавалерии располагалось в Варшавском военном округе. Однако русское военное ведомство отказалось от развертывания главных сил на плацдарме левого берега Вислы. В числе высших военачальников, ратовавших за такой вариант, был и начальник штаба Киевского военного округа ген. М.В. Алексеев, которому в годы Первой мировой войны предстояло занимать ряд самых высоких постов русской Действующей армии. Тем не менее военный министр ген. В.А. Сухомлинов при поддержке своих ставленников в Генеральном штабе сумел отстоять собственный план развертывания, согласно которому русские должны были наносить два разрозненных удара по противнику — в германскую Восточную Пруссию и австрийскую Галицию. Генерал же Алексеев с помощью аппаратных интриг был смещен с поста начальника штаба Киевского военного округа и отправлен командовать 13-м армейским корпусом в Варшавский военный округ.
Таким образом, русское оперативное планирование к началу Первой мировой войны носило компромиссный характер. С одной стороны, русские обязывались к активным наступательным действиям и против Германии, и против Австро-Венгрии. В этом смысле оборонительный настрой военного министра потерпел поражение. И не мог не потерпеть, ибо в случае отказа от немедленного удара по Германии еще до окончания мобилизации Франция была бы неминуемо разгромлена, а борьбы с австро-германским блоком один на один русская монархия выдержать не могла. С другой стороны, теперь русские должны были наступать не в Познань по кратчайшему направлению на Берлин, а в Восточную Пруссию. Такой подход мотивировался неверием в способность французов устоять перед германским натиском на Париж и, следовательно, необходимостью занять удобные для ведения обороны рубежи — все течение Вислы.
Соответственно, теперь левый берег Вислы оголялся, и фактически вся эта часть русской Польши без боя отдавалась противнику. Отныне массы русской конницы должны были бить не с этого естественного плацдарма, а совершать набег в Восточную Пруссию, пытаясь нанести немцам максимальный ущерб. Точно так же расположенные по громадной конфигурации австро-русской границы кавалерийские дивизии (от Люблина до Проскурова) должны были вести локальные действия в приграничье, преследуя достижение минимальных целей — срыв австрийской мобилизации в пограничных районах.
Что означала перемена цели для русской кавалерии на практике? Удар с левого берега Вислы в немецкую Познань прежде всего оголял данный район от присутствия противника во имя развертывания главных сил русской Действующей армии. После сосредоточения русское Верховное Командование могло выбирать направление главного удара — в Германию или в Австро-Венгрию. Опасение же неприятельского соединения в районе Седлеца концентрированными ударами немцев с севера и австрийцев с юга, как то предполагалось верным сотрудником военного министерства генерал-квартирмейстером Генерального штаба ген. Ю.Н. Даниловым (этот человек и составлял непосредственно оперативное планирование войны), было лишено основания.
Дело в том, что возможное движение немцев через рубеж рек Нарев и Бобр к Седлецу сдерживалось системой русских крепостей в Польше, а также наступлением 1-й армии, собиравшейся в Виленском военном округе, в пределы Восточной Пруссии. Точно так же русское наступление из Киевского военного округа (3-я и 8-я армии) на Львов блокировало вероятный удар австро-венгров в русскую Польшу. Тем более что развитие русского наступления с левого берега Вислы неизбежно выигрывало темпы операции против Австро-Венгрии уже только географическим фактором. Надо помнить и о том, что австрийцы как противник настолько же уступали русским, насколько русских превосходили немцы — здесь речь идет, разумеется, не о качествах личного состава армий противоборствующих сторон, а о качестве военной организации и системы управления войсками в оперативно-стратегических масштабах. Данный вывод подкрепляется всем опытом Первой мировой войны на Восточном фронте.
Во-вторых, система обороны Восточной Пруссии существенно отличалась от обороны Познани. Что есть Восточная Пруссия? Это провинция, заблаговременно укрепленная стационарными и маневренными сооружениями. Под первыми разумеются крепостные системы от первоклассной крепости Кенигсберг до форта-заставы Летцен и блокгаузов на южной границе провинции. Под вторыми — сильнейшая железнодорожная сеть, позволявшая немцам маневрировать пехотными подразделениями быстрее, чем это могла сделать русская кавалерия. Использовать же собственные эшелоны русские не могли вследствие разницы в ширине колеи (русская колея — 1524 мм, европейская — 1435 мм). Угон же транспортных железнодорожных средств в глубь Германии с началом русского вторжения являлся логичной и неоспариваемой мерой, поэтому русские и не могли рассчитывать на трофеи в этом отношении — на немецкие паровозы и вагоны, достаточные для перевозки хотя бы и одной пехотной дивизии. То есть русские железнодорожники должны были перешивать колею в ходе боевых действий. Понятно, что за темпами высокоманевренных операций подобные мероприятия успеть заведомо не могли. Поэтому-то русское военное ведомство и пыталось сделать ставку на действия многочисленной кавалерии. Кроме того, надо помнить, что в Германии, как и почти во всей Европе, шпалы делали из металла, что очень затрудняло перешивку европейской колеи под русский транспорт.
Наконец, в-третьих, Восточная Пруссия есть регион, чрезвычайно неудобный для ведения маневренных фланговых действий. Это район массы озер, система которых превосходно защищала провинцию от удара строго с востока (Мазурская озерная система) и неплохо — от удара с юга, от рубежа реки Нарев. Именно озерные районы дробили единство русского наступления на части. Прежде всего 1-я и 2-я русские армии, долженствовавшие наступать в Восточную Пруссию, двигались порознь вплоть до преодоления линии Мазурских озер. На этом этапе германское командование в Восточной Пруссии (8-я армия) получало превосходные шансы на разгром русских по частям. Именно такие маневры отрабатывались на полевых поездках германского Большого Генерального штаба при графе А. фон Шлиффене.
Также немцы сумели укрепить южное пограничье Восточной Пруссии системой блокгаузов, расположенных в промежутках между озерами. Против пехотно-артиллерийской атаки эта система была бессильна, но зато она чрезвычайно успешно сдерживала наступление кавалерии, вынуждая ее спешиваться перед каждым таким блокгаузом и атаковать его в пешем строю в лоб — ведь блокгаузы так применялись к местности, чтобы они не могли быть обойдены конницей. Следовательно, в данном случае русская конница в темпах своего движения ничем не отличалась бы от пехоты. Каков бы тогда был смысл конного удара? Именно это обстоятельство наряду с фактом преднамеренной слабости русских коммуникаций (отсутствие не только железнодорожной сети, но и нормальных шоссе) в районе севернее Нарева до русско-германской границы вынудило русских отказаться от проведения конного удара силами кавалерии 2-й русской армии. То есть той армии, которая должна была здесь наступать в Восточную Пруссию.
Лесные массивы Восточной Пруссии в сочетании с озерными акваториями и системой укрепления промежутков между ними превосходно защищали провинцию от удара русской кавалерии. В то же время ничего этого не было в Познани, бить по которой русские планировали, как показано выше, еще начиная с генерала Обручева. Следовательно, перемена планирования для исследуемой в этой главе темы сказалась в том, что русская стратегическая кавалерия Северо-Западного фронта должна была действовать в чрезвычайно неудобных условиях для выполнения поставленной перед ней задач. Офицер-кавалерист В. Кочубей так вспоминал о начале войны: «Действительно, какой был абсурд посылать крупные кавалерийские соединения для самостоятельных действий в огромных лесных пространствах! Наши командные верхи, состоявшие главным образом из бывших пехотных офицеров, совершенно не умели пользоваться кавалерией… Что могла сделать кавалерия в бездорожных, почти дремучих лесах, где не было возможности ей развернуться, где она была обречена на действия только в пешем строю, где кони становились для нее только обузой? Всякое движение в конном строю среди бесчисленных болотных полян или сети осушительных каналов, среди деревьев и густых кустарников — да еще с пиками — было чрезвычайно трудным, или даже просто неосуществимым… Порой казалось даже, что наше Высшее Командование считало кавалерию созданной именно для действий в лесах, так как где только оказывались на театре военных действий лесные пространства, непременно туда посылались кавалерийские дивизии и корпуса… Немцы же избегали посылать свою кавалерию в леса»[222].
Таким образом, воплощение идеи массированного конного удара по Германии в жизнь, проведенное в русском планировании к июлю 1914 года, не могло не принести чрезвычайно малый эффект. Немцы сделали все от них зависящее, чтобы сорвать русские планы массированного кавалерийского вторжения в германские пределы. В свою очередь, русское военное ведомство при ген. В.А. Сухомлинове подыграло врагу, составив такие планы войны, согласно которым русская конница обязывалась действовать в наименее позитивных условиях, при наличии и лучшего варианта — удара с левобережного плацдарма Вислы. Недаром первый офицер оперативного управления 8-й германской армии М. Гофман впоследствии писал: «…нас не беспокоила многократно уже обсуждавшаяся возможность кавалерийской атаки большими массами неприятеля. С ними управились бы войска, охранявшие границу. Нам даже желательно было, чтобы русские в действительности предприняли такого рода атаку и при этом сразу потерпели бы неудачу»[223].
В итоге было решено, что удар стратегической кавалерии по Германии будет произведен из-за рубежа реки Неман силами армейской конницы 1-й армии, сосредоточивавшейся в Виленском военном округе. Именно здесь немцы и ждали такого удара, а значит, могла ли удаться такая операция? Составители данного планирования оправдывались, что предполагаемый конный удар прежде всего прикроет сосредоточение 1-й русской армии. Однако здесь сосредоточение происходило под прикрытием водной преграды, а кроме того, главная масса германских войск отправлялась против Франции. Так зачем же 8-я германская армия стала бы рисковать удлинением своих коммуникаций, располагая заведомо меньшими силами, нежели готовившиеся к удару по Германии русские армии Северо-Западного фронта? То есть русская мобилизация и не могла быть сорвана неприятельским вторжением.
Поэтому, с нашей точки зрения, были правы те русские военные деятели, что предлагали производить конный набег в Германию не в Восточную Пруссию, а с плацдарма левого берега Вислы. Здесь была лучшая география, кратчайшее расстояние до жизненно важных центров Германии, перспективы широкого вторжения с перспективами маневренных действий большими конными массами. Заодно, что было реально, действия русской конницы задержали бы там те германские армейские корпуса, что должны были по сосредоточении отправляться во Францию. Это были 5-й и 6-й армейские корпуса немцев, чьи передовые подразделения еще до посадки в эшелоны, идущие к франко-германской границе, разорили русский городок Калиш. При энергичных действиях русская конница могла вынудить немцев обороняться в Познани. Разве это не было бы лучшей помощью Франции, нежели обреченная на неудачу попытка срыва мобилизации в Восточной Пруссии? Нельзя забывать, что роль конницы — полное уничтожение коммуникационных линий врага.
Вышло так, как вышло. Итак, согласно русскому оперативному планированию удар стратегической кавалерией должен был быть произведен по Восточной Пруссии, при этом со стороны Немана — конницей 1-й армии. То есть эта конница подчинялась уже не армейским корпусам, а штабу армии, которую возглавил командующий войсками Виленского военного округа ген. П.К. Ренненкампф. В состав армейской конницы 1-й армии вошли 1-я (ген. Н.Н. Казнаков) и 2-я (ген. Г.О. Раух) гвардейские кавалерийские дивизии, 1-я (ген. В.И. Гурко), 2-я (ген. Г. Хан Нахичеванский) и 3-я (ген. В.К. Бельгард) кавалерийские дивизии, а также 1-я отдельная кавалерийская бригада. Всего конница 1-й армии имела в своем составе сто двадцать четыре эскадрона при шестидесяти легких орудиях.
Кавалерия 1-й армии сводилась в две группы: главную под командованием Хана Нахичеванского (четыре дивизии — 1-я и 2-я гвардейские, 2-я и 3-я кавалерийские) и действующую на левом фланге армии группу ген. В.И. Гурко (1-я кавалерийская дивизия при поддержке 5-й стрелковой бригады). Мировую войну Хан Нахичеванский, бывший коренным гвардейцем, встретил в качестве начальника 2-й кавалерийской дивизии и уже в ходе развертывания 1-й армии был назначен командиром всей армейской кавалерии (до десяти тысяч сабель) ввиду своих личных качеств и гвардейских связей. Он оказался самым старшим по производству кавалерийским начальником в 1-й армии и потому довольно случайно получил под свое командование основную массу конницы, исходя из обыкновенного старшинства по службе.
Таким образом, сбылись худшие предположения наиболее дальновидных русских командиров. Армейская кавалерия была возглавлена механическим перенесением штаба одной из кавалерийских дивизий на корпусную основу. Разумеется, что штаб 2-й кавалерийской дивизии не был для этого подготовлен, да и сама дивизия пострадала, так как логично, что Хан Нахичеванский, образуя штаб армейской конной группы, взял с собой лучших офицеров. Несовершенство (а еще лучше сказать — отсутствие) организации управлением большой конной массой сказалось на ходе операции самым негативным образом. И причина для этого во многом объективная — отсутствие заблаговременно подготовленного кавалерийского корпусного штаба. Участник войны и восточнопрусского похода В. Рогвольд, оценивая действия армейской кавалерии 1-й армии в ходе Восточно-Прусской операции, замечает: «Оказывается, во-первых, что мало собрать несколько кавалерийских дивизий вместе и назначить общего начальника, чтобы создать конный отряд, а необходимо организовать его, создать органы управления, снабдить всем необходимым. Во-вторых, мало иметь большое количество конницы, нужно еще уметь ею пользоваться. И в том, и в другом отношении командование 1-й русской армии много погрешило, несмотря на то что во главе армии стоял кавалерист, который, казалось бы, должен был знать свойства кавалерии, ее нужды, условия деятельности и что от нее и в каких условиях можно требовать и ожидать. Штаб армии, очевидно, обо всем этом имел очень слабое представление »[224].
Дело, конечно, не в «слабом представлении» штаба 1-й армии, которую возглавлял генерал от кавалерии Ренненкампф, командовавший кавалерийской дивизией в русско-японской войне 1904 — 1905 гг. Суть проблемы в неправильной организации кавалерии, которая, как говорилось выше, была введена в жизнь всего лишь за несколько лет перед войной. Этого оказалось достаточно, чтобы превосходная подготовка личного состава русской конницы была сведена на нет отвратительной ее организацией. Вдобавок, как ясно, тыл стратегической конницы также оказался совершенно неподготовлен, и дело решилось лишь с переходом русской кавалерии на постоянную корпусную основу. По иронии судьбы, первый кавалерийский корпус был образован в сентябре 1914 года, как раз после окончания первых операций (далее них планирование Генерального штаба не распространялось) и именно на левом берегу Вислы!
В свою очередь, все воюющие стороны в самом начале войны старались сводить свою кавалерию в большие массы, так как сразу же выяснилось, что слабый огонь одной кавалерийской дивизии не может сдержать и одного неприятельского пехотного батальона. Так, во Франции к началу войны было 10 кавалерийских дивизий, из коих 1, 3 и 5-я были сведены в кавалерийский корпус генерала Сордэ. На австро-русском фронте противники оперировали отдельными конными дивизиями, действовавшими сами по себе и совместно с армейскими корпусами. В отличие от союзников германское командование старалось усилить свою конницу пехотинцами. Когда в начале войны немцы свели свои конные дивизии в сводные корпуса временного состава, то на каждую кавалерийскую дивизию в таком корпусе придавались 1 — 2 егерских батальона.
Итак, чтобы совершить глубокий рейд по тылам противника, сосредоточивавшегося в Восточной Пруссии, у русско-германской границы на ее неманском отрезке сосредоточивалась главная масса русской кавалерии, предназначенной для ведения борьбы с Германией на первом этапе войны. Это — пять с половиной кавалерийских дивизий. Причем лучших дивизий — в том числе здесь располагалась гвардейская конница. Как упоминает участник событий, «планом войны в 1-й армии предполагалось сформировать конный отряд из четырех дивизий, но особого управления для этой массы формировать не предполагалось, и оно было создано без предварительных соображений из тех лиц, которые находились под рукой»[225].
В состав 2-й русской армии ген. А.В. Самсонова, которая должна была наступать в Восточную Пруссию с юга, вошли 15-я (П.П. Любомиров) и 6-я (В.Х. Рооп) кавалерийские дивизии на левом фланге армии, а также 4-я кавалерийская дивизия (ген. А.А. Толпыго) на правом фланге.
Затронем вопрос о количестве и соотношении кавалерии в составе армий противоборствующих сторон на Восточном фронте в начале войны. Тем более что эти вычисления являются весьма интересным моментом для исследования численности и организации конницы в разных армиях. Действительно, в начале войны кавалерия составляла весьма существенную величину в армиях противоборствующих государств. Особенно это заключение верно в отношении России, где процент конницы заходил за двадцать единиц. В начале стратегического развертывания стороны представляли собой следующие силы (в дивизиях)[226].
Следует учитывать, что русская кавалерийская дивизия по численности уступала пехотной дивизии в пять раз (для армий центральных держав соотношение 1:3), поэтому при подсчете людского состава общий процент кавалерии должен быть несколько меньше, чем указанный в таблице. С другой стороны, в августе 1914 года русские армии начали наступление, не успев полностью укомплектовать по штату свои войсковые единицы. При этом комплект людей кавалерии был более высоким, чем в пехоте, так как в мирное время конница, в отличие от пехоты, содержалась в полном составе своих кадровиков. Однако мы говорим здесь не о соотношении родов войск как мощи армий, а о преимуществе, изначально полученном русскими полевыми армиями в маневренной войне. Посмотрим, что 1-я армия почти наполовину состояла из конницы (не по численности, конечно, а по дивизионным единицам). Другое дело, что воспользоваться этим преимуществом русские не сумели. Важнейшее маневренное средство ведения боя либо применялось не в полной мере (Юго-Западный фронт), либо практически вовсе не использовалось (Северо-Западный фронт). А во 2-й армии ген. А.В. Самсонова в период проведения Восточно-Прусской наступательной операции августа 1914 года конница послужила вообще балластом.
Интересным вопросом является соотношение численности русской и германской кавалерии в августе 1914 года. Так, как показано в таблице, на первом этапе Восточно-Прусской наступательной операции (во второй фазе к обеим сторонам подошли подкрепления) русский Северо-Западный фронт в составе двух армий — 1-й и 2-й — выставил против немцев 17,5 пехотной и 8,5 кавалерийской дивизий при 1104 орудиях. Общая численность — около 250 000 штыков и сабель. В свою очередь, против русского Северо-Западного фронта немцы выставили 17 пехотных и 1 кавалерийскую дивизии при 1116 орудиях. Общая численность — 190 000 человек, без учета корпуса Войрша (30 000 штыков), отправленного на поддержку австрийцев.
Между тем если считать по числу эскадронов, то соотношение кавалерии противоборствующих сторон окажется вовсе не 8,5:1. Необходимо учитывать, что немцы имели очень сильную войсковую конницу, не входившую в состав кавалерийских дивизий, а придаваемую пехотным дивизиям и корпусам. Так, в составе 1-й кавалерийской дивизии 8-й германской армии находилось двадцать четыре эскадрона, а при корпусах и пехотных дивизиях состояло еще в два с половиной раза больше конницы — шестьдесят пять эскадронов. Каждая германская пехотная дивизия имела до десяти конных эскадронов в качестве войсковой конницы. Поэтому при исчислении соотношения конных масс сторон надо помнить, что русские имели 196 эскадронов и сотен в 8,5 кавалерийской дивизии, а немцы — 89 эскадронов[227] и при этом всего одну кавалерийскую дивизию, прочая конница находилась при общевойсковых соединениях. То есть соотношение представляется 2,2:1 в пользу русских. Русские армейские корпуса также должны были иметь войсковую конницу, однако большая часть корпусов их не получила. Например, 13-й армейский корпус 2-й армии вовсе не имел кавалеристов, а 15-й армейский корпус имел слабый конный полк, составленный из полицейских казачьих формирований Варшавы: так, 8-я пехотная дивизия 15-го армейского корпуса имела для разведки только одну донскую отдельную казачью сотню третьей очереди[228].
Что такое войсковая конница? Это те кавалерийские части, что придавались общевойсковым соединениям в качестве средства ведения разведки. Авиация еще являлась слишком молодым и неоцененным родом войск, чтобы командиры могли отказаться от испытанной разведки. Если кавалерийские дивизии и бригады являлись частями своего рода войск — кавалерии, то войсковая конница — это исключительно разведка, «глаза и уши» армейских корпусов. О необходимости увеличения кавалерии в первую голову как войсковой перед войной знали. В феврале 1914 года, делая представление в Государственную Думу в отношении выделения кредитов, Главное управление Генерального штаба указывало: «Слабою чертою ныне действующих штатов кавалерийских полков является прежде всего то обстоятельство, что полки содержатся в недостаточном составе для того, чтобы выводить в строй как при мобилизации, так и при обучении в мирное время полное число рядов во взводах… Новые формирования по кавалерии определены по такому расчету, чтобы удовлетворить двум требованиям, а именно: иметь на военное время достаточной численности стратегическую конницу и в то же время обеспечить войсковой конницей пограничные корпуса»[229]. Однако провести увеличение конницы на двадцать шесть полков до начала войны не успели.
Вот и вышло, что наступавшие в неприятельские пределы пехотные дивизии двигались вслепую, будучи вынужденными самостоятельно вести разведку, что только притормаживало марш. Участник войны, выдающийся русский военный ученый, писал, что дивизионная кавалерия должна быть достаточно сильной. А именно — не менее одного перволинейного кавалерийского полка на пехотную дивизию. В результате же «первые операции в Восточной Пруссии ярко подтвердили правильность немецкого решения и неправильность нашего, согласно которому вся перволинейная кавалерия была сведена в крупные массы (кавалерийские дивизии и конные корпуса), а на долю линейных дивизий и армейских корпусов были предоставлены второочередные казачьи части, то есть кавалерия второго сорта. В результате наши линейные дивизии и армейские корпуса завязывали бой вслепую и подвергались неожиданному охвату флангов »[230].
В чем важность войсковой конницы? Приведем простой пример. Когда корпуса 2-й армии двигались в глубь Восточной Пруссии, то вплоть до 12 августа (сражение под Орлау — Франкенау) они не встречали перед собой противника. То есть двигались в глухую «пустоту». Однако же в каждой деревушке, в каждом блокгаузе, не говоря уже о крохотных восточнопрусских городках, по русским стреляли. Это были немногочисленные отрядики жандармерии и добровольческих обществ, состоящие из местных уроженцев. Как правило, эти люди имели в укрытии лошадей или велосипеды, что позволяло им при приближении русской пехоты уходить в глубь провинции. То есть при каждом таком выстреле русские пехотные авангарды были вынуждены разворачиваться, притормаживать свое движение и затем продвигаться вперед с надлежащей для того осторожностью. А будь в корпусах 2-й армии войсковая конница, то казачьи сотни легко «зачищали» бы все те пункты, откуда раздавались выстрелы, не вынуждая пехоту тормозить свой марш-маневр.
Этот пример только для непосредственной тактики. Важнейшая же задача войсковой конницы — ведение разведки. Ведь понятно, что если конники обнаружат впереди значительное скопление противника, то командиры армейских корпусов вовремя подтянут войска, развернут артиллерию, выберут удобные для прикрытия флангов объекты местности. В противном случае, как то и было в жизни, русская пехота «неожиданно» натыкалась на врага, имевшего преимущество в завязке сражения, так как немецкая пехота и артиллерия располагались на заблаговременно подготовленной позиции, что позволяло противнику вести бой с меньшим для себя уроном. И даже 1-я русская армия, имевшая впереди себя шесть с половиной дивизий, наступая на коротком фронте (сорок пять верст), всегда получавшая разведывательные сведения, но и тогда сражение под Гумбинненом, решившее исход Первой мировой войны[231], произошло для штаба 1-й армии сравнительно неожиданно. Так что говорить про 2-ю армию, где кавалерия прикрывала фланги, оставив центр, погибший под Танненбергом, без разведки? Более того — в ходе германского маневра по окружению 2-й армии русские кавалерийские дивизии, действовавшие на флангах армии, дрались в спешенном строю, пытаясь помочь своей пехоте в отражении атак рвавшегося в тыл русскому центру противника. В чем здесь соль? Все очень просто — огневая мощь кавалерийской дивизии равняется одному пехотному батальону, максимум — двум. Так что велика ли была эта помощь, если даже левый фланг 2-й армии — 1-й армейский корпус при поддержке 3-й гвардейской пехотной дивизии (без двух пехотных полков) — не сумел сдержать натиск германского 1-го армейского корпуса, поддерживаемого ландвером? Надо было использовать силу маневра, вынуждая врага останавливать фронтальные атаки угрозой с флангов, а конники дрались как простые пехотинцы. Неудивительно поэтому, что в докладе правительственной комиссии по поводу расследования причин гибели 2-й армии под Танненбергом в качестве одного из главных обстоятельств, имевших гибельное влияние на успех операции 2-й армии, указывалось именно на отсутствие войсковой конницы и, следовательно, разведки. Доклад генерал-адъютанта Пантелеева гласил: «…несвоевременное прибытие корпусной и дивизионной конницы и полная неподготовленность их для выполнения своих задач. Вследствие этого не только ближайшая разведка противника была поставлена крайне неудовлетворительно, но даже пространство, пройденное нашими войсками, оставалось совершенно неосмотренным, особенно лес, города и селения. Поэтому партизаны (то есть некомбатанты. — Авт.) противника имели полную возможность укрыться и, пользуясь широко развитой в Восточной Пруссии телефонной сетью, доставлять своим войскам подробные сведения о наших войсках». Вторая причина — открытая связь и незашифрованные радиотелеграммы[232].
И еще. Если немногочисленная русская войсковая конница армейских корпусов и отдельных дивизий комплектовалась из второочередных казачьих сотен, то немцы, напротив, имели в подобных конных подразделениях лучшие конные полки. Вследствие этого противник проводил более успешную конную разведку, нежели русские, сосредоточивавшие кавалерийские дивизии на флангах наступающих группировок или в промежутках между ними, а слабая русская войсковая конница никоим образом не могла проникнуть сквозь завесу германской войсковой конницы. Этот подход в германской армии не был случайным. К нему подвели итоги кайзеровских маневров 1909, 1910и 1911 годов. По результатам данных маневров для офицеров Генерального штаба была составлена специальная брошюра. В разделе «Разведка» этой брошюры говорилось: «Соединение полков дивизионной конницы в корпусную кавалерийскую бригаду может быть рекомендовано лишь в самых редких случаях. Опыт императорских маневров 1911 года дает основания к тому, чтобы предостеречь против отнимания у пехотных дивизий приданной им кавалерии для каких-либо посторонних целей»[233].
Можно сказать еще несколько слов о качестве русской войсковой конницы (даже и той, что была) в начале войны. Как уже говорилось, войсковая кавалерия русских корпусов в начале войны должна была состоять из казачьих сотен 2-й и 3-й очереди. Именно эти конники должны были вести войсковую разведку, являясь «ушами и глазами» пехотных масс. Между тем Г.С. Иссерсон в своей работе приводит любопытный документ из архива погибшей в августе 1914 года в Восточной Пруссии 2-й армии, где наряду с прочим характеризуются как раз эти казаки. В цитируемом документе речь идет о попытке прорыва штаба командарма-2 ген. А.В. Самсонова из кольца окружения: «…При выходе из деревни Саддек ехавший впереди разъезд казаков конвоя был обстрелян пулеметами. Конвой командующего армией состоял из донских казаков, частью второй, частью третьей очереди. При первых же выстрелах казаки немедленно свернули с дороги за кусты. Командующий армией обратился к ним с короткой речью, призывая их к исполнению долга. Полковник Вялов начал их строить, чтобы вести в атаку, но казаки толпой мялись на одном месте, не выражая желания выйти из-за прикрывающих их кустов. Тогда гв. штабс-капитан Дюсиметьер с криком «ура» бросился по направлению к пулеметам. За ним бросились полковник Вялов и часть остальных офицеров штаба. Лишь тогда казаки решились: с громким гиком и криком, с беспорядочной стрельбой в воздух, нестройной толпой понеслись они за офицерами, но, не дойдя шагов пятидесяти до пулемета, когда три казака были сбиты с лошадей, они свернули влево, в находящийся в этом направлении лесок…»[234].
Итак, у русских такое важнейшее средство ведения операции, как войсковая конница, в первых сражениях на русско-германском фронте практически отсутствовало. Исследователь с горечью пишет: «Что касается использования кавалерии [1-й армии], то ей предназначалась весьма пассивная роль: одна дивизия назначалась на поддержание связи между корпусами, точнее, на заполнение разрыва; одна — для разведки и одна — для обеспечения, между тем как от кавалерийских дивизий можно было потребовать большего. Правда, командующий высказывал в своей директиве лишь общие пожелания в духе требований строевого кавалерийского устава, но конкретной задачи не поставил. Не сделал этого и ген. Самсонов, остававшийся на идейных позициях печальной памяти русско-японской войны, где конница, в том числе и Сибирская каз. дивизия, которой командовал ген. Самсонов, подвизалась на задачах подобного рода»[235]. Действительно, даже и в 1-ю армию к началу операции еще не успели прибыть второочередные казачьи полки. То есть те конные подразделения, что должны были составить корпусную конницу, предназначенную для ведения разведывательной службы. Поэтому командованием для корпусов были выделены казачьи полки 2-й и 3-й кавалерийских дивизий, а также 1-й драгунский Московский и 2-й гусарский Павлоградский полки — всего двенадцать эскадронов и двенадцать сотен. Вся остальная армейская (не казаки) кавалерия в девяносто четыре эскадрона и шесть сотен подчинялась армейскому командованию. Зато в армиях Юго-Западного фронта проблема была решена: здесь войсковая конница армейских корпусов составляла один или два казачьих полка, а также одну отдельную казачью сотню. Согласно планам войны еще в ходе проведения мобилизации русская кавалерия должна была совершить набег на территорию противника. Для Северо-Западного фронта эта кавалерия сосредоточивалась в 1-й армии и должна была действовать, как показано выше, в весьма неблагоприятных для выполнения поставленной задачи условиях. При сосредоточении ряд офицеров высших штабов предлагал провести конные набеги на территорию противника отдельными кавалерийскими дивизиями, так как надежд на успех большой конной массы было мало. Еще одной из причин такого удара была надежда на то, что немцы сами перейдут в наступление и подставятся под контрудар сосредоточивающейся русской армии. Правда, после войны ген. Н.Н. Головин сообщал, что русские не собирались производить конного рейда в Восточную Пруссию, дабы втянуть Германию в наступательную войну на Востоке. Головин пишет, что русская кавалерия образца 1914 года была годна лишь к оборонительной войне на собственной территории, где наличествовали обширные пространства, пригодные для действия кавалерийских масс. Восточная Пруссия же была защищена многочисленными строениями деревушек и городков, где открытая местность прикрывалась в том числе и колючей проволокой. Но самое главное, что немцы имели разветвленную сеть путей сообщения, что позволяло им маневрировать немногочисленными резервами. Впрочем, об Австро-Венгрии Н.Н. Головин в данном контексте вовсе не упоминает[236].
Казалось бы, что русская конница, еще до войны придвинутая к государственной границе, должна была бы иметь успех в своих действиях в приграничье. Но ведь германский Большой Генеральный штаб, превосходно знавший о русских планах, также не бездействовал. Во-первых, неприятель сразу же образовывал из призывников, проживающих в пограничных районах, ландштурменные подразделения. Это позволяло сразу же по объявлении войны прикрыть границу вплоть до прибытия регулярных войск. Во-вторых, система мелких, но тем не менее стеснявших действия маневренной конной массы укреплений в Восточной Пруссии не позволяла провести масштабный набег. А производить мелкие уколы означало зря разбрасывать силы, так как в бою с пехотой по своей огневой мощи спешенная кавалерийская дивизия не превосходит своей силой двух пехотных батальонов. Кроме того, немцы сумели поставить себе на службу технику, что сильно помогало им на протяжении всей Восточно-Прусской операции. Например, генерал-квартирмейстер Ставки ген. Ю.Н. Данилов (очевидно, немного преувеличивая) сообщает: «Что касается действий нашей кавалерии, то надо отметить, что главным врагом ее в Восточной Пруссии явились вооруженные броневые автомобили, впервые появившиеся на полях сражений, и отряды немецких мотоциклистов и самокатчиков, кои, пользуясь развитою сетью шоссейных дорог, значительно стесняли свободу действий наших конных отрядов»[237].
Соответственно, попытка русской армейской кавалерии 1-й армии произвести набег в Восточную Пруссию окончилась неудачей. Причем речь здесь идет не о пространственном вторжении русских конников на неприятельскую территорию (русская конница в ряде случаев пробивалась в глубь немецкой земли до пятидесяти верст), а о выполнении поставленной задачи. Основная причина неудачи заключалась в быстрой постановке немцами под ружье призывного контингента пограничной полосы. Для достижения этого еще в мирное время были разработаны графики проведения мобилизационных мероприятий, привлечены военизированные добровольческие общества и организации, которыми в начале двадцатого века изобиловала Германия, выстроена система складов оружия. Русская конница просто не успевала перейти границу раньше, чем германцы уже были готовы оказать ей организованное сопротивление. Так, участник вторжения в Восточную Пруссию впоследствии вспоминал: «… благоприятными для вторжения в Восточную Пруссию могли быть только первые четыре дня мобилизации, потому что на пятый день германские войска первой линии были вполне готовы к бою. К тому же немцы собрали еще перед самым объявлением мобилизации сильные команды вооруженных местных жителей во всей пограничной полосе: в узлах дорог, у всех таможенных застав и у железнодорожных сооружений. А с первого дня мобилизации они составили из пограничного ландштурма, поддержанного частями ландвера и многочисленной дивизионной конницей, плотную завесу, которая закрыла границу против вторжения нашей конницы. Для того чтобы придать упругий, подвижной, маневренный характер своей плотной завесе, они использовали свои многочисленные железные дороги, частные автомобили, обывательские повозки и подземные телефоны… Устойчивая немецкая завеса сильно мешала нам пробиться внутрь страны для освещения разведкой районов скопления противника, его сил и намерений»[238].
Также оборонительным действиям германских подразделений должна была способствовать и география местности. А именно — перемешанные между собой леса и озера. В первую очередь это относится к Мазурской озерной системе, которая, словно щитом, закрывала Восточную Пруссию от русского вторжения со стороны Немана. То есть как раз со стороны полосы наступления 1-й русской армии. Все это знали и в России, но что же можно было поделать? Согласно предположениям русского Генерального штаба, оборонительная линия Мазурских озер должна была:
«1) в первые дни мобилизации обезопасить внутренность [Восточно-Прусского] района от разрушительных попыток нашей кавалерии, суживая полосу ее свободного движения в пределы района;
2) прикрыть сосредоточение внутри района германских сил, задерживая наше наступление в кратчайшем направлении и заставляя нас или форсировать эту преграду, или предпринимать обходы, которые заставят нас, кроме потери времени, еще и приблизиться к сфере влияния крепостей Кенигсберга или Торна»[239].
Нельзя забыть и о том, что русская кавалерия должна была выполнять две задачи: набег в Германию и прикрытие собственного сосредоточения. Если против Австро-Венгрии (Юго-Западный фронт) ставилась задача прежде всего прикрытия, то для 1-й армии Северо-Западного фронта — набега. Но ведь и вторую задачу никто не исключал. Поэтому осторожничавшие русские кавалерийские начальники и старались отлынивать от первой задачи — активной, одновременно тщательно выполняя вторую задачу — пассивную. Н.Н. Головин справедливо пишет: «Мы считаем, что одной из основных причин того, что большей части нашей армейской конницы не удавалось в первый период войны… глубокое проникновение [на неприятельскую территорию], являлось то, что все ее действия были связаны необходимостью выполнения также и задач по прикрытию районов сосредоточения, то есть тех задач, которые должна была бы выполнять дивизионная (то есть войсковая) кавалерия, поддержанная подвижными пехотными частями»[240].
Главной же причиной неуспеха стал сам характер использования кавалерии для производства набега. Этот набег готовился в течение многих лет, а на практике окончился пшиком. Как говорится, «гора родила мышь». Конница получила ограниченные задачи на разрушение железнодорожной сети с целью помешать эвакуации приграничья и маневрам противника, в то время как следовало, наверное, бить живую силу неприятеля. Разброс конницы в качестве прикрытия сосредотачивающихся в приграничной полосе войск проводился в жизнь без учета дальнейших действий русской конницы большими массами. Правда, этот тезис неприменим как раз к 1-й армии. Но здесь и фронт развертывания был весьма невелик, а количество кавалерийских дивизий в связи с планами набега в пределы Восточной Пруссии велико. Как считает участник войны — кавалерист (начальник штаба Кавказского кавалерийского корпуса в 1916 году), «этот конный кордон являлся не более как историческим пережитком, так как это развертывание конницы в приграничной полосе было отражением задач массового вторжения конницы в район мобилизации и сосредоточения противника с целью смешать карты в начинающейся стратегической игре. Впоследствии, по различным причинам, наше высшее командование отказалось от идеи массового вторжения и ограничилось лишь частными задачами некоторым кавалерийским дивизиям по разрушению участков железнодорожных магистралей на территории противника. Таким образом, кордонное расположение конницы хотя и оставалось, но уже как форма, лишенная своего прежнего содержания. Этот план развертывания говорит о полном отсутствии сознания у нашего высшего командования идеи использования крупных кавалерийских масс на важнейших направлениях»[241].
Итак, как уже было сказано, стратегической конной группировкой 1-й армии стала группа, объединенная под начальствованием конкомдива-2 ген. Г. Хана Нахичеванского. В этой должности Хан пробыл всю Восточно-Прусскую наступательную операцию. Первоначально, когда конница использовалась лишь для прикрытия мобилизации и сосредоточения в приграничных районах, Хан Нахичеванский был назначен начальником конного отряда из 2-й и 3-й гвардейских кавалерийских дивизий. Но уже 21 июля, на третий день войны, он стал начальником «правой группы армейской конницы» в составе 1-й гвардейской, 2-й гвардейской, а также 2-й и 3-й кавалерийских дивизий, в чьих рядах состояло семьдесят шесть эскадронов при сорока восьми орудиях и тридцати двух пулеметах.
Прежде всего эта конная масса должна была вести разведку перед фронтом 1-й армии, пользуясь несомненным преимуществом перед германской кавалерией, также выдвинутой вперед. Но как раз с этим группа Хана справилась хуже всего. Поэтому-то, невзирая на большое количество конницы, в течение всей операции штаб 1-й армии имел самые смутные сведения о противнике. Именно поэтому первые сражения — под Сталлупененом и Гумбинненом — стали для 1-й армии неожиданными. Именно поэтому командарм-1 не смог выявить сути германского маневра после Гумбинненской победы (перегруппировка немцев против 2-й русской армии). Именно поэтому в ходе контрнаступления 8-й германской армии в двадцатых числах августа (маневр главных сил неприятеля в промежутки между Мазурскими озерами и выход врага на южный фланг 1-й армии), генерал Ренненкампф также ничего не знал о передвижениях противника буквально до самого последнего момента. В какой-то степени это оправдывается неверной подготовкой русской конницы мирного времени: «Хотя в мирное время усиленно готовили кавалерию к разведывательной службе, но готовили главным образом мелкие части; в организации разведки практиковались главным образом на маневрах. Причем обычно разыгрывался первый, так сказать, акт разведки: выдвижение разведывательных частей для разыскания неприятеля, когда он находится далеко; организация разведки после прорыва передового неприятельского расположения практиковалась редко, о ней не думали или думали очень мало…»[242].
Согласно предвоенным взглядам, считалось, что каждая армия будет самостоятельно осуществлять свою операцию, поставленную перед ней высшим командованием. Таким образом, армии имели открытые фланги и сами заботились об их обеспечении. Армейские резервы и общий порядок строился в один эшелон. Потому командармы и ставили на фланги конницу, чтобы прикрыть их, зато здесь от нее все равно не было особенного толку, так как вести разведку перед общим фронтом было некем. Особенно пагубно это сказалось на 2-й армии, имевшей втрое больший фронт наступления, чем 1-я армия, а также и вдвое меньше кавалерии. Таким образом, на первом этапе борьбы предусматривалась только армейская операция, в то время как фронтовые управления создавались скорее для координации действий армий, а не для объединения их усилий во имя успеха общефронтовой операции.
Отметим, что в начале войны фронтовую организацию имели только русские. И французы, и немцы, и австро-венгры, создавая отдельные группировки на второстепенных фронтах (австрийцы против Сербии или немцы против России), подчиняли деятельность всех армий на главном театре военных действий Верховному Главнокомандованию. Опыт войны подтвердил, что русские избрали правильный путь, а потому уже в 1914 году все стороны стали создавать управления группами армий (фронтами). Возвращаясь же к августу 1914 года, следует сказать, что и неудивительно, что главнокомандующий армий Северо-Западного фронта ген. Я.Г. Жилинский не смог скоординировать действия армий, а на Юго-Западном фронте армии действовали раздробленно (особенно командарм-4 ген. А.Е. Эверт). Так что фланги армий прикрывались, по сути, самостоятельной оперативной конницей, подчиненной тому или иному командарму, который зачастую не знал, что ему делать с вверенной кавалерией. В итоге конница явилась скорее не средством развития успеха действия всей армии, а средством прикрытия уязвимых мест общего боевого порядка. Исследователь-эмигрант правильно пишет: «В первоначальных, как и в последующих, операциях русских войск в Пруссии характерным было то, что при наличии большого количества и лучшей русской конницы отсутствовала совершенно между частями связь. Конница не знала, что происходит на фронте главных сил, фланги которых она обеспечивала, и в армии не было никаких сведений о деятельности конницы»[243].
Всего лишь менее чем через две недели по объявлении мобилизации (и войны) 1-я русская армия двинулась вперед. Выполнение межсоюзных соглашений с Францией предполагало наступление русских в пределы Германии еще до окончания мобилизационных мероприятий. Цель — вынудить германское командование перебросить часть своих сил из Франции на Восток, ослабив тем самым главные силы, долженствовавшие согласно «Плану Шлиффена» в шестинедельный срок вывести Францию из войны. Впереди армейских корпусов 1-й армии шла кавалерия, имевшая в своем составе превосходные кадры и уже успевшая провести ряд стычек по государственной границе.
Согласно директиве главкосевзапа ген. Я.Г. Жилинского конница 1-й армии должна была отрезать немцев от Кенигсберга, то есть перерезать сильную железнодорожную магистраль. Соответственно, стратегическая конница ген. Г. Хана Нахичеванского располагалась на правом (северном) фланге 1-й армии. Левый фланг, примыкавший к Мазурским озерам, обеспечивался 1-й кавалерийской дивизией ген. В.И. Гурко. Как именно двигалась русская конница по неприятельской территории? Прежде всего надо сказать, что русские кавалерийские командиры готовили свои войска к конному бою. То есть к столкновению с неприятельской кавалерией. Действительно, на Юго-Западном фронте русские кавалеристы имели несколько боев с австро-венгерской кавалерией, о чем будет сказано ниже. Однако в Восточной Пруссии одна-единственная немецкая кавалерийская дивизия, естественно, не собиралась участвовать в конном бою с пятью русскими кавдивизиями.
Таким образом, русская конница должна была преодолевать оборону германской пехоты (ландштурма и ландвера, так как полевые корпуса не использовались противником вне общевойскового боя), усиленную искусственными препятствиями. Иными словами, русские кавалеристы вынужденно выступили в роли ездящей пехоты, так как бой велся ими в пешем строю. Первый же выстрел немца из-за закрытия вел к спешиванию части передовых подразделений и медленному пешему наступлению на препятствие. В это время вся прочая конная масса ждала, чем кончится дело. Между тем продолжительный стрелковый бой чрезвычайно невыгоден для кавалерии как подвижной силы высокоманевренного типа. Так что нельзя давать врагу возможности втянуть себя в пешую перестрелку. Однако русские командиры, как нарочно, втягивали конницу в затяжные пешие бои, вынуждая кавалерию бездействовать как средство маневра и давления на неприятельские фланги. В первом же бою русской кавалерии (1-я кавалерийская дивизия) у Маркграбова в Восточной Пруссии 1 августа на практике было выявлено «неумение вести наступательный бой спешенной кавалерией и непонимание того, чем он отличается от такого же боя пехоты»[244].
Первым существенным препятствием на пути русского вторжения должна была стать укрепленная линия рек Ангерап и Инстер, находившаяся немного в глубине немецкой территории — примерно в пятидесяти верстах от границы. Перед войной русский Генеральный штаб сообщал: «Данные о реке Ангерапе, в связи с нахождением на ее правом фланге сильно укрепленной группы Мазурских озер, дают основание заключить, что немцы, по всей вероятности, в полной мере используют те затруднения, которые эта река и главным образом ее долина представят нашему наступлению. Во всяком случае, река Ангерап явится очень серьезным препятствием для нашей кавалерии в случае ее попытки проникнуть в район сосредоточения германской армии в обход с севера Мазурской озерной линии»[245]. Тем не менее все вышло не так. Действия командира германского 1-го армейского корпуса вынудили 8-ю германскую армию принять бой восточнее этой линии. В сражениях при Сталлупенене и Гумбиннене немцы потерпели поражение и оставили эту линию без боя.
4 августа, практически сразу же после перехода государственной границы, русский 3-й армейский корпус ген. Н.А. Епанчина столкнулся с германским 1-м армейским корпусом ген. Г. фон Франсуа. Это немецкое соединение комплектовалось из местных уроженцев, и потому и личный состав, и комкор-1 горели желанием немедленно вступить в бой. Ожесточенный бой протекал с переменным успехом, но подход остальных армейских корпусов 1-й армии — 4-го и 20-го — вынудил немцев отступить. В свою очередь, командующий 8-й германской армией ген. М. фон Притвиц унд Гаффрон также стал выдвигать всю армию вперед, навстречу наступавшим русским, оставляя укрепленную линию рек Ангерап — Инстер в своем тылу.
Что же делала в период Сталлупененского сражения русская кавалерия, которая, по идее, должна была идти впереди армии и нести в том числе и разведывательные функции? А ничего не делала! Появившись на поле боя, конница бездействовала, предоставляя пехоте вести свой собственный бой. Генерал Франсуа вел сражение, нисколько не опасаясь за свой тыл и не боясь быть отрезанным, — русская кавалерия пассивно осталась в стороне от сражения. Напомним, что командарм-1 сам являлся кавалеристом, а потому, узнав о подробностях боя под Сталлупененом, ген. П.К. Ренненкампф не смог сдержать своего негодования действиями конного отряда ген. Г. Хана Нахичеванского. Телеграмма командарма-1 Хану от 6 августа гласила: «Деятельность вашего конного отряда в бою 4 августа крайне неудовлетворительна. Пехота вела упорный, тяжелый бой, конница обязана была помочь появлением не только на фланге, но и в тылу неприятеля, не считаясь с числом верст, — это привело бы к меньшим потерям у нас и к тяжелому поражению неприятеля. В будущем приказываю быть более энергичным, подвижным, помнить, что у вас сорок восемь орудий, которые направлением в тыл неприятеля принесут громадное поражение»[246].
В свою очередь, через два дня в первое сражение вступила и конная группа ген. Г. Хана Нахичеванского. Причем Хан Нахичеванский позволил втянуть свой корпус (а четыре кавалерийские дивизии — это даже и не корпус, а чуть ли не Конная армия) в отдельный бой с немецкой пехотой. Иными словами, оставшись в стороне от общевойскового сражения под Сталлупененом, начальник стратегической конницы провел свой собственный бой, причем провел его самым что ни на есть бездарным образом, тяжело сказавшимся на последующих действиях всей 1-й армии. Это сражение протекало в районе двух немецких местечек Краупишкен — Каушена и велось с немецкой стороны всего лишь одной германской 2-й ландверной бригадой.
Повторимся, в то время как с русской стороны дрались четыре перволинейные кавалерийские дивизии (до двенадцати тысяч сабель), то с германской — одна ландверная бригада (шесть пехотных второлинейных батальонов). Немцы имели две артиллерийские батареи против восьми. Что самое удивительное — противник смог удержать русских. В бою у Каушена Хан использовал семьдесят спешенных эскадронов (около десяти тысяч человек) при восьми конных батареях против не более шести тысяч немецких ландверистов.
Понятно, что непосредственного перевеса в живой силе русские почти не имели, так как при спешивании треть бойцов является коноводами. То есть в самом бою участвовало не более семи тысяч русских солдат и офицеров. Хан Нахичеванский забыл простую истину, что конница прежде всего все-таки должна действовать в конном строю. Очевидно, таким же образом воевали многие кавалерийские начальники, если в приказе от 25 ноября 1915 года начальник 3-го кавалерийского корпуса ген. граф Ф.А. Келлер еще раз указывал: «Надо только помнить, что сила конницы заключается в стремительности конных атак и в способности к быстрому маневрированию. Численность спешенной конницы слишком мала, силы ее незначительны, вследствие чего в пеших строях конница не может развить ни могучего натиска при наступлении, ни упорства в обороне, а маневрирование ее сковано коноводами»[247].
Однако немцы сражались с успехом. Причина тому — отвратительная организация боя с русской стороны. Вместо того чтобы обойти противника конницей, создать угрозу его флангам и вынудить отступить с подготовленных рубежей, четыре русские кавалерийские дивизии атаковали неприятельскую пехоту в трех плотных колоннах на фронте всего в шесть вёрст. Исследователь говорит: «Конница вместо того, чтобы использовать свою подвижность и искать возможность охвата пехоты ландверной бригады, спешивалась и вступала в пеший бой. Бой корпусом продолжался целый день, к вечеру [германская] пехота отошла, потеряв две пушки, но конный корпус, понеся большие потери, не мог не только продолжать дальнейшее движение, но и отойти назад для приведения частей в порядок»[248].
Кроме того, под Каушеном русские атаковали в полный рост, почему и несли большие потери наряду с тем, что не смогли выбить противника с его позиций. Элитная кавалерия посчитала, что наступать цепями, залегая, с перебежками, будет слишком унизительно для престижа русской кавалерии. Лучше бы командиры подумали о выполнении боевой задачи! Эскадроны были перемолоты огневым боем, немцы держались, и исход сражения решил последний эскадрон Конного полка ротмистра барона П.Н. Врангеля фон Люденгофа. Эскадрон Врангеля атаковал германскую батарею, стоявшую на этом же берегу реки Инстер, где и шел бой (другая батарея била из-за водной преграды), и ценой больших потерь, включая всех офицеров, кроме самого Врангеля, уцелевшего чудом, взял ее. Этот эпизод сделал Врангеля популярным, и впоследствии он быстро пошел в гору, став к концу войны командиром кавалерийского корпуса, а затем — лидером Белого движения на Юге России в годы Гражданской войны.
Атака в конном строю на батарею смутила врага и вынудила его отступить. Артиллеристы взятой батареи были изрублены на месте. Напомним, что большая часть немецкой артиллерии била из-за реки. 4-й эскадрон лейб-гусарского полка был назначен охранять обоз 1-го разряда и потому не принял участия в бою. Общие потери русских в бою у Каушена составили 46 офицеров, 329 солдат и 369 лошадей. К большим потерям привела тактика действий — лобовой удар в спешенных порядках, без малейшего использования конного маневра против флангов. «Действуя в спешенном бою, начальники русской конницы направляли удар обычно в лоб неприятелю, но без особой настойчивости в достижении поставленной себе цели. Наступление, встреченное огнем, останавливалось, и в большинстве случаев завязывался тягучий стрелковый бой, равномерный по всему фронту, а затем под прикрытием огня конной артиллерии, приковывающего противника к месту, начинался отход русской конницы»[249].
Кроме того, непропорционально велики оказались потери среди офицерского состава: один офицер на семь солдат. Для сравнения: кадровая предвоенная армия — примерно один к тридцати, армия после мобилизации — один к шестидесяти, к ноябрю 1916 года — один к сорока. Оценивая характер и значение таких потерь, офицер штаба 2-й армии августа 1914 года пишет: «Это — офицерский комплект пятнадцати эскадронов. Это — сорок шесть офицерских разъездов, которые могли бы осветить самые отдаленные и медвежьи углы Восточной Пруссии в то время, когда сто пятьдесят тысяч русской пехоты ходили вслепую и не имели необходимых сведений о нем. Бессмысленное и преступное уничтожение командного состава высокого качества при нашем тройном превосходстве в артиллерии»[250].
Безусловно, потери среди командиров, как правило, ниже, нежели среди рядового состава. Однако соотношение один к семи и впрямь является «бессмысленным и преступным». Можно привести в качестве примера неудачный бой 4-й пехотной дивизии ген. Н.М. Комарова (6-й армейский корпус ген. А.А. Благовещенского) 13 августа 1914 года с частями германских 17-го армейского и 1-го резервного корпусов севернее Бишофсбурга. На 73 выбывших из строя офицеров пришлось 5283 нижних чина. Соотношение: один к семидесяти двум. Это и есть экономия офицерского корпуса, и без того весьма невеликого.
Также и общеармейские итоги этого боя стали для русских самыми плачевными. Вечером 6-го числа, после окончания боя, ген. Г. Хан Нахичеванский решил дать своему отряду отдых весь следующий день. Для этого он не только не закрепил за собой занятую территорию, что позволяло обеспечить правый фланг подходившей к Инстеру 1-й армии, но — отступил назад! В итоге немецкие ландверисты вновь закрепились на восточном берегу Инстера, а командарм-8 ген. М. фон Притвиц унд Гаффрон развернул здесь левый фланг своей армии в составе 1-го армейского корпуса, 1-й кавалерийской дивизии и кенигсбергского ландвера. Для прикрытия фланга своей армии Хан оставил кавалерийскую бригаду генерала Орановского (12 эскадронов при 8 пулеметах) — брата начальника штаба Северо-Западного фронта. Подчиненный оказался достойным своего начальника — эта бригада, не предупредив соседа — 20-й армейский корпус, ранним утром следующего дня отошла в тыл на тридцать километров и расположилась на отдых в деревне Шиленен.
На следующий день, 7 августа, произошло сражение под Гумбинненом, где столкнулись главные силы 8-й германской армии (три корпуса, кавдивизия и отдельные ландверные бригады) с 1-й русской армией (три армейских корпуса). Весь период боя русская конница находилась в тылу и бездействовала. Бездействие русской конницы в Гумбинненском сражении позволило германской 1-й кавалерийской дивизии ворваться в тылы русского 20-го армейского корпуса. А ведь комкор-20 ген. В.В. Смирнов был уверен, что его открытый правый фланг обеспечивается конницей — той самой кавбригадой генерала Орановского.
Немцы смяли 28-ю пехотную дивизию из состава 20-го армейского корпуса и прорвались в русский тыл. Порыв врага был остановлен самоотверженными действиями русских артиллеристов, стрелявших в упор картечью. Вслед за уже прорвавшейся 1-й кавалерийской дивизией шла немецкая пехота. Судьба сражения повисла на волоске (в этот момент германский центр был разгромлен 3-м армейским корпусом, но успех немцев на фланге мог свести на нет победоносную работу русской 27-й пехотной дивизии ген. А.-К. М. Адариди). В этот момент один из офицеров Генерального штаба, прикомандированный к коннице, не участвовавшей в сражении, вывел на оголенный фланг русского оборонительного фронта Павлоградский гусарский полк с двумя конными батареями. Артиллерийский огонь приостановил германский натиск и позволил пехотным командирам привести свои войска в порядок. Противник был отбит, а вкупе с успехом русских в центре вечером стал отступать в глубь Восточной Пруссии. Именно это сражение вынудило германское Верховное Командование растеряться, переоценить свой успех во Франции и перебросить на Восток два корпуса из ударного правого крыла в Бельгии, что решило исход битвы на Марне, а значит, и всей войны.
Таким образом, действия русской стратегической кавалерии в крупном сражении, судьбоносном сражении, не только не способствовали достижению победы, но даже едва не послужили причиной поражения. Генерал Орановский был отстранен командармом-1 от своего поста, а сместить Хана Нахичеванского не позволила Ставка Верховного Главнокомандования. То есть бездарно проведенный бой у Каушена имел последствием бездействие кавалерии под Гумбинненом. Хан должен был не бить в лоб по позициям немцев, а обойти Каушен и выйти противнику в тыл. Ведь напомним, что потери кавалерии составили четыреста человек при штатной численности в двенадцать тысяч сабель. Разве это повод для бездействия?
Одной только угрозой тылам немецкого левого крыла ген. Г. Хан Нахичеванский мог сковать немецкую инициативу и оттянуть на себя часть сил врага в Гумбинненском бою. Кавалерия должна была прикрыть правый фланг 1-й армии, но вместо этого даже отошла назад, совершенно оголив его. В результате армейская кавалерия 1-й армии ни разу в ходе Восточно-Прусской наступательной операции не приняла участия в общевойсковом бою всей армии. Особенности русской конной тактики в Восточной Пруссии описал участник войны: «…русские начальники действуют прямо в лоб неприятелю, маневрирование почти отсутствует, особенно в более ранних боях, бои ведутся почти исключительно в пешем строю, причем при наступлении и завязывается упорный и тягучий стрелковый бой. Действий резерва не видно, и дело сводится к равномерному действию по всему фронту без настойчивости в достижении поставленной себе цели; успех, когда он был, не используется, преследования нет»[251].
Одна из существенных причин бездействия армейской конницы группы ген. Г. Хана Нахичеванского во время сражения при Гумбиннене заключалась в отсутствии достаточного количества боеприпасов. То есть, расстреляв в Каушенском бою снаряды и патроны, кавалерия не смогла их вовремя пополнить. Дело в том, что организация стратегической конницы предусматривалась планами войны, но никоим образом не структурой подразделений в составе армий. Поэтому конница 1-й армии не имела своих артиллерийских парков. Предполагалось, что снаряды для стратегической конницы будут выделяться ближайшими пехотными частями. Таким образом, ввязавшись накануне Гумбиннена в бой у Каушена — Краупишкена, конники Хана расстреляли более половины имевшегося боекомплекта, а новых патронов и снарядов взять было неоткуда. Конница получила боеприпасы только 9 августа, после чего Хан Нахичеванский и возобновил движение конницы вперед.
То есть непродуманная организация вынудила командарма-1 ген. П. К. Ренненкампфа (Ренненкампф, напомним, и сам был кавалеристом!) отказаться от преследования отступавших немцев силами стратегической конницы сразу же по окончании Гумбинненского сражения. Но спрашивается: зачем же конница вела этот совершенно ненужный бой? Он был тем более не нужен, что вечером конница все равно отступила, а немцы вновь заняли свои только что сданные позиции. Кажется, что кавалерия вела какую-то свою собственную, совершенно отдельную от всей армии войну. О качествах русских кавалерийских начальников было известно и перед войной. Менять их никто бы не позволил, так как, помимо придворных связей, Верховным Главнокомандующим был назначен генерал-инспектор кавалерии великий князь Николай Николаевич. То есть человек, который и воспитал этих начальников.
Возможно, что исправить ситуацию смогли бы организационные мероприятия. А именно — усиление конной массы пехотными подразделениями, которые и вели бы фронтальные бои с неприятельскими заслонами, в то время как конница обходила бы фланги. Но разве можно было предположить такую бездарность? Говоря о предвоенном планировании Восточно-Прусской наступательной операции, отечественный военный историк и участник войны считает: «Главная вина Главкома Жилинского в том, что он, приняв командование Северо-Западным фронтом, не подверг пересмотру решений главного Генерального штаба, намеченных задолго до войны… Надо было развернуть три армии, поставив ближайшей целью овладение Летценским озерным районом. Конницу же Хана надо было усилить двумя имевшимися на фронте стрелковыми бригадами и развернуть в конную армию с подчинением непосредственно фронту»[252]. Представляется, что переменить организацию и планы не мог ни Жилинский, ни тем более Ренненкампф.
После победы под Гумбинненом 1-я русская армия двое суток стояла на месте, приводя себя в порядок. Ведь до этого момента войска двигались вперед без отдыха, не давая людям дневки (то есть — суточный отдых), и первая дневка была намечена штабом армии именно на 7-е число. Поэтому командарм-1 ген. П.К. Ренненкампф, на которого к тому же не оказывалось давления со стороны штаба фронта, где главкосевзап не сознавал значение решения первоочередной задачи — соединение флангов армий фронта западнее линии Мазурских озер, остановил войска. Следовало подтянуть и тылы, прежде всего — подвезти боеприпасы, так как продовольствия и фуража в столь богатой местности, как Восточная Пруссия, и так хватало. Участники Восточно-Прусской наступательной операции в один голос свидетельствуют, что 1-я армия не нуждалась в продфураже (чего не было во 2-й армии, наступавшей в малонаселенной местности).
Главное, в чем обвиняют генерала Ренненкампфа относительно его действий в операции, — это отсутствие преследования отступающей 8-й германской армии после Гумбинненского боя. Конечно, штаб 1-й армии допустил массу ошибок. Это и непонимание сути операции — смыкание флангов 1-й и 2-й армий. Это и необходимость поддержания боевого соприкосновения с отходящим в глубь Восточной Пруссии противником, чтобы не позволить ему провести перегруппировку для удара по 2-й армии. И много чего еще. Для нашей же темы важно следующее. Во-первых, командарм-1 не смог сместить с поста ген. Г. Хана Нахичеванского. Между тем Хан двинулся вперед вместе со всей армией только 9 августа, после трехсуточного отдыха! Что мог сделать в этой ситуации генерал Ренненкампф, если кавалерийский начальник игнорирует его прямые приказы, а убрать его невозможно?
Во-вторых, штаб 1-й армии (то есть не только сам командарм-1, но и его сотрудники) ошибся в том, что значительная часть немецкой группировки (не менее двух корпусов) отступила в крепость Кенигсберг. Именно так сделали бы русские (колебания Ставки и главнокомандования Северо-Западного фронта в 1915 году по поводу оставления крепостей в Польше) и делали австрийцы (Перемышль). Немцы поступили правильно: как можно было запереть в крепости половину полевой армии, когда решается судьба войны? Но русские сделали бы наоборот и, поставив себя на место врага, ошиблись. Кроме того, 1-й армейский корпус ген. Г. фон Франсуа действительно отступил в Кенигсберг. Но не для того, чтобы обороняться там, а для того, чтобы быть мгновенно переброшенным по железнодорожным магистралям через всю провинцию против левого фланга 2-й русской армии ген. А.В. Самсонова. Вот в этом ошибся штаб 1-й армии, и его не поправил точно таким же образом рассуждавший (приоритет обороны первоклассной крепости перед полевой борьбой) штаб фронта.
Неверно оценив обстановку, командарм-1 продолжил громоздить цепь ошибок. Основная масса войск 1-й армии двинулась для блокады крепости Кенигсберг, а не для преследования 8-й германской армии к Алленштей-ну. Вперед двинулись только авангарды и 1-я кавалерийская дивизия ген. В.И. Гурко. Вскоре эта ошибка была закреплена директивой главкосевзапа ген. Я.Г. Жилинского, прямо предписывавшей 1-й армии блокировать Кенигсберг и Летцен. Соответственную этой ошибке задачу получила и кавалерия — идти вперед, огибая Кенигсберг с целью воспрепятствовать уходу оттуда противника вдоль побережья Балтийского моря.
В какой-то мере такая задача была оправданна, так как именно таким образом из Кенигсберга был переброшен германский 1-й армейский корпус. Но разве могла конница по темпам движения угнаться за железными дорогами? В то время как русские кавалерийские авангарды вышли к западным фортам Кенигсберга, войска генерала Франсуа уже прорывались в тыл 2-й армии под Танненбергом — Сольдау. Опасливые же маневры командования стратегической кавалерии еще больше усугубляли ошибки штаба 1-й армии, так как ни о какой инициативе действий в отношении Хана Нахичеванского не приходится и говорить. «Командование армии правильно ставило задачи конному корпусу для операции на правом открытом фланге, но конница все-таки была разбросана по фронту… Бессмысленно конница передвигалась взад и вперед и не только прижималась к армии и обнажала иногда ее фланг, но и утомляла конский состав. Боязнь сближения с противником и опасение за фланг и тыл конницы особенно сказались в этой операции»[253].
Нельзя не упомянуть и о факторе поддержания связи. Так, немногочисленный отряд ген. В.И. Гурко (кавдивизия с бригадой), действовавший вместе с пехотой, получил искровую радиостанцию, а Хан Нахичеванский — нет. То есть связь с группой стратегической кавалерии поддерживалась преимущественно через посыльных. В итоге приказания отдавались через третьих лиц, с неизбежным запозданием и искажением в связи с изменившейся обстановкой. Поэтому штабу армии было очень удобно сваливать свои вины на кавалеристов, особенно если вспомнить, что четких приказов после Каушена Хану уже не отдавалось, а «сводки о противнике», ежедневно присылаемые ему ген. П.К. Ренненкампфом, ничего не говорили о своей собственной группировке всей 1-й армии.
Наступление русской конницы вокруг Кенигсберга продолжалось недолго. Авангарды русских уже обстреливали западные форты крепости, а центр занял Прейсиш-Эйлау. Но в этот момент штаб фронта неожиданно для себя сообразил, что 2-я армия терпит катастрофу. В связи с этим главкосевзап ген. Я.Г. Жилинский стал отдавать лихорадочные приказания по срочному маршу 1-й армии на помощь генералу Самсонову. В свою очередь, командарм-1, уже почуявший неладное и перебросивший к себе 2-й армейский корпус ген. С.М. Шейдемана, сам двинулся вперед. Приказ идти на выручку соседу был отдан и коннице — 16 августа.
В этот момент русская стратегическая кавалерия, не имея перед собой противника, беспрепятственно продвигалась по Восточной Пруссии, блокируя Кенигсберг. Как только выяснилось, что конная масса, в принципе, «простаивает», не выполняя своих функций, вследствие неумения П.К. Ренненкампфа и Г. Хана Нахичеванского использовать конницу сообразно ее силам и назначению, ее стали раздергивать по частям. Сначала вся масса группы Хана была переведена на южный берег реки Прегель, а на северной стороне остался отряд генерала Рауха — 2-я гвардейская кавалерийская дивизия. Затем, когда масса была повернута для помощи 2-й армии на Вормдитт, у Кенигсберга был оставлен генерал Казнаков с бригадой 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. Впереди же пехоты 1-й армии на Алленштейн наступала 1-я кавалерийская дивизия ген. В.И. Гурко.
При этом все три отряда — Хана, Рауха и Гурко — двигались к 2-й армии порознь, не объединенные ни единым замыслом, ни общим командованием. То же положение сохранилось и после поворота германской 8-й армии против 1-й русской армии после победы под Танненбергом. Поэтому кавалерия и не сумела выполнить своих задач по разведке надвигавшегося противника и не воспрепятствовала его выходу на русский фланг. Фронтальное наступление изобилует кризисами в своем развитии. Поэтому необходимо развивать энергичный маневр по нажиму на растянувшиеся сообщения противника. Здесь существенную помощь может оказать решительное движение массы кавалерии, сосредоточенной на охватывающем крыле. Как считает А.А. Свечин, «выход массы конницы на сообщения неприятеля представляет хорошее начало для крупного оперативного успеха». Именно этого русские кавалерийские начальники делать и не умели. И все это при том, что конница несла сравнительно небольшие потери, если сравнивать их с пехотой (большие потери были только под Каушеном). Например, в лейб-гвардии Кирасирском полку (1-я гвардейская кавалерийская дивизия) за август 1914 года в ходе Восточно-Прусской наступательной операции погибло 6 офицеров и 42 нижних чина.
Вообще использование конницы проходило под знаком не столько боевой деятельности, сколько под знаменем изматывания сил людей и лошадей. Можно, конечно, сказать, что конница должна вести разведку, но реальная отдача здесь явилась минимальной — штаб 1-й армии вплоть до сообщения 15-го числа из штаба фронта даже и не подозревал, что 2-я армия охватывается противником с обоих флангов. То есть — не только от Сольдау, но и со стороны Бишофсбурга, где простое движение корпусов 1-й армии вперед вынудило бы врага остановиться и отступать за Алленштейн. Боевая сила эскадронов ослаблялась постоянной высылкой разъездов из отборных всадников полка, обыкновенно числом около взвода.
И нельзя сказать, что действиям русских мешал климат. Так, конница 1-й армии с 1 августа по 5 сентября только два раза попадала под дождь, такая стояла хорошая погода. Казалось бы — действуйте! И напомним, что, невзирая на дрянную организацию (сведение кавалерийских дивизий в стратегическую массу при отсутствии заблаговременно подготовленного штаба соответствующего уровня), русская конница если в чем и испытывала недохват, так только в боеприпасах. В. Рогвольд так оценивает итоги деятельности русской кавалерии в Восточно-Прусской операции: «В конечном счете нужно прийти к заключению, что если поход в Восточную Пруссию летом 1914 года оказался для русской кавалерии сравнительно легким и не вызвал больших лишений, то благодаря главным образом богатству страны. Организация кавалерийских дивизий и их снабжение были приноровлены к работе их в составе корпусов, не отходя далеко от своей пехоты. Как только из дивизий пришлось создать отряды армейской конницы, так сейчас же дали себя знать все недочеты по организации и снабжению, что отозвалось вредно на деятельности армейской конницы, создавая ей ненужные затруднения… Можно только удивляться, что обо всем этом не подумали заранее именно в русской армии, где самым планом войны предвиделось создание крупных отрядов армейской кавалерии и где раньше, до конца японской войны, имелись в мирное время кавалерийские корпуса»[254].
Для сравнения… Конница армий обоих фронтов должна была выполнять схожую работу. Это прежде всего — ведение разведки. А также — маневрирование на флангах неприятельских масс с целью оттягивания на себя части сил неприятеля. И понятно, что эти задачи выполнялись по-разному. Мы уже говорили о тех дневках, что не стеснялся устраивать своей коннице ген. Г. Хан Нахичеванский. Еще бы! Трое суток на одном месте при неучастии в общевойсковом сражении, оголении фланга армии перед сражением и отказе от преследования противника! Удивительно только, как это некоторые участники операции говорят о факте изматывания конницы — при такой-то боевой работе? В качестве сравнительного примера приведем письмо А.Е. Снесарева, начальника штаба 2-й казачьей Сводной дивизии (ген. А.А. Павлов) от 21 августа 1914 года. Эта дивизия входила в состав 8-й армии Юго-Западного фронта, сумев скрыть сосредоточение армии от глаз противника, а также проведшей в короткие сроки два кавалерийских боя. У Городка была разбита 5-я австро-венгерская кавалерийская дивизия, а затем у Джурина (у города Бучач) — 1-я кавалерийская дивизия. Обе указанные австрийские кавалерийские дивизии входили в группу ген. Г. Кёвесса фон Кёвессгаза, которая всего имела в своем составе три с половиной кавалерийские дивизии. А.Е. Снесарев пишет супруге из Ходорова: «Дорогой Женюрок! Пишу тебе еще, после вчера. В первый раз дневка после трех недель. Лошади наши измотались полностью, хотя удивительно, как выносливы»[255]. Сравните — первая дневка за три недели, и при каких результатах! Вот как надо воевать.
Как известно, кавалерия 1-й армии, с глобальным запозданием начавшая выдвигаться на помощь 2-й армии, не успела. Группа Хана Нахичеванского вообще не успела подойти к месту сражения, получив приказ на отход, как только 1-я армия была остановлена директивой штаба фронта. Лишь 1-я кавалерийская дивизия ген. В.И. Гурко подошла к Алленштейну, где провела огневой бой и была вынуждена отступить. В дальнейшем, на втором этапе Восточно-Прусской наступательной операции, кавалерия 1-й армии отступала вместе с армией под ударами усилившейся (переброска из Франции двух армейских корпусов и кавалерийской дивизии) 8-й германской армии. Теперь эту армию возглавляли уже ген. П. фон Бенкендорф унд фон Гинденбург (командарм) и ген. Э. Людендорф (начальник штаба).
В ходе отступления 1-й армии за рубеж реки Неман кавалерия ничем не проявила себя. Даже, напротив, пока пехота и артиллерия отбивали атаки неприятеля, конница отступала за боевые линии, становясь вне досягаемости германского огня. Разумеется, что при такой тактике кавалеристы не вели разведки и не могли послужить арьергардом, который позволял бы отступать пехоте и обозам. Короче говоря, конная группа ген. Г. Хана Нахичеванского явила разительный контраст с действиями конницы Юго-Западного фронта. А если говорить о больших массах — то с деятельностью 1-го кавалерийского корпуса ген. А.В. Новикова в сентябре месяце, на левом берегу Вислы. Офицер-пехотинец так говорит о коннице 1-й армии при отступлении армии из Восточной Пруссии во второй половине августа 1914 года: «Наша кавалерия нас не прикрывала. К нашей большой досаде, кавалерия генерала Хана Нахичеванского, пока днем мы вели бой, уходила далеко в тыл и там становилась биваком. Отбив немецкие атаки, мы шли дальше и через некоторое время подходили к биваку Хана Нахичеванского. Горели у них костры, что-то варилось, они отдыхали. И как только показывалась голова нашей колонны, костры тушились, раздавались команды «седлай!», «по коням!», «справа по три, рысью марш!». Кавалерия уходила вперед нас, а мы, утомленные, голодные, еле тащившие ноги, должны были освобождать шоссе для прохода кавалерии и идти по обочинам и канавам. На рысях уходила в тыл наша кавалерия, вместо того чтобы прикрывать наш отход и дать нам маленькую передышку»[256]. Наверное, эта краткая характеристика дает блестящую оценку Хану Нахичеванскому.
Итог образования конной группы в Восточной Пруссии был неутешителен. Причиной тому не столько сама личность генерала Хана Нахичеванского, сколько отсутствие вследствие расформирования кавалерийских корпусов подготовленного для управления большой конной массой командира и его штаба. Об опасности такого положения вещей били в набат еще до войны. Однако военный министр и Генеральный штаб не прислушивались к мнению наиболее передовых кавалерийских командиров. Еще в 1910 году князь Д.П. Багратион предвосхитил ненормальность образования сводных кавалерийских групп в начале Первой мировой войны при существующей организации и системе управления. Багратион писал: «Отсутствие должности «начальника кавалерии действующей армии», намеченного еще в мирное время из числа выдающихся образованных генералов нашей конницы, быть может, составляло одну из причин, почему наша конница в последних двух войнах не принесла существенной пользы ни на театре военных действий, ни на полях сражений. Как бы ни был талантлив главнокомандующий армий, даже в том благоприятном случае, если он сам по роду службы принадлежит кавалерии, его обязанности по общему управлению полумиллионной армией на громадном театре войны настолько сложны в современной боевой обстановке, что уму человеческому фактически не под силу уловить и сохранить свежим в памяти даже общие нити направления деятельности конницы, требующие громадного сосредоточенного, внимательного, неустанного и, главное, непрерывного напряжения ума, дабы работа конницы шла быстро и плодотворно. Только специально назначенное для сего лицо с крупным талантом, проведшее в рядах конницы всю службу и высокообразованное, может помочь главнокомандующему в этой сложной его работе»[257]. В качестве исторического примера Д.П. Багратион указывал, что даже такой военный гений, как Наполеон, назначил высшего кавалерийского начальника — маршала И. Мюрата.
По окончании Восточно-Прусской операции 1914 года полковник Генерального штаба Разгонов (старший адъютант оперативного управления штаба 2-й армии) представил свои мысли относительно тактики ведения боя (окружение неприятеля посредством «Канн»), где в том числе уделил место и действиям конницы. В частности, он говорил, что, «обняв противника с флангов, надо завершить его окружение, для чего может быть особенно полезна конница. Конные массы, способные и к огневому бою, явятся в настоящих сражениях, разыгрывающихся на десятках верст, подвижными резервами, которые будут наносить последние удары»[258]. Интересно, что мысль повторяется. Практически точно таким же образом, описанным в 1914 году русским офицером, пытавшимся осмыслить опыт неприятельской тактики, действовали танковые группировки фашистского вермахта, замыкавшие «мешки» окружения советских войск в 1941 году.
Исход Восточно-Прусской наступательной операции резко сказался на всех ее участниках с русской стороны. Командарм-2 ген. А.В. Самсонов застрелился. Два комкора 2-й армии попали в плен, а еще три были отстранены со своих постов сразу после окончания операции. Командарм-1 ген. П.К. Ренненкампф будет отстранен только в ноябре 1914 года по окончании Лодзинской оборонительной операции. Комкор-20 впоследствии станет командармом-2, а комкор-3 отправится в отставку в феврале 1915 года. Только комкор-4 пройдет всю войну на своем посту. Ген. Г. Хан Нахичеванский впоследствии будет командовать кавалерийскими корпусами и всегда — без успеха. Главкосевзап ген. Я.Г. Жилинский лишится своего поста и отправится во Францию русским военным представителем при союзном командовании. В январе 1915 года на комкора уйдет и начальник штаба Северо-Западного фронта ген. В.А. Орановский. Именно о нем больше всего сожалели знавшие его современники, в том числе и Б.М. Шапошников. В.Н. Дрейер вспоминал: «Орановский дальше корпуса не двинулся, хотя это был незаурядный генерал, превосходный военный, очень знающий и любимый всеми»[259].
К чему это перечисление? Ответ прост: все высшие чины Северо-Западного фронта — главкосевзап Жилинский, начштафррнта Орановский, командарм-1 Ренненкампф, командарм-2 Самсонов — были кавалеристами. Генералами от кавалерии. Действия русской конницы в Восточно-Прусской операции послужили ярким примером того, как масса кавалерийских начальников не умела использовать тот род войск, к которому принадлежала. Наверное, последующее их понижение (или отставка, или даже гибель) также не случайно. В гору пошел единственный кавалерист, отличившийся в этой операции, — конкомдив-1 ген. В. И. Гурко. Генерал от кавалерии Гурко в 1916 году командовал 5-й и Особой армиями, исполнял обязанности начальника штаба Верховного Главнокомандующего судьбоносной для Российской империи зимой 1917 года и был уволен с поста главнокомандующего армий Западного фронта лишь при Временном правительстве — в конце мая 1917 года.
Глава 6 КОННАЯ АРМИЯ В СВЕНЦЯНСКОМ ПРОРЫВЕ (1915)
Лето 1915 года стало тяжелейшим периодом в войне для русской армии. Именно в Великом отступлении русские теряли по двести тысяч человек пленными в месяц. Именно в Великом отступлении врагу были сданы вся русская Польша, Галиция, Западная Литва и часть Белоруссии. Именно в этот период произошел надлом моральной упругости русских войск, разочарованных громадными потерями и обидными поражениями. Причина этому — кризис вооружения, испытываемый русскими с начала 1915 года и преодоленный только к весне 1916 года.
В ходе борьбы за Польшу, отступая перед железными германскими клиньями, пытавшимися с флангов охватить и уничтожить в Польше большую часть русской Действующей армии, пришлось оставить всю крепостную систему, заблаговременно подготовленную перед войной. В двадцатых числах июля были очищены Иван-город и Варшава, что означало переход всей линии Вислы под австро-германский контроль. Уже 6 августа, после непродолжительной обороны, сдалась русская цитадель в Польше — крепость Новогеоргиевск. Очередь была за последними крепостями — Ковно, Гродно, Осовцом, Брест-Литовском.
После падения 9 августа крепости Ковно 10-я германская армия ген. Г. фон Эйхгорна продолжала теснить русскую 10-ю армию ген. Е.А. Радкевича в междуречье рек Вилии и Немана, дабы обойти Вильно с севера и окружить русских, свершив решительный бросок в русские тылы. Тем временем ген. М.В. Алексеев, тогда еще занимавший должность главнокомандующего армий Северо-Западного фронта, перебросил под Вильно три корпуса (5-й армейский корпус ген. П.С Балуева, Гвардейский корпус ген. В.А. Олохова и 2-й Кавказский корпус ген. С. Бек Мехмандарова). Тем самым командарм-10 генерал Радкевич получил возможность во встречных боях обескровить немцев и остановить их продвижение. Эти части прибыли на данный участок в связи с тем, что с падением Ковно правый фланг 10-й армии «повис» в воздухе, и требовалось срочно прикрыть его, дабы не позволить врагу предпринять маневр на охват правофланговых армий Северо-Западного фронта.
Однако фронтальные бои еще в большей степени обескровили и русские части, что вызывалось нехваткой боеприпасов и разложением войск, в которые вливались отвратительно подготовленные пополнения. Так, например, у Бейсаголы в полном составе сдался 315-й пехотный Глуховский полк во главе со своим командиром под тем предлогом, что были расстреляны все патроны. Так что А.А. Свечин с полным основанием полагает, что «основная задача 10-й русской армии в этот период времени должна была бы заключаться в выигрыше времени, хотя бы ценой потери участка территории, для возможно беспрепятственного выполнения нового развертывания, каким, по существу, являлось прибытие массы новых дивизий. Развертывание следовало бы, естественно, производить не на линии фронта, а отнести его несколько назад, обеспечивая лишь сохранение в наших руках виленского узла и железной дороги Двинск — Гродно». Но можно понять и генерала Алексеева: риск развертывания и перегруппировки в тылу прогибавшегося под германскими ударами фронта был слишком велик. Поэтому новоприбывшие корпуса тут же вливались в боевые линии, чтобы придать подкрепление жесткой обороне, проводимой штабом фронта и командармом-10 ген. Е.А. Радкевичем.
И вот тут-то началась чехарда в перестановках русского высшего командного состава. Император Николай II, не внимая всеобщим протестам, выразил намерение самому встать во главе Действующей армии. Великий князь Николай Николаевич отправлялся Наместником на Кавказ, Верховным Главнокомандующим становился сам царь, вследствие чего весь состав Ставки был немедленно пересмотрен. Так, главнокомандующий армий Северо-Западного фронта ген. М.В. Алексеев должен был занять пост начальника штаба Верховного Главнокомандующего — то есть стать фактическим распорядителем русской стратегии. Сам Северо-Западный фронт делился на два фронта. Во главе Северного фронта становился вызванный из запаса ген. Н.В. Рузский, во главе Западного фронта — командарм-4 ген. А.Е. Эверт. Перемены в организационной структуре самых что ни на есть высших штабов временно ослабили управление войсками. Это обстоятельство было использовано германским командованием для проведения новой решительной операции на окружение. Главной целью ставилось уничтожение 10-й русской армии в Литве.
Получив информацию о русской реорганизации, германский главнокомандующий на Востоке генерал-фельдмаршал П. фон Гинденбург тут же усилил свою ударную 10-ю армию ген. Г. фон Эйхгорна до семнадцати с половиной пехотных и четырех кавалерийских дивизий. К сентябрю 1915 года силы австро-германцев на Восточном фронте достигли своего максимума — сто шестнадцать пехотных и двадцать четыре кавалерийских дивизии. В то же время на Французском фронте против французов, англичан и бельгийцев стояли девяносто пехотных и одна кавалерийская дивизия немцев. Фланги войск генерала Эйхгорна прикрывали Неманская армия ген. О. фон Белова (шесть пехотных и две кавалерийские дивизии) и 8-я армия ген. Ф. фон Шольца (пять с половиной пехотных дивизий).
Перед командармом-10 ген. Г. фон Эйхгорном была поставлена следующая задача: стремительным броском овладеть Вильно, перерезав тем самым неприятельские железнодорожные коммуникации, и выбросить в тылы русских конные массы, чтобы окружить русскую 10-ю армию. Для этого все двенадцать тысяч сабель (неслыханная цифра для германцев), имевшихся в распоряжении Гинденбурга севернее Полесья, были сосредоточены на участке предстоящего прорыва. Всего же германская группировка насчитывала около трехсот тысяч штыков и, как говорилось, двенадцать тысяч сабель.
В чем смысл захвата именно Вильно? С падением виленского железнодорожного узла русские фланги Северного и Западного фронтов разбрасывались в стороны и не смогли бы оказать друг другу помощи. Следовательно, окружение и последующее уничтожение 10-й русской армии проводилось бы в условиях отсутствия у русских не только резервов, но и тех войск, что могли бы деблокировать окруженные части извне. Французский генерал Камон так писал о Свенцянском прорыве: «Идея его состояла в том, чтобы при помощи кавалерийских дивизий «ущемить» три железнодорожные пути снабжения правого русского крыла в пунктах — Вильно, Молодечно и Минск, принудить таким образом корпуса правого фланга отхлынуть в беспорядке и тогда атаковать их массой, предназначенной для маневра и быстро подвезенной из Ковно к Вильне и далее»[260].
Таким образом, если летние операции — Риго-Шавельская, 2-я Праснышская, наступление группировки ген. А. фон Макензена с южного фаса Польши — имели целью окружение всего русского Северо-Западного фронта, то теперь перед начальником штаба Гинденбурга ген. Э. Людендорфом стояла куда более скромная задача — окружение всего одной русской армии. Столь ограниченная, по сравнению с предшествовавшими, цель новой операции явилась следствием отчаянной стойкости русских солдат и офицеров, дравшихся с превосходившим в силах и средствах врагом на протяжении пяти месяцев. Десятикратное и более превосходство противника в обеспечении боеприпасами позволило австро-германцам вытеснить русских из Польши, Галиции и Западной Литвы, нанося русским громадные потери и захватывая десятки тысяч пленных. Но ни разу победоносному неприятелю не удалось окружить и пленить ни одной русской полевой дивизии, не говоря уже о полной армии. Единственное исключение — гарнизон крепости Новогеоргиевск. И теперь, уже на исходе лета, в преддверии осенней распутицы, превращавшей болотисто-лесные районы севернее Полесья в непроходимые дебри, немцы предпринимают последнюю попытку маневра на окружение хотя бы одной-единственной армии русских, по принципу шлиффеновских «Канн».
Противостоявшая немцам 10-я русская армия ген. Е.А. Радкевича имела в своем составе всего сто десять тысяч человек. Соседи — 5-я армия ген. П.А. Плеве (55 000 чел.), 1-я армия ген. АИ. Литвинова (107 000 чел.) и 2-я армия ген. В.В. Смирнова (54 000 чел.). Таким образом, даже по общему соотношению живой силы противники имели равную численность. Впрочем, если русские имели триста тысяч штыков и сабель в четырех армиях, что раздробляло управление по сравнению с неприятелем, то немцы свели те же триста тысяч в единый кулак под руководством одного командарма. А если вспомнить германскую артиллерию и ее обеспечение боеприпасами, то становится ясно, что Гинденбург придавал Виленской операции чрезвычайно важное значение, прекрасно понимая, что близящаяся осень вскоре остановит наступательный порыв больших войсковых масс вплоть до января, когда мороз скует льдом болота и речные поймы местности. Кроме того, надо было помнить и о том, что начальник Полевого Генерального штаба ген. Э. фон Фалькенгайн начнет переброски войск с Востока во Францию, как только французы удосужатся начать наступление. Особенно значительным было преимущество немцев в пулеметах.
Соотношение сил и средств перед началом операции в четырех германских армиях севернее Полесья и пяти русских армиях Северо-Западного фронта (без учета некомплекта в частях, особенно сильного для русских)[261]:
Немцы сосредоточили ударный кулак против стыка русских 5-й и 10-й армий, которые, вытянувшись после боев первой половины августа в одну линию, не имели за собой эшелонированных в глубину резервов. Генерал Людендорф учел все: 5-я русская армия входила в состав новообразованного Северного фронта, а 10-я — в состав Западного. Таким образом, русским предстояло налаживать взаимодействие не только армий, но и фронтов, которые только-только были образованы и только-только получили своих главнокомандующих.
Как говорилось выше, в связи с переменами в Верховном Главнокомандовании 22 августа в Ставку прибыл император Николай II, и только теперь кадровая расстановка стала окончательно ясной. Великий князь Николай Николаевич отправлялся Наместником на Кавказ. Общее руководство оставалось за императором (Верховный Главнокомандующий с 23 августа), пожелавшим принять на себя бремя военных невзгод, а фактическое руководство стратегией и военными действиями — в руках генерала от инфантерии Михаила Васильевича Алексеева. Этот тандем верховного руководства русскими вооруженными силами просуществует до конца, до самого падения монархии. Всего через три дня, 26 августа, немцы перешли в наступление в общем направлении на Вильно — Молодечно, открыв тем самым Вильно-Свенцянскую операцию. —
Ввиду особенностей данного района, ограниченного с юга Полесскими болотами, а в тылу русских — малопроходимыми лесами, германское наступление получало дополнительные шансы на успех. Отсутствие в ближайшем русском тылу мощных железнодорожных узлов вынуждало русскую сторону к вялому парированию ударов, в случае падения Вильно. Соответственно, немцы рассчитывали опрокинуть русские войска и занять все железнодорожные линии севернее Полесья, чтобы, разгромив и уничтожив часть сил русских фронтов, оттолкнуть русских в бездорожье. Как писали в России, «противник рассчитывал громоносным ударом обрушиться на правый фланг нашей боевой линии Западного фронта, пробиться в направлении Вилькомир — Вилейка, выйти во фланг и тыл Западного фронта и заставить его корпуса отходить назад через узкое горло между Молодечном и Полесьем»[262].
Первой вперед бросилась германская конница. Мощный натиск германцев смел конные отряды Н.Н. Казнакова и М.С. Тюлина, служившие передовым отрядом русской 10-й армии на ее стыке с 5-й армией. В этот момент разрыв между русскими армиями, теперь уже входившими в состав разных фронтов, составил девяносто верст. Как всегда, стыки между русскими армиями прикрывались лишь конными отрядами, слабо снабженными артиллерийскими средствами ведения боя. В реорганизационной неразберихе последних дней взаимодействие между фланговыми частями разных армий, вошедших теперь к тому же в состав разных фронтов, не было отрегулировано, что сразу же позволило группировке ген. Г. фон Эйхгорна приступить к маневру глубокого охвата фланга русской 10-й армии.
Германская ударная группа включала в свой состав 2, 10, 58 и 77-ю пехотные дивизии общей численностью в 28 800 штыков при 320 орудиях, 288 станковых и 216 ручных пулеметах. В прорыв были введены 1, 3, 4 и 9-я кавалерийские дивизии общей численностью в 14 400 сабель при 72 орудиях и 48 пулеметах. Противостоявшие им на первом этапе операции русские конные отряды насчитывали около двадцати тысяч человек. Отряд генерала Казнакова: полторы кавалерийских дивизии и четыре пехотных батальона — 5400 сабель, 3200 штыков при 18 орудиях и 12 пулеметах. Отряд генерала Тюлина: две с половиной кавалерийских дивизии и три пехотных батальона — 10 800 сабель и 800 штыков при 24 орудиях и 20 пулеметах в составе 1-й Кубанской казачьей дивизии, бригады 2-й Кубанской казачьей дивизии, сводной казачьей бригады, Сибирской казачьей бригады, 54-го Донского казачьего полка. На самом участке прорыва соотношение сил сторон было вообще ненормальным: противник имел 72 батальона и 96 эскадронов при 400 орудиях против 5,5 батальона, 82 эскадронов при 42 орудиях[263].
Русская конница под напором неприятеля отступила к флангу своей армии, и противник 28 августа прорвал ее оборону севернее Вилькомира. Этим ударом левофланговые 3-й армейский корпус ген. В.А. Альфтана и 23-й армейский корпус ген. Н.А. Третьякова, только-только переданный в 5-ю армию ген. П.А. Плеве, входившие в состав 5-й армии, были отброшены к Двине. В то же время правофланговые корпуса 10-й армии (Гвардейский корпус ген. В.А. Олохова и 3-й Сибирский корпус ген. В.О. Трофимова) оттеснялись к реке Вилия, за которую и были отброшены после двухдневных ожесточенных боев. Имея меньшие силы по фронту, противник смог одержать ряд успехов во фронтальных боях, дабы позволить своей ударной группировке возможно дальше вклиниться в глубь русского расположения.
Дело в том, что к осени 1915 года потери русской Действующей армии в кадрах были столь велики, что войска потеряли ту боевую упругость, что позволяет им драться при существенных потерях. Поэтому если летом русские еще упорно сражались против богато оснащенного боеприпасами противника (Шавли, Прасныш, Цеханов и др.), то осенью подавались назад и при слабых ударах. Б.М. Шапошников пишет: «С началом мировой войны наша пехота не боялась ни австрийской, ни немецкой конницы… С выбытием же из строя более или менее крепких в смысле обучения кадров, с переломом в настроении армии в достижениях войны сильная в физическом отношении наша пехота начала сдавать перед немецкой конницей, пожинавшей в своей оперативной работе и даже иногда на полях сражений хорошие плоды»[264].
Против правого фланга 10-й армии немцы сосредоточили две ударные группы:
— группа ген. Й.-К. фон Эбена — 2-я и 58-я пехотные, 10-я ландверная дивизии;
— группа ген. О. фон Гутьера — 42-я пехотная дивизия, 75, 76, 77, 115-я резервные и 14-я и 31-я ландверные дивизии.
В связи с тем что общее руководство армией нарушилось, так как противник сразу же пробил в обороне 10-й армии громадную брешь, ввел туда маневренные массы и стал теснить русских по фронту, командарму-10 пришлось вновь образовывать сводные армейские группы. Так, руководством оборонительными действиями на правом фланге, подвергшемся главному удару неприятеля, была образована сводная группа под командованием командира Гвардейского корпуса ген. В.А. Олохова. Генералу Олохову также подчинялись конница и подошедший из глубины 5-й Кавказский корпус ген. Н.М. Истомина. То есть русские также были вынуждены перейти к образованию групп, действуя под влиянием неприятеля.
Организационная неразбериха, царившая в русской Действующей армии, сказалась еще и еще раз. Вместо того чтобы противопоставить прорывающемуся в русские тылы противнику равную мощь — кавалерию, русское командование предпочло отводить свои войска к флангам армий. При этом прикрывающие стык фронтов конные группировки были поделены между фронтами. Конная группа ген. Н.Н. Казнакова, усиленная пехотой, была подчинена 5-й армии: русское командование, распределяя конницу, стоявшую на флангах фронтов, мудро переподчинило их пополам — и 5-й армии Северного фронта, и 10-й армии Западного фронта. В итоге генерал Казнаков, разумеется, отступил к озеру Дрисвяты, к флангу своей армии (5-й), против которой немцы выставляли лишь заслоны, ибо главной целью их операции было окружение 10-й армии. То есть группа генерала Казнакова оказалась выключенной из общей борьбы по противостоянию вражескому прорыву только потому, что ее приписали к Северному фронту, которому окружение не грозило.
Теперь на пути германского тарана, рвавшегося к Молодечненскому железнодорожному узлу, осталась лишь слабая группа генерала Тюлина, которая и была быстро оттеснена за реку Вилия. А.А. Свечин, который сам принимал участие в этом сражении в качестве командира 6-го стрелкового Финляндского полка (2-я Финляндская стрелковая дивизия в составе 5-го Кавказского корпуса), пишет: «Мне рисуются две оперативные ошибки русского командования, облегчившие немцам прорыв. Первая ошибка — это направление 10-й армией свободного III Сибирского корпуса к северу от Вильны для удлинения правого фланга гвардии, явно охватываемого немцами… Такое запоздалое выдвижение поддержки из центра могло привести III Сибирский корпус лишь к тому, что он оказался сам внутри охвата и не нашел себе полезного употребления… Вторая ошибка — это подчинение основной кавалерийской массы Казнакова 5-й армии… Окружение через прорыв угрожало не 5-й, а 10-й армии; к последней следовало и организационно привязать и Казнакова, обслуживавшего с 24 августа интересы 10-й армии. Тогда под немецким ударом Казнаков отходил бы не к озеру Дрисвяты, где он прикрывал пустоту, а по направлению к Молодечно, где проходили жизненные артерии всего Западного фронта…»[265]. Действительно, 5-я армия прижималась к рубежу реки Западная Двина, обороняя Двинск. Уж ей-то окружение никоим образом не грозило. Максимум — части 5-й армии могли быть выбиты с двинского плацдарма.
Нельзя сказать, что русское командование бездействовало. Уже на второй день германского прорыва начальник штаба Верховного Главнокомандующего ген. М. В. Алексеев распорядился образовать на Западном фронте новую группу корпусов в районе Ошмяны — Лида, перебросив туда управление и штаб 2-й армии. Таким образом, смысл новой перегруппировки заключался не в том, чтобы дать 10-й армии резервы, а чтобы развернуть на угрожаемом направлении новую армию — в данном случае новую 2-ю армию — и остановить врага. Чтобы командарм-10 ген. Е.А. Радкевич не был скован решением сразу двух тяжелых задач — и сдерживать рвущегося в прорыв противника, и организовывать контрнаступление, начальник штаба Верховного Главнокомандующего и принял решение об образовании новой армии.
Еще в середине августа ген. М.В. Алексеев недооценивал значения виленского направления, отдавая приоритет боям, ведшимся войсками 2, 1 и 4-й армий в Польше. Но уже незадолго до своего нового назначения на пост начальника штаба Верховного Главнокомандующего генерал Алексеев, получив сведения о неприятельской группировке в данном районе, решает создать под Вильно новую армию. Итак, войска старой 2-й армии передавались в соседние 1-ю и 4-ю армии, а управление во главе с ген. В.В. Смирновым перебрасывалось в Вильно-Молодечненский район, куда в течение сентября были направлены выдернутые из состава различных армий корпуса:
— 5-й армейский корпус ген. П. С. Балуева (из состава 10-й армии);
— 20-й армейский корпус ген. А. И. Иевреинова (из состава 1-й армии);
— 27-й армейский корпус ген. Д. В. Баланина (из состава 1-й армии);
— 34-й армейский корпус ген. Ф. М. Вебеля (из состава 10-й армии);
— 36-й армейский корпус ген. Н. Н. Короткевича (из состава 1-й армии);
— 4-й Сибирский корпус ген. А. В. Сычевского (из резерва фронта);
— 6-й Сибирский корпус ген. Ф. Н. Васильева (из состава 4-й армии).
Тем не менее к моменту Свенцянского прорыва германской 10-й армии 2-я армия еще не была сформирована, а потому ее корпуса в ряде случаев вводились в бой по частям, лишь бы прикрыть прогибавшуюся на юго-восток линию фронта.
Таким образом, в образовавшийся между 5-й и 10-й русскими армиями пятидесятикилометровый разрыв хлынула вся немецкая конница, объединенная в отдельный кавалерийский корпус ген. О. фон Горнье. Это были все шесть немецких кавалерийских дивизий, те самые более чем двенадцать тысяч сабель, которым было придано значительное количество орудий, в том числе и восьмидюймовых мортир. Вслед за конницей шли германские ударные пехотные дивизии, расширявшие прорыв на север и юго-восток. Тем самым в линии русского фронта образовывалась своеобразная «воронка», края которой двигались к Западной Двине (на север), куда отходили войска русской 5-й армии, и за Вильно (на юго-восток), куда откатывались корпуса русской 10-й армии.
Удар кавалерийскими дивизиями стал неприятным «сюрпризом» для русского командования, ибо теперь противник быстро продвигался вперед, опережая темпы переброски корпусов новой 2-й армии под Вильно. Русские не успевали с перегруппировкой, что вынуждало отходить без боя, дабы не оказаться в «котле». Если в 1914 году под Лодзью русские войска имели достаточное количество боеприпасов и целую армию (1-ю) в резерве Северо-Западного фронта, то теперь в Полесских лесах 1915 года ничего этого не было. Так что приходилось отступать: наступление германской кавалерии на Молодечно вызвало отход всего русского Западного фронта на пять переходов назад, на восток[266].
Следует сказать несколько слов об организации германской кавалерии в этой операции. В 1915 году на Восточном фронте были сформированы 1-й кавалерийский корпус ген. М. фон Рихтгофена и 2-й кавалерийский корпус ген. О. фон Шметтова. Немцы, по примеру русских, использовали временное объединение нескольких кавалерийских дивизий в конные корпуса. Германцы также считали, что такой вариант предпочтительнее, нежели создание постоянных корпусов, чья штатная организация будет менее гибкой для борьбы на Восточном театре военных действий, характеризующемся значительными просторами и гораздо меньшей, нежели во Франции, плотностью сил и средств на километр фронта.
К этому времени наметился окончательный перелом во взглядах немецких командиров в отношении использования конных масс: кавалерийские дивизии перебрасывались с Западного фронта, где конница в основном только оказывала существенное содействие в захвате той рубежной линии, которую командование признавало исходной в начинавшейся позиционной борьбе. Операция во Фландрии, известная как «Бег к морю», закрепила складывавшуюся тенденцию[267]. Максимум, для чего могла использоваться конница, — бой полка в качестве прикрытия развертывания пехоты, но не более. Теперь германская кавалерия скорее представляла из себя пеший огневой батальон. Основным маневром стало движение ездящей пехоты.
Такой подход сыграл отрицательную роль в разгар маневренной войны на Восточном фронте, где малокультурность театра военных действий в смысле инфраструктуры и отсутствие у русских достаточных огневых средств предоставляли германским командирам большие шансы на успех. Виленско-Свенцянская операция стала единственной, где германцы применили большие кавалерийские массы. Ген. Э. Людендорф справедливо рассудил, что в создавшихся условиях вторжение конницы в глубокий тыл противника сулит значительные дивиденды. Однако, во-первых, действия конницы все-таки привязывались к наступлению пехоты, а во-вторых, указанные выше изменения в тактике, верные на Западном фронте, помешали немецкой кавалерии использовать свои возможности по полной программе на фронте Восточном.
В немецких кавалерийских дивизиях состояли даже велосипедисты, малопригодные на разбитых литовских дорогах. Но зато каждый выделяемый небольшой конный отряд, как правило, имел при себе отдельные орудия, чтобы артиллерийская поддержка обеспечивала перевес даже в мелких стычках. Точно так же пулеметы обязательно придавались даже и разведывательным полуэскадронам. Известный немецкий военный теоретик Ф. Бернгарди еще до войны настаивал на том, что стратегическая кавалерия должна иметь сильную артиллерию, значительную насыщенность пулеметами и батальоны самокатчиков при сводных конных корпусах в несколько кавалерийских дивизий. Именно авторитет генерала Бернгарди побудил германское руководство сохранить и усилить кавалерию перед войной. Смысл придачи самокатных подразделений коннице состоял в разделении боевой работы: самокатчики ведут огневой бой, а конница выполняет свои маневренные задачи. Уже после войны исследователь писал: «…при современных комбинированных формах боя крупных кавсоединений органическое включение самокатных групп будет играть большое значение: принимая на себя спешенный бой, самокатные группы освобождают от этой роли большую часть конницы и сохраняют ее для маневра»[268].
Теперь же, во время войны, немцы с успехом использовали теоретические наработки. Как следствие всего сказанного, германская конница была сильным противником, с успехом подменяя пехотные части на тех участках, где была необходима немедленная поддержка. Но темпы продвижения конницы были невелики даже при той степени личной ответственности, что всегда была присуща немецким командирам. Пехотные части, приданные коннице, увеличивают ее устойчивость. В этом случае пехота должна быть разбросана по всему фронту кавалерии, организуя небольшие точки опоры. Поэтому эта пехота должна быть подчинена кавалерийским начальникам. Таким образом, здесь пехота превращается из главного рода войск во вспомогательный (отдельные стрелковые батальоны, подготовленные для работы вместе с конницей).
В состав 1-го германского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта М. фон Рихтгофена вошли 3-я кавалерийская дивизия, Баварская кавалерийская дивизия (ген. Хеллинграт). В состав 5-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта О. фон Шметтова: 6-я кавалерийская дивизия (ген. Гейдборн), 2-я кавалерийская дивизия (ген. Тумб-Нейбург), Гвардейская кавалерийская бригада (полковник Мальан), Саксонская кавалерийская дивизия (ген. Шметтов-младший), 4-я кавалерийская дивизия (ген. Гофман), 1-я кавалерийская дивизия.
Вернемся к начавшейся операции. Помимо наносившей главный удар 10-й германской армии, прочие немецкие армейские группировки также не бездействовали. Части 8-й и 12-й армий нанесли вспомогательные удары по русским армиям Северного и Западного фронтов. Как говорит исследователь, «эти вспомогательные удары имели большое значение, так как вместе с главным ударом они охватили, по существу, весь [русский] Западный фронт. В результате все армии русского Западного фронта и их резервы в начале операции были скованы. Только в дальнейшем, под угрозой быстрого развития успехов 10-й германской армии, командование Западного фронта приступило к организации контрманевра»[269].
Как ни странно, но русские командармы не знали, кто же, собственно, прикрывает сами Свенцяны (ныне Швенченис) — маленький городок посередине железной дороги Вильно — Двинск. Именно по нему производившийся удар германских армий получил в военной историографии название Свенцянского прорыва. Небольшие русские части возле Свенцян были мгновенно сметены, и немцы перерезали связь между русскими армиями, войдя в городок уже 29 августа. Как всегда, на пути ударных частей противника стояла «сборная солянка» — этапный батальон гвардейского корпуса, сотня забайкальских казаков и несколько разрозненных взводов разных ополченских подразделений. Штаб 5-й армии возложил обеспечение свенцянского направления на командира сводной конной группы ген. Н.Н. Казнакова, а штаб 10-й армии — на командира Гвардейского корпуса ген. В.А. Олохова. В итоге городок оборонял начальник этапного батальона полковник Назимов, имевший под рукой чуть больше тысячи человек против двенадцати тысяч германских сабель, шедших на острие удара[270].
Еще не зная о падении Свенцян, в этот же день, как говорилось выше, 29 августа, ген. М.В. Алексеев приказал выдвинуть в угрожаемый район шесть армейских корпусов из состава армий Западного фронта и образовать здесь новую 2-ю армию. Для прикрытия развертывания новой армии выдвигался 1-й кавалерийский корпус ген. В.А. Орановского в составе 8-й (ген. Л.П. Киселев) и 14-й (ген. В.Н. Петере) кавалерийских дивизий. Это «прикрытие» и стало костяком той конной группировки, на чьи плечи ляжет задача контрудара по прорвавшейся немецкой кавалерии. При этом генерал Орановский первоначально подчинялся командованию Северного фронта (!), где новый главкосев ген. Н.В. Рузский никак не мог принять всех дел и потому волей-неволей саботировал участие своих войск в начавшейся оборонительной операции. И именно разрозненные корпуса еще не сформированной новой 2-й армии сдержали натиск врага, пытавшегося прорваться в тыл 10-й армии, защищавшей Вильно, и пленить ее.
Германское командование искусно раздробило совместные действия русских фронтов. Оттеснив 5-ю армию ген. П.А. Плеве к Двинску, немцы попытались ворваться в город-крепость с ходу. После того как атаки были отражены, Людендорф сосредоточил в штурмующей группировке тяжелые батареи, решая одновременно две задачи: удержать русскую 5-ю армию от контрнаступления в немецкие тылы как минимум и возможность артиллерийскими ударами сломать психологию противника и все-таки занять Двинск как максимум. Двинск представлял собой плацдарм для будущего русского наступления в Польшу, и немцы всеми силами пытались свернуть его существование. И действительно: перебрасываемые командованием Северо-Западного фронта резервы немедленно вводились в бой, что не позволило командарму-5 ген. П.А. Плеве создать сильную группу для контрудара. Тем самым операция противника против армий русского Западного фронта продолжалась без помех со стороны Двинска, где неприятель сумел создать впечатление готовившегося штурма — непрестанными атаками по фронту и артиллерийским обстрелом города наряду с действиями авиации[271].
В итоге слабая 5-я армия (Северный фронт) прижалась к Западной Двине, обороняя двинский плацдарм, и немцы получили возможность ударить на 10-ю армию основной массой прорвавшейся группировки. Именно это и было задумано Э. Людендорфом: немецкий военачальник заранее рассчитывал, что действующие на стыках новообразованных фронтов русские войска подадутся в разные стороны, что даст германскому командованию возможность ввести в прорыв свои немногочисленные, но технически экипированные резервы. Русские могли выправить ситуацию только массой, потому здесь и создавалась новая 2-я армия из спешно перебрасываемых с разных участков фронта корпусов. Уже 31 августа император Николай II в своем дневнике записывает об образовавшемся «провале» во фронте между Двинском и Вильно следующими словами: «Серьезность заключается в страшно слабом состоянии наших полков, насчитывающих менее четверти своего состава; раньше месяца их нельзя пополнить, потому что новобранцы не будут подготовлены, да и винтовок очень мало… Только 10 или 12 сентября будет закончено это сосредоточение, если, Боже упаси, неприятель не явится туда раньше».
Достойно внимания, что все получаемые Северным фронтом резервы главкосев ген. Н.В. Рузский отправлял не в 5-ю армию, которая могла фланговым наступлением облегчить положение войск командарма-10 ген. Е.А. Радкевича, а к побережью Балтийского моря, чтобы установить единый позиционный фронт на своем Северном фронте. Поэтому 5-я армия ген. П.А. Плеве, изначально занимавшая выгодное положение в отношении контрудара по зарвавшемуся неприятелю, была обречена на оборону, вследствие недостатка сил, и, следовательно, на пассивную роль в операции. Также непонятно, почему ген. М.В. Алексеев не переподчинил 5-ю армию главнокомандованию Западного фронта (новый главкозап — бывший командарм-4 ген. А.Е. Эверт) хотя бы на время ликвидации прорыва неприятеля. Наверняка свою роль опять-таки сыграли иерархичные отношения в среде русского генералитета, которые принесли так много зла в Первую мировую войну.
1 сентября германцы подошли к Молодечно. Шесть пехотных дивизий противника охватили правый фланг русской 10-й армии, а их передовые отряды достигли железной дороги северо-западнее Минска, где находился штаб Западного фронта. В этот момент наибольшего продвижения немецких конников в глубь русского оборонительного фронта им оставалось до Минска всего-навсего двадцать пять верст (впрочем, германцы все равно не пошли на риск штурма столицы Белоруссии). Немцы почти вплотную подошли к городку Борисов (северо-восточнее Минска), что грозило перерубанием Александровской железной дороги и блокадой Минска. Но и без того положение было чрезвычайно тяжелым: железнодорожные линии Полоцк — Молодечно и Молодечно — Вильно сразу оказались перерезанными, что снизило возможности русского командования по маневру на ликвидацию прорыва. В этот момент штаб Западного фронта, находившийся в Минске, с 1-й и 10-й армиями соединял только один-единственный телефонный провод через Молодечно. Поэтому русские упорно дрались за этот город, дабы совершенно не потерять и без того разрушенного неприятельскими ударами управления.
Прорвавшись через Свенцяны, германцы чрезвычайно сузили пространство для отхода русских из-под Вильно. А действия немецкой кавалерии, угрожавшие тылам 10-й армии, не давали русскому командованию времени на подготовку контрудара. В этих условиях, когда противник бил с фронта артиллерийским огнем тяжелых батарей, а с фланга нависали прорвавшиеся немецкие ударные группировки, русские могли только обороняться. Войсками возводились полевые фортификационные сооружения, ставшие прообразом тех оборонительных линий, что к 1916 году перекроют весь Восточный фронт от Балтики до Черного моря своей неприступностью. Поэтому уходившую в прорыв немецкую кавалерию сменяла медленно двигавшаяся за ней пехота, штурмовавшая полевые укрепления русских. Например, 1-ю кавдивизию сменила 115-я пехотная дивизия ген. фон Клейста. Немецкий участник войны сообщает: «Маневренная война на востоке, а особенно Виленская операция дают целый ряд примеров наступления против укрепленных позиций. Конечно, позиции были оборудованы не так, как под Верденом, с использованием долговременных крепостных укреплений в виде глубокой оборонительной зоны полосы из окопов и узлов сопротивления. Напротив, они в большинстве случаев носили линейный характер. Брустверы их окопов, снабженные бойницами и козырьками, представляли хорошую цель для артиллерии. Но местные предметы, посредством оборудования нескольких оборонительных линий подряд, были превращены в опорные пункты, и отдельные участки позиции были хорошо использованы для взаимного фланкирования. Далее, на небольших расстояниях одна за другой, трудами резервов и местных жителей, устраивались все новые позиции, так что и здесь германским дивизиям приходилось целыми днями прокладывать себе дорогу от одной позиции до другой»[272]. Каково было состояние русских войск, противостоявших наступавшему противнику? Тех войск, что уже все лето непрерывно отходили перед врагом, порой теряя по сто процентов своего состава в нескольких боях. Например, А.А. Свечин полагает, что в период Свенцянского прорыва русские «войска находились на дне — царская армия едва ли когда-нибудь достигала большего разложения и так опускалась, как в эти конечные месяцы полугодового отступления 1915 г.». Это что касается духа. О материальном же состоянии вооружения русских войск осенью пишет бывший генерал-квартирмейстер Ставки ген. Ю.Н. Данилов, назначенный командиром 25-го армейского корпуса: «Хорошо помню, как в сентябре 15-го года, вступив в командование XXV-m корпусом, я оказался во главе всего лишь неполных 8 т. штыков, крайне бедно обеспеченных ружейными патронами — остроконечными и тупоголовыми вперемешку, — почти без пулеметов и с малым количеством артиллерийских выстрелов. Потребовалось несколько месяцев — примерно до декабря — и много энергии, прежде чем скелет этого доблестного корпуса оброс мускулами и превратился в цельный полнокровный боевой организм»[273]. И кто если не сам генерал Данилов своей предшествовавшей «стратегией» 1914 — 1915 гг. чрезвычайно способствовал такой ситуации?
На этом этапе Виленско-Свенцянская операция стала поразительно напоминать сражение под Лодзью в 1914 году. Окружаемая русская армия прижимается к центру на реке (тогда это была Лодзь, а теперь Вильно), в ее тылы выходят подвижные группы немцев (тогда отряд Шеффер-Бояделя, теперь кавалерия Горнье), а соседние русские части отбрасываются веерообразно, в самых разных направлениях. Как пишет А.А. Керсновский, «в районе Свенцян образовалось смешение войск наподобие лодзинского. Наша 10-я армия, переменившая фронт на север, играла роль армии Шейдемана. Хаотически наступавшая 2-я армия — роль Ловичского отряда. 1-й же конный корпус генерала Орановского оказался хранителем бездарных заветов Новикова и Шарпантье»[274].
Действительно, части 10-й армии оказались вынуждены драться перевернутым фронтом на северо-восток, в то время как выдвигавшиеся из тыла войска 2-й армии и конница пытались разомкнуть неприятельские «клещи». Д.В. Баланин (комкор-27) вспоминал: «Спешно со всех сторон уже подходили наши корпуса, но им приходилось преодолевать большие расстояния при крайне пересеченной местности и по плохим, тяжелым дорогам. А потому и неудивительно, что наступление шло медленно и директивы, слишком упреждавшие события, но в которых неуклонно проводилась одна мысль: всем настойчиво наступать на указанном фронте, — далеко не всегда выполнялись». Только в 1914 году русские не так сильно уступали противнику в техническом отношении и обеспечении войск боеприпасами. Тем не менее и в 1915 году, как и год назад, развитие операции зависело от стойкости солдат окружаемой русской армии и от скорости контрудара русских по намечавшемуся кольцу окружения.
Общее руководство контрударами было возложено на комкора-2 ген. В.Е. Флуга (в 1914 году — командарм-10). Организация контрудара чрезвычайно затруднялась тем, что откатывавшиеся на восток тыловые части 10-й армии запрудили все дороги до предела, что мешало развертыванию корпусов 2-й армии. В это время в районе Лаваришки — Палоши скопилось громаднейшее количество обозов войск 10-й армии, которые мешали не только сосредоточению ударных корпусов, но даже и их простому движению вперед. И тогда, чтобы обеспечить себе свободу маневра, генерал Флуг 3 сентября отдал категорическое распоряжение о немедленной остановке на месте всех без исключения обозных транспортов. Также все повозки должны были незамедлительно убраться с дорог, чтобы не стоять на пути контрударной группировки. Безусловно, комкор-2 рисковал: задержка обозов на местах своего местонахождения могла стать причиной их перехода в руки наступавшей немецкой кавалерии. Однако следовало выбирать, и ген. В.Е. Флуг, естественно, выбрал войска 10-й армии, а не их обозы.
Для контрудара у Молодечно, от которого до Минска оставалось всего-навсего шестьдесят километров — два конных перехода, были назначены 2-й армейский корпус ген. В.Е. Флуга и сводный (1-й) кавалерийский корпус ген. В.А. Орановского. Дабы парировать неприятельские удары собственными активными действиями, русская конница была сосредоточена на фланге наступавшей германской кавалерии. Измотанные длительными переходами русские войска по нескольку дней не имели хлеба: хлеб заменялся выкапываемым с полей картофелем. Даже мясо (скот сравнительно дешево покупался у местного населения) употреблялось в пищу без соли, ибо соль не подвозилась, а на месте ее не было. Но надо было выручать своих!
Встречные фронтальные бои (в том числе и конные столкновения) под Молодечно позволили задержать германскую конницу и выиграть необходимое время. Взять Молодечно с ходу немцам не удалось, и русские имели возможность пользоваться железнодорожными коммуникациями молодечненской станции вплоть до того момента, как город пришлось оставить под угрозой быть обойденными и отрезанными. Участник войны пишет, что войска противника подошли к железнодорожной станции города Молодечно «настолько близко, что могли держать ее под действительным артиллерийским огнем, причем часть прилегающих к станции Молодечно путей и сооружений оказалась в сфере действий дальней разведки и подверглась разрушению с ее стороны»[275].
К этому времени компактная масса германской кавалерии распылилась и действовала разъединенными небольшими группами в глубоком тылу русских: так, например, германская 9-я кавалерийская дивизия обеспечивала тыл обходящей группировки со стороны Свенцян, откуда грозилась русская 5-я армия. Было необходимо оставлять заслоны и против Борисова, и против Минска, и против Молодечно. Тем самым ударный германский 6-й кавалерийский корпус в наиболее ответственный момент развития операции сократился всего до трех конных дивизий. Упала и скорость хода. В этот момент темпы немецкого продвижения (при отсутствии достойного сопротивления противника) снизились до двадцати километров в сутки. Такую же скорость наступления имела печальной памяти кавалерия 1-й русской армии ген. Г. Хана Нахичеванского в первой фазе развития Восточно-Прусской операции 1914 года.
Как правило, летом — осенью 1915 года русская конница все еще предпочитала атаковать в конном строю, что влекло за собой большие потери, совершенно несоизмеримые с достигнутыми результатами. В связи с тем, что кадровый состав пехоты стал плох, а снарядов для артиллерии по-прежнему не хватало, вперед и бросали кавалерию. Причем далеко не всегда это происходило под приказом вышестоящего командира: начальники небольших конных подразделений старались всемерно облегчить боевую работу своей пехоты. У Свирни, Жогини, Кальпишки, Свирконты, в Праснышской оборонительной операции русские конные атаки заставляли немцев снижать темпы своего продвижения, но этот успех достигался чрезмерной кровью. Как отмечает германский автор, русской кавалерии было свойственно «останавливаться, прорвав наши иногда до смешного слабые линии, и довольствоваться достигнутым успехом, вместо того чтобы использовать его дальше». В свою очередь, немцы подводили из глубины резервы и легко ликвидировали успехи русских[276]. Что же касается германской кавалерии, то она в бою старалась действовать в пеших порядках: медленно, но надежно.
К 3 сентября в развитии Виленско-Свенцянской операции назрел кризис. Немцы чрезмерно растянули свои войска, пытаясь окружить русских, а к русскому правому флангу, на стык с 5-й армией, уже спешили корпуса 2-й армии: пусть разрозненно и без надлежащего управления, но все-таки шесть корпусов. Русские войска, спешно перебрасываемые на помощь 10-й армии, остановили дальнейшее продвижение конных масс противника, сведя на нет все предыдущие успехи по образованию «котла». Германский автор сообщает, что кавалерийскому корпусу генерала Горнье «вполне удалось прорваться в тыл русских. Но ввиду того, что ему пришлось одновременно с развитием [прорыва] отделить несколько дивизий навстречу подходившим с востока русским подкреплениям, то, в конце концов, ему не хватило сил, чтобы окончательно преградить путь отступления отходящим сомкнутым колоннам русских»[277].
Тем не менее противник сумел перерезать пути снабжения и эвакуации 10-й армии, пробившись в тыл виленскому району. Поэтому командарм-10 ген. Е.А. Радкевич в этот же день, 3 сентября, стал отступать от литовской столицы, пробиваясь на восток, чтобы сократить фронт и увеличить силу готовящегося контрнаступления. Для этого, понятное дело, пришлось пожертвовать столицей Литвы — Вильно. К 6 сентября позади 1-го кавалерийского корпуса ген. В.А. Орановского уже стояли свежие резервы. Это подошел 5-й армейский корпус ген. П.С. Балуева. Действовавшая в его составе 7-я пехотная дивизия ген. С.Д. Михно сразу же двинулась вперед. Соответственно, своевременное оставление Вильно, наряду с подходом резервов и их переходом в контратаки, способствовало тому, что задуманный генералом Людендорфом «котел» для 10-й русской армии не удался. А. А. Свечин говорит: «Наше геометрическое положение все же было, пожалуй, не хуже, чем положение Лодзи в ноябре 1914 г. Тогда 2-й армии было приказано продолжать удерживать Лодзь, хотя бы немцы и сомкнули кольцо окружения; но тогда еще были свежие резервы, войска еще не были так истощены, командование еще тешило себя блестящими перспективами. В сентябре же 1915 г. было окончательно принято решение очистить Вильну, не допуская 10-ю армию до полной потери сообщений; высшее командование не видело впереди просвета, в войсках наблюдались явления, совершено не напоминающие боевой задор…»[278].
4 — 7 сентября армии Западного фронта успешно отошли восточнее линии Вильно — Огинский канал, спрямив фронт и не допустив окружения ни одной русской части. К этому времени пять армий Западного фронта насчитывали в строю всего-навсего 369 722 человека[279]:
Таким образом, как можно видеть, лишь 1-я и 10-я армии могли с грехом пополам претендовать на статус армии, исходя из своей численности. 2, 3 и 4-я армии, по сути, представляли собой группу лишь несколько усиленных корпусов полнокровного предвоенного состава. Потери войск были велики, однако и противник был вынужден торопиться, так как в самом ближайшем будущем ожидались переброски войск во Францию, где русские союзники, бездействовавшие все лето, наконец-то соизволили раскачаться. О количестве потерь говорит, например, 2-й гвардейский стрелковый полк, который с 26 августа по 10 сентября беспрерывно дрался в арьергарде. Из 1625 человек полк потерял 785 (48,3%) выбывшими из строя +177 раненых и контуженых, оставшихся в строю. Офицеров выбыло более половины[280].
К этому времени стало очевидно, что натиск неприятеля выдыхается, и русское командование решило перейти в контрнаступление силами всех армий Западного фронта, чтобы окончательно остановить врага. 8 сентября контрудар был нанесен обескровленными войсками 3-й армии ген. Л.В. Леша в общем направлении на Пинск. На острие удара шел 31-й армейский корпус ген. П.И. Мищенко. 10 сентября под Логишиным, взятым русскими, был разбит немецкий 41-й корпус, что предотвратило падение узловой станции Лунинец. В итоге немцы приостановили свой натиск на Барановичи и были вынуждены раскидать свои резервы, что облегчило контрнаступление 2-й и 5-й армий.
9 сентября 2-я армия ген. В.В. Смирнова при поддержке сводных кавалерийских корпусов, наступавших на стыке 2-й и 5-й армий и объединенных под руководством генерала Орановского, перешла в общее контрнаступление. Использование огромной сводной конной группы стало блестящим козырем русских. Под командованием ген. В.А. Орановского оказалась целая конная армия — сорок один конный полк (246 эскадронов и сотен) в составе восьми с половиной кавалерийских дивизий. Конной группе были приданы семнадцать конных батарей — сто двадцать орудий.
В то же время в Виленско-Свенцянской операции выявилась разница между использованием крупных конных масс немцами и русскими. Так, у немцев конница выполняла задачу фронтового масштаба, а у русских кавалерийские корпуса либо выполняли роль ездящей пехоты, пристраиваясь к флангам армейских корпусов (Орановский), либо действуя плечом к плечу с ними (Тюлин, чей отряд подчинялся комкорам). Интересно, что русские общевойсковые начальники в ходе ликвидации прорыва просили усилить их войсковую конницу за счет конного кулака генерала Орановского. И это несмотря на то, что еще до войны было понятно, что «дело главнокомандующего или командующего армией указать цель действий конницы. Средства же достижения поставленной цели должны избираться начальником конницы самостоятельно».
Численность стратегической конной группировки Западного фронта в боях под Вильно в сентябре 1915 года, к 25 сентября, составила восемнадцать с половиной тысяч человек при пятидесяти трех пулеметах и шестьдесят одном орудии. К 6 октября число сабель в группе Орановского выросло до двадцати тысяч.
Состав группировки:
— 1-й кавалерийский корпус ген. В.А. Орановского (8-я кавалерийская дивизия ген. Л.П. Киселева и 14-я кавалерийская дивизия ген. В.Н. Петерса);
— Сводный конный корпус князя Г. А. Туманова (6-я кавалерийская дивизия ген. В.Х. Роопа и 13-я кавалерийская дивизия ген. Г.А. Туманова);
— группа ген. Н.Н. Казнакова (1-я гвардейская кавалерийская дивизия ген. В.В. фон Нотбека, Уссурийская конная бригада ген. А.М. Крымова, 2-я бригада 5-й кавалерийской дивизии);
— группа князя С.К. Белосельского (3-я Донская казачья дивизия ген. С.К. Белосельского-Белозерского, конная бригада ген. Потапова, два пехотных полка 70-й пехотной дивизии).
Слабость этой конной группы была в отсутствие пехоты. Темпы продвижения кавалерии генерала Орановского были невысоки, и пехота вполне могла подкрепить кавалерию. Ведь в лобовом столкновении огневая мощь конницы невелика, а сам всадник представляет слишком лакомую цель для пулемета. Тем не менее ведь и немцы имели на острие удара кавалерию, а потому действия русской конницы отличались эффективностью. Например, 7 — 8 сентября в Сморгони русские разгромили и практически полностью уничтожили 1-ю германскую кавалерийскую дивизию. На том этапе операции, когда было необходимо закрыть провал между фронтами, конница, безусловно, выполнила свою задачу, не позволив германской кавалерии пробиться на Минск. Но как только фронты сомкнули свои фланги, а 10-я армия вышла из образующегося «котла», нехватка пехоты в конной группе сразу же стала тормозить развитие наступления конницы.
В качестве сравнения можно привести действия 1-й Конной армии С.М. Буденного в период Гражданской войны в России. Как известно, 1-я Конная армия была сформирована на базе 1-го конного корпуса 11 ноября 1919 года из трех кавалерийских дивизий и стрелковой бригады. Во время решающего сражения 1-й Конной армии с белогвардейской конной группой генерала Павлова у станицы Егорлыкская в состав 1-й Конной входили 6, 4, 11-я кавалерийские и 20, 50 и 34-я стрелковые дивизии. В январе 1920 года в ее составе находилось 9000 сабель и 5000 штыков. В июне 1920 года — 2800 штыков, 16 500 сабель, 672 пулемета, около 100 орудий. А, например, во время броска ко Львову в конце июля 1920 года 1-я Конная армия была усилена тремя стрелковыми дивизиями[282]. В этот момент в состав армии входило свыше 2000 штыков, 16 200 сабель, 53 орудия, 337 пулеметов, 3 бронеавтомобиля, 7 бронепоездов.
Как видим, конница Буденного всегда имела существенное усиление в пехоте и технике. При этом марши пехоты прикрывали отход кавалерии по окончании операции или маневра, а отдохнувшая конница, переходя в очередное наступление, в свою очередь, давала пехоте возможность двигаться вне действия неприятельских ударов. Кто знает, как тактика Гражданской войны могла бы сказаться в мировой войне. Однако русская императорская кавалерия и в качестве, и в количестве существенно превосходила конные массы красных и белых сторон в 1918 — 1920 гг. Достаточно указать, что в 1916 году численность сабель в одном кавалерийском корпусе только самую малость уступала численности сабель Первой Конной армии РККА, а ведь таких армий и было-то всего две. Ген. А.К. Кельчевский уже в эмиграции так писал о тактике взаимодействия родов войск в Первой Конной армии С.М. Буденного: «В период действий конницы его пехота, совершая спокойно марш, подтягивалась к определенным пунктам. Здесь, в зависимости от физической усталости людей и лошадей конницы, пехота или располагалась на отдых, прикрытая конницей, или же выдвигалась вперед и, заняв боевой фронт, служила щитом для уводившейся на отдых конницы. Эта последняя после указанной боевой работы располагалась на отдых позади пехоты, усилив, если нужно, пехоту конными частями от более свежих полков для ведения разведки»[283].
10 сентября главкозап ген. А.Е. Эверт предложил отвести 1, 2, 3 и 4-ю армии, дабы сократить фронт и получить ряд корпусов для образования резерва, чтобы использовать его на правом фланге, куда углублялась немецкая кавалерия. Начальник штаба Верховного Главнокомандующего ген. М.В. Алексеев согласился с данным предложением. Ведь и так было ясно, что Вильно и Молодечно потеряны, а чтобы не сдать противнику еще и Минск, следовало остановить врага. В этот момент русское командование еще не знало, что противник уже выдыхается и его наступление проводится более по инерции. Но рисковать было нельзя: этого не позволяло общее состояние войск. Как считает исследователь, русские солдаты (увы, это были уже не кадровики образца четырнадцатого года!) признавали превосходство немецкой военной машины вообще и германского солдата над русской стороной. «По мнению солдат, сила врага была в его «знании»… Удивляла, а порой и озлобляла работоспособность немцев… В этом же ряду стояли дисциплинированность, хитрость (ассоциировавшаяся с мудростью, упорством, лютостью), надменность и достоинство немцев даже в плену, физическое превосходство… Немцев считали крайне неудобным противником, поскольку те дрались «настойчиво», «отчаянно», до «удивления»… Уже с осени 1915 года по русскому фронту стали распространяться слухи о невозможности вообще победить немцев, об их громадном превосходстве над русскими… С лета 1916 года после провала русского наступления мнения о силе и непобедимости немцев становятся в армии преобладающими»[284].
Сократив фронт и двинув вперед конные массы, русские армии Западного фронта предприняли попытку перейти в решительное контрнаступление. Тем не менее достичь значительных результатов сразу русским не удалось. Причина этого заключалась в неумении русских кавалерийских начальников организовать операцию большой конной массой. В период с 12-го по 14-е число из войск доносили: «На Вилии, в новой 2-й армии, наше наступление пока развивается очень слабо; одни части имеют небольшой успех, другие даже вынуждены местами осадить. Конница действует неискусно и жмется к пехоте, неся бесполезные жертвы в лобовых атаках, и нуждается в постоянных подсказах, что сила ее в быстроте перемещений и обходах». А с 18 сентября, как говорит исследователь, «дальнейший отход немцев происходил уже без боев и очень быстро; на левом их фланге местами даже в беспорядке (бросали обозы, снаряды), но пленных мы имели очень мало. «Конница не имела вождей»…»[285].
Действительно, с 16 сентября противник остановил дальнейшее развитие операции. Во-первых, начались переброски войск на Западный фронт, во Францию, и ген. Э. фон Фалькенгайн в категорическом тоне потребовал от Гинденбурга и Людендорфа прекратить операцию. Во-вторых, цель Свенцянского прорыва, поставленная перед командармом-10 ген. Г. фон Эйхгорном, ген. П. фон Гинденбургом, не была выполнена: русская 10-я армия не была окружена и сумела отойти. Главные причины остановки немцев заключались в потере ими темпов операции. Так, в первые четыре дня германская кавалерия проходила по восемьдесят километров в глубь русского тыла, а затем — только по двадцать — двадцать пять километров в сутки. Пехота двигалась со скоростью пятнадцать километров в сутки. В то же время русские подразделения, брошенные генералом Алексеевым для заслона неприятельского прорыва, двигались куда большими темпами: кавалерия по шестьдесят-семьдесят километров в сутки, пехота — переходами по тридцать километров. Быстрые темпы выдвижения резервов создали условия, необходимые для перелома операции в пользу русских войск.
Теперь немецкие ударные группировки стали отходить назад, западнее, чтобы, уже в свою очередь, не быть окруженными и уничтоженными. В то время как противник отходил от Свенцян, начальник штаба Верховного Главнокомандующего ген. М.В. Алексеев всеми силами старался причинить неприятелю наибольший ущерб. Однако сил на северном фланге Западного фронта не хватало, а кавалерия не сумела проявить себя. В то же время над германскими коммуникациями нависала 5-я армия ген. П.А. Плеве, которая была передана в состав Северного фронта. И генерал Н.В. Рузский вновь проявил себя «во всей красе». В течение всей операции, хотя главный германский удар был направлен против Западного фронта, главкосев раздражал Ставку постоянными просьбами о подкреплениях и ссылками на слабость своих войск. В итоге войска 5-й армии, против которой стояли лишь незначительные немецкие заслоны, даже не сдвинулась с места, чтобы хотя бы попытаться надавить на отступавшего неприятеля с фланга.
Несмотря на вялое руководство и фронтальные атаки, Свенцянский прорыв в конечном счете был ликвидирован, и 10-я германская армия перешла к обороне. Как отмечает отечественный исследователь, «Свенцянский прорыв — операция, которую обе стороны вели в условиях серьезного истощения сил». Огромный некомплект частей и запоздалый ввод в дело резервов сказались на темпах развития операции. Германцы намеревались окружить русскую 10-ю армию и правый фланг 1-й армии, но смогли лишь выиграть пространство, заплатив за этот успех разгромом своей конницы[286]. Восточный фронт, подобно Западному, стал застывать в тисках позиционной борьбы. Генерал Э. Людендорф признает, что «за всю войну, как на Востоке, так и на Западе, нам ни разу не удалось довести до конца крупный стратегический прорыв. Прорыв между Вильно и Двинском зашел дальше остальных. Он показывает, что стратегический прорыв приводит к полному успеху, лишь развившись из него в тактический охват»[287].
С середины сентября немцы стали перебрасывать войска во Францию, где французы сподобились начать наступление в Шампани и в Сербию, так как ожидалось выступление Болгарии на стороне стран Центрального блока, и появился шанс, уничтожив сербов, полностью овладеть Балканским полуостровом. Главным успехом германцев в этой операции стал захват всех крупных железнодорожных узлов перед Полесьем. Теперь русские перевозки вдоль фронта могли осуществляться только через Минск и Киев. Причина сравнительного неуспеха (ведь выполнить намеченную цель так и не удалось) — нехватка сил и времени. Б. Лиддел-Гарт пишет: «Когда Фалькенгайн отказался от проведения крупных операций, он с запозданием и неохотно разрешил Людендорфу попытаться осуществить его вильненский маневр своими собственными скудными ресурсами. В результате этого незначительного по силам и самостоятельного удара Людендорфа была перерезана железная дорога Вильно — Двинск, и немецкие войска подошли почти вплотную к Минской железной дороге, главной линии русских коммуникаций, несмотря на то что для отражения удара русские имели возможность сосредоточить все свои резервы. Эти результаты являлись доказательством тех потенциальных возможностей, которые были заложены в маневре Людендорфа. Если бы этот маневр был проведен раньше и более крупными силами, когда главные силы русских были прочно скованы в Польше, немцы достигли бы еще лучших результатов»[288].
Теперь следовало оттеснить врага от жизненных центров империи, тем паче — от Минского железнодорожного узла. Так как главкосев ген. Н.В. Рузский продолжал сдерживать войска 5-й армии, одновременно терзая Ставку непрерывными просьбами о подкреплениях, хотя Северный фронт не испытывал давления противника, начальник штаба Верховного Главнокомандующего ген. М.В. Алексеев принял решение о формировании новой группировки. В районе Полоцка стала сосредоточиваться новая 1-я армия ген. А.И. Литвинова, передавшего корпуса своей прежней 1-й армии соседям: 4-й и 10-й армиям.
18 сентября русская конница перешла в наступление в районе Молодечно. Численность стратегической конной группировки Западного фронта в боях под Вильно в сентябре 1915 года, к 25 сентября, составила восемнадцать с половиной тысяч человек при пятидесяти трех пулеметах и шестьдесят одном орудии — по сути, целая Конная армия. Но тут-то и сказался импровизированный характер крупных кавалерийских соединений, которые пришлось восстанавливать уже в ходе войны. Начальники конных отрядов нехотя подчинялись общему начальнику — генералу Орановскому, артиллерия плохо взаимодействовала с конницей, и потому в целом наступление продвигалось медленными темпами. Однако общее превосходство сил позволило ген. В.А. Орановскому отбросить германскую конницу из района Молодечно на шестьдесят пять километров севернее, к озеру Нарочь. Немцы считали русскую кавалерию достойным противником, умело применяющимся к местности, ведущим разведывательную службу, искусно использующим завесу и прикрывающим отход[289]. Но русские командиры так и не сумели использовать в должной мере численное превосходство, позволив немецким частям счастливо избегнуть окружения.
Одновременно 20 — 22 сентября 1-я армия ген. А.И. Литвинова, переброшенная на полоцкое направление, пыталась оттеснить противника ударом в стык Неманской и 10-й германских армий. Наступление на широком фронте, в лоб, сковало врага, но 1-й армии не удалось продвинуться ни на шаг, зато потери составили более двадцати тысяч человек. К началу октября 1-я армия и конная группа генерала Орановского прочно сомкнули фланги армий Северного и Западного фронтов. Это те самые фланги, что были разрублены Свенцянским прорывом. Данными боями закончился период маневренной войны на Восточном фронте.
Теперь противоборствующие стороны, окончательно истощив свои силы в сражениях кампании 1915 года, как и во Франции, перешли к позиционной борьбе. При этом часть германцев не сумела выйти из окружения. Пусть это были небольшие группки людей, но зато они испытали на своей шкуре, как плохо находиться в неприятельском тылу без надежды выйти к своим. Участник войны вспоминал: «В районе Дуниловичей, в громадных лесах, все еще болтались одиночные, небольшие разъезды германской кавалерии, отставшие от своих главных сил. Доведенные холодом и голодом до отчаяния, они приходили в соседние деревни и сдавались в плен. Много трупов их осталось лежать в глубоких снегах, и весною крестьяне находили их умершими от истощения и замерзания»[290].
…Что ж, немцы могли подвести итоги своей оперативной деятельности на Восточном фронте в кампании 1915 года. В частности, уже после войны это сделал ген. Э. фон Фалькенгайн. Генерал Фалькенгайн так характеризует результаты борьбы в письме своему коллеге — австрийскому начальнику Полевого Генерального штаба — ген. Ф. Конраду фон Гётцендорфу: «Ему было сообщено, что для Германии, а по воззрению немецкого верховного командования, и для Австро-Венгрии, дело теперь сводилось не к тому, чтобы завладеть русской территорией, но только к тому, чтобы отыскать такую линию, которая на долгое время и при минимальном применении сил обезопасила бы Восточную Пруссию и Венгрию, в то время как мы на других театрах с возможно полным напряжением сил будем искать решения войны». То же самое Э. фон Фалькенгайн писал и главнокомандующему на Востоке ген. П. фон Гинденбургу как ответ на упрек в том, что русские вырвались из клещей («Канн») к середине августа: «Уничтожение врага никогда не ожидалось от текущих операций на Востоке, а только решительная победа, отвечающая целям верховного командования. Уничтожение в целом и не должно в данном случае делаться предметом достижений, так как нельзя задаваться целью уничтожить врага, значительно превосходящего в силах и стоящего фронтально против вас, раз он располагает прекрасными сообщениями, достаточным временем и безграничным пространством…»[291].
Да, Свенцянский прорыв имел для германцев большое значение. Прежде всего русские лишились последней рокадной железнодорожной магистрали, находившейся в их руках после оставления Польши, — той железной дороги, что шла от Двинска через Вильно. Это обстоятельство в кампании 1916 года не позволит Ставке Верховного Главнокомандования перебрасывать резервы с фронтов, расположенных севернее Полесья, на Юго-Западный фронт, бросившийся вперед в Брусиловском прорыве. Враг сумеет совершать перегруппировки гораздо раньше русских, что и позволит австро-германцам отражать русские удары, имея меньшие по численности силы. Однако, с другой стороны, Гинденбург и Людендорф не добились своей цели — уничтожения русских армий в «котлах». Имея численное превосходство, значительную разницу в качественной подготовке резервов и, наконец, совершенно несоизмеримое преимущество в боеприпасах, германцы не смогли создать ни одного «котла». Последний шанс для немцев — прорыв на Вильно — Свенцяны мощным ударом встык русских фронтов — также не увенчался успехом. Неприятель опоздал со Свенцянской операцией как минимум на месяц, ибо русские армии Северо-Западного фронта уже успели выйти из окружения, обозначавшегося в июле — начале августа в Польше, а немцы к осени явно выдохлись.
Глава 7 В БРУСИЛОВСКОМ ПРОРЫВЕ (1916)
В кампании 1915 года русская конница понесла относительно небольшие потери. Разумеется, относительно пехоты, которая успела по нескольку раз сменить состав своих полков. Последние кадры предвоенного времени, оставшиеся в строю после кровопролитных операций 1914 года, погибли именно в 1915 году. Конные же полки еще имели в своих рядах почти половину кадровиков. Во-первых, это обстоятельство объясняется тем фактом, что в современной войне главный упор делается на огонь. Развитие огнестрельного оружия — винтовки и пушки — сделало это оружие вдобавок еще и скорострельным. Скорострельные орудия и пулеметы сделали поле сражения, по выражению А.А. Свечина, «пустым». Отныне на поле непосредственного боя господствовала пуля, а не человек. Убедившись в невозможности кавалеристов атаковать посредством конного «шока», командование стало беречь кавалерию, оставляя на ее долю производство лишь частных атак на различных участках фронта с целью выручки отступавшей пехоты.
Вдобавок ко всему, стоит напомнить, что в кавалерию традиционно брали лучших людей из запасных подразделений. Поэтому задача сбережения кавалерии постепенно, к лету 1915 года, окончательно заняла приоритетное место в умах высших военачальников перед использованием конницы в общевойсковом бою. Попытка массового применения кавалерийских корпусов, объединенных в конную армию, в ходе ликвидации Свенцянского прорыва, не принесла всех тех плодов, что должна была бы дать. Конечно, русские остановили наступление противника, выиграв темпы развития операции и закрыв дорогу в тыл русского Западного фронта подоспевшими резервами.
Однако кавалерия действовала вяло и нерешительно, что обусловливалось уже качествами кавалерийских начальников. В связи с этим представляется неоптимистичной точка зрения Б.М. Шапошникова в отношении ген. В.А. Орановского, возглавлявшего в сентябре 1915 года эту конную армию. Б.М. Шапошников так говорил о генерале Орановском, с которым вместе служил перед войной, сравнивая его со своим командиром — начальником 1-го кавалерийского корпуса в 1914 году ген. А.В. Новиковым: «Как начальник дивизии, Орановский всегда брал на себя ответственность за принимаемые решения, учил дивизию и, нужно сказать, действительно сделал из нее хорошее боевое соединение. Плоды его работы во время войны пожинал уже Новиков, считавший себя чуть ли не русским Маратом. Как офицер Генерального штаба Орановский был деятельным, опытным, тактичным… более заботливого начальника я не встречал… Орановский был на голову выше иных генералов русской армии и с незапятнанной честью, как у его бывшего начальника генерала Жилинского»[292]. Понятно, что «иных генералов» в русской армии периода Первой мировой войны, к сожалению, хватало. Возможно, что ген. В.А. Орановский был хорошим офицером Генерального штаба и «с незапятнанной честью». Но в любом случае на высоком посту начальника нескольких кавалерийских корпусов он не оправдал надежд. Поэтому, наверное, справедливо, что высшей точкой карьеры генерала Орановского, не сумевшего объединить усилия двадцати тысяч сабель под Свенцянами, стала должность командира кавалерийского корпуса.
Соответственно, конница из средства развития успеха в решающий момент боя постепенно превратилась в средство преследования только в условиях значительного поражения врага, доходящего до полного материального и морального разгрома. Если на Западном фронте, во Франции, кавалерия вообще довольно быстро сошла на нет ввиду малой протяженности фронта и его чрезвычайной насыщенности техникой, то на Востоке масштабы борьбы и относительная бедность противоборствующих сторон в техническом отношении позволяли использовать кавалерию в несравненно большем объеме. Правда, этого-то сделать как раз и не удалось.
Напомним, что к началу мировой войны русская конница воспитывалась по устаревшим стандартам — как вполне самостоятельный род войск. Именно так русские кавалеристы воевали еще с Наполеоном. Что бы ни провозглашалось в уставах, однако на деле русская кавалерия вовсе не училась взаимодействию на поле боя с пехотой и артиллерией. Именно этим, то есть довоенной подготовкой конницы и косностью мысли ее начальников, и объясняется малое и, как правило, необоснованное использование кавалерии в годы войны. Первоначально, в маневренный период войны, конница служила для войсковой разведки, но и тогда неприятельская завеса настолько плотно закрывала свое расположение, что усилия кавалеристов оказывались тщетными. Авиация годилась гораздо больше. Что же касается боя… Сознавая непригодность конного удара по противнику непосредственно на поле боя, а также и не умея использовать кавалерию в качестве средства развития успеха в оперативном масштабе, русские военачальники предпочитали использовать конников либо как ездящую пехоту, либо не использовать вовсе, держа кавалерийские дивизии в качестве резерва.
Все успехи кавалеристов выпадали на долю небольших подразделений — до полка. Конные атаки на опешившую неприятельскую пехоту, а также несколько дивизионных кавалерийских боев с австрийцами не изменяют общей картины: ни дивизии, ни тем более конные корпуса ничем особенно выдающимся себя не проявили. По крайней мере, в том смысле, что могли бы иметь в случае более правильного тактического и оперативного применения конницы в общеармейских операциях. Громадные (относительно общих представлений, разумеется) конные группы ген. Г. Хана Нахичеванского в Восточной Пруссии в 1914 году или ген. В.А. Орановского под Свенцянами в 1915 году особенного успеха также не имели.
Теперь же, в 1916 году, замыслив широкомасштабный прорыв неприятельской обороны на Востоке усилиями трех русских фронтов, русское командование намеревалось исправить прошлые ошибки. Начальник штаба Верховного Главнокомандующего ген. М.В. Алексеев планировал после производства прорыва бросить в него конные массы. Ведь кавалерия еще сохраняла в своем составе кадровых солдат и офицеров, в отличие от пехоты, где кадровые офицеры занимали должности не ниже батальонных командиров, а кадровые нижние чины были чрезвычайно редки. Не являясь специалистом в использовании конницы, генерал Алексеев отдал подготовку развития успеха в прорыве в компетенцию фронтов. Про войска Западного (ген. А.Е. Эверт) и Северного (ген. А.Н. Куропаткин) фронтов и говорить нечего: там вовсе ничего не сделали. Армии Северного фронта вели локальные бои, а прорыв армий Западного фронта под Барановичами провалился. Таким образом, применительно к кампании 1916 года следует говорить только о Юго-Западном фронте (ген. А.А. Брусилов), чьи армии достигли выдающегося успеха в Луцком (Брусиловском) прорыве.
Общая численность конницы Юго-Западного фронта к моменту майского наступления достигала внушительной цифры в более чем шестьдесят тысяч сабель — до половины всей конницы Действующей армии. Сосредоточение половины русской кавалерии на Юго-Западном фронте обусловливалось прежде всего условиями местности. Северный фронт должен был наступать в болотах и узких дефиле, где применение больших конных масс было по определению невозможно. Западный фронт наносил главный удар, для чего ему передавалась большая часть тяжелой артиллерии. В то же время армии Юго-Западного фронта располагались на широком фронте южнее Полесья, имели против себя более слабого по сравнению с немцами противника — австрийцев. Кроме того, главнокомандующий армий Юго-Западного фронта сам был кавалеристом. Надо сказать и то, что два кавалерийских корпуса генерала Брусилова располагались на стыке двух фронтов, закрывая географически неудобный «провал» Полесья.
Австрийцы могли противопоставить войскам Брусилова около двадцати семи тысяч сабель. Таким образом, русские имели более чем двукратное превосходство над противником в коннице, что позволяло с успехом использовать кавалерийские корпуса после вероятного успеха в прорыве неприятельской обороны. Конечно, производя этот подсчет, надо знать, что общая цифра складывается как из отдельной армейской конницы (корпуса и дивизии), так и войсковой конницы. Но в любом случае двукратный перевес русской стороны в саблях не подлежит сомнению. Как сказано, большая часть русской кавалерии была сведена в кавалерийские корпуса, а ряд более мелких кавалерийских подразделений находился в распоряжении корпусов и дивизий в качестве войсковой конницы. Кроме того, несколько кавалерийских дивизий находилось в резервах армий и фронта (12-я кавалерийская дивизия ген. барона К.-Г. Маннергейма). По армиям конница распределялась следующим образом:
— 8-я армия (ген. А.М. Каледин): 4-й кавалерийский корпус ген. Я.Ф. фон Гилленшмидта в составе 9000 шашек, 13 000 штыков, 112 пулеметов, 82 орудий. Также 8-й армии передавался 5-й кавалерийский корпус ген. Л.Н. Вельяшева в 6000 шашек, 1300 штыков, 31 пулемет. 12-я кавалерийская дивизия непосредственно перед ударом была передана из резерва фронта в резерв командарма-8. Всего в 8-й армии насчитывалось 23 000 шашек, считая и войсковую конницу;
— 11-я армия (ген. В.В. Сахаров): Заамурская пограничная конная дивизия ген. Г.П. Розалион-Сошальского в 4000 шашек. Всего в 11-й армии — 6000 шашек;
— 7-я армия (ген. Д.Г. Щербачев): 2-й кавалерийский корпус великого князя Михаила Александровича в 6000 шашек при 26 пулеметах и 20 орудиях. В резерве командарма-11 находилась 6-я Донская казачья дивизия ген. Г.Л. Пономарева. Всего в 7-й армии — 12 300 шашек;
—9-я армия (ген. П.А. Лечицкий): 3-й кавалерийский корпус ген. графа Ф.А Келлера в 11 000 шашек при 24 пулеметах и 20 орудиях. Резерв командарма-9 составляла Кавказская Туземная конная дивизия ген. князя Д.П. Багратиона. Всего в 9-й армии насчитывалось 19 000 шашек.
Все орудия в конных частях были легкими и, как правило, конными. Кроме того, как видно из перечисления конных частей, большую часть конницы получили фланговые армии — 8-я (северный фас) и 9-я (южный фас), — которые получали главные задачи. На плечи войск 8-й армии ложилась задача главного удара на Юго-Западном фронте. А войска 9-й армии своими успешными действиями должны были побудить Румынию вступить в войну на стороне Антанты. Таковы были задачи, поставленные перед фронтом Ставкой, и затем эти задачи были спущены вниз, в армии фронта.
Очевидно, что решающая роль в поддержке предстоящего прорыва отводилась той конной массе, что находилась в 8-й армии ген. A.M. Каледина. Прежде всего это относится к 4-му кавалерийскому корпусу ген. Я.Ф. Гилленшмидта. Состав 4-го кавкорпуса:
— к 22 мая в составе 8-й армии: 16-я кавалерийская дивизия ген. Н.Г. Володченко, 2-я казачья Сводная дивизия ген. П. Н. Краснова, 3-я Кавказская казачья дивизия ген. П.Л. Хелмицкого, 7-я кавалерийская дивизия ген. Ф.С. Рерберга. Общая численность: 9126 шашек, 13 272 штыка (+1128 в командах), 112 пулеметов, 82 орудия;
— к 19 июня в составе 3-й армии: 16-я кавалерийская, 3-я кавалерийская (ген. Е.А. Леонтович), 2-я казачья Сводная, Забайкальская казачья (ген. И.Д. Орлов), 3-я Кавказская казачья, 1-я Кубанская казачья (ген. А.Д. Кузьмин-Короваев) дивизии. Общая численность: 15 504 шашки, 2268 штыков в командах, 97 пулеметов, 54 орудия[293].
Организация прорыва неприятельской обороны в 8-й армии носила характер образования сильных групп на различных направлениях, объединенных общей целью. В качестве цели ставился захват мощного железнодорожного узла — Ковель, с намерением развития прорыва навстречу удару Западного фронта, который должен был совместно с армиями Северного фронта опрокинуть германцев и развивать наступательную операцию на виленском стратегическом направлении. Следовательно, захват Ковеля предполагался как промежуточный этап между достижениями тактической (уничтожение противостоящих сил противника на оборонительных линиях) и оперативной (развитие прорыва в Польшу) задач.
Ударная группа 8-й армии, получившая условное наименование Ровненской группы, состояла из 8-го армейского корпуса В.М. Драгомирова, 32-го корпуса ген. И.И. Федотова, 39-го корпуса ген. С.Ф. Стельницкого, 40-го корпуса ген. Н.А. Кашталинского. Эти войска должны были наступать на луцком направлении, используя наиболее удобную для удара местность, дабы затем выйти к Ковелю с юга. Для атаки непосредственно на Ковель сосредоточивалась группа ген. А.М. Зайончковского в составе 3-го армейского корпуса и 5-го кавалерийского корпуса. То есть очевидно, что конница должна была развивать успех прорыва 30-го армейского корпуса — одного из лучших корпусов русской Действующей армии. Еще севернее располагалась Сарненская группа — 4-й кавалерийский корпус ген. Я.Ф. фон Гилленшмидта, поддерживаемого 46-м армейским корпусом ген. Н.М. Истомина.
Казалось бы, что организация предстоящего прорыва являлась правильной. Ударная группа движется на Ковель обходом через Луцк, в то время как еще две группы, в каждой из которых сосредоточен армейский корпус и кавалерийский корпус, движутся на Ковель. Согласно замыслу штаба фронта конная масса должна была ударом на Ковель не только занять данный железнодорожный узел, но и выйти в тыл той разгромленной неприятельской группировке, что будет отброшена от Луцка, где наносится главный удар, к Ковелю. Однако все было не так просто. Дело в том, что сама по себе взятая конница не могла прорвать австро-венгерскую оборону. Кавалерия предназначалась для развития успеха после того, как тактическая зона неприятельских оборонительных рубежей будет прорвана и занята пехотой при поддержке артиллерии. Как видим, задача прорыва возлагалась на армейские корпуса (30-й и 46-й), а развитие прорыва — наг кавалерийские корпуса (4-й и 5-й).
Как указано, 4-й кавалерийский корпус ген. Я.Ф. фон Гилленшмидта, располагавшийся севернее Ковеля, поддерживался 46-м армейским корпусом ген. Н.М. Истомина. То есть формально все было правильно. Изюминка заключалась в слабом кадровом составе этой пехоты. В 46-й корпус входили второочередная 77-я пехотная дивизия ген. В.Г. Леонтьева, сильно разбавленная новобранцами после боев 1915 года. А также — только что образованная из ополченцев и новобранцев 100-я пехотная дивизия ген. С.И. Гаврилова. Более того — 100-я пехотная дивизия по численности являлась половинной, представляя собой одну бригаду.
И это еще не все. Подразделения 4-го кавалерийского корпуса вместе с 60-километровым участком фронта были переданы в состав 8-й армии тогда, когда план предстоящего наступления был уже разработан в штабе армии. Почему-то сейчас принято возлагать все ошибки и недочеты в организации прорыва на штаб фронта и лично генерала Брусилова, в то время как все успехи отдаются штабу 8-й армии и ее командующему генералу Каледину. Это несправедливо. Так, что касается кавалерии, то ген. A.M. Каледин, сам являвшийся кавалеристом и вступивший в войну начальником 12-й кавалерийской дивизии, был сторонником того мнения, что конница должна всего лишь навсего обеспечивать пассивный северный фланг армии — прямо напротив Ковеля.
Передача 8-й армии 4-го кавалерийского корпуса означала, что конная масса должна будет нанести свой удар по врагу. Поэтому 5-й кавалерийский корпус должен был наступать вслед за 4-м кавкорпусом, а также в конную группу (ее мы будем условно называть группой Гилленшмидта) были переданы пятьдесят дополнительных легких трехдюймовых орудий. Штаб фронта еще предполагал, что после успеха прорыва главной группы на луцком направлении тяжелая артиллерия, которой в войсках Юго-Западного фронта катастрофически не хватало, — 168 орудий на четыре армии, так как львиная доля тяжелых батарей была отдана Западному фронту ген. А.Е. Эверта, — будет переброшена в группу Гилленшмидта. Правда, этого так и не произошло.
Имела ли право на существование такая группировка конницы 8-й армии в Брусиловском прорыве? Ведь стоит напомнить, что приданная группе Гилленшмидта пехота была исключительно слаба, предварительной подготовки прорыва не проводилось, а тяжелая артиллерия отсутствовала. Так, участник войны, в будущем эмигрант-белогвардеец, являвшийся непримиримым врагом Советского Союза, Е.А. Месснер писал, что такая группировка явилась бессмысленной. Месснер указывал: «…планом генерала Брусилова, который хочется назвать невежественным уже потому, что главнокомандующий, располагая 13 кавалерийскими дивизиями, все 13 включает в ударные группы для атаки мощной и глубокой фортификационной системы, непосильной, может быть, и для пехоты». И далее он разъясняет подробно причину неудачи прорыва: «Прорыв фортификационной системы — дело артиллерийско-пехотное; коннице, неогневому роду войск, тут делать нечего. Ее можно приберечь для завершения битвы, когда пехота прорвется через всю фортификационную систему противника. Брусилов же забывал всю войну, что он общевойсковой (генеральный) полководец, и думал, как и в бытность свою корнетом, кавалерийским образом. Это — отличный образ военных мыслей, но для главнокомандующего фронта он не годится. Если в Черновицком сражении конница атаковала неприступные окопы, то это не значит, что план Брусилова был хорош — хороша была, изумительно хороша была конница. Нельзя также не удивиться постановкой конных дивизий в резерв Ровненской группы 8-й армии и ударных групп 7-й и 9-й армий. Их немыслимо было применить для поддержки атакующей пехоты, потому что коню не пройти в лабиринте траншей и ходов сообщения, да еще под напряженнейшим вражеским огнем. А если употребить эти конные дивизии в спешенном виде, то их огневая и ударная сила будет так незначительна, что в позиционном сражении роли большой не сыграет»[294].
Как видим, вновь главная вина сваливается исключительно на ген. А.А. Брусилова, в чем, несомненно, есть своя немалая доля истины. Но нельзя забывать, что и командармы отводили кавалерийские дивизии в резерв, не веря в успех развития прорыва конной массой. Именно командармы усадили конницу в окопы, прикрывая оголявшиеся участки фронта, так как пехота сосредоточивалась на решающих направлениях атаки, чтобы получить решительный численный перевес над противостоящим противником. Здесь вина за неумелое использование кавалерии — общая.
Напротив, именно штаб Юго-Западного фронта, передав 4-й кавалерийский корпус 8-й армии, последовательно настаивал на производстве прорыва и на этом участке, который должен был ведь организовывать не Брусилов, а штаб 8-й армии. Повторимся, что коман-дарм-8 ген. А.М. Каледин вообще не предусматривал использование конницы в прорыве,' отводя ей роль прикрытия северного фаса армейской линии. Таким же образом, кстати говоря, поступил командарм-9 ген. П.А. Лечицкий, отправив 3-й кавалерийский корпус в окопы напротив Черновиц.
Другое дело, что, настаивая на вводе большой конной массы в сражение, главкоюз должен был лично проконтролировать разрешение этой проблемы и провести надлежащую группировку конницы 8-й армии, раз уж командарм-8 не желал использовать конницу по ее прямому назначению — вводу в прорыв. Этого-то ген. А.А. Брусилов не сделал, ограничившись общими указаниями и даже больше того — отдав приказ об ударе конной массой по предварительно не разрушенной пехотой обороне врага. Такой подход не мог принести успеха. Кавалерия не может стать средством прорыва укрепленной полосы. Ее роль — средство развития такого прорыва. Давление на фланги отступающих частей противника должно перемалывать его войска и дробить сопротивление на отдельные очаги. То есть локализация до подхода своей пехоты. В любом случае прорыв конницы есть великий моральный фактор окончательного поражения врага, так как один только вопль далеко в тылу «Казаки!» способен заставить обозы побежать и забить дороги для своих отходящих войск. Для войск же главное — психологическое ощущение постоянного присутствия на фланге конницы врага, с глубоким заходом ее в тыловую зону. А в русской армии конница применялась как средство проведения редких и ограниченных по своим результатам контратак узко тактических задач.
Действительно, многочисленная конница 8-й армии — два кавалерийских корпуса — была сосредоточена на отшибе от главных сил, в стороне от атаки главной группы, на неудобной для прорыва местности. И это в то время, как конница была так нужна в центре, где австрийцы бежали, бросая оружие, и требовалось только добить бегущего неприятеля, введя в прорыв большие конные массы. Просто корпус генерала Гилленшмидта предназначался не для преследования, а для организации прорыва без поддержки тяжелой артиллерии, сквозь неприятельские позиции, укреплявшиеся восемь месяцев! Между тем уже впоследствии, в 30-е годы, было установлено, что прорыв укрепленных полос противника, насыщенных артиллерией и пулеметными точками, невозможен даже посредством легких танков. Что уж говорить о коннице!
Поэтому атака 4-го кавалерийского корпуса, в принципе, и не могла удаться. Безусловно, главкоюз ген. А.А. Брусилов постарался насытить группу ген. Я.Ф. фон Гилленшмидта пехотой — тринадцать тысяч штыков — это почти целая пехотная дивизия! Плюс 46-й армейский корпус, пусть и слабого состава. Однако генерал Брусилов не дал главного — средств для непосредственного производства прорыва: должного количества батарей, в том числе тяжелых. Легкие орудия не смогли проделать в обороне противника надлежащих брешей, и потому удар дивизий 4-го кавалерийского корпуса захлебнулся, несмотря на тот факт, что неприятельские окопы защищались спешенными кавалеристами венгерской конницы и польскими легионерами.
Действительно, штаб фронта рассчитывал, что успех конного удара будет возможен еще и потому, что противостоящая русским линия обороны занималась спешенной конницей и поляками Ю. Пилсудского. Русские были уверены в малой устойчивости войск Польского Легиона, а в 1916 году дополнительно к пехотным бригадам были сформированы еще и два уланских полка. На данную точку зрения влияло и то обстоятельство, что в 1916 году Польский Легион комплектовался преимущественно из русских подданных польской национальности. Тем не менее поляки проявили себя упорными бойцами. Ведь австрийцы обещали много, а вот смогли бы они реализовать свои обещания полякам, уже оказавшись в экономической и политической зависимости от Германии, которая не торопилась с обещаниями.
Всего противник имел на противостоящем русскому 4-му кавалерийскому корпусу участке 1, 9 и 11-ю кавалерийские дивизии, а также Польский Легион. Укрепленная полоса здесь состояла из трех линий траншей с тремя полосами проволочных заграждений по четыре ряда кольев, а также фугасы. На наиболее опасных участках окопы были усилены несколькими бетонными капонирами для пулеметов и противоштурмовых 57-мм орудий. Откуда же взялось столько огневой мощи у этих спешенных кавалерийских дивизий, оказавших русским надлежащий отпор? Ответ прост: в ходе боев 1916 года австрийским кавалерийским дивизиям придавались пехотные батальоны и даже целые полки. Это при том, что созданные еще в 1915 году при кавалерийских дивизиях стрелковые дивизионы (из спешенных конников) как раз в 1916 году были развернуты в стрелковые полки. Русская разведка отмечала, что у неприятеля «кавалерийские дивизии в рассматриваемый период превратились в полупехотные путем не только разворачивания стрелковых дивизионов в полки, но и придачи кавалерийским дивизиям пехотных батальонов и даже полков. Подобно пехотным дивизиям, и кавалерийские теперь входят в состав корпусов (армейских и конных)»[295]. Например, в 4-ю кавалерийскую гонведную дивизию графа Маренци был включен 3-й босно-герцеговинский полк, в 7-ю кавалерийскую дивизию генерала Мицевски — 16-й ландверный полк.
Соотношение сил на участке прорыва группы Гилленшмидта: русские — 14 400 штыков и 6526 сабель против 27 500 штыков и 9700 сабель. Поэтому в 4-й кавалерийский корпус к моменту наступления передали 3-ю Кавказскую казачью дивизию и 7-ю кавалерийскую дивизию. Также сюда же был переброшен 46-й армейский корпус, южнее которого находился 5-й кавалерийский корпус. Как видим, русские не имели решительного перевеса в силах и средствах, чтобы конница смогла бы прорвать неприятельскую оборону.
Необходимо сказать несколько слов о создании группировки. Еще на совещании командармов в Волочиске 5 апреля главкоюз ген. А.А. Брусилов указал (правда, последним пунктом в обширном списке указаний): «В прорыв, образовавшийся после атаки, надлежит пускать конницу, не считаясь с потерями, и направить ее в глубокий тыл противника, где конница найдет широкое поле для использования своих боевых качеств при действиях массами»[296]. 15 апреля командарм-8 представил генералу Брусилову оперативный план атаки 8-й армии. Согласно этому плану правый фланг армии должен был обеспечивать атаку по центру на Луцк, оставаясь в стороне от общего наступления. Главкоюз остался недоволен тем, что 4-й кавалерийский корпус останется вне участия в наступлении, и потому, как говорилось выше, усилил корпус еще двумя кавалерийскими дивизиями. А для поддержки сюда же был направлен 46-й армейский корпус. Затем к группе Гилленшмидта был подтянут и 5-й кавалерийский корпус.
Следует отметить, что удар конной массой на Ковель должен был проводиться по приказу Ставки. То есть, саботируя надлежащую организацию прорыва на данном участке, штаб 8-й армии пролонгировал не Брусилова, а Ставку. Так, директива начальника штаба Верховного Главнокомандующего ген. М.В. Алексеева от 18 мая гласила:
«…10. Дабы при благоприятных условиях использовать успех 8-й армии и развить действия сильным конным отрядом в направлении на Ковель, Западному фронту временно передать в состав 4-го кавалерийского корпуса 3-ю Кавказскую кавалерийскую дивизию и спешно перебросить еще одну кавалерийскую дивизию в район Высоцка — Городище на Горыни.
11. Главкоюзу полезно изыскать способы усиления этого конного отряда еще одной конной дивизией из войск своего фронта. Разработка действий этого отряда возлагается на Юго-Западный фронт, ибо самые действия должны развиваться в полное взаимодействии с задачей 8-й армии»[297].
Таким образом, передав в группу Гилленшмидта те войска, что предназначались штабом 8-й армии для пассивного обеспечения главного удара (46-й армейский и 5-й кавалерийский корпуса), штаб фронта вынуждал ген. А.М. Каледина и его помощников озаботиться организацией удара конницей на Ковель. Другой вопрос, что такой удар вряд ли мог удаться. Но ведь Брусилов пытался сделать хоть что-нибудь, чтобы использовать в наступлении конницу, а Каледин вовсе отказывался от ее использования. Непонятно поэтому, почему в наше время виновником неудачи Сарненской группы объявляется исключительно генерал Брусилов. Хуже всего было то, что кавалерийские начальники — и Гилленшмидт, и Вельяшев — сочувствовали Каледину, а не Брусилову, разделяя мысль о пассивной задаче для кавалерийских корпусов.
В качестве первоочередной цели 4-му кавкорпусу было поставлено: «…прорваться в общем направлении на Ковель с целью разгромить тыл противника, уничтожая его запасы, склады, железные дороги, внося беспорядок в его тыл, и тем способствовать продвижению 8-й армии и большему разгрому живой силы противника». Казалось бы, куда уж яснее? Однако высшими штабами забывалось, что только пехота — хорошая пехота — при поддержке мощной артиллерии может пробить оборону врага, а уже потом туда бросается кавалерия. Участник войны справедливо писал: «При прорыве укрепленной полосы противника конница сосредоточивается сзади и выжидает результаты атаки своей пехоты. Когда последней пройдены вторая и третья линии укреплений, когда противник принужден обратиться к маневру, конница атакующего стремительно бросается вперед на образовавшиеся фланги и тыл, помогая пехоте расширить прорыв. В последнюю войну зачастую с прорывом лишь одной первой линии русское командование требовало от своей конницы развития успеха, по справедливости не получая такового»[298].
Иными словами, конница должна была прорывать заблаговременно подготовленную оборону, пусть и занимаемую, как рассчитывали в русских штабах, слабым противником (спешенная кавалерия и поляки), самостоятельно. Следовательно, в группе Гилленшмидта, помимо приданных ему тринадцати тысяч штыков (против двадцати семи тысяч у противника), было только десять пехотных батальонов: фактически одна-единственная пехотная дивизия. Почему мы так считаем? Ведь ген. Я.Ф. фон Гилленшмидту была поставлена задача прорвать неприятельскую полосу, а не развить успех прорыва, уже предварительно произведенного пехотой. А в огневом отношении каждая кавалерийская дивизия есть не более двух пехотных батальонов. Пять конных дивизий — десять пехотных батальонов.
Конечно, был еще 46-й армейский корпус, но о его слабости было известно. Именно поэтому ген. А.А. Брусилов и надеялся, что кавалерия все-таки, так или иначе, наверняка с большими потерями, но сумеет прорвать австро-венгерскую оборону, а там уже исход сражения будет решен. Так, в ходе операции А.А. Брусилов сообщил М.В. Алексееву в отношении 4-го кавалерийского корпуса, что «при помощи части 77-й пехотной дивизии он имеет возможность прорвать тонкие линии спешенной австрийской конницы»[299]. Дальше должно было начаться преследование разбитого и отступающего противника. На этом этапе, в ходе боя за оборонительные рубежи, компенсируются понесенные наступающей стороной потери. Ведь только при преследовании противник несет наиболее тяжелые потери при минимуме собственных потерь преследователя. Именно таким преследователем и должна была стать конница группы Гилленшмидта после прорыва неприятельской укрепленной полосы.
Итак, повторимся, что одной из основных причин того, что 4-й кавалерийский корпус не был использован в должной мере и надлежащим образом, стало негативное отношение штаба 8-й армии к приказу штаба Юго-Западного фронта об ударе конницей на Ковель. Командарм-8 ген. А. М. Каледин вообще не сочувствовал идее прорыва неприятельской обороны конницей, а главкоюз ген. А.А. Брусилов пытался задействовать в наступательной операции все свои силы, дабы сковать противника по всему фронту и свершить ряд прорывов на различных участках, чтобы раздробить единство неприятельской обороны. Когда штабы армий подавали в штаб фронта свои предварительные планы, генерал Каледин вообще отвел 4-му и 5-му кавкорпусам плюс 30-й армейский корпус роль прикрытия правого фланга армии. А.А. Брусилов заставил 8-ю армию дать коннице наступательную задачу. В итоге генерал Каледин перевел 30-й армейский корпус ближе к ударной группе, а 5-й кавалерийский корпус — за группу Гилленшмидта, то есть отнесся к идее штаба фронта спустя рукава, не следил и не подталкивал кавалерию так, как это следовало бы сделать. Вот и вышло, что ничего не вышло.
Войска 8-й армии бросились вперед 23 мая 1916 года, после более чем суточной артиллерийской подготовки, сразу же добившись блестящих успехов при прорыве австро-венгерской обороны. Уже к исходу третьих суток противостоявшая русским 4-я австрийская армия эрцгерцога Иосифа-Фердинанда была уничтожена и рассеяна (сам командарм-4 подал в отставку) и был взят Луцк. Для развития успеха по всему фронту требовалось бить в различных точках. И вот здесь-то и находится корень проблемы, связанной с использованием многочисленной кавалерии 8-й армии в Брусиловском прорыве. Вся конница была сосредоточена севернее направления главного удара и не могла быть брошена в прорыв вслед за наступающими армейскими корпусами. Ведь только в таком случае кавалерия могла довершить победу полным разгромом противника.
Первой в Луцк ворвалась 4-я стрелковая Железная дивизия, которой командовал будущий лидер Белого движения на Юге России ген. А.И. Деникин. На своем опыте генерал Деникин мог убедиться, как сильно не хватало победоносной пехоте 8-го и 40-го армейских корпусов. В 1931 году А.И. Деникин в статье «Железная дивизия в Луцком прорыве. 1916 — 1931» писал: «Представляется необъяснимым отсутствие за фронтом намеченного прорыва сильных резервов и конной массы для развития удара… Конница 8-й армии (шесть кавалерийских дивизий из семи) располагалась в долине Стыри на второстепенном участке, крайне пересеченном, лесисто-болотистом, имея впереди немногочисленную сеть дорог-дефиле и болота Стохода… Произошло ли это от забвения принципов полевой войны, от недоверия к своей коннице или вообще от отсутствия веры в серьезный успех наносимого удара ? »[300].
Действительно, два кавалерийских корпуса получили свою собственную задачу прорыва австро-венгерской обороны. Успеху выполнения приказа главкоюза ген. А.А. Брусилова препятствовали три обстоятельства. Во-первых, командарм-8 ген. А.М. Каледин не собирался атаковать конницей, а потому штаб армии не сделал ничего, чтобы добиться победы в Сарненской группе, — не было проведено даже переподчинения начальников 4-го кавалерийского, 5-го кавалерийского и 46-го армейского корпусов единому начальнику. Атаковать должен был только 4-й кавалерийский корпус «при содействии» 46-го армейского корпуса. А 5-й кавалерийский корпус вообще оставался в стороне, не атакуя в Сарненской группе и не развивая успех Ровненской группы. Разве главная вина за это лежит на штабе фронта?
Во-вторых, слабый состав пехоты 46-го армейского корпуса и отсутствие предварительной подготовки прорыва на данном участке фронта отнюдь не могли способствовать достижению успеха. В-третьих, в группе Гилленшмидта не было тяжелых батарей, что не позволило русским во время артиллерийской подготовки ни подавить австрийскую артиллерию, ни разбить пулеметные точки. Итог — успех был поставлен в прямую зависимость от доблести войск, но ведь кавалерия все-таки не пехота и училась сражаться прежде всего в конном строю, а не в пеших цепях.
Тем не менее удар должен был состояться. На следующий день после начала наступления 8-й армии, 24 мая, главкоюз ген. А.А. Брусилов сообщил командарму-8 ген. А.М. Каледину: «Приказываю во что бы то ни стало спешить действиями 46-го и 4-го кавалерийского. Если не будет решительных, быстрых действий, то результат не будет значительный». В тот же день штаб фронта отдал следующий приказ ген. Я.Ф. фон Гилленшмидту: «Обстановка требует с вашей стороны самых решительных, быстрых действий. Обращаю ваше усиленное внимание на необходимость проникновения в глубокий тыл и перехвата линии железных дорог Ковель — Сарны, и в особенности Ковель — Луцк»[301]. Таким образом, в любом случае главкоюз возлагал на группу Гилленшмидта большие надежды.
Удар кавалерии должен был усилить степень разгрома противника — 4-й австрийской армии, а также способствовать быстрому переходу в руки русских железнодорожного узла Ковель. Задачи кавалерии при развитии прорыва: 1) конница уничтожает резервы и отходящие войска противника, не допускает создания повторной обороны в глубине, дезорганизует систему управления противника… 2) сковывает общевойсковые группировки противника, могущие поставить под угрозу успех наступательной операции в целом… 3) конница наносит противнику удары с тыла или удерживает рубежи на путях его отхода с целью обеспечить окружение и уничтожение основной группы войск противника»[302]. Все это и должна была выполнить группа Гилленшмидта, способствуя развитию главного удара на Луцком направлении.
Пока конница подтягивалась к переднему краю, перегруппировывалась артиллерия, корпуса 8-й армии продолжали развивать прорыв на Луцком направлении. Между тем группа Гилленшмидта должна была, как то требовалось теорией, ударить пехотой, прорвать неприятельскую оборону и ввести в прорыв конницу. Согласно приказу генерала Гилленшмидта от 24 мая в 22.00 77-я пехотная дивизия ген. В.Г. Леонтьева должна была этой ночью прорвать неприятельскую оборону на фронте Галузия — Костюхновка. В связи с тем, что 100-я пехотная дивизия была только образована, а по численности не превышала бригаду, ее участие в бою не предусматривалось.
Ген. Я.Ф. фон Гилленшмидт пытался до предела насытить атакующие части артиллерией. Пушки кавалерийских дивизий (так как тяжелой артиллерии не было вообще, и конкомкор-4 пытался возместить качество тяжелых гаубиц количеством легких пушек) передавались в распоряжение 46-го армейского корпуса ген. Н.М. Истомина. Так, 2-я Сводная казачья дивизия отдала восемь пушек. В 3-й Кавказской казачьей дивизии осталось четыре пушки, а в 7-й кавалерийской дивизии — восемь[303].
Для развития прорыва конница делилась на три колонны. Правая (Краснов) — 24 сотни и 6 орудий, левая (Рерберг) — 24 эскадрона и сотни и 4 орудия, резервная (Хелмицкий) — 22 сотни, 12 эскадронов, 8 орудий. Резервная колонна должна была идти за правой колонной. Здесь же находился и сам генерал Гилленшмидт.
Удар подразделений 77-й пехотной дивизии не увенчался успехом. Австрийцы (вернее, венгерские кавалеристы и поляки) отбили атаки русских, и к утру русская пехота была вынуждена отойти на первоначальные рубежи. Таким образом, все наличные резервы 8-й армии стояли на месте, в то время как в центре в связи с воронкообразным расширением фронта и потерями атакующих эшелонов уже начинало не хватать войск. С.Г. Нелипович справедливо говорит, что пять пехотных (с учетом прибывавших 23 мая) и шесть кавалерийских дивизий Юго-Западного фронта предназначались для развития успеха[304]. Однако именно эти кавалерийские дивизии были сосредоточены в группе Гилленшмидта и остались в стороне от развития прорыва.
Конечно, фактически конница и не должна расширять прорыв, для этого есть корпуса, идущие вслед за первым эшелоном атаки. Кавалерия, получив оперативную свободу действий, должна рвать тылы неприятеля. И прорваться в эти тылы в условиях позиционной борьбы конница сможет лишь после того, как поддержанная артиллерийским огнем пехота прорвет укрепленные линии неприятельской обороны, создав «оперативный мешок», в который должна вливаться кавалерия, превращая тактический успех в оперативный прорыв. Неудивительно, что и сам противник больше всего опасался массового конного удара русскими вслед за продвигающейся вперед пехотой армейских корпусов. Австрийцы ждали русскую кавалерию в районе Луцка, заранее предполагая, что остановить ее не удастся.
Никто и не мог подумать, что штаб Юго-Западного фронта бросит конницу на прорыв нетронутой австрийской обороны строго к востоку от Ковеля. Даже после того, как австро-германскому командованию стало ясно, что русская кавалерия не пойдет на Ковель с юго-востока, оно все равно не понимало, почему русские не попытались бросить конные массы на Львов через Раву-Русскую. Ведь такой ход понудил бы австро-германцев разбросать подходившие из глубины резервы по пространству, не имея сильной группы ни в одной точке обороняемого пространства. Так, из 2-й австрийской армии ген. Э. фон Бём-Эрмолли, оборонявшейся против 11-й русской армии, на поддержку 4-й армии эрцгерцога Иосифа-Фердинанда в первые несколько дней с начала русского наступления были переброшены 29-я пехотная дивизия, 92-я ландверная бригада, 21-я кавалерийская бригада. Кроме того, оборонявшиеся в центре австро-венгерские армии, что отражали атаки русской 11-й армии ген. В.В. Сахарова, вынуждены были бы постоянно оглядываться назад, помня о нависшей фланговой угрозе со стороны русского конного кулака.
Это не говоря о той панике, что вселил бы в отступавшие (а порой и бежавшие) массы австро-венгров удар русской кавалерии в «прореху» оборонительного фронта. Нельзя не признать, что морально надломленные поражением в тактической зоне прорыва войска 4-й австрийской армии не смогли бы оказать надлежащего отпора свежей русской массе, что представляла из себя кавалерия. Также, вероятнее всего, конница сумела бы увеличить трофеи 8-й русской армии, элементарно настигнув спешно отходившие на запад обозы и, что самое главное, артиллерию 4-й австрийской армии. По итогам кампании австрийцы с недоумением и радостью сообщают: «Мысль, что Брусилов со своей многочисленной конницей может достигнуть Ковеля, обойдя Луцк и Тор-чий, или что он может прорваться в юго-западном направлении на Львов через зиявшую брешь и поставить под угрозу фланг галицийского фронта противника, к счастью оборонявшихся, от него ускользнула»[305].
Действительно, австрийская армия была уже не та, что в начале войны. Безусловно, за зиму австрийцы тоже отдохнули и обучили резервы, однако это все равно были не перволинейные войска образца 1914 года. Поэтому и кавалерийский рейд мог бы увенчаться большим успехом, так как боевая устойчивость австрийской пехоты была ниже, чем в 1914 году. На этом и строился расчет штаба фронта после того, как стало ясно, что пехота 46-го армейского корпуса не сумела проложить конным корпусам дорогу вперед. Главной целью являлся прорыв сам по себе, невзирая на число потерь, так как успех компенсировал бы все потери: Ковель был необходим для продолжения наступления навстречу армиям Западного фронта ген. А.Е. Эверта. Участник войны впоследствии писал: «Наличие в маневрирующей части ударной группы крупных конных частей для успеха и развития прорыва как прямо в тыл (например, к важному железнодорожному узлу), так и для углубления обхода участков оборонительной полосы, примыкающих к прорыву и обходимых маневрирующей частью ударной группы, может увеличить в несколько раз общий результат маневра в смысле достижения основной цели боя — уничтожения живой силы и захвата его средств борьбы»[306].
Следовательно, штаб фронта не забывал и не мог забыть о группе Гилленшмидта, даже и получая оптимистичную информацию из всех четырех армий фронта. Так, 25 мая главкоюз ген. А.А. Брусилов вновь сообщал командарму-8 ген. А.М. Каледину: «Еще раз повторяю мое непреклонное требование 4-му кавалерийскому корпусу немедленно, во что бы то ни стало пробиться и произвести набег, не выжидая результата для 46-го корпуса. Пробиться должно на линии Кухоцка Воля, Езерна, Серхов, слабо занятой спешенной конницей. Если Гилленшмидт это выполнить не может, то сменить, назначить Володченко». Как видим, штаб фронта уже засомневался в том, что кавалерийские начальники настроены на решительный удар, раз в указании штабу армии проскальзывает вероятность смены командования 4-го кавалерийского корпуса.
На следующий день требования главкоюза повторились: «Прошу передать генералу Гилленшмидту мое полное неудовольствие его слабыми действиями и плохой распорядительностью. Есть моменты, когда энергия должна быть всесокрушающая, а действия конницы в таких случаях должны быть нахальны и дерзки». Действительно, расширять удар на Луцком направлении было нечем: 12-я кавалерийская дивизия еще не выдвинулась вперед, а 4-й и 5-й кавалерийские корпуса — двадцать тысяч шашек — продолжали бездействовать. Директива штаба фронта от 26 мая гласила: «Всей кавалерии, в особенности 4-му корпусу, во что бы то ни стало, невзирая ни на какие потери, пробиться в тыл противника…»[307].
Почему еще генерал Брусилов так подталкивал вперед свою многочисленную кавалерию? В Луцком прорыве русские боялись потерять фланги между армиями и корпусами. Прежде всего это относилось к 8-й армии, атаковавшей на широком фронте и вскоре после начала наступления распылившей свои ударные группы в пространстве. Между тем, понеся большие потери в тактической глубине обороны, австрийцы были принуждены отводить свои войска на промежуточные рубежи. Чтобы не допустить организованного отхода неприятеля, было необходимо немедленно перейти в преследование конницей, дабы окружить и уничтожить врага еще до его выхода на новый рубеж и последующего закрепления на нем. Также немедленное преследование не дает противнику возможности соединиться с подходящими резервами и перейти к жесткой обороне. Цель преследования — расчленение, окружение и последующее уничтожение отходящих неприятельских группировок.
Нельзя было забывать, что к Ковелю уже подходили эшелоны с германскими подкреплениями. В случае приостановки атаки 8-й армии немцы успевали сцементировать развалившуюся оборону австро-венгров. Болотистая местность, прикрывающая разливом реки Стоход Ковель, способствовала обороне. В итоге так и получилось, когда конница не сумела прорвать оборону противника, наступление Ровненской группы корпусов было приостановлено, что позволило австро-германцам укрепить свои позиции перед Ковелем, превратив их за лето в укрепленный район, насытить боевые порядки артиллерией и пулеметами. Уже 3 июня немцы нанесли ряд сильных контрударов по корпусам 8-й русской армии, остановив их продвижение и вынудив русских перейти к обороне.
Возможно, что определенной ошибкой стало неподчинение генерала Гилленшмидта генералу Истомину. Нельзя забывать, что «основным правилом для ввода кавалерии в действие при развитии прорыва является обязательное проведение ее частей через руки пехотных начальников, делавших прорыв»[308]. Однако войска действовали порознь. И объединял их действия конкомкор-4 ген. Я.Ф. фон Гилленшмидт, не сочувствовавший, как говорилось выше, идее удара кавалерийской массой на Ковель. Возможно, что комкор-46 ген. Н.И. Истомин сумел бы заставить конницу броситься вперед и выполнить приказ штаба фронта, не отвлекаясь на потери.
Стремительность наступления конницы не дает противнику возможности совершить перегруппировку, чтобы парировать натиск наших войск, собрать свои войска в один кулак и восстановить нарушенную систему управления своими войсками. Главная задача прорывающейся в глубь обороны неприятеля конной массы — дезорганизация неприятельского управления, разгром тылов, деморализация противника, перехват путей отхода его войск, нарушение коммуникационных линий. Хотя, повторимся еще раз, могла ли кавалерия проложить сама себе дорогу через оборону противника? Не были бы напрасными потери кавалеристов при такой атаке? Узнать этого не удастся, так как атака 4-го кавалерийского корпуса носила компромиссный характер — одной дивизией, без должного напряжения всех сил и надлежащей организации прорыва. Советский исследователь справедливо заметил, что в позиционной войне роль конницы «заключается в использовании успеха, уже достигнутого другими войсками. Попытка дать ей самостоятельную задачу по прорыву неприятельского расположения в первоначальной стадии операции была бы, конечно, смелым решением, но в то же время и самым неудачным ее использованием (4-й кавалерийский корпус в 8-й армии во время майского наступления генерала Брусилова в 1916 году)»[309].
В тот же вечер, 26-го числа, ген. Я.Ф. фон Гилленшмидт отдал приказ об ударе всем корпусом вследствие того, что 46-й армейский корпус застрял и не может пробить брешь в обороне противника, чтобы пропустить в прорыв конницу. Однако для наступления были выделены только казаки, а остальная кавалерия стояла в резерве, ожидая результатов. Понятно, что казачья дивизия, имевшая еще меньше огневых возможностей, нежели 77-я пехотная дивизия, хотя и при превосходстве в качестве человеческого состава, не могла иметь успеха. Атака 2-й казачьей Сводной дивизии ген. П.Н. Краснова захлебнулась под огнем венгерских пулеметов, и генерал Гилленшмидт отказался от ее продолжения, дабы не терять зря войска, так как стало ясно, что прорваться самостоятельно коннице не удастся. Да ведь и сам командарм-8 ген. А.М. Каледин считал, что группе Гилленшмидта прорваться не удастся.
Дело в том, что в условиях значительного насыщения оборонительной полосы противника огневыми средствами — артиллерией и пулеметами — конница должна была отныне действовать не в тактической, а в оперативной зоне неприятельской обороны. То есть пехота при поддержке артиллерии должна была пробить брешь во вражеской обороне, расширив ее на всю глубину, после чего в прорыв должны были быть введены конные массы. Именно так и рассматривали в теории применение кавалерии русские военачальники. Однако, к сожалению, применить свои мысли на практике так и не удалось.
Точно так же понятно, почему ген. Я.Ф. фон Гилленшмидт держал большую часть своего корпуса в своеобразном резерве — чем бы он стал занимать Ковель, понеся несообразные потери при преодолении обороны противника? Суть вопроса в том, что атаки 77-й пехотной дивизии и спешенной конницы должны были быть согласованы. Но русские атаковали по очереди, что и стало причиной общего неуспеха. Германский участник войны указывает, что ввод кавалерии в прорыв труден прежде всего выбором момента для этого. «Прежде всего, необходимо соблюдение основного принципа, что конница не должна нести больших потерь во время самого прорыва, дабы она не была лишена возможности выполнить дальнейшее и главные свои задачи… прорвавшись возможно глубже, заставить противника высаживать свои резервы в дальнем тылу и вводить их в бой по частям и беспорядочно, по мере того, как они прибывают к полю сражений. Этим противник будет лишен возможности предпринять согласованное контрнаступление»[310].
А ведь как раз на Австрийском фронте для применения конницы создавались наиболее благоприятные условия! Основная оборонительная нагрузка у австрийцев ложилась на первую полосу обороны, ту самую, что была прорвана русскими в течение трех дней с начала наступления. Второй эшелон русских корпусов взял штурмом вторую линию, а третьей линии у австрийцев просто не было. Если немцы львиную долю мощи отводили на вторую полосу, что и позволяло им успешно отражать русские атаки поддерживаемыми тяжелой артиллерией контрударами из глубины, то австрийцы сами «помогали» русским устройством и предназначением своих оборонительных линий. Тем не менее главкоюз и подчиненные ему командармы не сумели сосредоточить конницу Юго-Западного фронта на направлениях основных усилий по прорыву вражеской обороны. Так, части 5-го кавалерийского корпуса ген. Л.Н. Вельяшева держались в резерве вслед за 4-м кавалерийским корпусом. То есть, с одной стороны, в прорыв должно было быть введено сразу два конных корпуса — до двадцати тысяч сабель. Однако самостоятельно прорвать оборону противника конница заведомо не могла, а потому была обречена на неучастие в развернувшейся операции на ее первоначальной стадии.
Уже после войны, в своих воспоминаниях, главкоюз сожалел, что не сменил генерала Гилленшмидта еще до начала наступления. Генерал Брусилов считал, что неуспех удара на ковельском направлении Сарненской группой всецело зависел от личности конкомкора-4. Действительно, имеются свидетельства, что генерал Гилленшмидт являлся человеком, мягко сказать, противоречивым. Так, будущий Донской атаман в период Гражданской войны ген. А.П. Богаевский вспоминал, что уже в мирное время Гилленшмидт «обращал на себя внимание некоторыми странностями, одной из которых были ночные путешествия по казармам и конюшням и сон днем». Далее А.П. Богаевский сообщает, что «в Великую войну, уже будучи командиром кавалерийского корпуса, он держал себя иногда так странно, что однажды его начальник штаба генерал Черячукин, доведенный до отчаяния его поведением, вынужден был доложить об этом командующему армией… ночью командир корпуса, под влиянием какой-то бредовой идеи, приказал своим вестовым арестовать командующего армией со всем штабом. Поднялся большой переполох, дело, однако, как-то замяли…»[311].
И все-таки, наверное, валить все ошибки на нижестоящего командира — это неверно. Ведь штаб фронта, желая прорвать Ковельский фронт, стал перебрасывать тяжелую артиллерию 8-й армии из-под Луцка в группу Гилленшмидта. В итоге ударные корпуса А. М. Каледина оказались без поддержки тяжелых гаубиц, а организовать кавалерийский прорыв на ковельском направлении в кратчайшие сроки было в любом случае невозможно. На наш взгляд, сетования А.А. Брусилова на желательность смены генерала Гилленшмидта здесь ни к чему: любой другой командир мог уложить на колючей проволоке хоть весь корпус, но добиться выполнения задачи штаба фронта по прорыву к Ковелю с севера он все равно не имел возможности; «прорыв, производимый пехотой для уходящей в рейд конницы, должен быть не только достаточно широк, но и глубок, ибо при дальности современного огня и расположения войск в глубину конница может не только застрять, но и оказаться в тяжелом положении, в случае если бы противник своевременно подтянул к месту прорыва резервы и взял бы втянувшуюся в брешь кишку конницы под перекрестный огонь…»[312].
Если учесть, что по плану операции после прорыва кавалерийские корпуса должны были вдобавок форсировать Стоход и пересечь железную дорогу, то становится ясно, что 4-й и 5-й кавалерийские корпуса не могли выполнить задачи высшего командования просто потому, что не было пехоты, способной пробить хоть малую брешь для того, чтобы конница могла броситься в тыл противника. Начальник штаба Юго-Западного фронта ген. В.Н. Клембовский указывает даже, что «выбор Гилленшмидта был сделан лично Брусиловым, хотя начальник штаба фронта (то есть сам Клембовский. — Авт.), знакомый с деятельностью кавалерийской дивизии генерала Гилленшмидта во время наступления к Сану, докладывал, что на такую роль он не годится и надо назначить другое лицо, например генерала Володченко»[313].
Впрочем, качества ген. Я. Ф. фон Гилленшмидта как относительно крупного военачальника действительно были невысоки, что он и докажет во время наступления в середине июня, не сумев поддержать удавшиеся атаки пехоты севернее Ковеля. Тем не менее А.А. Брусилов не сменил Я.Ф. фон Гилленшмидта, отдав это на откуп армейского командования. Поэтому жалобы главкоюза задним числом тем более лишены основания. Кроме того, нельзя не отметить, что, невзирая на все свои недостатки, генерал Гилленшмидт являлся боевым офицером. Ген. П.Н. Краснов — непосредственный подчиненный Я. Г. фон Гилленшмидта — сообщает, что конкомкор-4 очень часто приезжал во вверенные ему соединения и со своим штабом «жил почти на самой позиции»[314]. Большинство командиров корпусов вообще не бывали на передовой, предпочитая командовать из глубокого тыла. Пример — штаб группы ген. П.С. Балуева в период проведения Нарочской наступательной операции марта 1916 года, располагавшийся в тридцати километрах от передовых окопов.
Конные массы нужны были на Луцком направлении, где для них открывался оперативный простор. Понятно, что выделение львиной доли кавалерии туда, где она не могла быть использована, означало, что враг сумеет спасти то, что сочтет наиболее первостепенным: артиллерию, которая станет костяком тыловой линии обороны. Отсутствие кавалерийского преследования потрясенных и деморализованных австрийцев позволило австро-германскому командованию удержать русских в тактической зоне прорыва. А так кавалерия группы Гилленшмидта по своему оперативному замыслу явилась последствием устарелой тактической идеи наполеоновской эпохи, когда кавалерия была орудием удара-прорыва, а не маневра-обхода.
Русские не сумели обеспечить тесное взаимодействие активных участков прорыва, разделенных позиционным фронтом. 23, 24, 26 мая русская конница пыталась пробиться к Ковелю через заросли колючей проволоки, уничтожение которых не было проведено ввиду отсутствия тяжелой артиллерии и недостаточного числа даже артиллерии легкой. Не желая зря терять людей, генерал Гилленшмидт в конце концов отказался от возобновления атак. То есть выполнять указания, на которых настаивал штаб фронта, не желавший перебросить конницу туда, где она действительно могла принести пользу: на луцкое или даже львовское направление в 11-ю армию. Участник войны пишет: «Необходимость в обученной, решительной кавалерийской массе особенно чувствовалась перед прорывом у Поставы — Нарочь в марте 1916 года, а затем в Брусиловском прорыве в мае — июне 1916 года. Но могучего кавалерийского резерва не было собрано в это время для набега в тыл противника»[315].
В свою очередь, пехота из новобранцев также не сумела ничего сделать. Конечно, войска, не имевшие боевого опыта, не сумели прорвать германскую оборону. Как писал германский военный теоретик К. фон дер Гольц, «качество войск должно отвечать методу вождения их»[316]. От молодых и малообученных войсковых масс, еще неопытных в ведении современной войны, нельзя ожидать особенно энергичных действий или молниеносных бросков. Их задача — упорная оборона, пока они не перекуются боевым опытом. Для расчистки оперативного простора кавалерии требовалось поставить на острие прорыва отборные части.
27 мая позиции австро-венгров атаковала резервная колонна группы Гилленшмидта. Эта атака также не имела успеха. А 28 мая командарм-8 ген. А.М. Каледин сообщал А.А. Брусилову: «При создавшейся обстановке, когда значение форсируемого участка позиции и для противника возросло, считаю производство здесь прорыва с наличными силами без направления сюда сильной пехотной поддержки и хотя бы одной тяжелой батареи необеспеченным… Полагаю, шансов мало в указанном направлении. Лучше повременить». В тот же день, но несколько позже, генерал Каледин телеграфировал: «…Сообщаю, что генерал Истомин вполне разделяет мнение генерала Гилленшмидта и просит перенесения центра удара к его левому флангу»[317]. Таким образом, совершенно прав отечественный военный теоретик А.А. Свечин: «Таким образом, в то время как на фронте прорыва наши части свободно передвигались и только не хватало конницы для глубокого захвата тылов противника, на крайнем правом фланге конная масса производила ненужный маневр, не суливший существенных результатов»[318]. Не зря потом сетовал генерал Деникин: «Казалось, блестящий прорыв 40-го корпуса требовал немедленного развития введением резервов и кавалерии и неотступным преследованием разбитого противника… Это чувствовалось интуитивно и рядовой массой… Но две пехотные дивизии, бывшие в резерве армии и фронта, были направлены на второстепенные направления — в 30-й и 32-й корпуса, два конных корпуса сидели в болотах Стыри, а оставшаяся 12-я кавалерийская дивизия 24-го была передвинута в Петчаны (в нашем тылу), а 25-го выходила на фронт 32-го корпуса… Вместо равнения по передним — подравнивание»[319].
С другой стороны, можно ли сказать, что высшие штабы заранее ожидали того ошеломительного успеха, что выпал на долю армий Юго-Западного фронта на первом этапе Брусиловского прорыва? Наверное, все-таки командиры перестраховывались. Тем более что следовало помнить о выполнении задачи, поставленной перед Юго-Западным фронтом Ставкой, — сковывание всех возможных неприятельских резервов южнее Полесья, дабы те не могли быть переброшены на те участки, где будут наносить главный удар армии Западного фронта. Другое дело, что победа была одержана как раз «демонстрирующим» Юго-Западным фронтом, а не наносившим «главный» удар Западным фронтом. Поэтому-то в тех армиях, что выполняли главные задачи, как говорилось выше, конница обеспечивала пассивные участки фронта. А в центральных армиях кавалерия располагалась в резерве командармов и не смогла вовремя прибыть на место сражения, чтобы довершить победу ударом по глубокому неприятельскому тылу. Возможно, что П.И. Залесский также справедлив, когда говорит: «…кавалерия не была заготовлена, что и вполне правильно — так как это была только демонстрация, а не главный удар. Как вдруг демонстрация развилась так удачно, что дала… прорыв!»[320].
Так или иначе, но после нескольких дней атак, производимых неодновременно всей массой трех корпусов — 46-го армейского и 4-го и 5-го кавалерийских, — австро-венгерские войска сумели удержать свои позиции. Это — главный итог, что подвел черту под развитием тактического успеха в оперативный прорыв усилиями 8-й русской армии. Громадная масса русской конницы осталась вне прорыва, невзирая ни на понукания штаба фронта, ни на требования складывавшейся на фронте обстановки. Оставалось лишь поблагодарить войска за то, что они сумели сделать. Так, приказ по 4-му кавалерийскому корпусу гласил: «…Славные Донцы, Волгцы и Линейцы, ваш кровавый бой 26 мая у Вульки-Галузинской — новый ореол славы в истории ваших полков. Вы увлекли за собой пехоту, показав чудеса порыва. Бой 26 мая воочию показал, что может дать орлиная дивизия под командованием железной воли генерала Петра Краснова…»[321]. Сам ген. П.Н. Краснов в этом бою был ранен пулей в ногу. В будущем генерал Краснов стал вождем Белого движения на Дону. В свою очередь, генерал Гилленшмидт, находясь в составе белогвардейской Добровольческой армии, погиб в апреле 1918 года при попытке прорваться из окружения в районе колонии Гначбау недалеко от Екатеринодара.
Необходимо сказать, что упреки в адрес штаба 8-й армии тем более имеют под собой основание, если вспомнить об использовании резерва командарма. Южнее, как раз на луцком направлении, командарм-8 ген. А.М. Каледин держал в своем резерве 12-ю кавалерийскую дивизию ген. барона К.-Г. Маннергейма. Несмотря на просьбы барона скорее ввести конницу в бой, генерал Каледин не позволил 12-й кавалерийской дивизии пуститься в преследование, чем дал австрийцам спасти свои батареи. Только 27-го числа 12-я кавалерийская дивизия получила задачу форсировать Стырь к югу от Луцка, дойти до Владимир-Волынского и отсечь коммуникации противника[322].
Конечно, время было уже упущено, так как 8-я армия была приостановлена приказом штаба фронта, чтобы восстановить единство фронта между растянувшимися и понесшими большие потери пехотными корпусами. Напомним, что, невзирая на огромные потери в ходе Брусиловского прорыва, австро-венгры сумели спасти большую часть своей техники — артиллерию и пулеметы. Причина этому — неумение высших русских штабов применить кавалерию. Как справедливо заметил по этому поводу А.А. Керсновский, «став высшими начальниками, Брусилов и Каледин перестали быть кавалеристами»[323]. Но если главкоюз ген. А.А. Брусилов пытался сделать хоть что-нибудь, подталкивая конницу к атакам, то командарм-8 ген. А.М. Каледин изначально отвел коннице пассивную роль. Не грех отметить, что ни штаб фронта, ни штаб армии не предприняли той перегруппировки, что позволила бы ввести в прорыв два кавалерийских корпуса.
Более того, штаб армии даже не смог бросить вперед одну дивизию (12-ю кавалерийскую), и дело дошло вплоть до того, что конначдив-12 просил командира 6-го Финляндского стрелкового полка полковника А.А. Свечина открыть проход сквозь колючую проволоку неприятеля для своей конницы, чтобы броситься в преследование. Не имея соответствующего распоряжения, Свечин был вынужден отказать. Однако к чему же говорить о том, что в отсутствие броска конницы виновен исключительно генерал Брусилов, если Каледин не сделал ничего, чтобы пустить в преследование одну кавалерийскую дивизию?
Встает вопрос: а сумели бы вообще русские военачальники выполнить столь сложный маневр, как ввод кавалерии в прорыв, пробитый пехотой в обороне противника? Представляется, что положительный ответ на этот вопрос можно дать только в отношении как раз первого этапа Брусиловского прорыва. Ведь в этот момент развалился весь австро-венгерский фронт, все противостоящие четырем русским армиям Юго-Западного фронта войска потерпели поражение, а то и были разгромлены. В этой ситуации бросок конницы вперед мог пройти без существенных потерь в тактической зоне, что могло бы обескровить конные части еще до начала выполнения ими своей непосредственной задачи — удар по неприятельским тылам. В последующем же русские уже не имели такого шанса (возможно, кроме 9-й армии), а потому усилия общевойсковых начальников по использованию конницы могли стать самоубийственными. Пример — июльское наступление на Ковель, когда едва не погибла гвардейская кавалерия. Когда удар гвардейских пехотных корпусов на Стоходе захлебнулся, то ген. М.В. Алексеев, ничтоже сумняшеся, приказал командиру Гвардейской группы ген. В.М. Безобразову повторить удар спешенной кавалерией Гвардейского кавалерийского корпуса. Иначе говоря — не ввести в прорыв, как то предполагалось до операции, а рвать оборону немцев! Генерал Безобразов, превосходно сознававший, что прорвать оборону противника в болотах под превосходящим пулеметным и артиллерийским огнем невозможно, отказался губить еще и конницу. В итоге гвардейская кавалерия потеряла здесь только 168 человек. Участник боев на ковельском направлении говорит: «Благодаря генерал-адъютанту Безобразову, который был назначен руководить этой операцией на Стоходе, была спасена от истребления гвардейская кавалерия. Во время хода операции из Ставки, то есть генералом Алексеевым, неоднократно рекомендовалось генералу Безобразову спешить кавалерию и бросить ее в бой, иными словами, тоже на убой»[324].
То есть позиционная борьба и та тяжелейшая доля, что выпала в предшествовавших кампаниях на долю пехоты, наряду с эффектом действий артиллерии, решавшей судьбу сражений, понудили русских военачальников смотреть на кавалерию как на вспомогательный род войск. В чем-то такой подход был оправдан, однако это, конечно, не означает, что кавалерия должна была бы оставаться в тылах, выполняя пассивные задачи. В последующем штаб Юго-Западного фронта пытался ставить перед кавалерией выполнимые задачи. Как, например, в вышеописанном случае, когда гвардейская конница должна была развить успех на ковельском направлении. И, как видим, когда атака пехоты не увенчалась успехом, сама Ставка требовала бросить кавалеристов на убой. Каков был в этом смысл? Неизвестно. Правда, ген. М.В. Алексеев все-таки был генералом от инфантерии и, возможно, считал конницу чем-то вроде спешенной пехоты. Но опять-таки, как можно не учитывать своеобразия различных родов войск, находясь на столь высоком посту как начальник штаба Верховного Главнокомандующего, то есть фактически руководя русскими Вооруженными Силами при номинальном верховенстве императора Николая II?
Использование кавалерии в прочих армиях Юго-Западного фронта также не оказалось на надлежащей высоте. Конечно, эти армии не имели по два с лишним кавалерийских корпуса, а 11-я армия располагала вообще только одной конной дивизией. Но 7-я и 9-я армии получили по своему кавалерийскому корпусу, а потому можно было бы ожидать, что конница добьется своей доли успеха. Этого не произошло — нигде кавалерия по различным причинам не смогла развить прорыв. Этот факт говорит не о том, что Брусилов или Каледин оказались несостоятельными кавалерийскими военачальниками, а о том, что подобный подход к кавалерии как к вспомогательному роду войск был свойствен всему русскому генералитету. Недаром же успех действий кавалерии, как правило, ставился в зависимость не от использования ее в общевойсковом бою, а от личных качеств кавалерийского командира, командующего данным конным подразделением. Удивительная проговорка об этом обстоятельстве прозвучала из уст первого начальника Генерального штаба и одного из умнейших русских генералов, ген. Ф.Ф. Палицына, еще за год до Брусиловского прорыва. Так, в беседе с великим князем Андреем Владимировичем (запись в дневнике последнего от 18 мая 1915 года) генерал Палицын заметил: «Ни одного кавалерийского начальника хорошего нет. Я все думаю, не следовало бы хоть Ренненкампфа взять в кавалерийские начальники, это его сфера»[325]. А ведь в это время генерал Ренненкампф уже был убран из армии в связи с обвинениями его в «предательском» поведении во время Восточно-Прусской наступательной и Лодзинской оборонительной операций 1914 года.
Командарм-11 ген. В.В. Сахаров не нашел ничего лучшего, как придать свою единственную кавалерийскую дивизию 17-му армейскому корпусу ген. П.П. Яковлева. Тем самым штаб армии фактически снял с себя ответственность за действия конницы в развитии прорыва. Разумеется, что комкор-17, всецело озабоченный подготовкой собственной атаки, не думал о том, как использовать конницу, считая, что сначала еще надо прорвать неприятельский фронт. В итоге Заамурская конная дивизия ген. Г.П. Розалион-Сошальского была отведена назад, так как ее командир посчитал, что пехота не сумела пробить достаточную брешь в обороне противника. Комкор-17 согласился с генералом Сошальским. Поэтому, когда 25 мая сопротивление неприятеля под Сопановом было сломлено и враг стал отступать к Бродам, конница 11-й армии оказалась в тылу и не смогла принять участие в развернувшемся сражении.
Лишь в 7-й армии ген. Д.Г. Щербачева 2-й кавалерийский корпус, которым командовал брат императора великий князь Михаил Александрович, был введен в бой сравнительно вовремя. То есть — уже в ходе общего прорыва. Однако здесь получилась, что называется, «обратная картина»: русская 9-я кавалерийская дивизия ген. князя К.С. Бегильдеева оказалась брошенной вперед еще до того момента, как оборона противника была окончательно прорвана. То есть вместо ввода конницы в «чистый» прорыв кавалерийские полки атаковали сильно укрепленную австрийскую позицию у Порхова. Здесь оборонялась 2-я австрийская кавалерийская дивизия, сражавшаяся в пешем строю, ибо австро-венгерское командование уже к лету 1916 года спешило свою кавалерию (напомним, что и против 4-го кавалерийского корпуса ген. Я.Ф. Гилленшмидта оборонялись спешенные венгерские кавалеристы). Австрийцы были изрублена, взяты важные высоты 371 и 402, но потери были существенно выше ожидаемого. Характерно, что в этом бою дивизией командовал не князь К. С. Бегильдеев, а генерал Мошнин. А.А. Керсновский считает, что эта атака имела большое значение. Современный исследователь Ю.Ю. Ненахов также полагает, что «этот бой стал едва ли не единственным фактом грамотного применения русской кавалерии в мировую войну»[326].
С нашей точки зрения, данная оценка боя у Порхова является несколько преувеличенной. Участник этого сражения сообщает, что 9-я кавалерийская дивизия атаковала одновременно двадцатью двумя эскадронами и сотнями (то есть в резерве оставались лишь два эскадрона). При преследовании опрокинутого противника было изрублено немалое число врага и взяты орудия и пленные. Трофеями русских кавалеристов стали две гаубицы, пять зарядных ящиков, один пулемет, 2591 солдат и 37 офицеров. Собственные потери составили двадцать три офицера и пятьсот семь нижних чинов. В приказе по дивизии сообщалось: «27 мая дивизия в полном своем составе в семь с половиной часов вечера по моему приказанию пошла в атаку на стойкую пехоту противника, залегшую в окопах восточнее деревни Порхово. Полки дивизии и дивизионы конной артиллерии лихо вырвались вперед и понесли смерть и поражение противнику, засевшему в окопах, и вынудили его очистить позицию, что дало возможность нашей пехоте занять ее. Тысячи убитых и раненых лежали на поле сражения… лишь темнота ночи остановила дальнейшее преследование…»[327].
Однако австрийцы сумели отойти за реку Стрыпа и, пользуясь недостатком сил у генерала Щербачева (с началом наступления войска 7-й армии имели примерное равенство с противостоящей ей Южной армией неприятеля, при почти двухкратном превосходстве врага в мощи артиллерийского огня), сдержали порыв русских. Возвращаясь же непосредственно к сражению у Порхова, нельзя не отметить, что потери русских тоже были большими. В итоге развить тактический успех пехоты кавалерия 7-й армии так и не смогла. Ведь коннице пришлось атаковать укрепления врага, то есть не развивать успех вглубь после образования коридора прорыва, а всего лишь дополнить победу пехоты. Проще говоря, 2-й кавалерийский корпус лишь усугубил тактическое поражение австрийцев в сражении за оборонительные полосы, но в результате этого оказался совершенно выключенным для производства задачи по развитию тактической победы в оперативный прорыв. Вдобавок атака была проведена в вечернее время. Так что сражение русской конницы у Порхова действительно стало единственным выдающимся моментом русских кавалеристов в первом периоде Брусиловского прорыва, но давать ему такую оценку, что дается Ю.Ю. Ненаховым, на наш взгляд, было бы преувеличением.
Еще факт: судя по всему, вторая дивизия 2-го кавалерийского корпуса — Сводная кавалерийская дивизия — в прорыв не пошла. Во-первых, об этом не говорят исследователи, отмечая лишь блестящие действия 9-й кавалерийской дивизии. Во-вторых, далеко впоследствии один из офицеров вспоминал, что в Георгиевскую Думу, членом которой он состоял, поступило представление от начальника одной из кавалерийских дивизий (офицер не называет, ссылаясь на давность лет) на два с лишним десятка офицерских крестов Св. Георгия. Далее этот офицер сообщает, что подразделения данной дивизии вовсе не участвовали в развитии прорыва, ограничившись лишь конвоированием пленных в тыл. А потому Георгиевская Дума единогласно отклонила сразу все представление: «Всем было совершенно ясно, что эта дивизия ничего «геройского» не совершила, но хотела только воспользоваться блестящим успехом нашей пехоты, чтобы «примазаться» и урвать и себе кое-что (всего лишь около двадцати крестов!)». Не называя номера этой дивизии, автор заметки говорит лишь, что данная кавалерийская дивизия должна была атаковать вслед за прорывом неприятельской обороны Карским пехотным полком на реке Стрыпа. В мае 1916 года на местности успешного прорыва 7-й армии действовал 188-й пехотный Карский полк 47-й пехотной дивизии (ген. В. В. Болотов) 16-го армейского корпуса (ген. С.С. Савич) 7-й армии ген. Д.Г. Щербачева. Именно этот успех развивала 9-я кавалерийская дивизия князя Бегильдеева. Так как 9-я кавалерийская дивизия в развитии прорыва, безусловно, участвовала, то очевидно, что речь идет именно о второй дивизии корпуса — Сводной кавалерийской дивизии князя Н.П. Вадбольского. Более того, цитируемый выше офицер далее указывает, что через несколько месяцев в Георгиевскую Думу уже другого корпуса пришло это же самое представление, и махинация не удалась лишь потому, что этот офицер (в конце статьи, кстати, указаны только инициалы Г.Р.) уже знал об этом деле. О вероятном подлоге было немедленно сообщено всей Думе, но князь Вадбольский фактически имел все шансы на успех награждений, и ему не повезло только потому, что один и тот же офицер случайно оказался в составе обеих Георгиевских Дум. Разумеется, представление было отклонено и на этот раз, но уже с окончательным решением. Все дело в том, что начальник дивизии не сообщил, что представление уже однажды отвергалось, хотя был обязан сделать это. Так что автор статьи пишет о данной дивизии: «Ей все же повезло в том, что Дума не возбудила вопрос о производстве расследования и о привлечении начальника дивизии к ответственности за попытку скрыть от Думы полученный ранее отказ»[328].
От себя заметим лишь, что части Сводной кавалерийской дивизии впоследствии доблестно дрались, и речь здесь может идти лишь о нечистоплотности начальника дивизии — по нашему предположению, именно Сводной кавалерийской дивизии.
В 9-й армии, казалось, взяли пример с 8-й армии. Поразительно, что столь удивительным образом совпали планы командования обеих армий, имевших главные задачи в наступлении Юго-Западного фронта. Так, 3-й кавалерийский корпус ген. графа ФА. Келлера обеспечивал наступление 9-й армии с левого фланга, будучи отправлен в окопы напротив Черновиц, располагавшихся на противоположной стороне реки Прут. Такое использование конницы в качестве прикрытия вообще не лезет ни в какие ворота, ибо граф Келлер не получил никакого приказа на удар. Конечно, 9-я армия не имела резервов, но, наверное, проще было бы совсем бросить эти окопы, чем забивать их конниками: все равно австрийцы не имели возможности для контрнаступления через линию реки Прут.
В итоге, когда пехота опрокинула австрийцев под Доброноуцем, преследовать бегущего врага бросилась одна-единственная конно-артиллерийская батарея полковника Ширинкина. Батарейцы взяли австрийскую батарею, довершили разгром австрийского батальона, но на этом дело и кончилось. Конечно, сотня конноартиллеристов не могла сделать того, что натворили бы несколько тысяч сабель 3-го кавалерийского корпуса. Генерал Келлер под свою ответственность пытался форсировать Прут, однако, как и в 4-м кавалерийском корпусе ген. Я. Ф. Гилленшмидта, его отчаянная атака захлебнулась, да и не могла не захлебнуться, ибо в качестве артиллерийской поддержки конкомкор-3 имел лишь две легкие конные батареи. Русские кавалеристы, переправлявшиеся через реку под артиллерийскими ударами противника, сумели занять несколько маленьких плацдармов, но слить их в один не смогли, так как не было артиллерии. В результате 3-му кавалерийскому корпусу пришлось с большими потерями отступить.
Единственный успех в 9-й армии выпал на долю Текинского (Туркменского) полка, использованного после победы под Доброноуцем. Действительно, когда 9-я армия прорвала оборону противника, в преследование бросился только Текинский полк генерал-майора Зыкова. За время преследования в течение нескольких дней текинцы взяли в плен более четырех тысяч австрийцев и еще больше изрубили. Казачья же дивизия приказа о преследовании не выполнила. Главная причина неудачных действий конницы — ее начальники. Об атаке Туркменского конного полка (четыре сотни сабель) у деревни Баламутовка 22 мая участник войны сообщает: «Этот пример показывает, что хорошая конница, при всяких обстоятельствах, может содействовать самым решительным образом другим родам войск в бою; на важность самой тесной непосредственной связи в бою между конницей и атакующей пехотой; на великое значение решительности со стороны командного состава конницы, не считаясь с численностью врага, так как эффект несущейся конной лавины подавляюще действует даже на спокойную, выдержанную пехоту и уравновешивает численность бойцов»[329].
Кстати говоря, в плен была взята австрийская пехотная бригада, выдвигавшаяся для производства контрудара. И главное значение атаки Текинского полка состоит не в количестве трофеев, а в том, что этим ударом был предотвращен неприятельский контрудар, который имел реальные шансы на большой успех. Войска 9-й армии, продвигавшиеся вперед, могли быть остановлены лобовым ударом. Растянувшаяся по фронту русская пехота, понесшая существенные потери в период прорыва, вполне могла быть опрокинута: «Был момент, когда пехота русских осталась без поддержки своей артиллерии, но благодаря конной атаке Текинского полка катастрофа была предотвращена»[330].
Безусловно, кавалерия Юго-Западного фронта была использована самым отвратительным и бездарным образом. Военный историк пишет по этому поводу: «Кавалерия фронта (свыше 60 тыс. сабель) не сыграла своей роли в операции. Кавалерийское командование оказалось неспособным применить конницу при развитии тактического прорыва в оперативный. Часть конников вынуждена была находиться в окопах, прикрывая растянутый фронт»[331]. Не имея сильных резервов, главкоюз, как то и было принято, все-таки старался прикрыть весь свой оголившийся фронт. Той же тактики придерживались и командармы, предпочитая оставлять спешенных кавалеристов в окопах. Вряд ли противник смог бы нанести сильные контрудары по таким участкам: здесь его в таком случае ждало полное окружение. Но в эти окопы были брошены как раз кавалеристы. Таким образом, штаб фронта, собрав сравнительно большие армейские резервы на направлении главных ударов армий (особенно в 8-й армии), лишил свои войска единственного средства развития прорыва на оперативную глубину — кавалерии.
Что говорить, если и в ходе самого успешного наступления русские постоянно опасались возможного (и, добавим, в первые полторы недели вообще невероятного!) контрудара. Прежде всего — со стороны Ковеля, откуда успешный удар австро-германцев в 1915 году уже выбил 8-ю армию ген. А.А. Брусилова за линию Ковель — Луцк. А потому высшие штабы придерживали вырывавшиеся вперед корпуса и даже армии (остановка 8-й армии по просьбе командарма-11 ген. В.В. Сахарова), равняя их по отстающим подразделениям. Как будто бы забылся опыт прошлого, когда фельдмаршал Суворов в сражении на Треббии бросал в бой все, что только возможно, лишь бы только не дать французам возможности передохнуть и перегруппироваться, сосредоточившись для упорного сопротивления. Когда ты побеждаешь, а враг не имеет резервов, нужно лететь вперед на крыльях победы!
Бесспорно, что в позиционной войне главную роль играет артиллерия — тактика огневого боя. Процитируем вновь эмигранта и яростного недоброжелателя генерала Брусилова: «Но «берейтор» остался при своей вере в победоносную конницу и при своем кавалерийском пренебрежении к огню, к артиллерии. Корнет и ротмистр должны доверять сабле, полковник и генерал кавалерийские могут мечтать о «шоке», то есть о столкновении их конного строя с вражеским конным строем, но главнокомандующий фронта, составленного главным образом из пехоты и артиллерии, должен думать по-пехотному и по-артиллерийски, а не по-кавалерийски. Брусилов же думал как конник, и это была ошибка, из-за которой Луцк-Черновицкая победа оказалась разительной, но решительной, завершающей войну не стала»[332]. Иными словами, Е.Э. Месснер показывает, что А.А. Брусилов прежде всего рассчитывал на успех конного удара по еще не сломленной обороне противника. Жаль, что Месснер ничего не говорит о генерале Каледине, который вообще отказался от использования кавалерии в прорыве и не смог ввести в громадный «провал» в австрийской обороне даже и одну кавалерийскую дивизию, с которой, кстати говоря, ген. А.М. Каледин начинал войну. Наверное, дело здесь в значении личности генерала Каледина для Белой эмиграции. А следовательно — в отсутствии объективности.
Зададим еще один вопрос: а разве могла конная масса прорваться в тыл немцев севернее Ковеля, если на этом участке не было предварительного пехотного прорыва? Конница не может самостоятельно прорвать укрепленный фронт в отрыве от основных сил пехоты. Кавалерия есть средство для развития прорыва, но никак не для его свершения, что есть задача общевойскового (и в первую голову пехотного) боя. Вдобавок конные батареи кавалерийских корпусов никоим образом не могли способствовать прорыву укрепленных позиций врага. Для этого необходимо хотя бы небольшое количество тяжелых гаубиц, чтобы уничтожить неприятельскую противоштурмовую артиллерию, бьющую прямой наводкой по наступающей пехоте. А также и пулеметные гнезда.
Если главкоюз рассчитывал бросить в неприятельский тыл свою кавалерию, то ему следовало сосредоточить в районе Луцка сразу два или три конных корпуса (то есть фактически целую конную армию) и развалить ею вражеский фронт, как только австрийцы побежали на запад. Конница должна была доломать уже надломленный пехотой фронт неприятеля, растягивая его фланги от железных дорог, что лишало австро-германцев единственного средства контрманевра, которое спасало их под Ковелем. Прорвав укрепленные линии неприятеля пехотой и артиллерией, конница своим порывом не только преследует врага, довершая его разгром (в эпоху железнодорожного маневра это есть средство верное только в отношении тактики, но никак не оператики), но прежде всего создает искусственные фланги. Тем самым дробится единство сопротивления крупных подразделений противника на локальные очаги. В это же время ударные пехотные группировки создают оперативное давление на фланги врага, не позволяя ему закрепиться и перегруппироваться для сильного контрудара (частные контрудары всегда довольно легко парируются победоносными частями). Эта задача, разумеется, чрезвычайно трудная, однако летом 1916 года против австрийцев вполне решаемая.
К сожалению, командование Юго-Западного фронта подошло к задаче наступления, во-первых, с формальной точки зрения (несмотря на свою активную позицию на первоапрельском совещании, ген. А.А. Брусилов при планировании ограничился лишь возможностью частного успеха наступления армий фронта). Во-вторых, штаб фронта и штабы армий как будто бы «забыли» о возможностях кавалерии на данном театре военных действий. Во многом второе вытекало из первого: если считать, что твоя главная задача есть сковывание сил противника и его локальный разгром, то тщательной подготовкой действий подвижного рода войск заниматься действительно ни к чему. Ограничение задач своих войск тактической целью — взломом обороны противника, уничтожением противостоящей группировки и привлечением к себе резервов неприятеля — понудило русских командиров отказаться от подробного планирования достижения оперативных целей в наступлении.
Таким образом, в отношении конницы командование Юго-Западного фронта различного уровня оказалось заложником собственного оперативного планирования. Действительно, прорыв тактической глубины обороны противника в общефронтовом масштабе так и не был развит в успех оперативного характера посредством броска сильной конной группировки в неприятельские тылы. Нисколько не оправдывая собственно кавалерийское командование, большая часть которого не желала учиться взаимодействию с пехотой, раз уж не выучились до войны, нельзя не отметить, что использование конницы, намеченное генералом от кавалерии А.А. Брусиловым, было не просто далеким от идеала, но прямо-таки бездарным. Правда, командарм-8 ген. А.М. Каледин и командарм-11 ген. В.В. Сахаров, бывшие такими же генералами от кавалерии, также не оказались на высоте.
Так или иначе, но за операцию фронта прежде всего отвечает главком. На нем и главная доля вины за неиспользование конницы в той фазе прорыва, что являлось наиболее удобным для разрушения обороны противника. Такой вывод в отношении генерала Брусилова блестяще подчеркнул в своем труде А.А. Керсновский: «Этот кавалерист не нашел кавалерии… Превосходная конница Юго-Западного фронта осталась неиспользованной. Из 13 дивизий была использована лишь одна (9-я у Порхова) — и как раз на труднейшем участке. В какой триумф превратилась бы наша победа, кинься IV и V конные корпуса — 20 тысяч шашек (и каких шашек!) — преследовать наголову разбитого врага под Луцком. И уцелел бы из разгромленной армии Пфланцера хоть один человек, если бы вместо одного Текинского полка ее стал бы рубить весь III конный корпус графа Келлера? Семь кавалерийских дивизий на правом крыле фронта сидели по брюхо коня в болоте, три на левом крыле двинуты были в горы… А за уходившими неприятельскими батареями гналась горсточка наших конноартиллеристов! Нашей победе не хватило крыльев»[333].
Одним из возможных выходов могла стать своевременная передача левофланговой 3-й армии Западного фронта в состав Юго-Западного фронта, дабы русские имели возможность одновременного удара с севера и юга на город. Соответственно, 4-й и 5-й кавалерийские корпуса были бы введены в бой после того, как войска 3-й армии прорвали бы оборону противника. Впоследствии так и вышло. Ставка передала 3-ю армию, но было уже слишком поздно: Ковельский укрепленный район оказался под контролем немцев. Передав 3-ю армию ген. А.А. Брусилову, Ставка потребовала сломить оборону противника и энергичным ударом на Брест-Литовск разобщить германцев и австрийцев. Но такое драгоценное время уже было потеряно! Отлично понимавшие сложившуюся обстановку немцы своей упорной обороной, отличавшейся высокой активностью, сорвали планы русского командования.
За неимением моторизованных соединений кавалерия была единственным фактором превращения позиционной войны в маневренную: от ее действий на оперативном просторе могла зависеть судьба кампании 1916 года. Британский ученый пишет: «Во время Великой войны и еще два десятилетия после кавалерия все еще была мобильной военной силой, единственно способной быстро и произвольно перемещаться по открытой местности. В 1917 году танки были слишком медленны и ненадежны, механический транспорт был по-прежнему привязан к дорогам. Это очень смелое допущение, разумеется, но если прорыв мог быть совершен, развить успех могла только кавалерия. Такое быстрое развитие прорыва было настоятельно необходимо, если ставить перед собой цель — возвращение в практику мобильной войны и достижение решительной победы»[334]. Однако командование Юго-Западным фронтом не использовало своего козыря.
Причем при отсутствии значительного превосходства в живой силе и преимуществе противника в технике (артиллерия, особенно тяжелая и пулеметы) кавалерия была тем козырем, что должен был превратить победу в разгром. Дальняя, но весьма достижимая перспектива — вывод Австро-Венгрии из войны серией широкомасштабных и стремительных операций в Галиции в первой половине лета 1916 года. К сожалению, как отмечает советский исследователь, «Брусилов не создавал достаточных резервов, а имеющиеся большие массы конницы… законсервировал в окопах. Бездеятельность конницы не позволила русскому командованию изолировать район операции от прибывших резервов противника, что очень хорошо было использовано австро-германцами, которые, опираясь на свои железнодорожные возможности, почти всегда создавали равновесие сил. Развитие наступления задерживалось и не достигало решительного результата»[335].
Таким образом, прекрасная конница Юго-Западного фронта, которая могла и должна была решить судьбу прорыва, а с ним, вполне вероятно, и разгрома австро-венгерской военной машины, не была использована исключительно вследствие ошибок высших военачальников. Невзирая на ряд отдельных героических атак, ударов и успехов, в целом кавалерия фронта осталась вне рамок той роли, которую она могла и должна была сыграть в Брусиловском прорыве. Субъективная причина — неумение, а то и нежелание командиров всех уровней (от главкоюза до конкомкора-4 и отдельных начдивов) использовать конницу в прорыве тем методом, что был необходим для общего успеха, — развитие прорыва в оперативную глубину. Объективная причина — изменившиеся условия ведения военных действий, что принесли в военное искусство условия позиционной борьбы.
Встает вопрос — зачем же тогда вообще была нужна конница, столь непригодная в позиционной войне, но и столь же необходимая в войне маневренной? Вышло, что вся роль дорогого рода войск свелась лишь к несению окопной службы на второстепенных участках общего наступления. А ведь еще в 1887 году, оценивая опыт Гражданской войны в США, ген. Н.Н. Сухотин вполне справедливо писал, что «конница, надлежаще организованная, слишком дорого стоит государствам, чтобы можно было ограничиться требованием от нее выполнения только заурядных назначений. Ее сфера — грандиозные дела, поворотные моменты — кризисы в судьбе войны или боя. Только веря в то, что она по преимуществу орудие гения, орудие «богов войны», и на деле осуществляя эти верования, конница станет тем, чем она и должна быть, то есть всесокрушающим молотом в руках полководца, доставляющим победы».
Глава 8 ГЕНЕРАЛ-ИНСПЕКТОР КАВАЛЕРИИ, ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
От подпоручика до генерала от кавалерии
Первый русский Верховный Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич Младший родился 6 ноября 1856 года в семье третьего сына императора Николая I, великого князя Николая Николаевича Старшего. В родительском доме великий князь получил прекрасное домашнее образование. Также, как то было положено в семье Романовых, великий князь Николай Николаевич при рождении был награжден всеми высшими орденами Российской империи, за исключением военных — орденами Св. Андрея Первозванного, Св. Александра Невского, Белого Орла, Св. Анны 1-й степени, Св. Станислава 1-й степени. Но в любом случае великий князь Николай Николаевич должен был продолжать дело отца — службу в Вооруженных Силах России.
Родители великого князя жили недружно. Постоянные ссоры сопровождали брак великого князя Николая Николаевича Старшего и германской принцессы Александры Петровны Ольденбургской. Отец не любил сына. Поэтому, «производя впечатление твердого и волевого человека, он был на самом деле крайне впечатлительной и чувствительной натурой — неизбежное последствие бурных семейных скандалов, в которых прошло его детство… и находился под огромным влиянием своего окружения»[336].
В 1871 году великий князь Николай Николаевич поступает юнкером в Николаевское инженерное училище, откуда 5 июля 1872 года был выпущен в низшем офицерском чине — подпоручиком. В следующем году он производится в поручики и все эти годы проводит на низших командных должностях в учебном пехотном батальоне, а затем кавалерийском эскадроне. Этого, обычного для подавляющего большинства великих князей образования Николаю Николаевичу показалось мало. Поэтому молодой поручик поступает в Николаевскую Академию Генерального штаба, которая была закончена в 1876 году по 1-му разряду с малой серебряной медалью. Великий князь Николай Николаевич стал единственным членом Дома Романовых, который окончил, да еще с отличием, Николаевскую Академию Генерального штаба. В том же году великий князь Николай Николаевич производится сначала в штабс-капитаны, а затем в капитаны.
С началом русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг. августейший капитан отправляется в Действующую армию, где он занял пост офицера для особых поручений при своем отце великом князе Николае Николаевиче Старшем, который был назначен главнокомандующим русской Дунайской армии, действовавшей на Балканах. Воспользовавшись своим немалым статусом, великий князь Николай Николаевич участвует в нескольких боях начала войны.
Прежде всего молодой капитан вместе с другими офицерами был отправлен для рекогносцировки Дуная для поисков того района, где могли бы наилучшим образом переправиться на турецкий берег русские войска. После проведения рекогносцировки великий князь Николай Николаевич был прикомандирован к 14-й пехотной дивизии ген. М.И. Драгомирова, сосредоточенной в районе местечка Зимница. Дивизии генерала Драгомирова предстояло первой форсировать Дунай, так как предполагавшееся прежде место возможной переправы — у Фламанды — оказалось прикрыто сильными турецкими батареями.
Здесь великому князю было у кого поучиться. Во-первых, сам ген. М.И. Драгомиров — выдающийся русский военный теоретик и педагог, сделавший все, чтобы возродить в России изучение полководческого наследия генералиссимуса А.В. Суворова. В свое время М.И. Драгомиров читал лекции по военному делу сыновьям императора Александра II, в том числе и будущему императору Александру III. К 1876 году лишь двое выпускников Николаевской Академии Генерального штаба окончили ее с золотой медалью. Одним из них был генерал Драгомиров, выпущенный из стен Академии в год рождения великого князя Николая Николаевича. Во-вторых, добровольным ординарцем и помощником начдива-14 стал наиболее талантливый после эпохи наполеоновских войн русский полководец ген. М.Д. Скобелев. В этой войне Белому генералу, как называли Скобелева, было суждено обрести свою славу.
Вместе с Драгомировым и Скобелевым августейший капитан в ночь на 15 июня 1877 года форсировал Дунай, а затем участвовал в штурме Систовских высот и захвате города Систово, в районе которого располагался четырехтысячный турецкий гарнизон. В этих боях русские потеряли до восьмисот человек. Штаб 14-й пехотной дивизии вместе с начдивом переправился в третий рейс. За участие в переправе через Дунай и в бою под Систово великий князь Николай Николаевич был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. Тогда же ген. М.И. Драгомиров получил орден €в. Георгия 3-й степени, а отец августейшего капитана — главнокомандующий великий князь Николай Николаевич Старший — орден Св. Георгия 2-й степени[337].
Затем великий князь Николай Николаевич в составе Габровского отряда ген. Н.И. Святополк-Мирского участвовал в штурме перевала Шипка. Отряд генерала Святополк-Мирского был выделен из корпуса ген. Ф.Ф. Радецкого, чтобы оказать помощь небольшому передовому отряду ген. И.В. Гурко, наступавшему на Шипкинский перевал с юга. В ходе штурма 5 — 7 июля, где опять-таки отличился ген. М.Д. Скобелев, перевал был взят Габровским отрядом. Взятие Шипки означало, что три турецкие армии (Осман-паши в Плевне, Сулейман-паши с юга Балкан и Мехмед-Али в четырехугольнике крепостей в нижнем течении Дуная) оказались разобщены. За этот бой великий князь Николай Николаевич был награжден Золотым оружием. Июльское сражение за Шипкинский перевал стало последним боевым делом, в котором участвовал великий князь Николай Николаевич вплоть до Первой мировой войны. То есть по этим данным можно судить о собственно военном опыте Верховного Главнокомандующего перед июлем 1914 года.
Впоследствии великий князь Николай Николаевич находился при штабе главнокомандующего, своего отца. Вряд ли здесь можно было научиться военному делу и тем более таланту полководца. Дело в том, что брат царя, великий князь Николай Николаевич Старший, был назначен на свой пост только потому, что два полководца, достойных занять место главнокомандующего Кавказской армии — военный министр граф Д.А. Милютин и находившийся в отставке покоритель Кавказа князь А.И. Барятинский, — находились в конфликте друг с другом. Назначение одного из них вызвало бы гнев сторонников другой партии. Поэтому главнокомандующим и стал брат императора. Спустя несколько десятилетий с точно такой же проблемой столкнется внук императора Александра II император Николай II. Сознавая соперничество группировок внутри высшего генералитета, 20 июля 1914 года, на следующий день после объявления Германией войны России, император назначит Верховным Главнокомандующим своего дядю — великого князя Николая Николаевича Младшего.
Сам будущий император Александр III негативно оценивал деятельность главнокомандующего Дунайской армии. Так, письмо цесаревича Александра Александровича супруге от 9 января 1878 года из Действующей армии о великом князе Николае Николаевиче Старшем гласило: «С каждым днем все больше и больше приходишь к заключению, что Д. Низи — отвратительный главнокомандующий… Сам Д. Низи ничего не видит, ничего не понимает, ничего не знает, воображает, что все идет великолепно, что все его обожают и что он всему голова! Сильно же будет его разочарование, если когда-нибудь он увидит и узнает все, что было, и все, что происходит; но не думаю, что он когда-нибудь сознается, наконец, что он совершенно не способен быть главнокомандующим, недостаточно у него такта на это, и недостаточно он умен, чтобы сознать это!»[338].
Верхом действий великого князя Николая Николаевича Старшего на посту главнокомандующего стала 30 августа 1877 года Третья Плевна и поведение на военном совете 1 сентября. Тогда главком впал в панику и потребовал немедленного отступления за Дунай. Даже императору Александру II пришлось успокаивать своего разбушевавшегося и перепугавшегося брата. В итоге было решено осаждать Плевну, для чего из России были срочно вызваны резервы, в том числе гвардия и мастер осадной борьбы граф Э.И. Тотлебен. В 1915 году великий князь Николай Николаевич Младший в точности повторит своего отца, впадая в панику при неудачах и ликуя при самых незначительных успехах. А пока, спустя десять дней после Военного совета, августейший капитан был произведен в полковники.
Интересно, что история повторилась досконально. Штаб великого князя Николая Николаевича Старшего в 1877 — 1878 гг. с точностью предварил штаб Ставки великого князя Николая Николаевича Младшего в 1914 — 1915 гг. Это при том, что и отец, и сын отличались схожим характером — благородство и грубая вспыльчивость, решительность и склонность к панике, непреклонная справедливость и упрямое побуждение к фаворитизму. А.А. Керсновский говорит, что отец и сын могли бы быть неплохими главнокомандующими, но при условии, что при них будет отличный начальник штаба, чего не было ни у одного из них: «Ответственейшая должность главнокомандующего явно превышала силы и способности великого князя Николая Николаевича». Проводя далее параллели, А.А. Керсновский продолжает, что хорошим начштаба, «конечно, не мог считаться генерал [А.А.] Непокойчицкий, роль которого (подобно роли Янушкевича при Николае Николаевиче Младшем тридцать семь лет спустя) была ничтожной. Юрий же Данилов «ставки» 1877 года именовался генералом [К.В.] Левицким и пользовался дружной ненавистью всей армии»[339].
По окончании русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг. великий князь Николай Николаевич служит в кавалерии. Чтобы досконально изучить конную службу, он проходит командные посты от командира эскадрона до командира лейб-гвардии гусарского полка. В 1885 году великий князь Николай Николаевич был произведен в генерал-майоры, а еще через пять лет был назначен командиром 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. В 1884 году великий князь Николай Николаевич награждается орденом Св. Владимира 3-й степени, а в 1890 году получает 2-ю степень этого ордена.
Уже в это время в поведении великого князя начинают появляться негативные черты характера, во многом унаследованные от отца. Современник вспоминал: «В его действиях часто проявлялась крайняя вспыльчивость, доходившая иногда до бешенства, но еще была и злобная мстительность»[340]. В 1893 году великий князь Николай Николаевич производится в генерал-лейтенанты, а через два года назначается генерал-инспектором кавалерии, о чем еще будет сказано ниже. В 1894 году он получает генерал-адъютантские погоны, а в 1896 году великий князь Николай Николаевич был награжден орденом Св. Владимира 1-й степени.
6 мая 1895 года командир 2-й гвардейской кавалерийской дивизии генерал-лейтенант великий князь Николай Николаевич был назначен генерал-инспектором кавалерии. В этой должности великий князь оставался в течение десяти лет, до лета 1905 года. Как справедливо отмечается, «это назначение не являлось следствием особых заслуг или высокого профессионального роста великого князя. Должность перешла ему в наследство от отца, руководившего российской кавалерией в течение многих лет. Она принесла великому князю чин генерала от кавалерии, дала возможность совершать многочисленные зарубежные поездки в качестве главы военных миссий и заседать в Высшем военном совете. По сути дела, такое назначение было кульминацией в карьере каждого видного представителя правящего дома Романовых, которое обеспечивало ему высшие почести и определенные занятия до конца жизни»[341].
Еще в девятнадцатом столетии в целях улучшения боевой подготовки войск были учреждены должности генерал-инспекторов, которые, как правило, замещались членами императорской фамилии. Для большинства из них эти должности становились наследственными. Великий князь Николай Николаевич Младший принял эту должность от своего отца. Точно так же, от отца, великого князя Михаила Николаевича, должность генерал-фельдцейхмейстера артиллерии принял другой двоюродный дядя императора Николая II — великий князь Сергей Михайлович. Любопытно, что эти отцы, братья императора Александра II стали последними кавалерами ордена Св. Георгия 1-й степени.
Круг задач генерал-инспекторатов был весьма широк. В частности, «в обязанности генерал-инспекторов входило совершенствование уставов и наставлений по боевой подготовке каждого рода войск, наблюдение за правильным и единообразным применением уставов и наставлений, совершенствование боевой подготовки войск с учетом достижений военной техники, координация действий войск на больших маневрах, контроль за качеством командного состава своего рода войск и составление кандидатских списков для замещения вакантных должностей»[342]. В период существования Совета государственной обороны генерал-инспекторы входили в него. С 1910 года генерал-инспектораты стали подчиняться военному министру, причем великие князья формально уже не возглавляли свои ведомства. Однако фактически великие князья Николай Николаевич и Сергей Михайлович оставались действительными хозяевами в своих «родовых вотчинах» в системе Вооруженных Сил, а потому на их ответственности во многом лежит подготовка кавалерии и артиллерии как родов войск к войне.
О подготовке русской кавалерии и роли великого князя Николая Николаевича как шефа русской конницы уже много говорилось выше. Можно добавить лишь, что и в кавалерии, и в артиллерии великими князьями были допущены одни и те же ключевые ошибки. Русские войска были прекрасно подготовлены на низшем тактическом уровне — полк в коннице и дивизион в артиллерии. Но вот в использовании массирования своих средств и возможностей русские уже уступали противнику.
Поэтому если в тактическом плане русская армия часто превосходила врага, то в оперативном искусстве германцы неизменно брали верх над неповоротливой русской военной машиной. Масштабы же Первой мировой войны оказались столь велики, что тактика отошла на задний план. Тем не менее генерал-инспектор кавалерии старался внедрять все новое во вверенный ему род войск: «В войсках авторитет великого князя был необоснованно высок. Из офицеров — одни превозносили его за понимание военного дела, за глазомер и быстроту ума, другие — дрожали от одного его вида. В солдатской массе он был олицетворением мужества, верности долгу и правосудия»[343].
Под руководством и управлением великого князя Николая Николаевича был принят ряд насущных и необходимых мер по реорганизации кавалерии как рода войск и улучшению ремонтирования конского состава армии. В 1896 году великий князь выступил инициатором реорганизации Офицерской Кавалерийской школы, которая дала русской армии такого полководца, как А.А. Брусилов. Принятая по настоянию великого князя Николая Николаевича «Школа Филлиса» господствовала в подготовке русской кавалерии вплоть до упразднения конницы как рода войск в 1956 году.
Тем не менее разобщенность родов войск на инспектораты вела к их разобщенности и на поле боя. Генерал-инспекторы готовили свое ведомство в отрыве от общевойскового боя. Получалось, что русская кавалерия могла опрокинуть в конном столкновении и австрийцев, и немцев, но взаимодействовать надлежащим образом с пехотой и артиллерией не могла. Помимо того, проводимые великим князем учения и маневры концентрировались на неверных посылках. Участник Первой мировой войны характеризует деятельность генерал-инспектора кавалерии в вопросах боевой подготовки войск следующим образом: «Маневры, на которые уходило больше месяца в году, вообще приносили большую пользу, приучали к походной жизни. Но также давали, по своей условности, неправильное представление о бое, прививали частям дурные привычки, заставляли придавать преувеличенное значение числу, так как на маневрах численное превосходство, как легче всего определяемый признак, определяло успех; специально в отношении кавалерии маневры имели один недостаток: конница обычно слишком увлекалась своими частными задачами, мало заботясь об общей, принимала мало участия в общем бою; наконец, на маневрах редко практиковалось преследование после столкновения. С артиллерийским огнем кавалерия была мало ознакомлена, зная его почти исключительно по звуковым эффектам на маневрах, так как на действительных стрельбах почти никогда не присутствовала; поэтому артиллерийскому огню придавали или преувеличенное значение, или недооценивали его. В общем, кавалерия была хорошо подготовлена для боя в конном строю, недостаточно подготовлена для боя в пешем строю и комбинированного (пешего и конного) большими отрядами на широких фронтах, недостаточно знала свою роль и способы действий в совместном бою всех родов войск. Мелкие части, до эскадрона включительно, были хорошо подготовлены для разведывательной службы, но в больших отрядах недостаточно ясно и твердо было установлено убеждение, что для получения ценных результатов разведки нужно вести бой не только с конницей, но непременно и с пехотой неприятеля. Кавалерия была недостаточно напрактикована в ночных действиях, но холодным оружием владела хорошо, стреляла хуже, чем пехота. Части были хорошо спаяны и слажены»[344].
В период заведывания русской кавалерией у великого князя Николая Николаевича отчетливо проявились два фамильных качества личности — вспыльчивость и справедливость. Современник вспоминал: «Когда Николай Николаевич был генерал-инспектором кавалерии, то он часто производил инспекторские смотры кавалерийским полкам. Особенно педантично, с секундомером в руке, проверял он скорость движения каждого всадника на измеренном расстоянии определенным аллюром. Если всадник не проходил это расстояние в определенное время, то великий князь выходил из себя. Если же этот недочет повторялся несколькими кавалеристами одного эскадрона, особенно офицерами, то он очень часто в припадке раздражения разражался площадной руганью, обращаясь иногда непосредственно к офицерам. Бывали случаи, что более или менее обеспеченные офицеры, услышавшие подобное, немедленно уходили с военной службы»[345]. Действительно, генерал-инспектор кавалерии мог на маневрах самым грубым и недостойным образом накричать на любого офицера или даже прогнать целый полк или даже дивизию с маневров; но мог и извиниться перед офицером за грубость или публично признать свою несправедливость в отношении того или иного воинского подразделения. А.А Керсновский пишет по этому поводу: «Нелюбимый сын великого князя Николая Николаевича Старшего, он держался особняком в императорской фамилии, где пользовался общей неприязнью. Великий князь не привлек к себе сердец своих подчиненных. Человек необыкновенно грубый и чуждый благородства, он совершенно не считался с воинской этикой и позволял себе самые дикие выходки в отношении подчиненных ему офицеров»[346]. В войсках великого князя за глаза называли Лукавым. О подготовке же кавалерии как одного из трех основных родов войск цитата о секундомере говорит сама за себя. Вместо стрелковой подготовки и взаимодействия с пехотой и артиллерией на поле боя, вместо маневрирования по сложной местности и обучения атакам на широком фронте русских конников заставляли практиковаться в преодолении определенного расстояния простым или парадным аллюром за определенное время. Знаменитый суворовский принцип — «Учить войска лишь тому, что будет необходимо на войне» — генерал-инспектором кавалерии отметался напрочь.
В 1900 году великий князь Николай Николаевич становится генералом от кавалерии — полным генералом. Выше мог быть лишь чин фельдмаршала. В 1911 году он получил последнюю предвоенную награду, носившую почетный характер, — Портрет императора Николая II для ношения на груди, украшенный бриллиантами. В это время великий князь Николай Николаевич постепенно начинает продвигаться ближе к влиянию на молодого императора Николая И. Правда, процесс оттеснения от царствующего двоюродного племянника его родных дядьев будет завершен лишь после 1905 года. Но именно великий князь Николай Николаевич оказывал максимальное влияние на военные круги Российской империи. Таким образом, «наибольшим влиянием на решение государственных вопросов в царствование Николая II из великих князей, бесспорно, обладал Николай Николаевич (младший)… огромная роль Николая Николаевича в утверждении новой российской военной элиты представляется бесспорной»[347].
Военный талант Императорского Дома
Начало двадцатого века предоставило наиболее авторитетному и знающему в военном отношении из членов Дома Романовых проявить себя на практике. В феврале 1904 года японские миноносцы атаковали русский Тихоокеанский флот, сосредоточенный в Порт-Артуре. Началась русско-японская война 1904 — 1905 гг. Одним из претендентов на пост командующего Маньчжурской армией являлся великий князь Николай Николаевич. В начале войны в России все были уверены в скорой и славной победе над загадочными японцами, в чем, казалось бы, убеждали высоко стоявший престиж русских Вооруженных Сил и успех Китайского похода 1900 года, так как японцев воспринимали ненамного выше китайцев.
Но великий князь Николай Николаевич остался вне театра военных действий. Он не пожелал участвовать в русско-японской войне только потому, что находился в конфликте с Наместником императора на Дальнем Востоке адмиралом Е.И. Алексеевым. Суть в том, что командующий Маньчжурской армией должен был подчиняться Наместнику. Поэтому на Дальний Восток отправился военный министр ген. А.Н. Куропаткин.
В октябре 1904 года адмирал Алексеев был смещен со своего поста, и главнокомандующим всех сухопутных и морских сил, действующих против Японии, стал генерал Куропаткин. Менять А.Н. Куропаткина в столице сочли неразумным, тем более что с развертыванием из Маньчжурской армии трех армий ему уже исподволь готовили смену в лице свеженазначенного командарма-2 ген. O.K. Гриппенберга. В ходе сражения под Сандепу в январе 1905 года конфликт между Куропаткиным и Гриппненбергом достиг такой остроты, что командарм-2 самовольно оставил фронт и с разрешения императора Николая II выехал в Санкт-Петербург.
С неумолимой четкостью вопрос о смене ген. АН. Куропаткина встал только после проигранного Мукденского сражения 6 — 25 февраля. Кандидатурами на место генерала Куропаткина являлись командарм-1 ген. Н.П. Линевич, командующий войсками Киевского военного округа ген. М.И. Драгомиров и генерал-инспектор кавалерии великий князь Николай Николаевич. Генерал Драгомиров был стар и болен — ему исполнилось уже семьдесят пять лет. В свою очередь, великий князь отказался от командования терпящей поражение за поражением армией. Поэтому естественным образом на пост главнокомандующего был назначен генерал Линевич.
В гораздо большей степени великий князь Николай Николаевич проявил себя на службе близ императора внутри государства. По окончании русско-японской войны 1904 — 1905 гг. военно-политическое руководство Российской империи признало необходимым создать особый орган управления Вооруженными Силами, чтобы объединить деятельность военного и морского ведомств. Этот орган военно-административного управления должен был координировать всю работу по вопросам государственной обороны. Великий князь Николай Николаевич выступил одним из инициаторов образования нового органа.
В результате 8 июня 1905 года был учрежден Совет государственной обороны — коллегиальный орган, в состав которого входили военный и морской министры, начальник Генерального штаба, начальники Главного штаба и Главного Морского штаба, генерал-инспекторы всех родов оружия. Председатель, которым назначался великий князь Николай Николаевич, имел право личного доклада императору. Ученые пишут: «В функции нового учреждения входили: выбор общих мероприятий, направленных на укрепление военной мощи государства в соответствии с конкретной политической обстановкой; обсуждение главнейших предположений военного и морского ведомств о применении всех средств государства на случай войны в целях объединения и должного направления подготовительных к войне работ; обсуждение изменений в деятельности военного и морского ведомств, вызываемых особыми условиями, и наблюдение за осуществлением мер, направленных на реорганизацию дела обороны страны»[348].
Одним из актов деятельности Совета государственной обороны стало выделение Генерального штаба из-под контроля военного министерства, которое после ухода ген. В.В. Сахарова возглавил начальник Канцелярии военного министерства ген. А.Ф. Редигер. Великий князь имел целью создать Генштаб по образцу германского Большого Генерального штаба, образованного фельдмаршалом X. Мольтке Старшим и занимавшегося именно войной как таковой. Также из ведения военного министерства были изъяты генерал-квартирмейстерская часть, управление военных сообщений, мобилизационный отдел и главное военно-топографическое управление.
Во главе Генерального штаба, что естественно, был поставлен протеже великого князя Николая Николаевича ген. Ф.Ф. Палицын — начальник штаба генерал-инспектора кавалерии, то есть самого великого князя. Следовательно, из ведения военного министра были полностью выведены вопросы мобилизационного и стратегического планирования. В итоге «Генеральный штаб российской армии в целом включал Главное управление Генерального штаба как центральный орган управления, войсковое управление Генштаба в составе штабов от военного округа до отдельной бригады и корпус офицеров Генштаба — кадровую основу всей штабной службы»[349].
Искусственное разделение военного министерства и Генерального штаба на различные инстанции на несколько лет (с 1905 по 1909 г.) затормозило планирование военной реформы в России. Дело дошло до того, что генерал Редигер на протяжении трех лет своего управления военным министерством не был ознакомлен с содержанием русско-французской военной конвенции. Как представляется, этим актом великий князь Николай Николаевич желал сосредоточить исключительно в своих собственных руках вопросы обороноспособности государства. При этом, ссылаясь на германский опыт, председатель Совета государственной обороны забывал, что русская военная машина была выстроена на совершенно иных основаниях, нежели в Германии.
В свое время еще князь Барятинский предлагал императору Александру II взять пример с Германии. И точно так же покоритель Кавказа имел целью оттеснить военного министра ген. Д.А. Милютина от руководства Вооруженными Силами России. Однако царь выбрал вариант графа Милютина, который сосредоточивал основную долю полномочий в военном министерстве, как центре управления Вооруженными Силами. Все прочие органы военного управления, даже при определенной автономии, входили в состав военного министерства в качестве подструктур. В качестве примера можно вспомнить, что в той же Германии после Битвы на Марне начальником Полевого Генерального штаба вместо ген. X. Мольтке Младшего стал военный министр ген. Э. фон Фалькенгайн. И только «верденская мясорубка», как неадекватная оценка стратегического планирования, вынудила кайзера Вильгельма II в августе 1916 года сменить Фалькенгайна тандемом Гинденбург — Людендорф.
Поэтому выделение Генерального штаба из состава военного министерства явилось крупной ошибкой, имевшей следствием подрыв боеспособности Вооруженных Сил Российской империи. Как считает современный ученый, «этот акт, фактически разрушивший в критическое время систему стратегического управления, явился без преувеличения одним из факторов, определивших поражение России в Первой мировой войне и возникновение революционной ситуации в стране в 1917 году»[350]. Лишь в 1909 году Генштаб вернулся в военное министерство. Эту реорганизацию провел новый военный министр ген. В.А. Сухомлинов, назначенный на свой пост в марте 1909 года, а до того, в декабре 1908 года, сменивший ген. Ф.Ф. Палицына в должности начальника Главного управления Генерального штаба.
Другой главной задачей Совета государственной обороны являлась чистка командного состава по результатам русско-японской войны 1904 — 1905 гг. По рекомендации Совета государственной обороны назначались высшие начальствующие лица не только в военном ведомстве, но и в ряде гражданских служб. Военный министр А.Ф. Редигер в своих воспоминаниях писал: «Во все царствование императора Александра III военным министром был Ванновский, и во все это время в военном ведомстве царил страшный застой. Что это была вина самого ли государя или Ванновского, я не знаю, но последствия этого застоя были ужасны. Людей неспособных и дряхлых не увольняли, назначение шло по старшинству, способные люди не выдвигались, а двигаясь по линии, утрачивали интерес к службе, инициативу и энергию, а когда добирались до высших должностей, они уже мало отличались от окружающей массы посредственностей. Этой ужасной системой объясняется и ужасный состав начальствующих лиц как к концу царствования Александра III, так и впоследствии, во время японской войны». А последний военный министр Временного правительства характеризовал русский командный состав, начиная со времен А.А. Аракчеева, следующим образом: «Весь командный состав воспитывается лишь на слепом исполнении воли начальника. Если подчиненный все делает согласно уставу и приказам, то, как бы плохо ни вышло, его никто не имеет права обвинить. Он прав, он забронирован. Но если, избави Бог, офицер сделает что-либо, отступя от правил по собственному почину, и по случайному стечению обстоятельств выйдет неудачно, то можно быть уверенным, что человек погиб навсегда. Самоволия ему не простят. Естественно, что в такой психологической обстановке не может воспитаться настоящий командный состав — победитель»[351].
Для решения кадрового вопроса при Совете государственной обороны была учреждена Высшая Аттестационная комиссия, которая рассматривала кандидатов на генеральские посты: командиров армий, корпусов, дивизий и бригад. Комиссия обсуждала эти кандидатуры и очищала армию от генералов, бездарно проявивших себя в период русско-японской войны. Проведенная Советом государственной обороны чистка армии, несмотря на свою незавершенность, все-таки убрала из войск массу негодного генералитета.
Кроме того, великий князь Николай Николаевич, одновременно командовавший Гвардией, перевел в гвардейские полки ряд армейских офицеров, отличившихся в период русско-японской войны 1904 — 1905 гг., куда прежде путь им был закрыт. Самый яркий и показательный пример здесь — ген. П.А. Лечицкий, который в Маньчжурии командовал 24-м Восточно-Сибирским стрелковым полком. Несмотря на то что генерал Лечицкий даже не имел высшего военного образования, а принадлежность к составу корпуса Генерального штаба считалась одним из необходимых условий продвижения по службе в генеральских чинах, в 1906 году он уже командовал 1-й гвардейской пехотной дивизией. Можно сказать, что будущий командир Гвардии в 1914 — 1916 гг. ген. В.М. Безобразов также не оканчивал Николаевской Академии Генерального штаба. Но если генерал Безобразов происходил из стародворянской служилой семьи и закончил Пажеский корпус, то генерал Лечицкий был сыном священника. И если ген. В.М. Безобразов не самым лучшим образом проявил себя в Первой мировой войне, то командарм-9 ген. П.А. Лечицкий стал одним из лучших русских командармов Первой мировой войны. В выдвижении выдающихся армейцев, таким образом, лежит исключительная заслуга великого князя Николая Николаевича. Ген Н.Н. Головин указывает: «Заслуга перед Россией великого князя Николая Николаевича в довоенный период велика: он задержал процесс разложения, который исходил от Сухомлинова, и если наши перволинейные войска оказались на столь высокой ступени, то этим Россия во многом обязана Главнокомандующему Петербургского военного округа. Сухомлинов был бессилен против него, а остальные военные округа стремились держаться на уровне Петербургского».
Также в 1908 году Советом был разработан и принят новый строевой устав для сухопутных войск. Тем не менее Совет государственной обороны просуществовал недолго. Вмешательство этой надструктуры в дела военного и морского ведомств, неумение добиться надлежащего финансирования, конфликты с Государственной Думой, наряду с потрясающим разнобоем в действиях, совершенно справедливо и закономерно привели к упразднению нежизнеспособного органа военного управления. В июле 1908 года великий князь Николай Николаевич был освобожден от обязанностей председателя, а 12 августа 1909 года согласно высочайшему указу Совет государственной обороны был упразднен. Главное — он выполнил свою первостепенную работу, заключавшуюся в чистке офицерского корпуса русской армии.
Помимо чисто военных проблем, великий князь Николай Николаевич сыграл немалую роль в укреплении престола в период Первой Русской революции 1905 — 1907 гг. Правда, именно он оказал влияние на царствующего племянника в смысле уступок в сторону от принципов самодержавия. Также великий князь Николай Николаевич сделал все возможное, чтобы укрепить франко-русский союз, благо что именно французы дали царскому правительству заем на подавление революции. В частности, император Николай II был вынужден отказаться от Бьеркского договора с Германией под напором председателя Комитета министров СЮ. Витте, министра иностранных дел В.Н. Ламздорфа и великого князя Николая Николаевича. Неудивительно, что «авторитет великого князя при царе достиг своего апогея к 1905 году, когда внутреннее положение страны ухудшилось настолько, что порядок мог быть сдерживаем в ней только войсками. Великий князь Николай Николаевич всегда считался одним из самых твердых военачальников, и потому императору Николаю II естественно было видеть в нем для себя опору и защитника династии, принимая тем более во внимание его принадлежность к императорской фамилии»[352].
Точно так же и Манифест 17 октября был подписан императором при давлении все того же С.Ю. Витте, министра внутренних дел Д.Ф. Трепова и великого князя Николая Николаевича. При этом командующий Гвардией не оправдал надежд Николая II: «Царь вызвал в столицу своего двоюродного дядю с тайной мыслью вручить ему диктаторские полномочия. Однако великий князь, с великими трудностями проехавший по забастовавшей железной дороге из своего подмосковного имения в Петергоф, был потрясен всем увиденным по пути»[353]. Великий князь Николай Николаевич умолял императора подписать Манифест, угрожая в случае отказа застрелиться у него в кабинете. Вспомнив, что 17 октября — это годовщина спасения императорской семьи Александра III от крушения поезда близ станции Борки, великий князь Николай Николаевич заявил: «Сегодня 17 октября и 17-я годовщина того дня, когда в Борках была спасена династия. Думается мне, что и теперь династия спасается от не меньшей опасности сегодня происшедшим историческим актом».
С 26 октября 1905 года, параллельно с председательством в Совете государственной обороны, великий князь Николай Николаевич занимал пост главнокомандующего войск Гвардии и Петербургского военного округа. В этот период Николай Николаевич явно выделился из всего ряда великих князей. Во-первых, он был одним из старейших великих князей. Во-вторых, большинство великих князей служили в Гвардии, а потому находились в непосредственном подчинении великому князю Николаю Николаевичу. В свое время, еще будучи наследником, в его подчинении (лейб-гвардии гусарский полк) служил и сам император Николай И. Офицер-гвардеец вспоминает: «Великий князь Николай Николаевич… был горячим сторонником новых методов военного воспитания и придавал большое значение опыту, вынесенному лучшими нашими офицерами из русско-японской войны… [после его назначения командующим столичным военным округом] офицеры, недовольные такой требовательностью и чрезмерной строгостью великого князя, сначала недолюбливали его. И только через несколько лет, когда проведенные им реформы повысили боеспособность полков и внутреннюю дисциплину, отношения эти резко изменились. Великий князь стал пользоваться уважением и любовью всего офицерского корпуса»[354].
Это последняя предвоенная должность великого князя. Тем самым сын почти во всем догнал отца — великого князя Николая Николаевича Старшего. Лишь две отцовские вершины остались для великого князя Николая Николаевича Младшего непокоренными. Это — чин генерал-фельдмаршала и орден Св. Георгия 1-й степени, которые отец получил в 1878 году за главнокомандование в русско-турецкой войне 1877 — 1878 гг. Сын имел шансы догнать отца в период главнокомандования во время Первой мировой войны в 1914 — 1915 гг. Однако сын повторял те же ошибки (в том числе и преступные ошибки), что и отец, но противником теперь были не турки, а немцы. Платить за ошибки в начале двадцатого столетия приходилось уже больше. Поэтому догнать отца сын так и не смог.
Именно в послереволюционный период великий князь Николай Николаевич начал тесно сближаться с либерально-буржуазной оппозицией. К этому толкало и франкмасонство великого князя, ибо многие деятели оппозиции и Государственной Думы являлись масонами, благо что распространению масонства в России под руководством М.М. Ковалевского власти не сумели противопоставить надлежащих препон. Этому способствовал и франко-русский союз, так как оппозиция, жаждавшая переустроить Российскую империю по британскому образцу и тем самым, значит, обрести высшую государственную власть, надеялась на влияние республиканской Франции. Эмигрантский историк добавляет: «…великий князь пользовался репутацией беспощадного и по-солдатски прямого военного человека, который строго относился к генералам и помнил о нуждах и трудностях личного состава армии. Хорошо известные германофобские чувства делали его приемлемым для «ура-патриотов», а история о том, что он убеждал своего племянника подписать Манифест от 17 октября 1905 года, служила почвой для его взаимопонимания с либеральной оппозицией»[355].
Тем не менее отношения между императорской семьей и семьей великого князя Николая Николаевича постепенно портились. Императрица Александра Федоровна, при поддержке Г.Е. Распутина, настраивала императора против своего дяди. В свою очередь, великий князь Николай Николаевич, обозленный тем, что Распутин не стал его креатурой близ царя, интриговал против царской супруги. В результате этого конфликта император Николай II, который вдобавок не мог простить дяде участия в давлении при подписании Манифеста 17 октября, отдалил его от себя. Новый военный министр ген. В.А. Сухомлинов, приступивший к реорганизации Вооруженных Сил, пришедших в упадок после Японской войны и революции, затмил собой великого князя Николая Николаевича перед царем и в отношении армии.
Поэтому к 1914 году великий князь Николай Николаевич постепенно оказался заперт в своей должности главнокомандующего войск Гвардии и Петербургского военного округа, но и только. Офицер-кирасир вспоминал об этом периоде жизнедеятельности будущего Верховного Главнокомандующего: «Великий князь выглядел на коне весьма эффектно. Несмотря на то что он обладал огромнейшим ростом и чрезмерно длинными ногами, у него была та идеальная, несколько кокетливая «николаевская» посадка кавалериста старой школы, посадка, которая так красила всадника, сливая его с конем в одно нераздельное и гармоничное целое… Это было совсем особенное лицо очень большого начальника-вождя — властное, строгое, открытое, решительное и вместе с тем гордое лицо. Взгляд его глаз был пристальный, хищный, как бы всевидящий и ничего не прощающий. Движения — уверенные и непринужденные, голос резкий, громкий, немного гортанный, привыкший командовать и выкрикивающий слова с какой-то полупрезрительной небрежностью. Николай Николаевич был гвардеец с ног до головы, гвардеец до мозга костей… Престиж его в то время был огромен. Все трепетали перед ним, а угодить ему на учениях было нелегко»[356].
Великий князь мстил военному министру за свое отстранение от влияния на царя. Например, именно великий князь Николай Николаевич сорвал впервые разработанную Генеральным штабом военную игру, которая должна была пройти в начале 1911 года в Зимнем дворце с участием всего высшего генералитета. Император и военный министр должны были играть роль посредников: Николай II, готовясь к будущей роли Верховного Главнокомандующего, брал на себя функции отдачи директив русской стороне; военный министр ген. В.А. Сухомлинов должен был помогать царю. Руководителями стороны противника должны были выступить руководители Главного управления Генерального штаба.
Однако военная игра была отменена буквально за час до ее предполагаемого начала по настоянию великого князя Николая Николаевича, который никогда не бывал на предвоенных франко-русских конференциях и совещаниях и не был осведомляем о выдвинутых на них вопросах. Сам же великий князь Николай Николаевич, помимо боязни в выказывании своей военной некомпетентности, не пожелал отменить ради проведения игры запланированную большую охоту в Скерневицком лесу. В результате на апрельской игре 1914 года, ставшей последней проверкой русского высшего генералитета перед Первой мировой войной, великий князь также не присутствовал
То есть ответственность и личная военно-теоретическая подготовка лидера русских «ястребов» не только стояла на сравнительно небольшой высоте, но и сам он не хотел что-либо изменять в собственном уровне. И немаловажная причина тому — личная вражда с военным министром. Потому-то в последние годы перед войной влияние великого князя Николая Николаевича на императора Николая II свелось до минимума. Впоследствии ген. В.А. Сухомлинов вспоминал: «С той поры, как государь убедился, в какую пропасть своим военном дилетантством вел дело его дядя Николай Николаевич, доверие его величества ко мне было настолько велико, что во всех военных вопросах — до самого начала войны — мое мнение оказывалось решающим. Николай Николаевич до войны утратил настолько свое влияние на государя, что неспособен был создавать мне серьезные, непосредственные затруднения»[357].
Высокое назначение 20 июля 1914 года
Великий князь Николай Николаевич являлся чуть ли не единственным военным императорской фамилии, пользовавшимся не просто популярностью, но и авторитетом в военной среде. Разве что еще генерал-фельд-цейхмейстер артиллерии великий князь Сергей Михайлович, но тот был более известен в высоких сферах да среди своего рода войск. Окончание Академии Генерального штаба, единственное среди Романовых, еще более повысило престиж Николая Николаевича в Вооруженных Силах Российской империи. Вследствие этого великий князь Николай Николаевич всегда занимал высокое положение внутри армейской иерархии.
При императоре Александре III, недолюбливавшем великого князя, Николай Николаевич занимал пост генерал-инспектора кавалерии, доставшийся ему в наследство от отца. К более серьезным постам великий князь Николай Николаевич не допускался. Все изменилось со смертью императора Александра III и вступлением на престол Николая II. В первый период царствования молодого императора роль великих князей, ранее одергивавшихся волевым Александром III, резко повысилась. И хотя на первый план выдвинулись братья умершего царя, родные дядья Николая II — Александровичи, но и прочим достались свои бонусы.
С получением чина генерала от кавалерии великий князь Николай Николаевич мог уже и формально претендовать на высшие чины в русской армии в случае войны. После проведения Курских маневров 1903 года, показавших непригодность к командованию великого князя Сергея Александровича (одного из любимых дядьев императора Николая II), великий князь Николай Николаевич выдвигается на одну из вершин военной иерархии.
Незадолго до начала войны с Японией, в 1903 году, было составлено новое расписание командования на случай войны с Германией и Австро-Венгрией. И здесь великий князь Николай Николаевич получал одну из трех высших должностей в Действующей армии. Согласно императорскому рескрипту от 4 февраля 1903 года должности распределялись следующим образом:
— Верховный Главнокомандующий — император Николай II;
— главнокомандующий армий Германского фронта — великий князь Николай Николаевич;
— главнокомандующий армий Австро-Венгерского фронта — военный министр ген. А.Н. Куропаткин;
— командарм-1 — командующий войсками Виленского военного округа ген. O.K. Гриппенберг;
— командарм-2 — помощник командующего Варшавским военным округом — ген. А.К. Пузыревский;
— командарм-3 — командующий войсками Московского военного округа великий князь Сергей Александрович;
— командарм-4 — командующий войсками Киевского военного округа — ген. М.И. Драгомиров;
— командарм-5 — командующий войсками Одесского военного округа ген. А.И. Мусин-Пушкин;
— командарм-7 — великий князь Владимир Александрович в должности Главнокомандующего.
Известный советский ученый П.А. Зайончковский дает такую характеристику перечисленного генералитета:
— великие князья: все четверо никогда не командовали войсковыми подразделениями. Трое из них не имели военного опыта и образования, получив свои должности исключительно в силу принадлежности к императорской семье. Лишь великий князь Николай Николаевич во время русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг. состоял при ген. М.И. Драгомирове и своем отце великом князе Николае Николаевиче Старшем, а затем закончил Академию Генерального штаба;
— генерал Гриппенберг не имел военного образования, но являлся участником Крымской и русско-турецкой войн. Однако командовал последовательно каждым воинским подразделением от роты до корпуса включительно. Был достаточно пожилым человеком — шестьдесят пять лет;
— генерал Пузыревский — профессор Академии Генерального штаба, с малым командным стажем, но в свое время был сотрудником фельдмаршала И.В. Гурко (командующий войсками Варшавского военного округа до 1894 года). Характеризуется как наилучший из предлагаемых кандидатов на пост командарма. Возраст — пятьдесят шесть лет;
— генерал Драгомиров — выдающийся военачальник и военный педагог, известный популяризатор наследия А.В. Суворова. При этом, правда, зачастую выступал против технических новинок в Вооруженных Силах. Самым слабым местом М.И. Драгомирова был его возраст — семьдесят три года;
— генерал Мусин-Пушкин служил в гвардейской кавалерии, а затем длительное время командовал 5-м армейским корпусом. Еще старше генерала Драгомирова — семьдесят шесть лет.
В результате, как подытоживает П.А. Зайончковский, «состав намеченных лиц почти целиком не отвечал интересам обороноспособности государства»[358]. Неудивительно, что после начала войны с Японией пост командующего Маньчжурской армией занял наиболее подготовленный из всех перечисленных лиц — военный министр ген. А.Н. Куропаткин. Ему тогда исполнилось пятьдесят пять лет, а боевой и командный опыт являлись по тем временам выдающимися — генерал Куропаткин был участником почти всех войн и конфликтов Российской империи начиная с 1867 года.
После Первой Русской революции 1905 — 1907 гг. великий князь Николай Николаевич, по расписанию на случай Большой Европейской войны, стал занимать должность Главнокомандующего Действующей армии. Согласно Положению о полевом управлении войск в военное время 1890 года, которое действовало вплоть до 1914 года, главнокомандующий «есть высший и полный начальник всех войск, управлений и чинов, принадлежащих к составу армии, не исключая и членов императорской фамилии, если они находятся при армиях».
Объяснялось это тремя основными причинами. Во-первых, действия высшего генералитета на Дальнем Востоке побудили императора Николая II разочароваться в своих генералах. Ни один из них не смог выказать действительного полководческого таланта. Следовательно, на таком «безрыбье» великий князь Николай Николаевич был еще не самой худшей кандидатурой. Тем более что великий князь Николай Николаевич занимал пост председателя Совета Государственной обороны — высшего органа военного управления с 1905 по 1908 год.
Во-вторых, сам царь был сосредоточен на внутренних делах государства, «умиротворяя» страну и нацию. Поэтому в условиях развития революционного процесса императору было не до главнокомандования. В-третьих, плачевное состояние Вооруженных Сил Российской империи в 1905 — 1909 годах предполагало чрезвычайно малую для великой державы обороноспособность государства. На посту Верховного Главнокомандующего в это время можно было разве только сломать свой престиж. Поэтому великий князь Николай Николаевич оставался в мобилизационном расписании Главковерхом до 1910 года, когда новый военный министр ген. В.А. Сухомлинов, изменив расписание, обозначил там Главковерхом самого царя. Великий князь Николай Николаевич в итоге оказался понижен в вероятной должности на случай Большой Европейской войны против Германии и ее союзников. С другой стороны, как свидетельствует последний протопресвитер армии и флота императорской России Г. Шавельский, великий князь Николай Николаевич не оставлял надежды стать Верховным Главнокомандующим в случае войны против Германии и Австро-Венгрии. Так, представляясь великому князю после своего назначения в середине 1911 года, Г. Шавельский отмечает эти надежды.
Изменение расписания объяснялось главным образом двумя факторами. Прежде всего в результате начатых военным министром ген. В.А Сухомлиновым реформ, опиравшихся на увеличение бюджета Российской империи, ввиду «полосы больших урожаев и, значит, хлебного экспорта, и первые итоги столыпинской аграрной реформы повысилась боеспособность Вооруженных Сил. Следовательно, теперь император мог без опаски занять объективно предназначенный ему пост Верховного Главнокомандующего. Кроме того, генерал Сухомлинов был личным врагом великого князя и сам претендовал на пост Главковерха. Помня карьеру ген. А.Н. Куропаткина, ген. В.А. Сухомлинов также рассчитывал самолично возглавить русскую Действующую армию либо как минимум стать начальником штаба при номинальном Главковерхе-царе. Отсюда и сведение роли великого князя Николая Николаевича до уровня командарма.
Однако великий князь Николай Николаевич являлся руководителем русской военной партии, лидером «ястребов», а потому на его фигуру неизбежно накладывался внешнеполитический фактор. Кстати говоря, ген. В.А. Сухомлинов, невзирая на все свое честолюбие, не жаждал войны, понимая, что отставание русской военной машины от австро-германской коалиции весьма велико и многое еще предстоит сделать, а потому он делал все возможное, чтобы свести влияние великого князя Николая Николаевича на императора до минимальной степени. Именно на Николая Николаевича ориентировались сторонники войны против Германии, войны чем раньше, тем лучше. Все знали, что великий князь считает войну с Германией не только неизбежной, но и необходимой для России. В свое время П.А. Столыпин говорил о великом князе: «Удивительно он резок, упрям и бездарен, все его стремления направлены только к войне, что при его безграничной ненависти к Германии очень опасно. Понять, что нам нужен сейчас только мир и спокойное дружное строительство, он не желает и на все мои доводы резко отвечает грубостями. Не будь миролюбия государя, он многое мог бы погубить»[359].
Гибель П.А. Столыпина, наряду с явным усилением обороноспособности Российской империи, резко ослабила позиции партии «голубей» внутри российского истеблишмента. Интересно, что в июле 1914 года одним из лиц, выступивших против втягивания России в ненужную ей войну, на фоне общей антигерманской истерии, был соперник Столыпина и когда-то единомышленник великого князя Николая Николаевича — опальный граф С.Ю. Витте. В итоге союз Министерства иностранных дел, военных, сплотившихся вокруг фигуры великого князя Николая Николаевича и деятелей Государственной Думы, пересилил императора Николая II.
Ведшие дело к войне с целью реванша за 1870 год французы были заинтересованы в максимальной боеспособности русской сухопутной армии (господство на море обеспечивалось союзом с Великобританией), а потому, пользуясь положением кредитора, они также оказывали давление на русское политическое руководство в смысле выбора Верховного Главнокомандующего. И в этой должности французы желали видеть именно великого князя Николая Николаевича, причем задолго до войны[360].
Тем не менее к началу Первой мировой войны великий князь Николай Николаевич все еще оставался командующим одной из армий. По перечню должностей 1912 года в случае войны должны были быть проведены
такие назначения высших командиров:
— 1-я армия — ген. П.К. Ренненкампф;
— 2-я армия — ген. А.А. Брусилов;
— 3-я армия — ген. А.В. Самсонов;
— 4-я армия — ген. А.Е. Зальца;
— 5-я армия — ген. П.А. Плеве;
— 6-я армия — великий князь Николай Николаевич;
— 7-я армия — ген. В.Н. Никитин;
— 8-я армия — ген. Н.В. Рузский. Отстранение великого князя от руководящих постов усугублялось тем, что 6-я армия должна была стать не действующей на театре военных действий, а обсервационной. Ее задача заключалась в прикрытии Санкт-Петербурга и столичного округа от возможного германского десанта с моря. Вероятность такого десанта была крайне мала, да и в принципе возможна лишь в том случае, если бы Россия воевала против Тройственного Союза в одиночку. Этого же вообще не могло быть, ибо после поражения России Франция оказалась бы один на один с Германией.
Военный министр ген. В.А. Сухомлинов все это прекрасно понимал, а потому и решил ограничить потенциальное командование великого князя Николая Николаевича почетной синекурой. Тем более что штаб и управление 6-й армии комплектовались на базе Петербургского военного округа, которым с 1905 года командовал великий князь Николай Николаевич. Тем самым все формальности были соблюдены. Подбор членов штаба Верховного Главнокомандующего, в ходе мобилизации комплектовавшегося из руководителей Главного управления Генерального штаба, также находился под контролем генерала Сухомлинова как военного министра.
О полной бесперспективности поста командующего 6-й армией говорит ее судьба в период Первой мировой войны. Лишь через два с половиной года войны, когда уже сменилось четыре командарма, управление 6-й армии в декабре 1916 года, за три месяца до падения монархии, было переброшено на новый, Румынский фронт. Но и тогда 6-ю армию возглавил не ее последний командующий ген. В.Н. Горбатовский, а комкор-24 ген. А.А Цуриков.
Конечно, войска, которые изначально входили в 6-ю армию, уже давно были на фронте, но здесь-то речь идет о командовании армией и ее штабе, который два с половиной года войны стоял в стороне от фронта. Такая вот судьба ожидала великого князя Николая Николаевича, останься он во главе 6-й армии с началом Первой мировой войны. В 6-ю армию, командование которой должен был принять великий князь Николай Николаевич, должны были войти 18-й и 22-й армейские корпуса, Гвардейская стрелковая бригада, а также второочередные 57, 74, 84-я пехотные дивизии. Итого — не более четырех корпусов, причем переброска их на театр военных действий в другие армии предполагалась заранее. Так, 30 июля 1914 года в ходе сосредоточения Действующей армии на государственной границе, еще до начала столкновений с неприятелем, 18-й и 22-й армейские корпуса получили приказ об отправке к Варшаве, чтобы составить костяк 10-й армии, а Гвардейская стрелковая бригада — в 9-ю армию.
Предвоенные расчеты военного министра, рассчитывавшего занять ключевой пост в Действующей армии, не оправдались. Середина июля, ознаменовавшаяся интенсивным обменом телеграммами между главами великих держав, на фоне австро-венгерской агрессии против Сербии, побудили колебавшегося императора Николая II обратиться за поддержкой к своим родственникам. Поддержка министра иностранных дел С.Д. Сазонова обеспечила великому князю доступ к царю. Как вспоминал в эмиграции сам военный министр, «в решении дипломатических вопросов я участия не принимал. Николай Николаевич сумел оттеснить от государя всех неудобных для него советчиков, в том числе прежде всего меня. В те предвоенные дни царь находился полностью под влиянием своего дяди»[361].
В результате на следующий день после того, как Германия объявила войну Российской империи, 20 июля 1914 года, великий князь Николай Николаевич был назначен Верховным Главнокомандующим. Это назначение предполагалось, было ожидаемо, и во время объявления императором Манифеста об объявлении войны в Зимнем дворце, в 4 часа дня, великий князь находился рядом со своим царствующим племянником, и все были уверены, что именно Николай Николаевич станет Верховным Главнокомандующим.
Согласно Положению о полевом управлении войсками в военное время 1914 года Верховный Главнокомандующий «есть высший начальник всех сухопутных и морских вооруженных сил, предназначенных для военных действий. Он облекается чрезвычайной властью, и повеления его исполняются на театре военных действий всеми без изъятия правительственными местами и общественными управлениями, а равно должностными лицами всех ведомств и всем населением». Верховный Главнокомандующий подчинялся самому царю, который, в сущности, и должен был самолично стать Главковерхом, и потому никто, кроме императора, не имел права требовать отчета или делать какие-либо предписания Верховному Главнокомандующему. Исследователь подытоживает: «Наделение главнокомандующего такой властью привело к тому, что на этот пост назначались члены царствующего дома либо его занимал сам царь»[362].
Сам император Николай II, убежденный в непродолжительности войны, не решился занять пост Главковерха. Против такого решения единодушно (за исключением военного министра) выступил Совет Министров во главе с премьером И.Л. Горемыкиным. Кроме того, здесь присутствовала своя логика. На протяжении ряда лет великий князь Николай Николаевич занимал пост главнокомандующего фронта против Германии. Популярность великого князя среди офицерского корпуса была велика. Повторимся, что этого назначения желали и французы.
И главное: стране и Вооруженным Силам требовалось имя, вождь, объятый элементом сакральности. Если царь сам не становился Верховным Главнокомандующим, то ни один генерал не был бы в безусловной степени авторитетен для прочих генералов (прежде всего для главнокомандующих фронтов), чтобы избежать непослушания и интриг. Ситуация русско-японской войны 1904 — 1905 гг., когда командарм-2 ген. O.K. Гриппенберг после неудачи операции под Сандепу самовольно покинул Маньчжурию, невзирая на то что главнокомандующий всех сухопутных и морских сил, действующих против Японии, ген. А.Н. Куропаткин на это своего согласия не давал, была еще слишком свежа в памяти.
Иными словами, угроза сепаратизма внутри высшего генералитета была реальна как никогда, тем более что Положение о полевом управлении войск в военное время — высший правовой документ организации и управления Действующей армией, предполагал громадный объем прав для главнокомандующих фронтов. Будь Верховным Главнокомандующим сам император, он мог бы выбирать себе любого помощника как фактического руководителя Вооруженными Силами, и тогда главкомы подчинялись бы все равно самому императору, фигуре, имевшей безусловный авторитет вне зависимости от личных качеств монарха. Но вот подчиняться равному себе согласились бы далеко не все генералы, а с каждой неудачей степень неповиновения только увеличивалась бы. Вдобавок ген. В.А. Сухомлинов нажил себе массу врагов среди высшего генералитета, да и личная его репутация была небезупречна — достаточно вспомнить скандальный брак с Е.В. Бутович.
Поэтому фактически единственной кандидатурой на пост Верховного Главнокомандующего, помимо самого Николая II, являлся только великий князь Николай Николаевич. Следовательно, выбор царя был верным и максимально обоснованным. Генерал Деникин совершенно справедливо указывает: «Во время Великой войны взаимоотношения, наверху по крайней мере, сложились более нормально. То обстоятельство, что во главе Вооруженных Сил России был поставлен великий князь Николай Николаевич, помимо личных его качеств, являлось объективно фактом положительным. В силу своего высокого и более независимого положения, в силу атавизма традиций и пиетета, с которым относилось большинство командного состава к Царствующему Дому, ему легче было держать в своих руках бразды верховного командования. Хотя и при этих условиях плелись вокруг Ставки интриги, но, если бы на месте великого князя был, как одно время предполагалось, Сухомлинов, Ставка с первых же дней обратилась бы в арену небывалой борьбы честолюбий, соревнования, личных интересов, испытывая давление и с фронта, и с тыла, и из Петербурга, и из Царского Села. Конечно, идеалом является совмещение верховного командования и правления в лице главы государства… Но для этого нужно не только наличие знания и таланта (может ведь быть хороший начальник штаба…), а прежде всего, счастья»[363].
Тем не менее великий князь Николай Николаевич еще не мог считать себя бесспорным повелителем Вооруженных Сил подобно тому, как это право трактовалось бы при императоре. С самого момента принятия должности великий князь Николай Николаевич был предупрежден о том, что это назначение носит временный характер. 20 июля 1914 года Правительствующему Сенату был дан именной Высочайший указ: «Не признавая возможным, по причинам общегосударственного характера стать теперь же во главе наших сухопутных и морских сил, предназначенных для военных действий, признали мы за благо всемилостивейше повелеть нашему генерал-адъютанту, главнокомандующему войск Гвардии и Петербургского военного округа, генералу от кавалерии его императорскому высочеству Великому князю Николаю Николаевичу быть Верховным Главнокомандующим». Как пишет далее исследователь, «таким образом, и в официальном документе также содержится намек на то, что назначение Великого князя носит вынужденный и временный характер. Это сразу поставило Верховного Главнокомандующего, получавшего огромную власть, в весьма двойственное, ущербное положение»[364].
Первым и самым основным обстоятельством, ограничивавшим власть нового Верховного Главнокомандующего, стал штаб Ставки, составленный по выбору военного министра ген. В.А. Сухомлинова. Согласно Положению об управлении войсками в военное время начальником штаба Верховного Главнокомандующего должен был стать начальник Главного управления Генерального штаба. Эту должность занимал бесталанный и исполнительный ставленник генерала Сухомлинова ген. Н.Н. Янушкевич. Генерал Янушкевич был известен тем, что никогда не участвовал ни в одном вооруженном конфликте или тем более войне. Также последней командной должностью, которую в свое время занимал генерал Янушкевич, был командир батальона. Вся карьера Н.Н. Янушкевича прошла на адъютантских и чиновных должностях в различных штабах и, наконец, Генеральном штабе. Предметом научных изысканий генерала Янушкевича явилась военная администрация и тыловая служба. И этот человек должен был явиться первым помощником Главковерха!
Разработкой оперативных планов в русских штабах занимался генерал-квартирмейстер. Таковую должность в Ставке с началом войны должен был занять генерал-квартирмейстер Главного управления Генерального штаба ген. Ю.Н. Данилов, который также никогда не участвовал в войнах, ведшихся Россией. Этот человек, упрямый и догматичный, хотя и не без таланта, как его характеризуют современники, на протяжении многих лет занимался составлением планов войны против Германии и Австро-Венгрии. Предпоследним его шедевром стал план 1912 года, согласно которому русское развертывание относилось в глубь страны. Передовой театр сдавался противнику без боя, и тем самым Франция обрекалась на уничтожение немцами, так как русские никоим образом не успевали подать ей помощи широкомасштабным наступлением на Восточном фронте. Этот пассивно-оборонительный план войны под давлением штабов военных округов был изменен на прежний, наступательный. Но генерал Данилов, действовавший под указанием военного министра, лишний раз доказал свою преданность своему патрону ген. В.А. Сухомлинову.
Таким образом, наиболее ближайшими сотрудниками Верховного Главнокомандующего являлись те представители Главного управления Генерального штаба, что в предвоенный период разрабатывали план войны с центральными державами. Напомним здесь, что именно Генеральный штаб отвечал за оперативно-стратегическое планирование военных действий в случае войны. Это планирование в Российской империи разрабатывалось как раз на период первых операций, не заглядывая далеко в будущее. Именно последний начальник Генерального штаба ген. Н.Н. Янушкевич займет пост начальника штаба Верховного Главнокомандующего. Именно глава оперативного отделения ГУГШ ген. Ю.Н. Данилов, работавший над военным планированием с 1909 года, займет пост генерал-квартирмейстера Ставки, где будет являться ведущим и авторитетнейшим «стратегом» штаба Ставки. Характеризуя состав Ставки и лично великого князя Николая Николаевича, А.А. Брусилов пишет: «Это — человек, несомненно, всецело преданный военному делу и теоретически и практически знавший и любивший военное ремесло… Назначение его Верховным Главнокомандующим вызвало глубокое удовлетворение в армии. Войска верили в него и боялись его. Все знали, что отданные им приказания должны быть исполнены, что отмене они не подлежат, и никаких колебаний не будет… Я считал его отличным главнокомандующим. Фатально было то, что начальником штаба Верховного Главнокомандующего был назначен бывший начальник Главного управления Генерального штаба Янушкевич, человек очень милый, но довольно легкомысленный и плохой стратег. В этом отношении должен был его дополнять генерал-квартирмейстер Данилов, человек узкий и упрямый»[365].
При своем назначении великий князь Николай Николаевич пытался составить штаб из других лиц — Ф.Ф. Палицына (первого начальника Генерального штаба) и М.В. Алексеева (комкора-13, а до того — начальника штаба Киевского военного округа). Представляется, что этот состав Ставки был бы сильнее во всех отношениях. Однако военный министр сумел убедить императора, что нарушать военное законодательство не следует, а потому штаб Ставки остался в прежнем своем составе. Тем самым ген. В.А. Сухомлинов сохранил влияние на Верховное Главнокомандование: невзирая на конфликт с великим князем Николаем Николаевичем, военный министр вплоть до своей отставки летом 1915 года вел интенсивную и достаточно подробную переписку с начальником штаба Верховного Главнокомандующего ген. Н.Н. Янушкевичем.
Во-вторых, великий князь Николай Николаевич не имел права изменить план развертывания Действующей армии. Согласно замыслу предвоенного оперативного планирования сосредоточение русских армий происходило в тех районах, где предусматривалось ведение решительных операций. Соответственно, развертывание армий русских фронтов также предусматривалось планом, составленным еще до войны. Безусловно, великий князь Николай Николаевич теоретически мог изменить развертывание войск, благо что вплоть до восьмого дня со времени объявления мобилизации можно было совершить практически любые перегруппировки, но этому объективно мешали несколько обстоятельств:
— великий князь Николай Николаевич до войны не принимал непосредственного участия в составлении планов кампании против центральных держав. От этого он был отсечен военным министром, претендовавшим на руководство Вооруженными Силами в случае войны. Поэтому великий князь Николай Николаевич и не мог иметь собственных, глубоко разработанных компетентными лицами, оперативно-стратегических планов;
— как говорилось выше, согласно последним расписаниям должностей высшего командного состава русской армии подразумевалось, что великий князь Николай Николаевич займет пост командующего 6-й обсервационной армией, развернутой на побережье Балтийского моря, дабы прикрывать столицу Российской империи со стороны Швеции и возможного крупного германского десанта на Балтике близ Санкт-Петербурга. Назначение великого князя Верховным Главнокомандующим (согласно Полевому положению этот пост должен был занять сам император Николай II) стало несколько неожиданным, прежде всего для него самого, и великий князь должен был в первую голову принимать новые дела и свою внезапно свалившуюся огромную ответственность;
— Положение о полевом управлении войск в военное время, утвержденное за неделю до начала войны, резко ограничивало власть Верховного Главнокомандующего неимператора в пользу фронтовых командований. Главнокомандующие фронтов и даже военный министр (ген. В.А. Сухомлинов был личным врагом Николая Николаевича) могли тормозить любые попытки великого князя по изменению плана войны (это не считая уже упомянутого генерал-квартирмейстера Ю.Н. Данилова).
Итак, невзирая на массу негативных моментов, тем не менее первым Верховным Главнокомандующим русской Действующей армии стал наиболее подготовленный в военно-профессиональном отношении член Дома Романовых — великий князь Николай Николаевич. Известно, что новый Главковерх имел опыт управления войсками на маневрах, умел читать карту, но в то же время требовал исключительно устных докладов, не воспринимая письменные донесения. Поэтому в годы Первой мировой войны великий князь Николай Николаевич управлял Действующей армией с помощью совещаний с фронтовыми командованиями, ибо еще и не доверял знаниям своих ближайших помощников. Сменивший в 1915 году ген. В.А. Сухомлинова на посту военного министра ген. А.А. Поливанов вспоминал, что великий князь Николай Николаевич, «обладая верными стратегическими и тактическими взглядами, способностью быстро распознавать обстановку на маневрах по карте и по движениям войск, был из числа строевых начальников того времени весьма незаурядным. И если бы не отвращение к книге и более уравновешенный характер, то из него мог бы к тому времени выработаться вполне авторитетный руководитель для разрешения крупных военных вопросов»[366].
Верховный Главнокомандующий. 1914
В ночь на 1 августа Ставка выехала из Петрограда через Лиду в место своего расположения — Барановичи, куда и прибыла 3-го числа. Ставка расположилась в лесу, в поездах, выведенных на специально построенную ветку, на тщательно охраняемой территории. В это время состав Ставки насчитывал около двухсот человек (при императоре Николае II эта цифра вырастет в десять раз). Характерно, что великий князь Николай Николаевич только в момент отправки познакомился со своими ближайшими помощниками, в том числе начальником штаба Верховного Главнокомандующего ген. Н.Н. Янушкевичем.
Надо отметить, что великий князь Николай Николаевич, помимо своей любви к Франции, зачастую превышавшей любовь к России, являлся еще и членом мартинистской масонской ложи. Так что часть его действий может быть объяснена лишь давлением со стороны оставшихся неизвестными «братьев». Прежде всего великий князь Николай Николаевич заверил союзников, что Россия выполнит свои обещания и русские войска перейдут в наступление еще до полного окончания сосредоточения, чтобы оказать поддержку Франции, на которую обрушился главный удар германского молота. Генерал М.Д. Бонч-Бруевич вспоминал: «Верховный Главнокомандующий был всей душой предан порученному ему делу; ненавидел германцев со всем пылом своей неуравновешенной натуры и готов был на всякое решение, хотя бы только теоретически грозное для германцев, каковым и было предположение о вторжении в глубь Германии, не взвешенное с точки зрения несомненного противодействия ему со стороны германцев»[367].
Как известно, громадность русских расстояний и относительная слабость железнодорожной инфраструктуры предполагали запаздывание российских мобилизационных мероприятий по сравнению с прочими европейскими державами. На этом строились расчеты германского планирования Большой Европейской войны. «План Шлиффена» был выстроен на той временной разнице в сосредоточении и развертывании русской Действующей армии, что позволила бы немцам вывести Францию из войны прежде, чем «русский паровой каток» сможет хлынуть в Германию. Оттого, невзирая на планировавшийся русским Генеральным штабом главный удар по Австро-Венгрии, параллельно две армии Северо-Западного фронта должны были ударить в германскую Восточную Пруссию, чтобы оттянуть на себя часть немецких войск из Франции.
Отсюда и спешка с наступлением, так как за те полторы недели, что в России еще только начинались перевозки войск, немцы уже шли по Люксембургу, Бельгии и готовились к вторжению на французскую территорию. Исполняя предвоенные обещания и будучи, кроме того, обязанным Франции в силу личных симпатий и убеждений, Верховный Главнокомандующий повелел русским армиям перейти в наступление до окончания сосредоточения и подтягивания тыловых служб и резервов. Еще в Санкт-Петербурге, перед отъездом в Барановичи, как сообщают французы, «13-го [1-го по старому стилю] августа, вопреки всем нашим ожиданиям, великий князь Николай Николаевич сообщает господину Палеологу, что «Виленская и Наревская армии перейдут в наступление на рассвете следующего дня»… С первых дней русско-французского союза французский Генеральный штаб приложил все усилия, чтобы убедить русских в необходимости быстрого вмешательства, прежде чем немцы сумели бы раздавить нас всеми своими силами. Никогда, в течение всего этого долгого периода, мы не встречали столько доброй воли и такого понимания обстановки, как накануне войны. В августе 1913 года генерал Жоффр… провел месяц в России с царем и великим князем. Он сумел их убедить. Они дали даже больше, чем обещали… Николай Николаевич имеет право на благодарность Франции»[368].
Действительно, великий князь оправдал ожидания своих французских протеже. И надо сказать, что немедленный переход в наступление армий Северо-Западного фронта как нельзя более соответствовал интересам и Российской империи. Ведь в случае разгрома Франции неизбежное поражение ожидало и Россию, после чего установление германской гегемонии в Европе стало бы делом несомненным и неоспариваемым, так как Великобритания одним махом лишалась бы своих континентальных союзников. Граф А. фон Шлиффен прекрасно сознавал это и потому выстраивал свой план войны с ювелирной точностью на лезвии бритвы.
Другое дело, что в ходе кампании 1914 года русская стратегия принципиально зависела от действий во Франции. Русская Ставка трижды пыталась организовать широкомасштабное вторжение в Германию, невзирая на то что после Битвы на Марне русские обязательства были выполнены и было бы вернее перейти к наступлению в Венгрию. Как свидетельствует ближайший сотрудник великого князя ген. Ю.Н. Данилов, «военные интересы Франции и вообще союзников России он трактовал столь же горячо, как и интересы вверенной ему Русской армии»[369]. И, добавим мы от себя, даже более русских интересов. По крайней мере, об этом говорят все те действия, что предпринимал великий князь Николай Николаевич на посту Верховного Главнокомандующего.
Оправдывая деятельность Ставки и, следовательно, свое собственное оперативное творчество, Ю.Н. Данилов считает, что, вступив в альянс с Францией, Российская империя обрекла себя на коалиционную войну, а потому должна была руководствоваться в своей стратегии не столько собственной обстановкой, сколько общей пользой. А потому, мол, вся русская армия горела жертвенным порывом вступиться за Францию. Что ж, все это вполне справедливо, если не считать того, что союзники вовсе не стремились к соблюдению подобного тезиса. Так, 24 июня 1915 года на совещании в Шантильи французский главнокомандующий ген. Ж. Жоффр заявит, что союзники обязаны облегчить положение России, подобно тому как русские помогли союзникам в 1914 году. Казалось бы, все верно: в это время русские откатывались по всему фронту, очищая Галицию, Польшу и Литву. Однако реальная, а не словесная помощь наступлением от французов последовала только в середине сентября. Интересно, задумывался ли генерал Жоффр, что было бы с Францией, начни русские Восточно-Прусскую наступательную операцию не в августе, а, скажем, в октябре 1914 года, все остальное время спокойно отсиживаясь на укрепленных позициях в Польше?
В свое время О. фон Бисмарк говорил, что ни одна нация не обязана приносить себя в жертву ради союзника. В России же считали иначе. Стоит ли удивляться, что вскоре и англо-французы стали считать русскую жертвенность как нечто само собой разумеющееся, а не как акт доброй воли русского руководства. Начало тому было положено Восточно-Прусской наступательной операцией русского Северо-Западного фронта в августе 1914 года, вынудившей немцев перебросить на Восточный фронт два корпуса из ударной группировки правого фланга, заходившей на Париж, в тот миг, когда исход битвы за Францию висел на волоске. Тем самым в какой-то мере была спасена Франция и, соответственно, судьба Первой мировой войны.
Данное поведение русского Верховного Главнокомандующего восторженно трактовалось французами как «рыцарственность» великого князя. Выдающийся отечественный военный ученый ген. А.А. Свечин трактовал политику Николая Николаевича следующей характеристикой: «Русское верховное командование, пропитанное духом военной конвенции, во всех случаях выдвигало на первый план интересы коалиции, а не интересы России и русской армии. Этим оно позволило в окончательном счете англо-французам разгромить Германию, но вызвало крушение русской армии…»[370]. Почему-то забывалось, что русские втянулись в войну как раз из-за чужих интересов, а в итоге на первый план выдвигалось ложное «рыцарство», направленное на подрыв военных усилий собственной страны.
1-я и 2-я русские армии, бросившись в Восточную Пруссию, шли навстречу своему разгрому. Зато был остановлен германский блицкриг. Однако операция трактовалась Ставкой не как прежде всего необходимая интересам Российской империи, что несомненно, а как требующаяся для интересов Франции. Так, 28 июля, когда русские армии еще только подтягивались к границам немецкой Восточной Пруссии и австрийской Галиции, начальник штаба Верховного Главнокомандующего ген. Н.Н. Янушкевич писал главнокомандующему армий Северо-Западного фронта ген. Я.Г. Жилинскому: «Принимая во внимание, что война Германией была объявлена сначала нам и что Франция как союзница наша считала своим долгом немедленно же поддержать нас и выступить против Германии, естественно, необходимо и нам в силу тех же союзнических обязательств поддержать французов ввиду готовящегося против них главного удара немцев. Поддержка эта должна выразиться в возможно скорейшем нашем наступлении против оставленных в Восточной Пруссии немецких сил»[371].
В 1911 — 1914 гг. генерал Жилинский занимал пост начальника Главного управления Генерального штаба. Именно он от имени России давал французам нереальные обещания выставить в начале войны только против Германии до восьмисот тысяч штыков и сабель. Потому повеления Ставки находили себе благодарного исполнителя.
Безусловно, генерал Янушкевич все правильно сказал насчет союзнических обязательств и необходимости наступления, но к чему же предшествовавшие тезисы о том, что это, оказывается, французы выполнили союзнический долг? Разве генерал Янушкевич не знал, что французы выжидали два дня, пока не выяснилось, что главный удар немцы нанесут все-таки на Западе? Разве в Ставке не предполагали, что поражение России автоматически означало и разгром Франции, при чем здесь «долг»? Или деятели русской Ставки и на самом деле так думали, как писали?
В результате же англо-французы после Марны и осеннего «Бега к морю» дали себе передышку вплоть до Вердена и даже Соммы. Конечно, союзники вели военные действия, проводили наступательные операции, но все это ограничивалось локальными рамками. С окончания Марнского сражения и вплоть до 1916 года англо-французы ни разу не вели боев на всем протяжении Западного фронта. Основные усилия на себе выносила Россия, которая и в 1914-м, ив 1915 году действовала на всех тысяче с лишним верстах Восточного фронта. Это позволило англичанам создать сухопутную армию, а французам — артиллерию. А расплатились за все русские, скованные тем самым «псевдорыцарством» своего Верховного Главнокомандующего, хотя именно французы постоянно уверяли, что это как раз Франция несет на себе основную тяжесть борьбы против центральных держав.
В связи с этим многие участники войны и критиковали впоследствии своего Верховного Главнокомандующего за обескровливание русской Действующей армии во имя союзных интересов, в то время как западные союзники такой жертвенностью не отличались. Например: «В лице великого князя Николая Николаевича главнокомандующий союзных армий заслонил собой русского главнокомандующего»[372]. Или: «Главнокомандующим был великий князь Николай Николаевич, который, как я считаю, был более французом, чем русским, — потому что он мог пожертвовать русскими войсками совершенно свободно только с той целью, чтобы помочь французам и англичанам»[373].
Как бы то ни было, но вторжение в Восточную Пруссию и Галицию было запрограммировано еще перед войной соответствующим оперативно-стратегическим планированием Генерального штаба (в первую голову — ген. Ю.Н. Даниловым). Поэтому великого князя Николая Николаевича здесь невозможно укорить единолично за организацию немедленного наступления. Первым стратегическим шагом собственно самого Главковерха стало образование третьего стратегического направления, помимо двух уже существующих. Так, находясь под прессингом союзников и в какой-то мере самого царя, к которому со слезными просьбами о помощи обращался французский посол М. Палеолог, великий князь Николай Николаевич решил увеличить мощь удара на Германию.
С этой целью Ставка решила образовать в районе Варшавы две совершенно новые армии, не предусмотренные перед войной, — 9-ю и 10-ю. Очевидно, что великий князь Николай Николаевич, не участвовавший перед войной в совещаниях высшего генералитета и не принимавший участия в составлении планов войны, находился под сильным влиянием своих сотрудников. В конечном счете сомневаться в их компетентности он не мог: особенно это утверждение относится к генералу Данилову, так как о несостоятельности генерала Янушкевича для столь высокого поста было широко известно.
Очевидно, что представления сотрудников Верховного Главнокомандующего идеальным образом совпадали с личными взглядами великого князя Николая Николаевича относительно роли и обязанностей России в союзной коалиции. Именно поэтому великий князь Николай Николаевич и потребовал создания третьей группировки войск в районе Варшавского плацдарма, потому что с этим соглашались и его авторитетные в военном деле помощники.
Образование 9-й армии предусматривалось из двух корпусов 1-й армии (которая взамен получала один корпус из 4-й армии) и двух корпусов 6-й армии, которой, как говорилось выше, великий князь Николай Николаевич должен был командовать по расписанию 1912 года, действовавшему до назначения 20 июля. Войска 10-й армии — это корпуса второго стратегического эшелона, прибывавшие из глубины империи с запозданием (Сибирские и Кавказские корпуса). Ослабление двух армий — 1-й из состава Северо-Западного фронта и 4-й из состава Юго-Западного фронта — на один корпус каждую представлялось несущественным. Однако же именно это обстоятельство привело к поражению 4-й армии под Люблином, что едва не стало причиной прорыва австро-венгров в русскую Польшу. Точно так же нехватка пехоты в 1-й армии не позволила командарму-1 своевременно оказать поддержку 2-й армии, потерпевшей разгром под Танненбергом.
Как предполагалось, 9-я армия, создаваемая великим князем Николаем Николаевичем в районе Варшавы, должна была сыграть роль своеобразного стратегического резерва, призванного развить успех армий Северо-Западного фронта в Восточной Пруссии, но не в собственно самой Пруссии, а непосредственно посредством вторжения в Германию на берлинском направлении. Предполагалось в лучшем случае, что 9-я армия будет наступать по левому берегу Вислы по направлению к ее устью, сбивая германские крепостные гарнизоны и помогая 1-й и 2-й армиям форсировать Вислу. В худшем — Ставка собиралась бросить 9-ю армию сразу в немецкую Познань, что в любом случае было просто не по силам одной армии, отчего и предполагалось подтянуть к Варшаве корпуса, необходимые для образования 10-й армии.
Вдобавок великий князь Николай Николаевич в данном случае не пожелал прислушаться к мнению осторожничавшего генерал-квартирмейстера Ставки. По утверждению А.А. Керсновского, великий князь Николай Николаевич «не разделял идей навязанного ему в сотрудники Данилова. Он был сторонником наступательных действий на левом берегу Вислы «в сердце Германии». Верховный Главнокомандующий, бывший под влиянием мнения ген. М.В. Алексеева о развертывании наступления с левобережного плацдарма, как видим, жаждал ударить по противнику по кратчайшей операционной линии. Так что и он также желал реализовать данную идею на практике. Удар малыми силами в глубь Германии был невозможен, поэтому ставка делалась на операцию на левом берегу линии Нижней Вислы, находившейся в германском владении.
Допустив стратегическую ошибку — сосредоточение групп корпусов на трех направлениях, — штаб Ставки сделал и оперативную ошибку, которая стала роковой. А именно — внушил и себе самому, и высшему политическому руководству, и командованию Северо-Западного фронта взгляд, что победный исход Восточно-Прусской наступательной операции является предрешенным. Именно поэтому Ставка ослабила Северо-Западный фронт фактически на два корпуса: Гвардейский корпус находился под Варшавой, а 1-й армейский корпус был выдвинут на левый фланг 2-й армии с запретом командарму-2 распоряжаться им в полной мере. С отступления 1-го армейского корпуса и началось окружение немцами центра 2-й русской армии.
Тем не менее Н.Н. Головин считает, что это именно Ставка намеревалась наступать в Познань, а великий князь, дескать, сосредоточивал 9-ю армию именно как стратегический резерв для удара по австрийцам на левом берегу Вислы. И именно он настоял на том, чтобы впоследствии перебросить эту армию на Юго-Западный фронт. «Устраненный с 1908 года от участия в составлении плана войны, великий князь Николай Николаевич был назначен Верховным Главнокомандующим на второй день войны. Он вынужден был не только принять план войны таким, каким он был составлен нашим ГУГШ, но и вынужден был также принять уже сформированную Ставку, в состав которой вошли как раз те высшие чины ГУГШ, которые и являлись авторами ошибок этого плана войны. Психологически совершенно естественно, что для них их собственные ошибки были менее видны, чем кому-либо другому. К этой слепоте присоединялось еще самолюбие, которое толкало на упорствование продолжать идти по неправильному пути даже тогда, когда события уже подсказывали ошибочность прежних мыслей… При таких условиях личное воздействие великого князя на ход первой операции было до чрезвычайности затруднено. Аппарат Ставки, заблаговременно настроенный в определенном тоне, продолжал в этом же тоне работать, и всякое проявление воли великого князя, проходя через сложный аппарат чуждой ему Ставки, преломлялось как луч в призме»[374].
Как бы то ни было, переброска корпусов Варшавской группировки под Люблин позволила создать предпосылки для победы в Галицийской битве. Характерно, что это фактически стало единственным глубоко позитивным мероприятием Ставки, возглавляемой великим князем Николаем Николаевичем. Исследователи указывают: «О деятельности великого князя в качестве Верховного Главнокомандующего можно судить по тем событиям и делам, которые имели место на фронте в период с августа 1914 года по август 1915 года, когда фактически ни одна из проведенных операций, кроме наступления войск Юго-Западного фронта в 1914 году в Галиции, не достигла намеченных целей. Но результат Галицийской операции был получен благодаря не военному таланту и организаторским способностям великого князя, а только потому, что войска четко выполняли планы, разработанные накануне войны без его участия… Он ежедневно докладывал в Петроград сводки по результатам боев отдельных соединений и частей, не обобщая их не то что до стратегического, но и до оперативного масштаба. В результате постепенно складывалась практика оценивать войну не по действиям всех или отдельных фронтов, а по армейским операциям, боям корпусов и дивизий. Это резко снижало роль верховного Главнокомандующего и Ставки в управлении войсками, выдвигая на первый план фронтовые и армейские звенья управления»[375].
Невзирая на все это, Верховный Главнокомандующий пользовался такой популярностью, какой до него в девятнадцатом веке обладали разве что М.И. Кутузов и М.Д. Скобелев. Уже с начала войны авторитет великого князя Николая Николаевича в Вооруженных Силах и в России вообще вырос до гигантской величине. До войны великого князя в стране знали мало, даже в обществе. Но, как вспоминает минский губернатор, с началом войны «этот доселе, безусловно, неизвестный, незнакомый, неиспытанный человек делается вдруг популярнейшим и именно политическим вождем. Великий князь вдруг вырастает в политическую величину всероссийского масштаба, становится центром всех чаяний, является всеобщей надеждой, единственным упованием и даже вероятным спасителем!». Причина этого не в военной сфере, так как он «военного гения не проявил», а в том, что «беспримерная популярность великого князя Николая Николаевича, достигнутая им после первых же месяцев войны, явилась исключительно результатом занятой им по отношению к Государю, Его семье и возглавляемого Им правительства определенной позиции, насыщенной бесцеремонной и суровой критикой, снисходительной насмешкой и высокомерным пренебрежением»[376].
Что касается политики, то Положение о полевом управлении войск в военное время, составленное в расчете на императора, и впрямь передавало в руки Верховного Главнокомандующего немалую долю политической власти, вплоть до сношения Ставки с правительством и ведения переговоров с иностранными державами. На фоне развернутой оппозицией антиправительственной пропаганды, пока еще направленной против императрицы Александры Федоровны и Г.Е. Распутина, великий князь Николай Николаевич вскоре почувствовал себя настоящим «спасителем России». Если же вспомнить, что отношения между императрицей и великим князем были более чем недружелюбны, а затем и открыто враждебны, то уровень взаимоотношений между Ставкой и Царским Селом будет более понятен. К этому следует добавить, что в свое время именно супруга великого князя Николая Николаевича черногорская принцесса Анастасия Николаевна представила императрице Александре Федоровне Г. Е. Распутина, рассчитывая через него иметь определяющее влияние на царскую семью. Распутин обманул ожидания своих прежних покровителей, после чего также стал личным врагом семьи великого князя Николая Николаевича. В результате ни императрица, ни наследник цесаревич Алексей, не говоря уже о Г.Е. Распутине, во время пребывания в должности Верховного Главнокомандующего великого князя Николая Николаевича Ставки не посещали.
Что же касается армии, то солдаты и офицеры восхищались своим Главковерхом, придавая ему черты былинного героя и поборника справедливости перед неумелыми командирами. Дело дошло до того, что в армейской массе чуть ли не все неудачи приписывались генералам, а все успехи — великому князю Николаю Николаевичу. В своем дневнике М.К. Лемке доходчиво и верно отразил картину складывания положительной легенды о великом князе в солдатском сознании: «Народ и общество знают, какая масса мерзости делается и должна делаться при самодержавии в командном составе нашей армии. Все слышали в свое время о горячем, порывистом и несдержанном характере Николая Николаевича. Теперь ему придали благородные черты реформатора армии, ярого сторонника правды, решительного искоренителя лжи, удовлетворяя этим свой запрос на подобные положительные качества, — отсюда легенды не о том, что было и есть, а о том, чего так хотелось бы… С 20 июля 1914 года, когда великий князь был поставлен в то положение, в котором лицо делается предметом общего серьезного внимания, Николай Николаевич стал очень быстро приобретать симпатии сначала армии, потом народа и общества. Тут, говорят его апологеты, он шире обнаружил все то, что таилось в его изменившейся натуре. Он показал, что рвется понять нужды народа, что уже хорошо знаком с политикой нашего правительства, которой под влиянием жены сочувствовал-де все меньше и меньше. Прошло три-четыре месяца войны — и Николай Николаевич стал уже просто популярен. В армии о нем говорили не иначе как с восторгом и часто с благоговением; всепрощающее общество охотно дарило ему свое искреннее расположение…»[377].
Надо отметить, что подобное отношение к своему Верховному Главнокомандующему, вне зависимости от реального положения дел, объективно несло с собой громадную пользу и укрепление морального климата в Действующей армии, особенно в периоды неудач. Люди чувствовали, что где-то там, наверху, есть их заступник и справедливый покровитель, с которым Россия не будет побеждена. К примеру, участник войны пишет: «…наибольшей популярностью пользовался великий князь Николай Николаевич — главнокомандующий Русской армии. Его впечатляющая внешность и личные качества привлекали и военных, и гражданских лиц… Ходили разговоры, что великий князь, грозный во гневе, увольнял со службы и даже подвергал телесному наказанию генералов за неподчинение приказам. Было это правдой или нет, значения не имеет. Солдаты верили, что с главнокомандующим шутки плохи, что он не терпит пренебрежения долгом, каждый, кто будет уличен им в безответственности, подвергнется наказанию независимо от звания и положения»[378].
Точно так же в Германии кумиром стал Гинденбург, хотя каждый желавший на минутку задуматься немец знал, что реальным полководцем является начальник штаба Гинденбурга ген. Э. Людендорф. Тем не менее по всей Германии строились памятники Гинденбургу, его именем назывались города и корабли. Немецкие ученые назвали гинденбургом только что открытое на Папуа — Новой Гвинее сумчатое животное. В результате «сам Гинденбург играл под грубоватого народного героя ala Блюхер и быстро вошел в роль выставляемого повсюду напоказ и до небес превозносимого национального идола. Возможно, он, которому все до сих пор сознательно пережитые им события казались само собой разумеющимися ступенями богоугодного возвышения прусско-германского гогенцоллернского рейха, и сам был убежден в том, что сыграл под Танненбергом выдающуюся роль»[379].
Популярность Гинденбурга затмила популярность самого кайзера Вильгельма И. И чем дольше затягивалась война, чем большими по масштабам становились человеческие гекатомбы, тем популярнее становился Гинденбург, как то и положено искусственно и нарочито раздутой фигуре так называемого «народного героя». Та же ситуация произошла и в России. Чем дальше, тем больше популярность великого князя Николая Николаевича лишь поднималась, затмив, наконец, самого императора и вскружив голову Верховному Главнокомандующему. Да и как не закружиться голове, если Верховный Главнокомандующий по действующему статуту имел право на самостоятельные сношения с иностранными державами? Те же французы, добиваясь от русской Ставки очередных преференций в виде русской крови, льстили русскому Верховному Главнокомандующему. Не отставали и братья-славяне. Так, мать наследника сербского престола королевича Александра Карагеоргиевича являлась сестрой супруги великого князя Николая Николаевича. Поэтому королевич в письмах именовал русского Верховного Главнокомандующего «дядей». И более того. Например, в письме от 22 апреля 1915 года королевич упоминает «генералиссимуса российской армии, держащего в своих руках судьбу славян».
Вокруг великого князя постепенно стали группироваться недовольные существующим режимом — прежде всего военные, забывшие о присяге и сюзеренитете. В феврале 1917 года этот фактор станет прологом к Красной Смуте. Именно поэтому участники войны обоснованно считали, что вступление царя в должность Главковерха в августе 1915 года явилось неверным шагом. Императора Николая II почитали «несчастливым», в то время как популярность великого князя лишь возрастала, несмотря на поражения кампании 1915 года. Общество также единодушно восторженно встретило назначение Николая Николаевича Верховным Главнокомандующим. И эта популярность не ослабевала. Основой авторитета послужила совокупность легенд, усердно распространяемых на фронте и в тылу[380]. Причем супруга Главковерха внесла немалую лепту в раздувание культа своего мужа. Недаром великий князь ежедневно писал письма жене с фронта[381].
Что бы ни случалось, в армии великому князю прощали все. Молва разносила, что Верховный Главнокомандующий всегда бывает впереди войск на наиболее тяжелых участках фронта, что он постоянно вместе с войсками, что только он может защитить рядовых солдат и офицеров от произвола и неумения командного состава. Протопресвитер Действующей армии Г. Шавельский вспоминал: «Что-то неудержимо фатальное было в росте славы великого князя Николая Николаевича. За первый же год войны, гораздо более неудачной, чем счастливой, он вырос в огромного героя, несмотря на все катастрофические неудачи на фронте, перед которым преклонялись, которого превозносила, можно сказать, вся Россия».
Мифотворчество народных масс, разумеется, не могло не оказаться совершенно неверным. Например, генералы смещались, как правило, по представлениям командармов и главнокомандующих фронтов, а в воюющих войсках великий князь Николай Николаевич вообще ни разу не был. Какие уж там опасные участки! Г. Шавельский называет основную причину того, что Главковерх не бывал на фронте: «…его решительность пропадала там, где ему начинала угрожать серьезная опасность… великий князь до крайности оберегал свой покой и здоровье… он ни разу не выехал на фронт дальше ставок главнокомандующих, боясь шальной пули… при больших несчастьях он или впадал в панику, или бросался плыть по течению… У великого князя было много патриотического восторга, но ему недоставало патриотической жертвенности»[382]. Правда, есть и иная точка зрения, отметающая обвинение великого князя в личной трусости. Один из членов Ставки вспоминает, что великий князь Николай Николаевич «никогда не посещал войска на фронте, всегда предоставляя делать это Государю, так как опасался вызвать этим подозрение в искании популярности среди войск»[383].
Что касается непосредственной работы великого князя Николая Николаевича в Ставке, то здесь можно процитировать опять ген. А.А. Поливанова: «По принятому в Ставке порядку ежедневно в 10 часов утра Верховный Главнокомандующий шел в домик, занятый управлением генерал-квартирмейстера, и там, в комнате генерал-квартирмейстера, выслушивал доклад генералов Янушкевича и Данилова о ходе военных действий и донесениях, поступивших в течение истекших суток. Когда Государь император присутствовал в Ставке, то в этот же час и там же доклад происходил в присутствии его величества, и затем, кроме поименованных лиц, при подобных докладах, ради соблюдения военной тайны, обыкновенно никто больше не присутствовал. Мне сказали, что в тех случаях, когда в Ставку прибывал военный министр генерал-адъютант Сухомлинов, и он к присутствованию на таковых докладах приглашения не получал. Это последнее обстоятельство, объясняемое, может быть, недоверием великого князя Николая Николаевича к генерал-адъютанту Сухомлинову, было, однако, способно лишить военного министра возможности в тех относительно редких случаях, когда он мог бы получить подробную осведомленность о расположении наших армий и внести на основании такой осведомленности поправки в свои соображения о сроках и размерах подготовки для армии сил и средств в подведомственном ему районе внутри империи. Особенно важно было мне, как лицу, вступающему в управление военным министерством в обстоятельствах исключительных, окунуться сразу в первоисточник наших стратегических соображений и известий»[384].
Как человек, вне сомнения, неглупый и профессиональный, Верховный Главнокомандующий не мог не понимать всех недостатков своих ближайших помощников по управлению Действующей армией. В то же время сам великий князь Николай Николаевич также сознавал свою неготовность к «большой стратегии». Восточно-Прусская наступательная операция и ситуация с Варшавской группировкой в августе 1914 года убедили его в справедливости такого тезиса. Поэтому Главковерх старался по всем существенным вопросам проводить совещания со штабами фронтов. Показательно, что впервые великий князь Николай Николаевич выехал из Барановичей 2 сентября, когда Северо-Западный фронт был разгромлен, потеряв за месяц боев около четверти миллиона человек (сто процентов исходной группировки) против пятидесяти тысяч у противника. Верховный Главнокомандующий верно понимал, что фронты лучше знают обстановку и лучше подготовлены в профессиональном отношении, нежели чины Ставки. Но и здесь требовался личный контроль Ставки. Так что по итогам совещания 2 сентября в Белостоке, в штабе Северо-Западного фронта, был смещен главкосевзап ген. Я.Г. Жилинский.
Надо помнить здесь еще, что раз Ставка не выезжала в армии, то советы главкомов являлись единственным независимым от генералов Янушкевича и Данилова устным источником оперативной информации (письменные доклады великий князь Николай Николаевич воспринимать не мог). Чем более Главковерх убеждался в слабости Янушкевича и Данилова, тем больше ему требовалось мнение фронтов. Таким образом, как следствие, великий князь Николай Николаевич «управлял путем созыва совещаний главнокомандующих армий фронтов». При этом такие созывы и, значит, поездка штаба Ставки в штабы фронтов осуществлялись по несколько раз в месяц. Так, совещание ноября 1914 года в Седлеце, на котором Главковерх разрешил главнокомандующему армий Северо-Западного фронта ген. Н.В. Рузскому отступать от Лодзи, стало шестнадцатым с начала войны. Подытоживая, один из ближайших советников лучшего стратега России ген. М.В. Алексеева, ген. В.Е. Борисов, называет такой метод — «совещательное полководчество Ставки». А значит, «ее метод ведения масс доказывал лишь ее военную неподготовленность к тому делу, за которое она взялась»[385].
Казалось бы, что Верховный Главнокомандующий принял верную стратегию руководства военными действиями. А именно — совещаниями с фронтовыми командованиями, по итогам каковых принималось окончательное решение в масштабах всей Действующей армии. Однако здесь таилась своя загвоздка. С ходом боевых действий фронты стали по-различному воспринимать складывавшуюся обстановку на театре военных действий. Тем более что каждый главком считал верной свою точку зрения. С занятием поста главкосевзапа ген. Н.В. Рузским, который в августе командовал 3-й армией Юго-Западного фронта, разногласия еще более усилились. Новый главкосевзап и фактически руководивший операциями начальник штаба Юго-Западного фронта ген. М.В. Алексеев были соперниками и недругами еще со времен русско-японской войны 1904 — 1905 гг. Самолюбивый генерал Рузский не мог переносить советов от своего бывшего начальника — главкоюза ген. Н.И. Иванова, за которым стоял генерал Алексеев.
Однако за Н.В. Рузским стоял сам Верховный Главнокомандующий. После разгрома под Танненбергом, желая затушевать перед армией и страной тяжелейшее поражение, великий князь Николай Николаевич сделал ставку на искусственное раздувание какого-либо малозначительного успеха в судьбоносную победу. Тем самым отметались бы подозрения в адрес Ставки, не сумевшей противостоять германцам. Через два дня после пленения немцами корпусов 2-й армии в Восточной Пруссии войска 3-й армии Юго-Западного фронта без боя заняли столицу австрийской Галиции — город Львов. Это само по себе незначительное событие было раздуто Ставкой в грандиозную победу, причем утверждалось, что Львов был взят после кровопролитного штурма. Командарм-3 ген. Н.В. Рузский за Львов получил беспрецедентную награду — одновременно ордена Св. Георгия 4-й и 3-й степеней. А в октябре еще и 2-ю степень. Вскоре ген. Н.В. Рузский становится главнокомандующим армий Северо-Западного фронта. Львовская эпопея генерала Рузского показала, что великий князь Николай Николаевич оценивает военный талант по выгодности его для интересов Ставки и по географическим пунктам, а не по уничтожению живой силы противника.
Перенос противником боевых действий на левый берег Средней Вислы, в стык между русскими фронтами, еще более усугубил разногласия фронтовых штабов. Соответственно, роль Верховного Главнокомандующего должна была получить большее значение, так как приходилось уже не столько вырабатывать компромисс, сколько улаживать противоречия. Так как великий князь Николай Николаевич не мог получить исчерпывающей работы от своих сотрудников, то ему приходилось лавировать между мнениями фронтовых штабов. Получалось, что «вместо того, чтобы ясно поставить стратегическую цель войны и сообразно с этим, выработав общий план действий, дать определенные задачи фронтам, Верховный Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич или колебался между различными, иногда противоположными взглядами своих подчиненных, или старался примирить расходившиеся взгляды принятием какого-либо среднего решения»[386].
Итогами такой деятельности становились либо поражения, либо неиспользование успеха. Например, в ходе Варшавско-Ивангородской наступательной операции 15 сентября — 26 октября 1914 года, когда впервые ярко высветились разногласия между фронтами (причем главкосевзап ген. Н.В. Рузский даже предложил сдать немцам Варшаву), район Варшавы передавался под ответственность сначала Юго-Западного, а затем — Северо-Западного фронта. В ходе Лодзинской оборонительной операции 29 октября — 6 декабря 1914 года, когда германское командование на Востоке получило подкрепления из Франции, генерал Рузский предложил отступить от Лодзи к Варшаве, выравнивая фронт. Кажется верной точка зрения, базирующаяся на нехватке боеприпасов и слабости подходивших резервов, что вынуждало русских сократить фронт обороны. Однако этот отход (23 ноября) не позволил армиям Юго-Западного фронта развить успех на краковском направлении, где русская 3-я армия ген. Р.Д. Радко-Дмитриева имела шанс взять Краков. Конечным результатом негативного соглашательства со стороны Ставки стала Горлицкая катастрофа апреля 1915 года.
Одним из наиболее характерных качеств личности Верховного Главнокомандующего было его упорство, почти всегда переходившее в упрямство. Действительно, великий князь Николай Николаевич трижды пытался осуществить свою идею-фикс: глубокое вторжение в Германию по кратчайшему операционному направлению — на Берлин. Этого непрестанно требовали французы, и русская Ставка неизменно выполняла требования союзников. Хотя ни разу такое сосредоточение не смогло бы оказать существенного влияния на ход сражений во Франции и Бельгии, где после Битвы на Марне все стало понятно. Британский военный представитель при русском командовании полковник А. Нокс впоследствии, говоря о русском сосредоточении перед Лодзинской операцией, писал: «Как и во время августовского наступления в Восточной Пруссии, планы великого князя были продиктованы желанием помочь союзникам на западе ценою каких бы то ни было жертв со стороны России»[387].
Сначала это — сосредоточение группы армий у Варшавы в августе 1914 года. Вследствие ослабления армий обоих фронтов в пользу этой группировки русские потерпели поражение под Люблином и под Танненбергом. В итоге 9-я армия была переброшена к Люблину, что позволило остановить австро-венгров и вырвать победу в Галицийской битве[388]. Впоследствии часть участников войны пыталась представить это мероприятие в виде полководческого таланта великого князя Николая Николаевича, который сумел переломить ход операции данным своеобразным стратегическим резервом. Но не стоит ли задаться более простым вопросом: а если бы 4-я армия не была ослаблена в ходе сосредоточения? Да, превосходство противника было слишком велико, но разве сорок тысяч дополнительных штыков помешали бы командарму-4? А потом пришлось бросать сюда уже четыре корпуса, чтобы исправить ситуацию.
В то же время 10-й армии пришлось закрывать границы с Восточной Пруссией по рекам Нареву и Бобру. А будь у командармов еще по одному корпусу — быть может, тогда уже противник бежал бы к Нижней Висле? Здесь надо сказать, что за три дня до Танненберга Ставка выработала мысль о переброске 1-й армии также к Варшаве, оставляя в Восточной Пруссии одну лишь 2-ю армию, которая и была уничтожена немцами в танненбергском «котле». Этот замысел принадлежал генерал-квартирмейстеру Ставки ген. Ю.Н. Данилову, а великий князь Николай Николаевич уже был готов утвердить его. Только поражение и угроза катастрофы раскрыли глаза деятелям Ставки, готовым на все, чтобы сохранить кровь французов за счет русской крови. Вот после этого Верховный Главнокомандующий и стал прибегать к практике совещаний с фронтовыми штабами — стратегический «талант» генерала Данилова стал окончательно ясен.
Второй попыткой стал замысел начала сентября переброски 4-й и 5-й армий Юго-Западного фронта и 2-й армии Северо-Западного фронта на линию Средней Вислы, чтобы образовать ударную группировку для наступления на Берлин. Германское командование предупредило русских и предприняло наступление на крепость Ивангород и Варшаву, дабы запереть русских в Польше. Опоздание русских войск со сосредоточением позволило австро-германцам перехватить инициативу действий. Лишь упорство в обороне и общее превосходство сил позволило русским удержаться и отбросить противника в Познань[389]. Зато 23 сентября последовала первая военная награда. «В воздаяние мужества, решительности и непреклонной настойчивости в проведении планов военных действий, покрывших неувядаемой славой русское оружие», великий князь Николай Николаевич был награжден орденом Св. Георгия 3-й степени.
На этом великий князь Николай Николаевич не угомонился, так как 16 сентября на Западном фронте началось сражение на Сомме, ставшее прологом для «Бега к морю». К концу сентября между Варшавой и Лодзью образуется очередная ударная группа армий — 2, 1 и 5-я. При этом еще в ходе боев за Варшаву высказывалась мысль об организационном образовании нового фронта, возглавить который должен был начальник штаба Юго-Западного фронта ген. М.В. Алексеев. Нового фронта создано так и не было, но сама мысль показательна. Опять-таки немцы предупредили русских фланговым ударом между Лодзью и Ловичем. Лодзинская оборонительная операция закончилась отходом русских армий Северо-Западного фронта к варшавскому плацдарму. В дополнение армиям северного фланга Юго-Западного фронта пришлось отойти от Кракова[390].
Ближе к концу 1914 года в русской Действующей армии выявляется еще одна проблема — кризис вооружения. Нехватку снарядов для артиллерии русские армии стали испытывать уже в сентябре месяце, после первых же операций. К началу же декабря командармы получили секретное предписание Ставки выпускать в сутки на каждое орудие не более одного снаряда. Иными словами, русская армия становилась безоружной перед врагом, который хотя также испытывал недостаток боеприпасов, но не в такой степени, как русские. В этих условиях попытки наступления на Берлин становились безумием, ибо львиная доля потерь в боях наносилась артиллерией.
Тем не менее Верховный Главнокомандующий мало того, что упорствовал в своих замыслах, но и готовил новые удары на 1915 год. При всем том ответственность за принятые решения возлагалась на фронты, так как стратегические решения ведь вырабатывались совместно, на совещаниях Ставки в штабах фронтов. Участник войны, брат русского военного мыслителя А.А. Свечина, вспоминал: «Отдавая должное любви великого князя Николая Николаевича к военному делу и требованию к усовершенству, нельзя не видеть в нем нужной полководцу воли, которая у него пасовала в принятии важных решений, ответственность за которые ложилась на него»[391].
Запас снарядов, равно как и их производство подлежали урегулированию между военным министерством, Главным управлением Генерального штаба и Главным Артиллерийским управлением. Вся вина за нехватку снарядов была свалена Ставкой на военное министерство, но зато Главное Артиллерийское управление, возглавляемое великим князем Сергеем Михайловичем, осталось вне гнева Главковерха. Еще бы: в одном случае обвинялся личный враг великого князя, а в другом случае под шквал критики и упреков попадал родственник.
Но дело не в этом. Смысл проблемы заключается в том, что, зная о прогрессировавшем кризисе вооружения, Ставка не должна была выносить активно-наступательных замыслов, ограничиваясь в своей оперативно-стратегической работе лишь обороной. Однако же русские армии упорно шли вперед, расстреливая последние запасы снарядов, которые, как представляется, можно было бы поберечь в ожидании налаживания работы оборонной промышленности. И если сражение под Лодзью началось еще до того, как ситуация с боеприпасами окончательно прояснилась, то планирование зимней кампании 1915 года предстает верхом непонимания обстановки.
Для сравнения следует узнать мнение участника войны, забавным образом оправдывающего Верховного Главнокомандующего. Е.Э. Месснер пишет: «Уже после войны появилось мнение, что великий князь Николай Николаевич, увидав, как огромен расход огнеприпасов в первых боях, должен был не форсировать оператику, не слать армии из сражения в сражение, но замедлить темп действий в ожидании, пока военная наша промышленность развернется для достаточного снабжения прожорливого фронта огневой войны. Но Николай Николаевич был генералом от кавалерии и на посту Верховного остался генералом кавалерии — он не мог не мыслить по-конному, ставя задачи пешим армиям. В войске великий князь пользовался уважением, в солдатской массе о нем рассказывали легенды — и не винили его за чрезмерную активность в 1914 году, доведшую до снарядного голода. Впрочем, не один, так сказать, кавалеризм побуждал Николая Николаевича форсировать оператику; принцип смелых нападательных действий был привит Императорской армии генералом Драгомировым Михаилом Ивановичем… лишь в конце XIX века генерал Драгомиров в дополнение к Суворову — в битвах победителю открыл Суворова — военного мыслителя и его идейное богатство раскрыл перед нашим генералитетом. Не все генералы им обогатились, но Николай Николаевич зачерпнул много — может быть, слишком много из этого богатства и, богатый им, расточал военное имущество, снаряды, доведя войско до снарядного голода»[392]. С этакой логикой странно, что Е.Э. Месснер затем обрушивается с критикой на советских полководцев, которые зачастую не жалели крови войск, но всегда действовали наступательно.
А вот что пишет о ген. М.И. Драгомирове и проповедуемом им учении другой участник войны: «Пренебрежением к усовершенствованному огнестрельному оружию и к изучению огневой тактики вообще не исчерпывался вред школы, которую по справедливости следует наречь «драгомировской». Она создала и воспитала в массе начальствующих лиц понятие о преувеличенном значении шока в современном бою, что послужило, в свою очередь, причиной бесполезных колоссальных гекатомб… которые постепенно привели русскую армию к ее обескровливанию». Примеры: Карпатская операция зимы 1915 года и Стоход 1916 года: оба — на Юго-Западном фронте, действовавшем наступательно[393]. Иными словами, Ставка с конца 1914 года делала все, чтобы усугубить ситуацию, сложившуюся в России с боеприпасами. Потому роль великого князя Николая Николаевича и его сотрудников, обладавших полным объемом информации о кризисе вооружения, в тех событиях, что повлекли за собой Великое отступление 1915 года, неимоверно велико.
Верховный Главнокомандующий. 1915
Начало 1915 года для Ставки Верховного Главнокомандования ознаменовалось вынашиванием очередных широкомасштабных наступательных операций. Казалось бы: русские орудия имеют в сутки лишь по одному выстрелу — чем же будут наноситься потери противнику? Но такая «мелочь» не волновала Верховного Главнокомандующего и его сотрудников. Ведь в тылу уже начиналась истерия обвинения в неготовности Российской империи к войне военного министра ген. В А. Сухомлинова, как будто бы один-единственный человек, да еще в мирное время, мог стать единоличным виновником срыва обороноспособности государства. О том, что в напрасном уничтожении последних запасов боеприпасов виновно Верховное Главнокомандование, разумеется, нигде не говорилось. Напротив, деятельность военного министерства представлялась как тормоз для реализации «гениальных» наступательных планов великого князя Николая Николаевича. Все было куда как прозаичнее. Русского наступления требовали французы, озабоченные большими потерями в сражениях на Ипре, потому русские союзники должны были «взять под козырек».
Наступления требовали и главнокомандующие фронтов, что как нельзя более совпадало с замыслами Ставки. При этом каждый главком требовал главного удара на свой фронт. А следовательно, и людей, и боеприпасов, и техники — то есть всего того, что сейчас в России «наскребывалось по сусекам». В итоге великий князь Николай Николаевич соглашался то с одним, то с другим главнокомандующим фронта: «Обстановка усугублялась неудовлетворительностью общего руководства действиями русских войск и отсутствием, по существу, общего стратегического плана. Упрямый, импульсивный, но поддающийся влиянию и давлению, великий князь в роли Верховного Главнокомандующего оказался между двух огней. Ему приходилось бороться с двумя главнокомандующими фронтов — Рузским и Ивановым — и часто уступать им, вопреки здравому смыслу. Оба были настроены весьма эгоистически и старались только для своих фронтов. Задача Верховного заключалась главным образом в том, чтобы как-то примирить, объединить замыслы обоих командующих»[394].
Примирить требования фронтов Верховному Главнокомандующему удалось парадоксальным образом: наступлением обоих фронтов по расходящимся направлениям. На совещании всего высшего генералитета в Седлеце 4 января 1915 года было решено, что Северо-Западный фронт будет наступать в Восточную Пруссию, а Юго-Западный фронт продолжит штурмовать Карпаты. Целью главкосевзапа ген. Н.В. Рузского ставилось занятие Восточной Пруссии и создание исходных условий для весеннего наступления на Берлин. Целью главкоюза ген. Н.И. Иванова ставилось преодоление Карпат и вторжение в Венгрию. О нереальности поставленных задач ввиду кризиса вооружения и нехватки подготовленных резервов было решено особенно не задумываться. Но главное — роль Верховного Главнокомандующего свелась к тому, чтобы распылить силы, средства и боеприпасы между фронтами, что заведомо не могло дать победы.
Как того и следовало ожидать, операции русских фронтов закончились провалом первоначальных намерений. В Восточной Пруссии, где противником были немцы, наступление закончилось разгромом 10-й армии ген. Ф.В. Сиверса в ходе Августовской оборонительной операции 12 января — 8 февраля 1915 года[395]. Главкосев-зап ген. Н.В. Рузский попытался взять реванш наступлением 1, 2 и 12-й армий на Прасныш. В ходе 1-й Праснышской наступательной операции 7 февраля — 17 марта немцы были отброшены в Восточную Пруссию, но и только. Потери русских в два с половиной раза превзошли потери противника, что и неудивительно, так как германскому металлу пришлось противопоставить русскую кровь.
В то же время в ходе Карпатской наступательной операции Юго-Западного фронта 10 января — 11 апреля русские армии сумели на ряде участков форсировать Карпаты, после чего остановились. Развивать успех было нечем, так как боеприпасы закончились, а потери фронта достигли миллиона человек[396]. Зато сам великий князь Николай Николаевич был лишь награжден за свою безумную стратегию. В ходе боев за Карпаты 3 марта в русском тылу капитулировала осажденная еще с октября 1914 года австро-венгерская крепость Перемышль. Русскими трофеями стали сто двадцать тысяч пленных. Так как более похвастаться было нечем, падение Перемышля широко праздновалось по всей России, а Верховный Главнокомандующий за Перемышль был награжден орденом Св. Георгия 2-й степени.
Тем временем германское командование, обеспокоенное русскими успехами в Карпатах и кризисным положением Австро-Венгрии (ведь со стороны противника могло показаться, что русская конница вот-вот хлынет в Венгрию), решило в кампании 1915 года перенести основные усилия на Восточный фронт. Целью-максимум кампании ставился вывод Российской империи из войны, а целью-минимум — нанесение русской Действующей армии такого поражения, после которого она не смогла бы оправиться до конца войны. С начала апреля в районе Кракова стала сосредоточиваться ударная 11-я германская армия ген. А. фон Макензена, предназначенная стать застрельщиком генерального наступления на Востоке.
В Ставке же, невзирая на предупреждения разведки о переброске неприятельских соединений в стык русских фронтов, к реке Дунаец, готовились к возобновлению наступления, как только будут пополнены войска и запасы боеприпасов. Пока же великий князь Николай Николаевич решает представить императору Николаю II завоеванную территорию. Царь уже давно жаждал лично осмотреть первые результаты русского владычества в Галиции и ознакомиться с деятельностью русской администрации графа Бобринского, уже отличившейся коррупционностью и насильственным насаждением православия по московскому образцу. Последствия действий противостоящих сторон в Польше и Галиции оказались настолько непредсказуемыми, что продолжают сказываться и по сей день: «Крайне важно также, что в ходе войны империи-соседи — Россия, Австро-Венгрия, Германия, — прежде весьма сдержанно разыгрывавшие этническую карту в соперничестве друг с другом и по-своему обреченные на солидарность из-за совместного участия в разделах Речи Посполитой, теперь в полную мощь использовали это оружие, которое оказалось обоюдоострым. Можно сказать, что взрывной рост национализма на западных окраинах во многом был следствием тягот тотальной войны вообще и новой политики империй в соперничестве друг с другом в частности»[397].
По воле судьбы посещение императором Галиции состоялось буквально накануне австро-германского наступления, в ходе которого к концу июня Галиция будет освобождена неприятелем. Итак, в первой половине апреля 1915 года император Николай II посетил завоеванные территории, если можно так выразиться, с «официальным визитом». Император побывал в Галиции (в частности — Львове), а 11 апреля, за неделю до начала германского контрнаступления, русский царь в сопровождении чинов Ставки и самого Верховного Главнокомандующего великого князя Николая Николаевича посетил крепость Перемышль. Как раз здесь великий князь, «по совокупности заслуг», был награжден еще одной высокой наградой — Георгиевской саблей, украшенной бриллиантами, с надписью: «За освобождение Червонной Руси».
19 апреля 11-я германская армия начала наступление в районе Тарнов — Горлице. Горлицкий прорыв увенчался полным успехом, а 3-я русская армия ген. Р. Д. Радко-Дмитриева за месяц боев была почти полностью уничтожена, так как боеприпасов не было. На шквал германского артиллерийского огня русские могли отвечать разве только пулеметным огнем. Чтобы избежать окружения и последующего уничтожения, прочие армии Юго-Западного фронта — 8, 11 и 9-я — были вынуждены оставить карпатские перевалы и также отступать. Горлицкой оборонительной операцией начиналось Великое отступление русских армий 1915 года.
Через десять дней ожесточенных боев 3-я русская армия потеряла сто сорок тысяч только пленных, около сотни орудий и трехсот пулеметов. Армейские корпуса насчитывали по семь-десять тысяч штыков. Одной из причин таких потерь стал запрет Ставки отступить за естественный рубеж реки Сан. Еще 27 апреля начальник штаба Юго-Западного фронта ген. В.М. Драгомиров предлагал приступить к незамедлительному отступлению всех армий Юго-Западного фронта за Сан и Днестр, признав тем самым неудачу в Карпатах. Однако Верховный Главнокомандующий отчислил генерала Драгоми-рова от должности и повелел: «Ни шагу назад!» Такой подход объяснялся чрезвычайно просто: не мог же великий князь Николай Николаевич после посещения императором Галиции сдавать ее противнику без боя. Тот факт, что не имевшие боеприпасов обескровленные русские войска не могли противостоять противнику в чистом поле, а должны были отходить за естественные рубежи, не принимался Ставкой во внимание. Собственный престиж для великого князя Николая Николаевича был важнее напрасной гибели десятков тысяч солдат и офицеров.
Проще говоря, Верховный Главнокомандующий в своем напрасном цеплянии за территорию даже не пытался подумать хоть на пару ходов вперед: расчет верховного генералитета на неисчерпаемость человеческих ресурсов стал настоящей бедой русской Действующей армии в Первую мировую войну. Высокопоставленные «стратеги» даже не задумывались над тем, что своей бесталанностью они уничтожают в окопах цвет российского дворянства, опору трона и монархии: офицеры военного времени из интеллигенции, мещан и крестьян совсем по-иному отнеслись к свержению самодержавия в феврале 1917 года.
29 апреля 3-я армия была отброшена за Сан. Так и должно было быть, ибо силы были слишком неравны. Но своевременное разрешение на «оперативный отскок» позволило бы сберечь массу людей. Августейший же Главковерх не мог мыслить рационально. А.А. Керсновский далеко не самым лестным образом характеризует русскую стратегию Первой мировой войны: «Весь смысл войны Ставка видела во владении территорией и захвате географических объектов. Эта ересь была характерной для всей русской стратегии мировой войны и вела к тому, что войска крепко «пришивались» к занимаемому ими району. Это «ни шагу назад» исключало всякий маневр, делало невозможным заблаговременное парирование, приводило в конце концов к разгрому живой силы и, как неизбежное последствие, утрате той территории, для «сохранения» которой и приказывалось «стоять и умирать»… Стратегический примитив, великий князь Николай Николаевич расценивал явления войны по-обывательски. Победу он видел в продвижении вперед и в занятии географических пунктов: чем крупнее был занятый город, тем, очевидно, крупнее была победа. Эта «обывательская» точка зрения великого князя особенно ярко сказалась в его ликующей телеграмме Государю по поводу взятия Львова, где он ходатайствовал о награждении генерала Рузского сразу двумя «Георгиями»… Поражение же он усматривал в отходе назад. Средство избежать поражения было очень простое: стоило только не отходить, а держаться «во что бы то ни стало»… Стратегический обзор мировой войны на Восточном ее театре сам собой превращается в обвинительный акт недостойным возглавителям русской армии. Безмерно строг этот обвинительный акт. Безмерно суров был приговор, вынесенный историей. И еще суровее, чем современники, осудят этих людей будущие поколения. Людям этим было дано все, и они не сумели сделать ничего… вынеся свой приговор, история изумится не тому, что Россия не выдержала этой тяжелой войны, а тому, что русская армия могла целых три года воевать при таком руководстве!»[398].
Действительно, если внимательно вчитаться в директивы русского верховного командования, то можно отметить две характерные особенности:
— целью наступления прежде всего ставится достижение какой-либо условной линии, намеченной на карте между определенными географическими пунктами (город, село) или рубежами (река, горы). Как будто бы легендарная диспозиция австрийца Вейротера перед Аустерлицким сражением 2 декабря 1805 года прочно вошла в плоть и кровь русского генералитета начала двадцатого столетия;
— указания о действиях, направленных непосредственно против живой силы противника, как правило, ставятся в самых общих выражениях: «отбросить» туда-то, «сбить» оттуда-то, «разгромить» там-то и др. Но конкретики в поставленных задачах не чувствуется: очевидно, это отдается на усмотрение подчиненного. Так чего удивляться, что подчиненные порой не слушались указаний (Львов-1914, Варшава-1914), а еще чаще не проявляли никакой самостоятельности (Кенигсберг-1914, Августов-1915). Слепое следование расплывчатым директивам вело к поражениям если и исправляемым, то только доблестью войск и напрасными потерями.
Как только ситуация резко переменилась и русская Действующая армия оказалась перед угрозой катастрофы, в Ставке сразу же проявились панические настроения. Впервые паника в душе Верховного Главнокомандующего проявилась в ходе Горлицкой оборонительной операции 19 апреля — 9 июня 1915 года. И эта паника уже не покидала души великого князя Николая Николаевича в ходе всей кампании 1915 года, вплоть до его отчисления с должности 23 августа. Неуравновешенность натуры особенно резко сказалась как раз в этот критический момент — когда Действующая армия как никогда ранее требовала управления со стороны Ставки. Бывший военный министр совершенно справедливо писал о великом князе: «…этот жидкий на расправу в критические минуты бывший Верховный Главнокомандующий»[399].
Паника в Ставке достигла такой степени, что великий князь Николай Николаевич пытался искать союзников всюду, где только возможно. При этом он настаивал на таких уступках, которые были несовместимы с достоинством Российской империи как великой державы. Но для Верховного Главнокомандующего главным было отвести угрозу от собственной головы и остановить неприятельское наступление любой ценой. Причем это касалось даже такой сравнительно слабой в военном отношении страны, как Румыния. На следующий день после австро-германского наступления великий князь Николай Николаевич заявил: «Выступление Италии дает нам такой существенный плюс, что выступление Румынии получает второстепенное значение. Я считаю, что надо дать ей понять, что ее выступление может быть допущено, но что, очевидно, ее вожделения чрезмерны». Однако уже 25 апреля, по мере обозначавшейся катастрофы армий Юго-Западного фронта, Верховный Главнокомандующий полагал, что «следует взвесить последствия слишком неправомерного тона по отношению к Румынии». Еще через день Ставка требовала скорейшего выступления румын, предлагая идти на крупные уступки[400]. Откуда эти поиски невозможного? Дело в том, что по Положению об управлении войсками в военное время Верховный Главнокомандующий имел право дипломатических сношений. Положение составлялось военным министром в расчете на императора, почему Главковерх и получил массу прав помимо собственно военных прерогатив. Ив 1915 году великий князь Николай Николаевич стал явно злоупотреблять своим положением. Как пишет М.Д. Бонч-Бруевич в отношении Ставки первого состава, русское «верховное главнокомандование стремилось искать новых союзников во время самой войны и под влиянием этого искания само устанавливало основные цели войны. Отсюда проистекает авантюристический характер этих целей; на этом именно покоилась и неустойчивость этих целей во времени. Война велась как бы за страх главковерха, тогда как она должна была вестись по воле верховного правительства государства, выражаемой периодически в директивах главковерху. Главковерх лишь вкратце сообщал главе государства о происходившем на театрах войны, как бы не нуждаясь в директивном руководстве свыше… Во время Великой войны главковерх стремился к созданию того или иного политического курса; мало того, право влиять на этот курс, а порою и создавать его, неизменно стремился присвоить себе и главкоюз генерал-адъютант Иванов… Политикующий главковерх разрушал фундамент для своей стратегии. Постепенно пытавшийся политиковать главкоюз лишал себя возможности работать стратегически и не был поставлен главковерхом на свое место стратега, свободного в пределах исполнения ближайшей задачи войны»[401].
Поведение великого князя Николая Николаевича не осталось незамеченным в тылу. Императрица Александра Федоровна писала царю в июне 1915 года: «Все возмущены, что министры ездят к нему с докладом, как будто бы он теперь Государь… Он не имеет права вмешиваться в чужие дела, надо этому положить конец и дать ему только военные дела, как Френч и Жоффр». Действительно, опираясь на Положение о полевом управлении войск в военное время, составленное под императора, великий князь забыл, что он не является императором. Ранее великий князь никогда не вмешивался в назначения высших генералов императором, дабы не компрометировать царя, а также и в дела снабжения армии, которые были в ведении военного министра. А вот с 1915 года он стал вмешиваться в чужие вотчины, но вскоре его убрали с поста. Представляется, что лучше бы великий князь Николай Николаевич думал о том, как драться с врагом, — в частности, 9 июня австро-германцы вошли во Львов, бескровное занятие которого почти ровно годом ранее было представлено Верховным Главнокомандующим в качестве сверхординарной победы.
Первые итоги Великого отступления, пока еще на Юго-Западном фронте, не могли утешить. В докладной записке на имя императора от 25 мая великий князь Николай Николаевич указывал: «Некомплект в войсках Юго-Западного фронта превышает триста тысяч, а Северо-Западного фронта — около ста тысяч… обидно, что, благодаря отсутствию должного количества снарядов, патронов и ружей, наши воистину сверхгеройские доблестные войска несут неслыханные потери и что результат их усилий не вознаграждает эти потери… пока мы не получим должного количества огнестрельных припасов и ружей, рассчитывать на успех нельзя, так как придется ограничиться в общем оборонительного характера действиями»[402]. Теперь противник и с севера (Восточная Пруссия, контролируемая германцами с августа 1914 года), и с юга глубоко охватил русскую Польшу, все еще удерживаемую армиями Северо-Западного фронта. Пик поражений был впереди.
Ждать помощи русским также было неоткуда. Англичане и французы прочно зарылись в своих окопах, не желая проявлять активности: предпринятая было операция у Арраса (Лореттское сражение) носила локальный характер и окончилась ничем: ни один германский солдат не был снят с Восточного фронта. После вступления Италии (11 мая) в войну на стороне Антанты австро-венгерское командование было вынуждено отправить на Итальянский фронт 3-ю армию, и тогда немцы перевели на Восток еще дополнительные дивизии из Франции, дабы не ослаблять напора на Русском фронте. В мае великий князь Николай Николаевич просил французского главнокомандующего ген. Ж. Жоффра ускорить наступление на Западе, но тот отделался пустыми обещаниями и частным ударом в районе Арраса. Вдобавок нехватка тяжелой артиллерии и обученных войск не позволила англо-французам прорвать германские оборонительные порядки.
Директива Ставки от 4 июня гласила: «Общая основная задача обоих фронтов — прочное удержание в наших руках центральной части передового театра и путей, ведущих к северу и югу от нее в пределы России из Восточной Пруссии и Галиции…» Таким образом, великий князь Николай Николаевич еще надеялся на совместные действия с союзниками посредством наступления с передового театра, с левого берега Вислы. В свою очередь, германское командование уже намеревалось устроить русским гигантские «Канны» в Польше, окружив и уничтожив от четырех до шести русских армий Северо-Западного фронта, которым с марта командовал бывший начальник штаба Юго-Западного фронта ген. М.В. Алексеев.
Категорический приказ Ставки «Ни шагу назад!», изданный в условиях, когда маневренные отступательные действия сберегали бы жизни десятков и сотен тысяч людей, стал основной причиной пассивности русских фронтов в стратегическом отношении. Отступать все равно приходилось, ибо на каждый русский снаряд австро-германцы отвечали десятью, но убитых было уже не вернуть. Великий князь Николай Николаевич был готов драться на существующих рубежах, лишь бы не отступать из Польши, что грозило успехом замышляемого противником планирования «Больших Канн». Однако генералу Алексееву после долгих уговоров удалось уломать Ставку на постепенное отступление из Польши от рубежа к рубежу.
На совещании 22 июня армии Северо-Западного фронта все-таки получили разрешение на отступление из русской Польши. Однако, разрешив главнокомандующему армий Северо-Западного фронта ген. М.В. Алексееву приступить к отходу из Польши, Верховный Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, как всегда, не смог обойтись без ограничений. Ставка приняла решение эвакуировать польскую столицу — Варшаву, где была сосредоточена масса военного имущества, госпитали, государственные учреждения. По расчетам, эвакуация столицы Польши должна была занять три недели, и все это время требовалось удерживать предполье города. Время, отводимое на эвакуацию, одновременно являлось тем временем, в течение которого русские армии должны были удерживать за собой Польский выступ. По этой же причине было решено оборонять крепость Новогеоргиевск, так как эвакуировать ее не было возможности в связи с тем, что все свободные поезда подавались в Варшаву.
Соответственно, в течение трех недель (время, необходимое для эвакуации Варшавы) армии Северо-Западного фронта должны были удерживать свои позиции практически без права маневра, оплачивая кровью неадекватные сложившейся обстановке стратегические замыслы Ставки. В ходе сражений 3-й и 4-й армий на южном фасе русской Польши и 1-й и 5-й армий на северном фасе русские сумели продержаться необходимое время. Это стоило лишних жизней русских солдат и офицеров, так как маневрировать армиями главкосев-зап ген. М.В. Алексеев практически не мог. Четыре русские армии (12-я и 1-я на севере и 3-я и 13-я на юге) сдержали удар семи неприятельских армий, осуществлявших план «Больших Канн» в отношении всех русских армий, дравшихся в Польше. Уступив противнику в тактике, русские выиграли в стратегии. Все четыре русские армии потерпели тактическое поражение, понеся при этом значительные потери. Но ни одна из них не была разбита, ни одна не дала врагу возможности прорваться в тыл своего Северо-Западного фронта.
В то же время Верховный Главнокомандующий активно занимался тем, что отбрасывал от себя все подозрения в некомпетентности, взваливая вину за провалы на фронте на своих подчиненных. Военный атташе де Лагиш сообщал в Париж 12 июня 1915 года: «Великий князь Николай Николаевич в продолжительной беседе излагал мне трудности, с которыми он сталкивается при исполнении своих обязанностей главнокомандующего. Эти трудности заключаются в дальности расстояний и в том, что исполнители уверены в своей безнаказанности, так как дальность расстояния делает невозможным найти истинных виновников. Хотя я сам русский, я никогда не подозревал, что необъятность нашей страны окажет такое губительное действие. Этим положением вещей следует объяснить трудность в том, чтобы собрать честных людей и обеспечить производство оружия и снаряжения»[403]. Иными словами, Ставка делает все, чтобы исправить положение, но все и вся восстает против ее деятельности.
В это тяжелое время государственная власть была вынуждена пойти на уступки крупной буржуазии и передать в ее руки часть оборонных заказов. Приходилось крупно переплачивать, но иного выхода не было: казенная промышленность не справлялась с удовлетворением потребностей Действующей армии. Ставка сыграла громадную роль в передаче этих заказов и договоренностях с оппозиционными буржуазными лидерами. Образованные организации Союзов земств и городов (Земгор), а затем и военно-промышленные комитеты в своем развертывании опирались на поддержку великого князя Николая Николаевича. В результате, что касается этих организаций, «фактически под их прикрытием происходила организация оппозиции для будущего торга с правительством из-за послевоенных реформ… Незаметно для себя Ставка превращалась в средоточие надежд цензовой оппозиции. Именно в Ставке под нажимом Николая Николаевича и сгруппировавшегося вокруг Кривошеина большинства кабинета Николаю II пришлось в июне 1915 года пожертвовать четырьмя крайне правыми министрами (Н.А. Маклаковым, В.А. Сухомлиновым, В.К. Саблером и И.Г. Щегловитовым) и согласиться на возобновление заседания Думы, которую до того собирали только на короткие сессии 26 июля 1914 года и 27 — 29 января 1915 года»[404]. Таким образом, летом 1915 года вместо того, чтобы сгруппировать свои усилия для фронта, Ставка принимается активно вмешиваться во внутренние дела государства. Одновременно упрочились связи великого князя с либерально-буржуазной оппозицией. Это стало первой причиной будущего отстранения великого князя Николая Николаевича с поста Верховного Главнокомандующего. Чем дальше, тем больше Главковерх присваивал себе чужие властные полномочия.
Необходимо сказать еще о двух явлениях, предпринятых по инициативе Ставки Верховного Главнокомандования и благодарно воспринятых внутри страны ничего не понимавшим населением только потому, что во главе этих процессов стоял сверхпопулярный великий князь Николай Николаевич. Первое — это шпиономания. Еще в конце 1914 года, желая отвести от себя лично подозрения и обвинения в поражениях, Ставка принялась активно искать «шпионов» на театре военных действий, а затем и в тылу. Взять на себя всю ответственность за неудачи, причем взять ее не в верноподданнических телеграммах на имя царя, благо что Николай II и без того знал цену своему дяде, а перед обществом и народом руководители Ставки не отважились. Бесталанные военачальники стремились оправдаться перед общественным мнением страны, а тот объем власти, что принадлежал Ставке с началом войны, позволял прибегнуть к самооправдыванию в общегосударственном масштабе. Отстраненность царя от действий Ставки и его явное нежелание подрывать авторитет великого князя Николая Николаевича только способствовали действиям высшего генералитета во главе с Верховным Главнокомандующим.
В своем стремлении морального оправдания за допущенные стратегические ошибки и неумелое полководчество Ставка избрала наиболее порочный путь — поиск «предателей». Это явление встретило горячую поддержку «снизу», ибо и фронт, и тыл просто не могли поверить в столь вопиющую неготовность страны к современной войне. В свою очередь, контрразведка приграничных военных округов делала все возможное, чтобы «оправдать доверие», зачастую совершая трагические ошибки и даже преднамеренные преступления. Одними из первых в поражениях были обвинены все, кто носил фамилии немецкого происхождения.
В это время внутри страны уже начались репрессии по отношению к подданным неприятельских стран, которых отправляли в ссылку. При этом, для того чтобы оказаться вне подозрений, необходимо было иметь подданство с конца девятнадцатого столетия — с 1880 года. Всех прочих ссылали семьями. В том числе людей брали прямо из окопов — тех солдат, что уже сражались против центральных держав. Наиболее отвратительно шпиономания сказалась в отношении болгар после вступления в войну Болгарии осенью 1915 года на стороне Германии. Правда, семей офицеров это не касалось.
Но зато на фронте Ставка отдала негласное распоряжение стараться офицеров с немецкими фамилиями отправлять на Кавказский фронт. По иронии судьбы, именно на Кавказ будет отправлен в августе и сам великий князь Николай Николаевич. Жертвами шпиономании, за которыми стояла бесталанность высших штабов, уже пали командармы П. К. Ренненкампф и Шейдеман. В войсках подозрение могло пасть на каждого. Великий князь Николай Николаевич даже настоял на отстранении от должности начальника штаба Гвардейского корпуса графа Г.И. Ностица, обвиняя его в шпионаже. За генерала Ностица заступался сам император, но это не помогло. С.В. Фомин справедливо пишет, что «главным центром германофобии по отношению к русским немцам… была Ставка с великим князем Николаем Николаевичем во главе. Переоценка им своих способностей привела его, в конце концов, к крупным военным просчетам, а попытка оправдаться (или даже, если угодно, отвести от себя обвинения) — к раздуванию шпиономании и германофобии. Совершенные им на этом пути просчеты граничили с преступлениями, вели к трагическим ошибкам, носившим, к несчастью, необратимый характер»[405].
Другая задача была связана с так называемой «мясоедовской историей». В феврале 1915 года по обвинению в шпионаже и мародерстве был арестован некий полковник С.Н. Мясоедов, служивший начальником в одном из пограничных жандармских управлений и известный как ставленник военного министра. С «дела Мясоедова» шпиономания скатилась за ту грань, за которую невозможно ступить без опасности нанести ущерб своей стране и Вооруженным Силам. Военно-полевой суд, на созыве которого (и заранее вынесенном в Ставке приговоре) настаивал лично великий князь Николай Николаевич, отказался даже рассматривать дело, очевидно «шитое белыми нитками». Несмотря на тройной отказ, в середине марта полковник Мясоедов был повешен в Варшаве. Контрразведка Варшавского военного округа во главе с генералом Батюшиным поспешила «раздуть дело», произведя массовые аресты, после чего к массе людей были применены суды, высылки в глубь империи, тюремное заключение и прочие меры. В «низах» «дело Мясоедова» приобретало порой совсем уже невероятную окраску, раздуваемую дикими слухами. Отступавшие войска с удовольствием муссировали слухи, так как не могли найти оправдания своим поражениям.
Но главный результат «мясоедовского дела» для великого князя Николая Николаевича — 13 июня 1915 года ген. В.А. Сухомлинов был отставлен с поста военного министра, 15 июля было начато следствие по обвинению в «противозаконном бездействии, превышении власти, служебных подлогах, лихоимстве и государственной измене»; также по обвинению в «заведомом благоприятствовании Германии в ее военных против России операциях» и сознательном «парализовании русской обороны». В конце апреля 1916 года бывший военный министр будет заключен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Развязав кампанию «шпиономании» и начав ее с удара по военному министру, великий князь Николай Николаевич отвел обвинения от себя самого.
В итоге все неудачи стали объясняться одним — изменой верхов. Данная политика, развязанная Ставкой во имя самооправдания, стала одной из причин того, что в феврале 1917 года нация так легко отреклась от монархии — ведь император был окружен «шпионами», начиная со своей супруги, а потому и сам был «шпионом». Волна недовольства, спровоцированная Ставкой и властями всех уровней, пока загонялась вглубь, чтобы в самом скором времени вырваться наружу мощной революционной волной. Теперь уже ни сверхпопулярный за счет популизма и клеветы Верховный Главнокомандующий, ни сам император не смогли бы вернуть ситуацию к статус-кво, даже и осознав, что на волю рвутся те силы, что ни в коем разе не должны получить свободы.
Вторым негативным явлением стала принудительная эвакуация населения приграничных территорий в глубь Российской империи. Во-первых, Ставка отдала распоряжение угонять впереди отступавших войск всех мужчин от восемнадцати до пятидесяти лет включительно. Параллельно с этим должны были уничтожаться запасы продовольствия и фуража на оставляемых территориях, а равно уводиться скот и сжигаться посевы. Понятно, что семьи угоняемых на восток мужчин при таких условиях, обрекавших их на неминуемую гибель от голода, отправлялись вслед за своими кормильцами, мужьями, братьями и сыновьями. Тысячи людей, прежде всего стариков и детей, гибли в пути. Чтобы не умереть с голоду, женщины за бесценок работали на возведении укрепленных полос на пути отхода русских армий. Участник войны писал: «Летом 1915 года, во время общего отступления русских армий, происшедшего главным образом вследствие бездарности высшего командования, великий князь Николай Николаевич вздумал применить пресловутый скифский план ведения войны, а именно: он «повелел» опустошать оставляемую территорию, жителей же ее принудительно выселять во внутренние губернии. В условиях XX века такая мера весьма мало повредила неприятелю, но зато создала крупные затруднения в России, увеличив число населения, нуждавшегося в прокормлении и в жилищах… Что касается самих беженцев, то названным «повелением» они были превращены в нищих и обречены на голод, холод и болезни, от которых погибла большая часть детей»[406]. Более четырех миллионов беженцев наводнили внутренние губернии Российской империи.
Железные дороги встали и оправиться от последствий эвакуации уже не смогли, что зимой 1917 года вызвало кризис снабжения страны и фронта. Хаотичное отступление и не менее хаотичная эвакуация, вызываемая цейтнотом, породили к жизни критические крены в управлении войсками. Именно период Великого отступления 1915 года стал «первой ласточкой» грядущего разложения русских Вооруженных Сил в 1917 году. Склонность определенной части военнослужащих (прежде всего командного состава тыла, глядя на который поступали солдаты) к разбою и мародерству, замеченная уже в период победоносного наступления в Галиции, выкристаллизовалась в 1915 году, когда неприятелю оставлялись Польша и Литва. Приказы Ставки о том, что оставляемая неприятелю территория «должна быть превращена в пустыню», не только дезорганизовали тыл и инфраструктуру явлением беженства, но и привили войскам привычку к грабежу и насилию в отношении мирного населения.
Но и это не все. В глубь России угонялись немецкие колонисты, галицийские украинцы и евреи поголовно. Приграничная полоса между Россией и Австро-Венгрией, как известно, была плотно населена евреями, которые составляли существенный процент населения в Галиции, а в России здесь вообще находилась черта оседлости. Ставка Верховного Главнокомандования объявила, что евреи все от мала до велика являются немецкими шпионами, а потому все они должны быть принудительно эвакуированы в глубь России. Никто в Ставке не подумал, что переселяемые внутрь империи люди в основном нерусские по своей национальной принадлежности. Зачем и во имя чего страна насыщалась русофобски настроенным элементом? При этом такой элемент являлся еще и озлобленным на Россию, так как в ходе эвакуации потерял все имущество, а зачастую и членов семьи. Во внутренние губернии выселялись австрийские евреи. Зачем внутри России были нужны австрийские евреи — не проще ли и не безопаснее ли было бы оставить их австрийцам?
Что же касается русских евреев, то они выселялись на восток, теряя все свое имущество, в то время как их дети призывного возраста, как правило, были на фронте. Что должны были думать эти солдаты о российской государственной власти? Помощник управляющего делами Совета Министров в 1914 — 1916 гг. А.Н. Яхонтов в своих известных записях 17 июля 1915 года отметил: «Евреи, которых, вопреки неоднократным указаниям Совета Министров, поголовно гонят нагайками из прифронтовой полосы… вся эта еврейская масса до крайности озлоблена и приходит в районы нового водворения революционно настроенной». Удивительно ли то, что в 1917 году вся Россия оказалась наводнена массами нерусского озлобленного на Россию населения, которое с головой бросилось в революционный процесс. Откуда эти люди появились в русской глубинке, где до того вообще не бывало евреев? Да оттуда же — по результатам деятельности великого князя Николая Николаевича, желавшего оправдаться в глазах нации за свою стратегическую некомпетентность. В громадном своем числе евреи не сами по себе, ничтоже сумняшеся, заявились в Центральную Россию, чтобы участвовать в революции, а были насильственно доставлены сюда русскими военными властями в период Первой мировой войны.
Игнорирование штабом Верховного Главнокомандующего великого князя Николая Николаевича правительства страны (Совета Министров) говорит о том, что зарвавшиеся в репрессивной политике «стратеги» штаба Ставки перешли уже те границы, где кончаются собственно военные полномочия и начинаются общегосударственные проблемы. Энергия воинствующей бездарности обратилась против своих же людей, теперь уже рассматриваемых в качестве резерва противника. Как ни странно, но популярность великого князя Николая Николаевича в армии и стране оставалась на высоте — значит, свое дело Ставка сделала. Ее деятелям удалось остаться в стороне от вины за поражения, и только по прошествии времени стало возможно отделить зерна от плевел.
Между тем Великое отступление продолжалось. 24 июля немцы вошли в оставленную Варшаву. Союзники же обещали помочь наступлением лишь в сентябре. А катастрофа назревала уже теперь, в половине лета. 7 августа почти без сопротивления пала крепость Новогеоргиевск. Трофеями немцев стали восемьдесят пять тысяч пленных и до тысячи орудий. Двумя днями ранее немцы взяли крепость Ковно, захватив здесь до двадцати тысяч пленных и более четырехсот орудий. Падение русских крепостей в Польше, помимо разочарования внутри страны, имело и международный резонанс. Например, англичане полагали, что Великое отступление русских армий в августе уже дало все основания думать, будто бы Россия проиграла войну.
В Ставке же совершенно растерялись. Протопресвитер Г. Шавельскии вспоминал, что великий князь Николай Николаевич, не стесняясь, рыдал в подушку и утверждал, что война проиграна. Кажется, что именно о великом князе пишет А.С. Кручинин, на самом деле характеризуя другого высокопоставленного участника Первой мировой и Гражданской войн — адмирала А.В. Колчака: «Адмирал был человеком волевым, упорно стремящимся провести в жизнь свои решения, с широким кругозором и мощным интеллектом, военачальником, выбиравшим обоснованные и во многом рациональные пути, — и именно поэтому, когда обстановка оказывалась более сложной, а военное счастье изменяло — удары оказывались, должно быть, слишком сильными и вызывали моральное перенапряжение и чрезмерно эмоциональную реакцию Верховного».
Вдобавок свои разногласия начались и в Ставке. Сознавая, что Верховный Главнокомандующий и его начальник штаба ведут дело к катастрофе, генерал-квартирмейстер ген. Ю.Н. Данилов пытался отстранить генерала Янушкевича от влияния на великого князя. Участник войны сообщает: «В служебной жизни Ставки, к сожалению, не было полного благополучия. Генерал Янушкевич, чувствуя свою полную неподготовленность к роли начальника штаба Верховного Главнокомандующего, всецело попал под влияние генерал-квартирмейстера генерала Данилова, уверенного в своих стратегических талантах. Данилов подчас совершенно игнорировал распоряжения уступчивого генерала Янушкевича и в то же время не сумел ужиться и был в тягость великому князю Николаю Николаевичу. Настолько, что был даже проект его замены генералом Н.Н. Головиным»[407]. Фронты сами руководили своими действиями, новый военный министр ген. А.А. Поливанов в заседании Совета Министров громогласно объявил, что «Отечество в опасности», и призвал укреплять Киев, Калугу, Псков и Новгород.
Тем не менее неприятельское наступление также постепенно выдыхалось. Армии Северо-Западного фронта пусть и с большими потерями, но сумели выйти из намечавшегося окружения, не оставив противнику ни одной дивизии в «котлах» (кроме крепостей). В этом главная заслуга принадлежит главнокомандующему армий Северо-Западного фронта ген. М.В. Алексееву, который твердо делал свое дело, не обращая внимания на тот хаос, что творила Ставка. В частности, генерал Алексеев запретил принудительную эвакуацию в зоне своей ответственности, и Ставка не решилась опротестовать этот запрет. Армии Юго-Западного фронта в конце августа — сентябре даже контратаковали, вынудив австрийцев остановиться в Галиции.
В этой ситуации не мог не встать вопрос о реорганизации управления Действующей армией. Северо-Западный фронт разделялся на два — Северный и Западный, а вскоре после этого было решено, что главкосевзап ген. М. В. Алексеев займет пост начальника штаба Верховного Главнокомандующего. Но не были секретом и намерения императора Николая II самому встать во главе Действующей армии. Правда, считалось, что это не более чем декларации, призванные подбодрить Верховного Главнокомандующего. Сотрудники Ставки полагали, что «великий князь Николай Николаевич на деле доказал свои исключительные способности как полководец. Россия давно уже не имела во главе своих вооруженных сил такого выдающегося вождя, и никто, даже в отдаленной степени, не был в состоянии его заменить…»[408].
В середине августа месяца в Ставку прибыли великий князь Николай Николаевич и ген. М.В. Алексеев. К этому моменту начальник штаба Верховного Главнокомандующего ген. Н.Н. Янушкевич уже получил новое назначение на Кавказский фронт и 18 августа сдал дела генералу Алексееву. Изначально подразумевалось, что М.В. Алексеев станет начальником штаба при великом князе Николае Николаевиче. Сам великий князь, тяготившийся лично ему симпатичным, но бесталанным для столь высокой должности ген. Н.Н. Янушкевичем, также предпочитал именно этот вариант. Но та паника, в которую впал Главковерх в конце августа, также не была забыта. Позднейший исследователь верно подметил: «Всегда уравновешенный Государь и был причиной резкого изменения положения на фронте после смены Верховного Командования. Уж, конечно, Государь не мог бы никогда плакать в подушку [после падения крепости Ковно] или задирать ноги, лежа на полу [о слухах отстранения Распутина от Двора], как это делал «мудрый полководец» Николай Николаевич»[409].
Тем не менее слухи о смене Верховного Главнокомандующего считались нереальными. В это просто не могли поверить, сравнивая императора и великого князя: «В предвоенный период Николай Николаевич был строгим и требовательным строевиком-кавалеристом на посту инспектора кавалерии, но без широких взглядов на роль и задачи ее в условиях современной войны. Его требовательность, часто выражавшаяся в несдержанных выходках против высоких начальников, создавала ему личных врагов… Для нас, постоянно с ним связанных по службе, он был человеком бесхарактерным, всецело шедшим на поводу у Янушкевича, Данилова и других. Никакой отваги он не проявил... К сугубо дурным сторонам Николая Николаевича как Верховного Главнокомандующего я лично отношу слабость воли и мелочность характера, проявлявшиеся в отсутствии твердого управления фронтами, в тщеславных расчетах при освещении «заслуг» Рузского под Львовом, в перенесении личной неприязни к Сухомлинову на деятельность его как военного министра. Однако превосходство Николая Николаевича над еще более слабовольным и менее дальновидным царем мы отчетливо понимали. Поэтому смена его царем была для всех нас неожиданной»[410].
Действительно, 21 августа в Ставку прибыл император Николай II и объявил о своем твердом решении принять Верховное Главнокомандование. Генералитету ничего не оставалось, как подчиниться монаршей воле. Прежде всего этому огорчились союзники. Представитель французского командования при русской Ставке де Лагиш сообщал в Париж о перемене российского Верховного Главнокомандования: «Я глубоко сожалею об этой мере, так как великий князь Николай Николаевич — кумир армии, и неизвестно, как воспримут его уход в военных кругах». А французский президент Р. Пуанкаре в начале сентября записывал: «Трудно установить в точности, чем вызвана немилость к великому князю Николаю Николаевичу. Правда, ему ставили в вину, что он предпринял наступление в Карпатах, не располагая достаточными средствами. Его порицали также за то, что он оставил гарнизон в Новогеоргиевске. Но, несомненно, удаление его вызвано другими причинами…»[411].
Бесспорно, смена великого князя Николая Николаевича в первую голову была продиктована тем, что вокруг него стали группироваться лица, недовольные существующим императором. В Ставке постоянно находились видные деятели оппозиции. Пропагандируемая «гениальность» великого князя Николая Николаевича как полководца усиленно внедрялась в умы, противопоставляя его царю. В такой ситуации, когда австро-германское наступление выдыхалось, а в Государственной Думе был образован Прогрессивный блок, поставивший целью своей деятельности борьбу с правительством, можно было ожидать любой авантюры.
Заняв пост Верховного Главнокомандующего, император Николай II лично возглавил фронт и тем самым вывел из игры фигуру великого князя Николая Николаевича, который вполне мог стать пешкой в игре политических сил. Бывший Главковерх получил назначение на Кавказ. Личные качества великого князя, помноженные на непрофессионализм его ближайших сотрудников, и не могли дать иного результата. Слишком много ошибок, в политической сфере порой граничивших с преступлением, совершил Верховный Главнокомандующий. Не сумев оправдать доверия императора, великий князь Николай Николаевич не оправдал и доверия армии, заменив действенный результат пропагандой дешевой популярности[412].
Главным результатом смены состава Ставки стало то обстоятельство, что должность начальника штаба Верховного Главнокомандующего занял ген. М.В. Алексеев. Профессиональным военным было понятно, что великий князь Николай Николаевич является лишь представительной фигурой. Реальное же руководство Действующей армией будет сосредоточено в руках генерала Алексеева. Например, адмирал А.В. Колчак на допросе 1920 года вспоминал, что «считал Николая Николаевича самым талантливым из всех лиц императорской фамилии. Поэтому я считал, что раз уж назначение состоялось из императорской фамилии, то он является единственным лицом, которое действительно могло нести обязанности главнокомандующего армии, как человек, все время занимавшийся и близко знакомый с практическим делом и много работавший в этой области. Таким образом, в этом отношении Николай Николаевич являлся единственным в императорской фамилии лицом, авторитет которого признавали и в армии, и везде. Что касается до его смены, то я всегда очень высоко ценил личность генерала Алексеева и считал его, хотя до войны мало встречался с ним, самым выдающимся из наших генералов, самым образованным, самым умным, наиболее подготовленным к широким военным задачам. Поэтому я крайне приветствовал смену Николая Николаевича и вступление Государя на путь Верховного Командования, зная, что начальником штаба будет генерал Алексеев, это для меня являлось гарантией успеха в ведении войны, ибо фактически начальник штаба Верховного Командования является главным руководителем всех операций. Поэтому я смотрел на назначение государя, который очень мало занимался военным делом, чтобы руководить им, только как на известное знамя, в том смысле, что верховный глава становится вождем армии. Конечно, он находится в центре управления, но фактически всем управлял Алексеев. Я считал Алексеева в этом случае выше стоящим и более полезным, чем Николай Николаевич»[413].
24 августа 1915 года великий князь Николай Николаевич покинул Ставку Верховного Главнокомандования. К. фон Клаузевиц указывал: «Мы утверждаем, что и подлинно умственная деятельность проста и легка на войне лишь на низших постах; с повышением же должности растут и трудности, а на высшем посту главнокомандующего умственная деятельность принадлежит к числу наиболее трудных, какие только выпадают на долю человеческого ума». Великий князь не оправдал своего высокого поста, не только не усилив организацию обороноспособности Российской империи в период Первой мировой войны, но и приложив массу усилий к подрыву этой боеспособности.
Действительно, кандидатура великого князя Николая Николаевича являлась наиболее приемлемой на должность Верховного Главнокомандующего. Но это говорит лишь о бедности николаевской России на военные таланты, о ненормальных отношениях внутри генералитета, когда ни один из генералов не мог получить высшего назначения, чтобы не оказаться в центре интриг, об одиночестве императора Николая II среди своих многочисленных подданных и даже родственников. Генерал Сухомлинов называл великого князя Николая Николаевича «злым гением России». И это во многом так.
После Ставки: от Наместника до эмигранта
Итак, после принятия Верховного Главнокомандования самим императором Николаем II великий князь Николай Николаевич был назначен на пост Наместника царя на Кавказе, главнокомандующего Кавказской армии и войсковым наказным атаманом кавказских казачьих войск. Как известно, царь заранее подготавливал для великого князя это место. В ходе переписки с прежним Наместником князем И.И. Воронцовым-Дашковым император просил его подать в отставку, чтобы иметь возможность отправить своего дядю на Кавказ, в своеобразную «почетную ссылку». Престарелый князь Воронцов-Дашков согласился с царем и для смягчения ситуации в июле был награжден орденом Св. Георгия 3-й степени. Прежний Наместник получил назначение на специально для него учрежденную должность: «состоять при Особе Его Величества». Однако в Петроград князь И. И. Воронцов-Дашков не поехал, а, будучи одним из богатейших людей России, остался на юге. В январе 1916 года он скончался.
Занимая пост Наместника на Кавказе и главнокомандующего Кавказской армии, князь И. И. Воронцов-Дашков не принимал участия в непосредственном руководстве боевыми действиями, всецело отдав войска Кавказской армии и разработку операций в ведение ген. Н.Н. Юденича, являвшегося командующим Кавказской армией. После смены фигуры Наместника особенных перемен не произошло. Генерал Юденич по-прежнему стоял во главе Кавказской армии и руководил войсками по собственному разумению.
С перемещением на Кавказ великий князь Николай Николаевич сделал попытку лично возглавить Кавказскую армию, но после соответствующих разъяснений из обновленной Ставки был вынужден удовлетвориться номинальным главнокомандованием и руководством тылом армии и администрацией кавказского края. Для генерала Юденича стало разве что больше разнообразных советников, так как вместе с великим князем Николаем Николаевичем на Кавказ прибыла многочисленная свита. Например, все тот же ген. Ф.Ф. Палицын, который в 1915 году состоял «в распоряжении» главнокомандующего армий Северо-Западного фронта ген. М.В. Алексеева, а теперь в том же положении оказался на Кавказе. Также при отставке с поста Верховного Главнокомандующего великий князь Николай Николаевич пожелал взять с собой полюбившегося ему ген. Н.Н. Янушкевича. Генерал Янушкевич был назначен помощником Наместника по военной части, а в сентябре 1916 года — еще и главным начальником снабжений Кавказской армии. Как говорили в Кавказской армии, теперь во главе войск стояли три Николая Николаевича — великий князь, Янушкевич и Юденич.
В действия Кавказской армии, твердо руководимой ген. Н.Н. Юденичем, великий князь Николай Николаевич практически не вмешивался, занимаясь делами края. Тем более что в боях 1915 года войска были несколько растрепаны и требовалось пополнить их, обучить и вновь перенести действия на территорию противника. В частности, великий князь Николай Николаевич возглавил Георгиевскую Думу Кавказской армии. Первым вмешательством нового Наместника в операции Кавказской армии явилось формирование отряда ген. Н.Н. Баратова, предназначенного для действий в Персии, чего от русской Ставки потребовали англичане. Однако ген. Н.Н. Юденич удержал планирование и проведение Хамаданской наступательной операции в Иране (17 октября — 3 декабря 1915 года) под своим контролем, и великому князю пришлось ограничиться дипломатическими усилиями да организацией снабжения корпуса генерала Баратова. Хотя юридически действительно корпус ген. Н. Н. Баратова подчинялся непосредственно Наместнику на Кавказе великому князю Николаю Николаевичу.
Более тяжелые последствия вмешательства Наместника в руководство Кавказской армией могла иметь Эрзерумская наступательная операция 28 декабря 1915 г. — 3 февраля 1916 г. Дело в том, что к весне 1916 года турецкая группировка на Кавказе должна была получить сильное подкрепление: вследствие эвакуации англо-французских войск с полуострова Галлиполи 2-я турецкая армия перебрасывалась на Кавказ. Ввиду господства на море русского Черноморского флота, турецкие войска двигались пешим порядком, почему и могли успеть лишь к весне. Дабы не оказаться перед лицом превосходных сил, ген. Н.Н. Юденич принял решение ударить первым и разгромить 3-ю турецкую армию, заодно взяв последнюю мощную турецкую крепость — Эрзерум.
На конец 1915 года численность русской Кавказской армии составляла до ста восьмидесяти тысяч штыков и сабель против ста десяти тысяч у турок, укрывшихся в Эрзерумском укрепленном районе. Однако разработан-ный штабом Юденича план операции против Эрзерума вызвал резкое неприятие великого князя и его помощников — Н.Н. Янушкевича (начальник Генерального штаба в марте — июле 1914 года, затем, до середины августа 1915 года, — начальник штаба Верховного Главнокомандующего) и Ф.Ф. Палицына (начальник Генерального штаба в 1905 — 1908 гг.). Генерал Палицын на втором этапе Эрзерумской наступательной операции даже приезжал в войска, чтобы в личной беседе отговорить генерала Юденича от продолжения наступления — уже в виде непосредственного штурма крепости Эрзерум.
Тем не менее ген. Н.Н. Юденич настоял на своем, и 28 декабря 1915 года части доблестной Кавказской армии бросились вперед. В крепостном предполье были разгромлены турецкие части прикрытия. Уже 7 января 1916 года части 1-го Кавказского корпуса ген. П.П. Калитина вышли к поясу фортов крепости Эрзерум. Следующим логическим шагом должен был стать штурм крепости, так как турецкие войска были деморализованы и морально надломлены. В этот момент великий князь Николай Николаевич, не веривший в успех штурма, приказал генералу Юденичу приступить к отводу войск в район Карса, удовлетворившись частной победой перед крепостью. Таким образом, в штабе Наместника успех сражения перед Эрзерумом признавался достаточным.
Однако противник потерял лишь четверть исходной группировки, и после прибытия 2-й армии из-под Стамбула турки все равно получали бы перевес в силах. В этой обстановке, когда нельзя было терять ни секунды, чтобы турки не успели оправиться от поражения и укрепить крепость еще более, генерал Юденич заявил, что берет на себя всю ответственность. Дабы не выслушивать напрасно не желавших рисковать тифлисских начальников, ген. Н.Н. Юденич лично переговорил с великим князем Николаем Николаевичем по телефону. Наместник на Кавказе уступил, но снял с себя всю ответственность, что лишний раз говорит о гражданской трусости великого князя Николая Николаевича, усугубленной Великим отступлением 1915 года.
Корень вопроса заключался в том, что для продолжения борьбы требовалось взять из крепости Карс стратегические запасы боеприпасов, так как все наличные патроны и снаряды были уже израсходованы. В Тифлисе же считали, что кризис вооружения, постигший русские Вооруженные Силы в 1915 году и ставший одной из главных причин поражений на австро-германском фронте, еще не окончился. Следовательно, нужно перейти к обороне, дабы не тратить напрасно боеприпасы. Один из сотрудников генерала Юденича, Б. Штейфон, пишет о приказе великого князя Николая Николаевича после успеха перед Эрзерумом не штурмовать самой крепости следующим образом: «Надо признать, что Августейший Главнокомандующий имел для этого основания. Русская армия только что закончила на Западном фронте свой «великий отход». Галлиполийская операция англо-французов потерпела полную неудачу. Всюду — и в России, и у союзников — царило приниженное настроение. Снарядный голод был далеко не изжит. Лишь недавние успехи Кавказской армии оживляли общий фон мрачности. В таких условиях великий князь считал абсолютно невозможным рисковать в случае штурма Эрзерума»[414].
Как бы то ни было, но без штурма крепости Эрзерум предыдущие бои теряли свой смысл. Тем более что победоносные войска, штаб Кавказской армии и, наконец, сам командующий ген. Н.Н. Юденич были уверены в своих силах и желании, победить. Вырвав уступку у великого князя Николая Николаевича, генерал Юденич продолжил Эрзерумскую операцию. В ходе боев с 8 по 30 января русские последовательно заняли все укрепления противника, непосредственно примыкавшие к крепости, и изготовились к штурму. В ночь на 30 января русская Кавказская армия бросилась на штурм крепости Эрзерум.
Вечером 3 февраля 39-я пехотная дивизия ген. Ф.Т. Рябинкина вошла в Эрзерум. Преследование бегущего неприятеля, организованное с целью окружения и дальнейшего полного уничтожения остатков 3-й турецкой армии, продолжалось еще шесть дней. Всего 3-я турецкая армия в Эрзерумской операции потеряла более шестидесяти тысяч человек (шестьдесят процентов первоначального состава) и почти всю технику (до четырехсот пятидесяти орудий). Русские потеряли около семнадцати тысяч человек убитыми, ранеными и обмороженными, в том числе около двух миллионов трехсот тысяч человек составили безвозвратные потери. Поражение под Эрзерумом не только оставило турецкий Кавказский фронт без войск и техники, но и открыло русским дорогу в глубь Малой Азии, так как теперь последняя турецкая крепость оказалась в руках русских.
За победу под Эрзерумом ген. Н.Н. Юденич 15 февраля 1916 года был награжден орденом Св. Георгия 2-й степени, сравнявшись тем самым с Наместником на Кавказе и августейшим главнокомандующим. Великий князь Николай Николаевич умел признавать свою неправоту. Лично явившись в Эрзерум после взятия крепости, он, сняв папаху, поклонился войскам Кавказской армии, а затем обнял генерала Юденича. С тех пор в действия Кавказской армии великий князь Николай Николаевич более не вмешивался.
1916 год на Кавказе прошел под знаком новых побед русской Кавказской армии. Взятие последнего турецкого порта на Черном море (кроме самого Стамбула) — Трапезунда, разгром турок в в Эрзинджанской и Огнотской операциях позволили русскому командованию на Кавказе получить громадный перевес сил. Перед русской Кавказской армией уже вплоть до Стамбула не оставалось ни сильных крепостей, ни надлежащим образом укрепленных позиций. Черное море полностью контролировалось русским Черноморским флотом вице-адмирала А.В. Колчака.
На кампанию 1917 года планировалось вторжение в Малую Азию и совместный с Черноморским флотом и десантными корпусами удар по Константинополю. Таких успехов на австро-германском фронте не было. Блестящая победа Брусиловского прорыва была нивелирована «ковельской мясорубкой», неудачей под Барановичами, а под конец года и разгромом Румынии. Несмотря на понижение статуса после Верховного Главнокомандования, Наместник на Кавказе мог в определенной степени торжествовать: номинально вверенным ему войскам неизменно сопутствовал успех.
Однако планы русской стороны были блокированы тяжелой зимой 1917 года. В это время в турецкой армии свирепствовал тиф. Русские же, удержавшись от эпидемии вследствие растянутости своих коммуникаций, голодали. Нехватка хлеба для Действующей армии (не столько в смысле его наличия, так как хлеба было достаточно, сколько в отношении его доставки, ибо развал транспорта и суровая зима достигли значительного крена) приняла столь широкие размеры, что военные власти осмелились на самовольство. Например, командующие военными округами приказывали заготавливать фураж «собственным попечением войск»; армии и корпуса посылали в тыловые губернии своих представителей для закупки продовольствия; главнокомандующие фронтов применяли практику реквизиций на территории войсковых районов. Что же касается непосредственно Кавказской армии, то Наместник на Кавказе великий князь Николай Николаевич в нарушение плана, выработанного Мукомольным Бюро особого совещания по обороне государства, вообще запретил вывоз продовольствия с Кавказа[415]. Местничество взяло верх над здравым смыслом.
Нарастание общего недовольства правящим режимом наряду с усталостью страны от затянувшейся войны в конце 1916 года позволило либерально-буржуазной оппозиции перейти в наступление против императора Николая II и его правительства. Прекрасно понимая, что Вооруженные Силы являются последним козырем в руках царя — Верховного Главнокомандующего, побить который практически невозможно, оппозиционные деятели Государственной Думы прибегли к тактике заговора. Чтобы обеспечить успех готовящемуся перевороту, либералы втягивали в заговор военных, в том числе и высших генералов.
При этом наивным в политическом отношении генералам внушалось, что дело ограничится лишь отстранением от государственного руля императрицы Александры Федоровны или максимум установлением регентства брата царя великого князя Михаила Александровича при малолетнем императоре Алексее Николаевиче. О реальных планах перехвата власти в пользу крупной олигархии генералитету, естественно, не сообщалось. Так, в той или иной степени из наиболее высокопоставленных военачальников в планы переворота были посвящены начальник штаба Верховного Главнокомандующего ген. М.В. Алексеев, главнокомандующий армий Северного фронта ген. Н.В. Рузский и главнокомандующий армий Юго-Западного фронта ген. А.А. Брусилов.
Не было забыто и о Наместнике на Кавказе. Его популярность в Действующей армии вполне могла сыграть на руку заговорщикам, чтобы свести вероятность подавления мятежа к минимуму. Этому способствовало и настроение в войсках, где великого князя Николая Николаевича явно предпочитали императору Николаю II в должности Верховного Главнокомандующего. Пример — Записка офицера-фронтовика в конце 1916 года о настроении войск Северного и Западного фронтов: «…все ожесточены против немцев, хотя нарастает желание скорее окончить войну, чему способствовали наши неудачи и сидение в окопах без активных действий… толкуют о бесполезности воевать, пока немцы сильны в самой России… всякую неудачу приписывают измене и предательству… Возможность того, что войска будут на стороне переворота и свержения династии, допустима, так как, любя Царя, они все же слишком недовольны всем управлением страны. Великий князь Николай Николаевич пользуется большой популярностью и любовью среди солдат… если бы он был Царем, немцы не были бы сильны в России»[416]. Как видим, старые легенды продолжали действовать. Да и лидерство великого князя в шпиономании не было забыто.
Впоследствии часть современников обвиняла великого князя Николая Николаевича в бонапартистских замашках, считая, что он желал занять трон Российской империи. Другая часть столь же рьяно отстаивала мнение, что Верховный Главнокомандующий никогда не подумал бы об этом. Но дело не в том, что великий князь Николай Николаевич хотел или не хотел стать императором. Дело в том, что именно в таком качестве воспринимали его всяческие и разнообразные силы, которые вели процесс к падению российской монархии вообще или как минимум к свержению императора Николая П. Например, в своем письме еще от 6 ноября 1914 года рейхсканцлер Т. фон Бетман-Гольвег пишет заместителю статс-секретаря МИДа Г. Циммерману: «Гуго Стиннес, заявляющий, что он имеет хорошие связи с Россией, рассказал мне позавчера, что великий князь Николай Николаевич хочет стать царем. Если он увидит, что путем пожинания военных лавров ему трона не получить, его можно будет деньгами сделать сторонником заключения мира»[417].
Известно, что великий князь Николай Николаевич превосходно знал о заговоре и планах либералов, которые в конце 1916 года предлагали ему сменить племянника на троне в результате производства дворцового переворота. Речь идет об известной миссии тифлисского городского головы А.И. Хатисова, масона и яростного оппозиционера, действовавшего по указанию главы Земгора князя Г.Е. Львова, вскоре возглавившего первое Временное правительство. Великий князь после некоторых колебаний отказался, но в конце февраля 1917 года ничего не сделал для того, чтобы спасти императора Николая II как самодержца, предпочитая присоединиться к мнению высшего генералитета о необходимости отречения. Само собой разумеется, что великий князь Николай Николаевич не сообщил императору о заговоре и планах заговорщиков, хотя размышлял над поступившим предложением три дня.
Бесспорно, все основные события происходили в Европейской России. До Кавказа докатывались только отклики тех процессов, что бурлили в феврале месяце в Петрограде, Пскове и Могилеве. Узнав о грозных событиях в Петрограде, император Николай II 27 февраля выехал из Ставки в столицу. Не сумев пробиться в восставший город, вечером 1 марта царский поезд прибыл в ставку Северного фронта — в Псков, откуда император намеревался руководить подавлением мятежа. Царь, имея сведения о готовившемся перевороте, рассчитывал на Вооруженные Силы, но не учел, что высший генералитет во главе с его ближайшим помощником ген. М.В. Алексеевым и наиболее авторитетным в военных кругах близким родственником великим князем Николаем Николаевичем поддержит революционеров.
Пока в Пскове главкосев ген. Н.В. Рузский убеждал императора в принятии условий уже самочинно образовавшегося Временного правительства — от ответственного министерства до отречения, в Могилеве начальник штаба Верховного Главнокомандующего ген. М.В. Алексеев блокировал любую возможность какого-либо из фронтов поддержать Николая II. В 10.15 утра 2 марта генерал М.В. Алексеев направил телеграммы на имя главнокомандующих фронтов, где не просто изложил требования М.В. Родзянко об отречении, но и указал свою собственную точку зрения о необходимости отречения царя и отстранения армии от событий революции в столице, предлагая оставить дело на «решения сверху». На этих телеграммах главкомам настоял сам царь, пытаясь получить поддержку хоть где-либо, раз в ней фактически отказывал Северный фронт в лице генерала Рузского. Главкоюз ген. А.А. Брусилов твердо поддерживал Алексеева и Рузского. Однако колебания главкозапа А.Е. Эверта и помглавкорума В.В. Сахарова были разрушены самим характером алексеевской телеграммы, отчетливо показавшей, на чьей стороне Наштаверх и Северный фронт.
С утра 2 марта ген. Н.В. Рузский стал убеждать императора в немедленном отречении, что свидетельствует о синхронности действий штабов Ставки и Северного фронта. Ведь ночью генерал Рузский более двух часов разговаривал по телефону с председателем Государственной Думы М.В. Родзянко, получая, очевидно, последние необходимые инструкции. Царь колебался, все еще на что-то надеясь, но решающим доводом стали ответы главнокомандующих, полученные в Пскове к двум часам дня. Все запрошенные генералом Алексеевым лица: генералы А.Е. Эверт, А.А. Брусилов, В.В. Сахаров, адмирал А.Н. Непенин, великий князь Николай Николаевич, сами М.В. Алексеев и Н.В. Рузский — высказались за необходимость отречения императора от престола. Причем доминирующим мотивом в этом решении служило стремление обеспечить возможность доведения России до победного конца в войне.
Если Алексеев и Рузский состояли в заговоре, Брусилов был обижен на императора за недооценку Брусиловского прорыва, а Эверт и Сахаров проявили конформизм, то чем руководствовался великий князь Николай Николаевич, не вполне ясно. Неужели неприязнь его семьи к семье императора могли зайти так далеко? Или это была обида за отстранение с поста Верховного Главнокомандующего в августе 1915 года? В своем сообщении великий князь Николай Николаевич «коленопреклоненно» просил царя уступить и отречься от престола, чтобы спасти страну и монархию: «Я, как верноподданный, считаю, по долгу присяги и по духу присяги, необходимым коленопреклоненно молить ваше императорское величество спасти Россию и вашего наследника, зная чувство святой любви вашей к России и к нему. Осенив себя крестным знаменьем, передайте ему — ваше наследие. Другого выхода нет. Как никогда в жизни, с особо горячей молитвой молю Бога подкрепить и направить вас».
Интересно, что телеграмма Наместника на Кавказе великого князя Николая Николаевича о необходимости отречения в преамбуле имеет и такие строки: «Генерал-адъютант Алексеев сообщает мне создавшуюся небывало роковую (здесь и далее выделено мною. — Авт.) обстановку и просит меня поддержать его мнение — что победоносный конец войны, столь необходимый для блага и будущности России, и спасения династии, вызывает принятие сверхмер». Это говорит о том, что на Кавказе ситуация была воспринята так, как ее представила Ставка. А если помнить, что великий князь Николай Николаевич был готов к событиям (миссия Хатисова), то становится ясно, что ответ Наместника был продуман заранее.
Таким образом, император Николай II отрекся от престола в ситуации, когда Вооруженные Силы, в лице всех без исключения руководителей Действующей армии, отказали своему Верховному Главнокомандующему и сюзерену в поддержке. Известно, что царь особенно рассчитывал на своего дядю, и его сломала именно телеграмма от великого князя Николая Николаевича. «Коленопреклоненность» Наместника на Кавказе никого не могла обмануть. В условиях отсутствия выбора решение императора могло быть только одним, раз против него стояли и восставшая столица, и нарушивший присягу генералитет.
Последним распоряжением царя, который еще верил в искренность заверений оппозиционеров о сохранении монархии, стало назначение на пост Верховного Главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, начальником штаба — ген. М. В. Алексеева. Свидетельства восприятия отречения солдатами не сильно разнятся друг от друга. Отречение императора Николая II было ожидаемо и подготовлено оппозиционной печатью, хотя само падение монархии воспринято с некоторым удивлением. Известие было встречено в Действующей армии с «недоумением», «спокойствием», «отчасти с удивлением», «ошеломлением», «ликованием в технических командах, санитаров, писарей и т.п.». Часть солдат была возмущена отстранением фронтовиков от решения проблемы такой важности; многие, особенно старики и кадровики, сожалели о царе.
Но это что касается собственно императора Николая П. Назначение же Верховным Главнокомандующим великого князя Николая Николаевича было встречено с единодушным ликованием. Телеграмма с Западного фронта в Ставку 6 марта 1917 года гласила: «Назначение Его Высочества Главковерхом встречено с радостью, с верою в победу и прекращение немецкого засилья… нижние чины приняли манифест [об отречении] спокойно… отчасти с удивлением, во многих [частях] заметно жалеют Государя Николая II… назначение великого князя Главковерхом встречено восторженно». Вскоре начальник штаба Западного фронта генерал Квецинский доносил начальнику штаба Верховного Главнокомандующего 6 марта 1917 года: «Все верят в то, что Его Высочество даст сильную твердую власть в армии, а с нею порядок и победу… Многими нижними чинами новый порядок приветствуется в уверенности, что он будет связан с полным удовлетворением оставшихся семей пайком и устранением продовольственной разрухи»[418].
Таким образом, для великого князя Николая Николаевича отречение его племянника и неминуемое крушение монархии стало очередным триумфом. Выехав в Могилев, новый-старый Верховный Главнокомандующий видел везде восторженный прием от военнослужащих различного ранга и положения. Такой поворот не мог остаться незамеченным Временным правительством, никак не ожидавшим, что, помимо образовавшегося и уже начавшего разваливать империю Совета рабочих и солдатских депутатов, появляется еще один центр силы. Вся Действующая армия без исключения — и монархисты, и республиканцы, и колеблющееся «болото» — приветствовала великого князя Николая Николаевича как своего бесспорного и авторитетного вождя. Этого Временное правительство не ожидало, а потому поспешило убрать новоявленного Верховного Главнокомандующего со сцены, закрепляя победу олигархии у руля опрокидывающейся в пропасть страны.
Великий князь Николай Николаевич даже не доехал до Ставки, когда его поспешили заменить (письмо главы Временного правительства о замене великий князь получил уже в Ставке), опасаясь реставрации. Этот факт лишний раз говорит об истинных намерениях так называемых «монархистов» среди членов Государственной Думы, подготовивших и совершивших государственный переворот. Дело заключалось отнюдь не в тех или иных политических воззрениях, а исключительно в жажде власти. Ведь понятно, что рано или поздно великий князь Николай Николаевич должен был бы выступить против того бедлама, в который бросали Россию «временщики».
Само собой разумеется, что главной ссылкой на необходимость отстранения великого князя Николая Николаевича от должности Верховного Главнокомандующего послужило «народное мнение», при полном игнорировании настроений солдатских масс фронта. В частности, в письме князя Г.Е. Львова, возглавившего Временное правительство, говорилось: «Создавшееся положение делает неизбежным оставление Вами этого поста. Народное мнение решительно и настойчиво высказывается против занятия членами Дома Романовых каких-либо государственных должностей. Временное правительство не считает себя вправе оставаться безучастным к голосу народа, пренебрежение которым могло бы привести к самым серьезным осложнениям. Временное правительство убеждено, что Вы, во имя блага родины, пойдете навстречу требованиям положения и сложите с себя еще до приезда Вашего в Ставку звание Верховного Главнокомандующего». А ведь, как говорилось выше, всего два месяца назад князь Львов через своего посланника А.И. Хатисова предлагал великому князю Николаю Николаевичу не более и не менее, как трон Российской империи.
11 марта, сдав Верховное Главнокомандование ген. М.В. Алексееву, великий князь Николай Николаевич уехал из Ставки. На своей шкуре он, спустя всего неделю после отречения императора Николая II, испытал благодарность дорвавшейся до власти олигархии и «высшую справедливость» за предательство своего сюзерена. После своей отставки великий князь Николай Николаевич проживал в имениях императорской фамилии в Крыму. После большевистского переворота октября 1917 года он был арестован, но в апреле 1918 года освобожден оккупировавшими значительную часть бывшей Российской империи согласно Брест-Литовскому мирному договору германскими войсками. Это позволило великому князю Николаю Николаевичу избежать судьбы, постигшей большинство членов Дома Романовых, в том числе и всей императорской семьи, — физического истребления в ходе «красного террора». Интересно, какие чувства испытал бывший Верховный Главнокомандующий, когда враги, которых он ненавидел, спасли его от уничтожения со стороны соотечественников?
Первоначально великий князь Николай Николаевич фигурировал в качестве претендента на русский престол в планах некоторых антибольшевистских сил монархического уклона. Однако резко антимонархическая позиция белогвардейского руководства Вооруженных Сил Юга России, прикрывавшаяся маской так называемого «непредрешенчества», опрокидывала все эти планы. Да и сам великий князь, потрясенный событиями и гибелью массы родственников, не был готов к продолжению политической борьбы.
В 1919 году на борту английского крейсера «Мальборо» великий князь Николай Николаевич навсегда покинул Россию, став, подобно миллионам своих соотечественников, эмигрантом. Первоначально он проживал в Италии, а с 1922 года — во Франции, которой было за что благодарить бывшего русского Верховного Главнокомандующего. В среде белой эмиграции великий князь Николай Николаевич считался одним из претендентов на российский престол, что лишний раз подтверждает то обстоятельство, что мнение самого великого князя мало что решало — бонапартистски настроенные военные круги видели его императором ив 1915 году.
При этом, что характерно, большая часть военных отказывала в праве на престол великому князю Кириллу Владимировичу, который являлся законным претендентом на русский трон после гибели Николая II, цесаревича Алексея и великого князя Михаила Александровича, согласно порядку указа о престолонаследии императора Павла I. Но если роль великого князя Кирилла Владимировича в событиях Февраля была просто некрасивой (присяга Временному правительству во главе своего Гвардейского экипажа, с красным бантом на шинели), то роль великого князя Николая Николаевича — одной из ключевых, ибо только на него до последней минуты надеялся загнанный в угол высшими генералами император Николай И. Великий князь Николай Николаевич в эмиграции являлся номинальным руководителем всех русских заграничных организаций. Особенно — после смерти в 1926 году ген. П.Н. Врангеля. Однако активного участия в политической деятельности великий князь Николай Николаевич не принимал, стараясь устраниться от жизни эмиграции.
Великий князь Николай Николаевич явился первым в истории России Верховным Главнокомандующим. Его смена царем в августе 1915 года преподносится как один из ключевых моментов в участии Российской империи в Первой мировой войне, после чего Россия якобы стала скатываться к поражению. Многочисленными историками, за редкими исключениями, отмечается нежелательность назначения императора Николая II Верховным Главнокомандующим. При этом первоочередной причиной выдвигается тезис об отсутствии соответствующей военной компетенции царя-«полковника». Следовательно, предполагается, что в военном отношении генерал от кавалерии великий князь Николай Николаевич стоял несоизмеримо выше Николая II. Напомним в связи с этим утверждением несколько характерных моментов полководчества великого князя:
1) образование третьего операционного направления (на Берлин) в самом дебюте военных действий. Очевидно, что в случае отказа Ставки пойти на поводу у союзников резервы не перебрасывались бы в район Варшавы, ослабляя оба русских фронта, наступавших в Галиции и Восточной Пруссии. Однако великий князь Николай Николаевич был восторженным апологетом русско-французского союза и потому, напротив, с радостью воспринял политическое давление со стороны французов. В итоге 2-я армия потеряла один армейский корпус (передан в 1-ю армию, откуда один корпус убыл под Варшаву), при наличии которого, возможно, сражение в Восточной Пруссии было бы выиграно русскими. Помимо того, русские 4-я и 5-я армии Юго-Западного фронта потерпели поражение в начале Галицийской битвы, и лишь ошибки австро-венгерского командования да нехватка у него сил не позволили австрийскому главкому ген. Ф. Конраду фон Гётцендорфу превратить это поражение в разгром. Впоследствии образование 9-й армии из варшавской группировки позволило вырвать победу из рук австрийцев, что ставится великому князю в заслугу. Однако наверняка, будь эти корпуса на своих местах, русские фронты вообще не потерпели бы поражений.
2) невзирая на свой несомненный авторитет в армии, великий князь Николай Николаевич не мог отстранять от должности даже командармов, что являлось прерогативой императора. Напротив, ген. Н.В. Рузский после Львова не только не был снят со своего поста командующего 3-й армией, но получил сразу два Георгиевских креста за один «подвиг», который был раздут до общенациональных масштабов. Этой профанацией Ставка пыталась прикрыть собственную бездарность в руководстве Действующей армией.
3) в период проведения Варшавско-Ивангородской и Лодзинской операций Ставка самоустранилась от руководства войсками, передав его в руки командующих фронтами, причем в первой из этих операций общее руководство осуществлялось фронтами по очереди. Предпринимая вместо жестких указаний метод постоянных совещаний с командующими фронтами, великий князь Николай Николаевич скорее даже мешал организации подготовки и проведения операции, раз уж он не пожелал непосредственно руководить ими.
4) самоубийственное наступление в Карпатах зимой 1914/15 года, предпринятое под давлением штаба Юго-Западного фронта, уничтожило последние остатки боеприпасов и человеческих резервов накануне решительного наступления противника на Восточном фронте. Великий князь Николай Николаевич знал о назревшем кризисе вооружения, однако продолжил бессмысленно-преступное уничтожение остатков мирного времени.
5) принцип Ставки «ни шагу назад» весной — летом 1915 года стал главной причиной уничтожения последних кадров русской армии.
6) не умея руководить войсками, великий князь Николай Николаевич не имел и благородства: на военного министра были не только свалены все грехи Ставки (как будто бы у Сухомлинова и так было мало грехов), но и вымышлены несуществующие. Именно Ставкой была развязана беспрецедентная кампания шпиономании, которая стала одной из главных причин краха русской монархии в феврале 1917 года.
7) в наиболее тяжелые дни отступления 1915 года великий князь Николай Николаевич впал в панику, что еще больше дезорганизовывало управление армиями. Именно после этого для императора Николая II стало очевидно, что его дядя не годится для поста Верховного Главнокомандующего.
8) в феврале 1917 года, наряду с прочими высшими военными начальниками, великий князь Николай Николаевич в телеграмме на имя императора высказал свое положительное мнение по поводу отречения Николая II от престола. Тем самым в кризисные дни бывший Главковерх отвернулся от своего венценосца, сюзерена, родственника и Верховного Главнокомандующего.
5 января 1929 года по новому стилю великий князь Николай Николаевич скончался в городке Антиб и был похоронен в русской церкви города Канны. Его эпопея закончилась. Никаких воспоминаний или иных мемуаров после себя великий князь Николай Николаевич не оставил.
Заключение
Как показано в работе, русская конница периода Первой мировой войны не оправдала «кредита доверия». В конечном итоге, невзирая на своеобразие Восточного фронта, Ставка была вынуждена перейти к сокращению кавалерии по образцу союзников и противников. Однако, как представляется, этот процесс не был неизбежен. О том, что кавалерия «отжила свое», любили говорить те, кто не умел организовать взаимодействие конницы с прочими родами войск и не мог правильно и компетентно распорядиться действиями мобильных сил. Бесспорно, опыт Первой мировой войны показал, что век кавалерии стремительно уходит в прошлое: настала эра машин, то есть механизированных соединений из броневиков и танков, подкрепляемых мотопехотой. Скорострельное оружие и дальнобойная артиллерия выявили всю уязвимость кавалерии в современной войне. Но это все было ясно уже и после русско-японской войны 1904 — 1905 гг. Следовало совершенствовать тактику действий конницы, чтобы надлежащим образом использовать ее в общевойсковых операциях.
Из основного рода войск конница превратилась во вспомогательный, но значит ли это, что ее надо было упразднить вовсе? Ведь если забегать вперед колесницы, то можно вместе с водой выплеснуть и ребенка. Упадок конницы наметился еще в эпоху наполеоновских войн, когда и сам Наполеон решал исход генеральных сражений концентрированным огнем артиллерии. К. фон Клаузевиц в своем великом труде пишет: «…без артиллерии труднее обойтись, чем без кавалерии, ибо она представляет главное начало истребления, и действия ее в бою более тесно слиты с действиями пехоты… так как в деле истребления артиллерия представляет наиболее сильный род войск, а кавалерия — наиболее слабый, то в общем вопрос надо ставить так: до какого предела можно усиливать артиллерию без особого ущерба и каким минимальным количеством кавалерии можно обойтись?» В любом случае возможности каждого рода войск должны были быть использованы по максимуму. Особенно если речь идет о высокоманевренных войсках, столь необходимых в первую голову в наступлении (нельзя забывать, что Клаузевиц в своем незаконченном труде показал, что оборона является сильнейшим видом боя по сравнению с наступлением, не успев опровергнуть самоё себя).
В годы Первой мировой войны конница еще могла сыграть свою роль, особенно на Восточном фронте, отличавшемся чрезвычайной протяженностью, что естественно влекло за собой большую разреженность боевых порядков в стратегическом масштабе, нежели на Западе. Только кавалерия могла помочь пехоте преодолеть сложившийся «кризис позиционности» в силу своей специфики. Однако как раз этому русская кавалерия до войны не обучалась вовсе, действуя как будто бы по канонам девятнадцатого столетия. Прежде всего — ударом в сомкнутом конном строю — «шоком». То есть — саблей на пулеметы и окопавшуюся пехоту. Вот это уже совсем другая история, за которую следовало бы «благодарить» как военное ведомство и Генеральный штаб вообще, так и кавалерийских начальников во главе с их шефом великим князем Николаем Николаевичем в частности.
Точно так же кавалерийские начальники в своем подавляющем большинстве не пожелали учиться опыту войны, и сокращение кавалерии зимой 1917 года стало закономерным итогом. Прежде всего сказалось неумение действовать большими конными массами. А.К. Кельчевский выделяет следующие основные моменты в ходе войны, когда русские должны были активно использовать свою сильную кавалерию для достижения решительных результатов:
1) действия стратегической конницы 1-й армии во время Восточно-Прусской наступательной операции августа 1914 года;
2) преследование австро-германцев после отхода их от Варшавы в ходе Варшавско-Ивангородской наступательной операции октября 1914 года;
3) отсутствие действий кавалерии для срыва неприятельского сосредоточения посредством железнодорожных перебросок перед началом Лодзинской оборонительной операции ноября 1914 года;
4) неумение ввести в прорыв конницу после успешного преодоления пехотой 9-й армии австрийских укрепленных рубежей под Гайворонкой во время контрудара на реке Стрыпа в сентябре 1915 года;
5) ненадлежащее использование конных масс в период Луцкого прорыва мая — июня 1916 года[419].
В период Гражданской войны 1918 — 1921 гг. в России кавалерия переживала свое «второе рождение». Немногочисленные армии на узких фронтах, в разоренной стране, прикованные к железным дорогам, активно использовали конницу, воспользовавшись к тому же столь гениальным, хотя и запоздавшим в историческом измерении изобретением, как тачанка. Неудивительно поэтому, что на востоке Европы еще долгое время делали ставку на кавалерию как на тот род войск, что будет активно использоваться в будущих войнах в качестве незаменимого подспорья пехоте и бронетанковым соединениям. Осмысливая опыт прошедших войн, в Советском Союзе еще долгое время полагали, что конница еще «покажет себя». Основные требования к кавалерии по опыту войн:
«1. Как общее правило, конница не будет иметь возможности вести конные атаки крупными соединениями.
В большинстве случаев бои в конном строю будут вести эскадрон, дивизион и редко полк. Однако в условиях восточно-европейского и колониального театров все же возможны и конные атаки более крупных соединений.
2. Боевая работа спешенной кавалерии должна быть построена совершенно так же, как и в пехоте, особенно в позиционной войне.
3. Имея назначение подвижного огневого резерва, организация конницы требует большого насыщения огнестрельным оружием и техникой. При переходе из конного строя в пеший каждое конное подразделение должно дать определенную пешую тактическую единицу, необходимую для боя.
4. Конница, обладающая свойством подвижного огневого резерва и могущая вести бой как в конном строю небольшими частями, так и комбинированный — крупными соединениями, не может быть заменена ездящей пехотой. Вот те основные требования, кои предъявляются всеми западноевропейскими государствами к коннице и положены в основу организации»[420].
Потребовалось бурное развитие техники (появление танков), чтобы кавалерия окончательно превратилась во вспомогательный род войск, а затем и ушла в прошлое.
Конница в начале двадцатого столетия уступила свое место более защищенным и мощным в огневом отношении мобильным войскам — движущейся артиллерии — танкам. Всплеск роли кавалерии в Гражданской войне — это локальный опыт, основанный на технической слабости обеих сторон, действовавших к тому же на обширных степных пространствах, в условиях малочисленности артиллерии и широкой применяемости пулеметов. Тачанка стала выдающимся изобретением Гражданской войны, но уже неприменимым в борьбе против современных европейских армий, оснащенных броневиками и танками.
Сам конь все еще продолжал оставаться в рядах Вооруженных Сил, но уже не в качестве кавалерии как основного рода войск, а в обозах, охранных частях, подразделениях, применяемых в специфических условиях (например, советские конно-механизированные группы 1943 — 1944 гг. на Украине или казачьи части вермахта в Югославии). Чем более было развито в промышленном отношении, тем больше сухопутная армия наполнялась грузовиками в тылах и танками в окопах. Скорострельное дальнобойное оружие не оставляло кавалеристу шанса выжить на поле боя. Тем более — выполнить свою боевую задачу. Русские военачальники, даже из бывших кавалеристов (например, ген. А.А. Брусилов), уже в период Первой мировой войны, как только стало ясно, что борьба ведется в позиционной форме, стали сокращать свою многочисленную конницу. Сужение поставленных перед конниками боевых задач (разведка, преследование в тактическом отношении, применение в качестве ездящей пехоты) продолжалось всю Первую мировую войну, в результате совершенно убрав конницу из боевых рядов на Западном фронте и резко сократив ее количество на фронте Восточном. Представляется, что, не будь в России столь большого количества «природной конницы» — казаков, число конных дивизий к 1917 году было бы существенно меньшим.
Для конницы Первая мировая война стала «лебединой песней». Затраты на этот род войск и героизм русских солдат и офицеров не смогли окупить результаты использования кавалерии на полях сражений со стороны командования. И если в период маневренной войны конница с достоинством выполняла возложенные на нее задачи, то с переходом к позиционной борьбе роль кавалерии стала стремиться к малым величинам. Австро-германский фронт, как и Французский или Итальянский, стал правилом, утверждавшим, что наступает «век моторов»; Кавказский фронт — победоносным исключением для русского оружия. Тем больше интереса может вызывать Первая мировая война для нашего современника.
Избранная библиография
Балк В. Развитие тактики в мировую войну. Пг. 1923.
Баторский М. Служба конницы. М., 1925.
Брандт Г. Современная конница. М., 1936.
Брусилов А. А. Мои воспоминания. М, 1983.
Волков С.В. Русский офицерский корпус. М., 1993.
Восточно-Прусская операция. Сборник документов империалистической войны. М., 1939.
Гатовский В. Конница (Свойства и средства. Строи и порядки). М., 1925.
Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. М., 2001.
Данилов Ю.Н. Россия в мировой войне 1914 — 1915 гг. Берлин, 1924.
Келлер Ф.А. Несколько кавалерийских вопросов. Спб., 1910. Вып. 2; 1914. Вып. 3.
Керсновский А.А. История русской армии. М., 1994.
Корольков Г. Несбывшиеся Канны. М., 1926.
Луцкий прорыв. Труды и материалы. М., 1924.
Микулин В. Комбинированный бой конницы. М., 1928.
Мировые войны XX века. Кн.1: Первая мировая война: Исторический очерк. М., 2002.
Мировые войны XX века. Кн.2: Первая мировая война: Документы и материалы. М., 2002.
Наступление Юго-Западного фронта в мае — июне 1916 года. Сборник документов мировой войны. М., 1940.
Ненахов Ю.Ю. Кавалерия на полях сражений XX века: 1900 — 1920 гг. Мн., 2004.
Позек М. Германская конница в Литве и Курляндии в 1915 году. М.- Л., 1930.
Постижение военного искусства. Идейное наследие А. Свечина. Российский военный сборник. Вып. 15. М., 2000.
Рогвольд В. Конница 1-й армии в Восточной Пруссии (август — сентябрь 1914 г.). М., 1926.
Сливинский А. Конный бой 10-й кавалерийской дивизии генерала графа Келлера 8/21 августа 1914 года у д. Ярославице. Сербия, 1921.
Стратегический очерк войны 1914 — 1918 г. М., 1923. Ч. 1 — 6.
Суворов А.Н. Тактика в примерах. М, 1926.
Сыромятников А. Прорыв. Его развитие и парирование. М.-Л., 1928.
Хочешь мира, победи мятежевойну! Творческое наследие Е. Э. Месснера. М, 2005.
Шапошников Б.М. Конница (кавалерийские очерки). М, 1923.
Шапошников Б.М. Воспоминания. Военно-научные труды. М, 1982.
1
Цит. по: Ростунов И.И. Генерал Брусилов. М, 1964. С. 44.
(обратно)2
Нилланс Р. Генералы Великой войны. Западный фронт 1914 — 1918 М, 2005. С. 77.
(обратно)3
Казачество в Первой мировой войне 1914 — 1918 гг. М., 1994. С. 94.
(обратно)4
История русской армии. М, 1994. Т. 4. С. 220.
(обратно)5
Кавалеристы в мемуарах современников. 1900 — 1920. М, 2001. Вып. 3. С. 124.
(обратно)6
Гепнер Э. Война Германии в воздухе. Мн., 2005. С. 23.
(обратно)7
Данилов Ю.Н. Великий князь Николай Николаевич. М., 2006. С 146.
(обратно)8
Литтауэр В. Русские гусары. Мемуары офицера императорской кавалерии. M.f 2006. С. 10 — 11.
(обратно)9
Сливинский А. Конный бой 10-й кавалерийской дивизии генерала графа Келлера 8/21 августа 1914 года у д. Ярославице, Сербия, 1921. С. 50.
(обратно)10
Залесский П.И. Возмездие (причины русской катастрофы). Берлин, 1925. С. 86.
(обратно)11
Краснов П.Н. Воспоминания о Русской Императорской армии. М, 2006. С. 473.
(обратно)12
Данилов Ю.Н. Великий князь Николай Николаевич. М, 2006. С. 84 — 85.
(обратно)13
Деникин A.M. Старая армия. Офицеры. М, 2005. С. 379.
(обратно)14
Военная быль, 1968, № 89. С. 32.
(обратно)15
Келлер Ф.А. Несколько кавалерийских вопросов. Спб., 1910. Вып. 2. С. 17 — 19.
(обратно)16
Микулин В. Комбинированный бой конницы. М.г 1928. С. 25.
(обратно)17
Тюленев И. В. Через три войны. М, 2007. С. 82.
(обратно)18
Цит. по: Вопросы тактики в советских военных трудах (1917 — 1940 гг.). М., 1970. С. 174.
(обратно)19
Свечин А.Л. Эволюция военного искусства. М., 2002. С. 798.
(обратно)20
Кавалеристы в мемуарах современников. 1900 — 1920. М, 2001. Вып. 3. С. 22.
(обратно)21
Куропаткин А.Н. Русская армия. Спб., 2003. С. 550.
(обратно)22
Бескровный Л. Г. Русское военное искусство XIX века. М., 1974. С 357.
(обратно)23
Трубецкой B.C. Записки кирасира. М, 1991. С. 142.
(обратно)24
Рогвольд В. Усиленная разведка Маркграбова 14/1 августа 1914 года. М, 1926. С. 38 — 39.
(обратно)25
Литтауэр В. Русские гусары. Мемуары офицера императорской кавалерии. М., 2006. С. 108.
(обратно)26
Певнев А Л. Конница по опыту мировой и гражданской войн. М., 1924. С. 4 — 5.
(обратно)27
Керсновский А.А. История русской армии. М, 1994. Т. 4. С. 219; Баторский М. Служба конницы. М., 1925. С. 20.
(обратно)28
Ненахов Ю.Ю. Кавалерия на полях сражений XX века: 1900 — 1920 гг. Мн., 2004. С. 197.
(обратно)29
См.: Военное дело. Сборник статей по военному искусству. М., 1920. Вып. 2. С. 132.
(обратно)30
Матковский А.Ф. Самостоятельные действия крупных сил конницы на крыльях и в тылу неприятельских армий. Спб., 1911. С. 75.
(обратно)31
Рогвольд В. Конница 1-й армии в Восточной Пруссии (август — сентябрь 1914 г.). М, 1926. С. 159.
(обратно)32
Шапоишиков Б.М. Конница (кавалерийские очерки). М, 1923. С. 7.
(обратно)33
Керсновский А.А. История русской армии. М, 1994. Т. 4. С. 219 — 220.
(обратно)34
Марков О.Д. Русская армия 1914 — 1917 гг. Спб., 2001. С. 24.
(обратно)35
Волков С.В. Офицеры армейской кавалерии: Опыт мартиролога. М., 2004. С. 9.
(обратно)36
Головин Н.Н. Мысли об устройстве будущей Российской вооруженной силы. Белград, 1925. С. 215.
(обратно)37
Вооруженные силы иностранных государств. Вып.2. Сухопутные силы Германии. М., 1914. С. И.
(обратно)38
Михалев С.Н. Военная стратегия: Подготовка и ведение войн Нового и Новейшего времени. Мм 2003. С. 445.
(обратно)39
См.: Шацилло В.К. Первая мировая война 1914 — 1918. Факты. Документы. М, 2003. С. 78.
(обратно)40
Шапошников Б.М. Конница (кавалерийские очерки). М., 1923. С. 174 — 175.
(обратно)41
См.: Позек М. Германская конница в Литве и Курляндии в 1915 году. М.-Л., 1930. С. 104.
(обратно)42
Гатовский В.Н. Конница. М.-Л., 1927. Кн.1. С. 78.
(обратно)43
Краснов П.Н. Воспоминания о Русской Императорской армии. М., 2006. С. 402.
(обратно)44
Тактические поучения, извлеченные японцами из последней войны (пер. с японского). Спб., 1912. С. 93.
(обратно)45
Федосеев С.Л. Пулеметы русской армии в бою. М, 2008. С. 116.
(обратно)46
Развитие тактики русской армии (XVIII в. — нач. XX в.). М., 1957. С. 251.
(обратно)47
Литтауэр В. Русские гусары. Мемуары офицера императорской кавалерии. М., 2006. С. 120.
(обратно)48
Головин Н.Н. Галицийская битва. Первый период. Париж, 1930. С. 101.
(обратно)49
Матковский А.Ф. Самостоятельные действия крупных сил конницы на крыльях и в тылу неприятельских армий. Спб., 1911. С. 25.
(обратно)50
Певнев А. Машинизация современной конницы// Война и революция. 1925, № 1. С. 99.
(обратно)51
Тактические поучения, извлеченные японцами из последней войны. Спб., 1912. С. 93.
(обратно)52
Шапошников Б.М. Конница (кавалерийские очерки). M. 1923. С. 163.
(обратно)53
Матковский А.Ф. Самостоятельные действия крупных сил конницы на крыльях и в тылу неприятельских армий. Спб., 1911. С. 85.
(обратно)54
Цит. по: Суворов А. Н. Тактика в примерах. М, 1926. С. 342.
(обратно)55
Шапошников Б.М. Воспоминания. Военно-научные труды. М., 1982. С. 337.
(обратно)56
Войтоловский Л.Н. Всходил кровавый Марс: По следам войны. М., 1998. С. 16.
(обратно)57
Кавалеристы в мемуарах современников. 1900 — 1920. М., 2001. Вып. 3. С. 29 — 30.
(обратно)58
Волков С.В. Офицеры армейской кавалерии: Опыт мартиролога. М., 2004. С. 10.
(обратно)59
Матковский А.Ф. Самостоятельные действия крупных сил конницы на крыльях и в тылу неприятельских армий. Спб., 1911. С. 92.
(обратно)60
Брике Г. История конницы. М., 2001. Кн. 2. С. 303, 394.
(обратно)61
Деникин A.M. Очерки русской смуты. Борьба генерала Корнилова. Август 1917 г. — апрель 1918 г. М., 1991. С. 161.
(обратно)62
Ненахов Ю.Ю. Кавалерия на полях сражений XX века: 1900 — 1920 гг. Мн., 2004. С. 82.
(обратно)63
Семенов Г.М. О себе. Воспоминания, мысли и выводы. 1904 — 1921. М, 2007. С. 37.
(обратно)64
Шулдяков В.А. Гибель Сибирского казачьего войска. 1917 — 1920. М., 2004. Кн. 1. С. 29.
(обратно)65
Сухомлинов В.А. Воспоминания. Мемуары. Мн., 2005. С. 129.
(обратно)66
Певнев А.Л. Конница по опыту мировой и Гражданской войн. М., 1924. С. 30.
(обратно)67
Свечин А.Л. Искусство вождения полка по опыту войны 1914 — 1918 гг. М., 2005. С. 198.
(обратно)68
Келлер Ф.А. Несколько кавалерийских вопросов. Спб., 1914. Вып. 3. С. 36.
(обратно)69
Кавалеристы в мемуарах современников. 1900 — 1920. М., 2001. Вып. 3. С. 46.
(обратно)70
См. напр.: Краснов Л.Н. Воспоминания о Русской Императорской армии. М., 2006. С. 530.
(обратно)71
Войтоловский Л.Н. Всходил кровавый Марс: По следам войны. М., 1998. С. 425.
(обратно)72
Военно-исторический журнал, 2007, №1. С. 40.
(обратно)73
Шапошников Б.М. Воспоминания. Военно-научные труды. М., 1982. С. 106.
(обратно)74
Елисеев Ф.И. Казаки на Кавказском фронте 1914 — 1917. М., 2001. С. 140.
(обратно)75
См.: Военная быль, 1974, № 128. С. 16.
(обратно)76
См.: Опрышко О.Л. Кавказская конная дивизия. 1914 — 1917. Нальчик, 1999.
(обратно)77
Марков Л.В. Ингушском конном полку//Кавалеристы в мемуарах современников. 1900 — 1920. М., 2001. Вып. 2. С. 69.
(обратно)78
Труишович А.Р. Воспоминания корниловца: 1914 — 1934. М.-Франкфурт, 2004. С. 21.
(обратно)79
Ковалев Д.В. Аграрные преобразования и крестьянство столичного региона в первой четверти XX века (по материалам Московской губернии). М., 2004. С. 116.
(обратно)80
См.: Война и транспорт. Сборник статей. М., 1927. С. 90.
(обратно)81
Сулейман Н.А. Тыл и снабжение действующей армии. М. — Л., 1927. Ч. 2. С. 273.
(обратно)82
Миронов Б.Н. История в цифрах. Л., 1991. Табл. 35.
(обратно)83
Красный архив. М., 1929. № 3(34). С. 60 — 61.
(обратно)84
Наумов В.М. Мои воспоминания. Сан-Франциско, 1975. С. 7.
(обратно)85
Янушкевич Н.Н. Конспект военной администрации. Спб., 1914. С. 49.
(обратно)86
Наумов В.М. Мои воспоминания. Сан-Франциско, 1975. С. 8.
(обратно)87
Государственный архив Тульской области (ГАТО), ф. 97, оп. 2, д. 1886, л. 66.
(обратно)88
См.: Список частных конских заводов в России. Спб., 1904. С. IX-X.
(обратно)89
Лошади. М., 2002. Кн. 1. С. 543.
(обратно)90
Вестник русской конницы, 1910, № 7. С. 317.
(обратно)91
Баторский М. Служба конницы. М., 1925. С. 50.
(обратно)92
Бегунова А.И. Сабли остры, кони быстры: Из истории русской кавалерии. Мм 1992. С. 243.
(обратно)93
Шапошников Б.М. Воспоминания. Военно-научные труды. М., 1982. С. 212.
(обратно)94
Шейдеман С.М. Тактика конницы. Мм 1920. С. 21.
(обратно)95
Гоштовт Г. Дневник кавалерийского офицера. Париж, 1931. С. 9 — 10.
(обратно)96
Войтоловский Л. По следам войны. Походные записки 1914 — 1917. Л., 1925. С. 180.
(обратно)97
Торнау С.А. С родным полком. Берлин, 1923. С. 9.
(обратно)98
ГАТО, ф. 97, он. 2, д. 1747, л. 208.
(обратно)99
Красильников С.И. Организация крупных общевойсковых соединений. М., 1933. С. 93.
(обратно)100
См.: Суворов А.Н. Тактика в примерах. М., 1926. С. 307.
(обратно)101
Масловский Е.В. Мировая война на Кавказском фронте 1914 — 1917 гг. Париж, 1933. С. 192.
(обратно)102
Георгиевич М.М. Свет и тени. Сидней, 1968. С. 46.
(обратно)103
Военно-санитарный сборник Юго-Западного фронта, №1. Бердичев, 1915. С. 18.
(обратно)104
Грозное оружие: Малая война, партизанство и другие виды асимметричного воевания в свете наследия русских военных мыслителей. М., 2007. С. 548.
(обратно)105
Лодыженский Ю.И. От Красного Креста к борьбе с коммунистическим Интернационалом. М., 2007. С. 55.
(обратно)106
Горбатов А.В. Годы и войны. Записки командарма. 1941 — 1945. М, 2008. С. 63.
(обратно)107
Елисеев Ф.И. Казаки на Кавказском фронте 1914 — 1917. М., 2001. С. 174.
(обратно)108
Лошади. М, 2002. Кн. 1. С. 668.
(обратно)109
Келлер Ф.А. Несколько кавалерийских вопросов. Спб. 1910. Вып. 2. С. 6.
(обратно)110
Сборник руководящих приказов и приказаний VII-й армии. Б.м., 1917. С. 487.
(обратно)111
Военно-исторический журнал, 2007, № 6. С. 58.
(обратно)112
Петуховский А. А. Ветеринарная служба в современной войне//Военная мысль, 1940, №10. С. 109 — 110.
(обратно)113
Брандт Г. Современная конница. М., 1936. С. 73.
(обратно)114
Кавалеристы в мемуарах современников. 1900 — 1920. М., 2000. Вып. 1. С. 66.
(обратно)115
Шапошников Б.М. Конница (кавалерийские очерки). М, 1923. С 242.
(обратно)116
Войтоловский Л. По следам войны. Походные записки 1914 — 1917. Л., 1925. С. 54.
(обратно)117
Янушкевич Н.Н. Конспект военной администрации. Спб., 1914. С. 33.
(обратно)118
Свечин А.Л. Искусство вождения полка по опыту войны 1914 — 1918 гг. М, 2005. С. 110.
(обратно)119
Караев Г. Транспортные средства в войне 1914 — 1918 гг.//Военно-исторический журнал, 1941, №1. С. 59.
(обратно)120
Свечин А.А. Искусство вождения полка по опыту войны 1914 — 1918 гг. М, 2005. С. 112 — 113.
(обратно)121
Васильев Н. Транспорт России в войне 1914 — 1918 гг. М., 1939. С. 255.
(обратно)122
Сборник руководящих приказов и приказаний VII-й армии. Б.м., 1917. С. 309.
(обратно)123
Веверн Б. В. 6-я батарея 1914 — 1917 гг. Париж, 1938. Т. 1. С. 120.
(обратно)124
Великая забытая война. М. 2009. С. 217.
(обратно)125
Дрейер В.Н. На закате империи. Мадрид, 1965. С. 187.
(обратно)126
Никольский Е А. Записки о прошлом. М, 2007. С. 242 — 246.
(обратно)127
Позек М. Германская конница в Литве и Курляндии в 1915 году. М.-Л., 1930. С. 162.
(обратно)128
ГАТО, ф.97, оп. 2, д. 1875, л. 157.
(обратно)129
Свечин А.Л. Искусство вождения полка по опыту войны 1914 — 1918 гг. М., 2005. С. 111.
(обратно)130
Материалы по вопросу об установлении твердых цен на хлебные продукты урожая 1916 года. Б.м., 1916. Ч. 1. С. 122.
(обратно)131
См.: Военно-исторический журнал, 2004, №10. С. 49.
(обратно)132
Деникин А.И. Очерки русской смуты: Крушение власти и армии. Февраль — сентябрь 1917. Мн., 2003. С. 153.
(обратно)133
Статистический ежегодник г. Москвы и Московской губернии. М., 1925. Вып. 1. С. 228.
(обратно)134
Ковалев Д.В. Аграрные преобразования и крестьянство столичного региона в первой четверти XX века (по материалам Московской губернии). М., 2004. С. 116.
(обратно)135
Сельское хозяйство России в XX веке. Сборник статистико-экономических сведений за 1901 — 1922 гг. М., 1923; Материалы военно-конской переписи 1912 г. и сельскохозяйственных переписей 1916 и 1917 гг. Крестьянское движение в России в 1914 — 1917 гг. М. — Л., 1965. С. 14.
(обратно)136
ГАТО, ф. 97, оп. 2, д. 1863, лл. 299 — 300.
(обратно)137
ГАТО, ф. 2260, оп. 1, д. 33, л. 241об.
(обратно)138
Вересаев В.В. На Японской войне. Записки// Собр. соч. в 5 т. М., 1961. Т. 3. С. 93.
(обратно)139
Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), ф. 2000, оп. 3, д. 2553, л. 203.
(обратно)140
РГВИА, ф. 391, оп. 2, д. 72, л. 32 об.
(обратно)141
Там же, ф. 2003, оп. 2, д. 277, л. 10; ф. 2000, оп. 3, д. 255, л. 47об.
(обратно)142
Там же, ф. 2003, оп. 2, д. 1030, л. 123.
(обратно)143
РГВИА, ф. 2000, оп. 3, д. 2553, л. 139.
(обратно)144
ГАТО, ф. 97, оп. 2, д. 1886, л. 10 — 10 об., 19.
(обратно)145
РГВИА, ф. 2000, оп. 3, д. 2551, л. 28 — 40, 44, 54 — 63, 64 — 65, 106 — 107, 127, 134; д. 2553, л. 141, 187, 192, 194 и др.
(обратно)146
Деникин А.И. Очерки русской смуты: Крушение власти и армии. Февраль — сентябрь 1917. Мн., 2003. С. 178.
(обратно)147
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 6831, оп. 1Г д. 92, л. 167 — 169.
(обратно)148
РГВИА, ф. 2003, оп. 1, д. 1745, л. 3 — 20.
(обратно)149
Последняя австро-венгерская война. Издание австрийского военного архива. М, 1929. Т. 4. С. 143.
(обратно)150
Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. М., 2002. С. 57 — 58.
(обратно)151
РГВИА, ф. 2000, оп. 3, д. 1374, л. 17.
(обратно)152
РГВИА, ф. 2000, оп. 3, д. 1374, л. 17; ф. 2003, оп. 2, д. 1030, л. 28 — 28об., 60 — 62, 69 — 70, 115 — 117, 190.
(обратно)153
См.: Свечин А.Л. Стратегия. М., 2003. С. 147.
(обратно)154
Коленковский А. Маневренный период Первой мировой империалистической войны 1914 г. М., 1940. С. 247.
(обратно)155
Белов А. Галицийская битва. М. — Л., 1929. С. 356.
(обратно)156
Цит. по: Смирнов А.А. Вожди белого казачества. Атаман Каледин. Спб., 2003. С. 51.
(обратно)157
Цит. по: Головин Н.Н. Дни перелома Галицийской битвы. Париж, 1940. С. 115.
(обратно)158
Бонч-Бруевич М.Д. Вся власть Советам. Воспоминания. М, 1957. С. 27.
(обратно)159
Головин Н.Н. Галицийская битва. Первый период. Париж, 1930. С. 223.
(обратно)160
Подробно см.: Сливинский А. Конный бой 10-й кавалерийской дивизии генерала графа Келлера 8/21 августа 1914 года у д. Ярославице. Сербия, 1921.
(обратно)161
Барсуков Е. 3. Артиллерия русской армии (1900 — 1917). М., 1949. Т. 3. С. 174.
(обратно)162
Келлер Ф.А. Несколько кавалерийских вопросов. Спб., 1910. Вып. 2. С. 6 — 7.
(обратно)163
Военная быль, 1970, №104. С. 22.
(обратно)164
Брике Г. История конницы, М., 2001. Кн.2. С.397.
(обратно)165
Гатовский В.Н. Конница. М.-Л., 1927. Кн. 2. С. 248.
(обратно)166
См.: Суворов А.Н. Тактика в примерах. М., 1926. С. 331.
(обратно)167
Головин Н.Н. Галицийская битва. Первый период. Париж, 1930. С. 111.
(обратно)168
В.Н. Конница. М.-Л., 1927. Кн. 2. С. 138.
(обратно)169
Шафалович Ф. Встречный бой 10-го армейского корпуса на р. Золотой Липе 26 — 29 августа 1914 г. М., 1938. С. НО.
(обратно)170
Последняя австро-венгерская война. Издание австрийского военного архива. М., 1929. Т. 1. С. 422.
(обратно)171
Коленковский А. Маневренный период Первой мировой империалистической войны 1914 г. М., 1940. С. 251.
(обратно)172
Гатовский В. Конница (Свойства и средства. Строи и порядки). М, 1925. С. 57.
(обратно)173
Гершельман Ф. Кавалерия в войнах XX века. Спб., 1908. С. 46.
(обратно)174
Головин Н.Н. Галицийская битва. Первый период. Париж, 1930.С. 159.
(обратно)175
Галактионов М. Париж, 1914 (Темпы операций). М. — Спб., 2001. С. 471 — 474.
(обратно)176
Гумилев Н.С. Записки кавалериста. Омск, 1991. С. 16.
(обратно)177
Гатовский В.Н. Конница. М.-Л.г 1927. Кн. 1. С. 18.
(обратно)178
См.: Суворов А.Н. Тактика в примерах. М, 1926. С. 286 — 287.
(обратно)179
Таленский Н.А. Развитие оперативного искусства по опыту последних войн// Военная мысль, 1945, № 6 — 7. С. 18.
(обратно)180
Шапошников Б.М. Воспоминания. Военно-научные труды. М., 1982. С. 344, 352 — 353.
(обратно)181
Шейдеман С.М. Стратегическая деятельность конницы на театре военных действий. М., 1921. С. 5.
(обратно)182
Гумилев Н.С. Записки кавалериста. Омск, 1991. С. 201.
(обратно)183
См.: Вестник русской конницы, 1910, № 4. С. 166 — 167.
(обратно)184
Брандт Г. Современная конница. М., 1936. С. 10.
(обратно)185
Верховский А.И. Общая тактика. М., 1927. С. 170.
(обратно)186
Баторский М. Служба конницы. М. 1925. С. 29 — 30.
(обратно)187
Шейдеман С.М. Стратегическая деятельность конницы на театре военных действий. М. 1921. С. 6.
(обратно)188
См.: Военное дело. Сборник статей по военному искусству. М., 1920. Вып. 2. С. 138.
(обратно)189
Шапошников Б.М. Воспоминания. Военно-научные труды. М., 1982. С. 271.
(обратно)190
Горлицкая операция. Сборник документов империалистической войны. М., 1941. С. 315.
(обратно)191
См.: Военное дело. Сборник статей по военному искусству. М., 1920. Вып. 2. С. 142.
(обратно)192
Шейдеман С.М. Тактика конницы. М., 1920. С. 157.
(обратно)193
Соколов Т.И. Боевые действия конницы. М. 1940. С. 76.
(обратно)194
Сливинский А. Конный бой 10-й кавалерийской дивизии генерала графа Келлера 8/21 августа 1914 года у д. Ярославице. Сербия, 1921. С. 53.
(обратно)195
Гатовский В. Конница (Свойства и средства. Строи и порядки). М., 1925. С. 26.
(обратно)196
Капустин Н. Оперативное искусство в позиционной войне. М.-Л., 1927. С. 267.
(обратно)197
Позек М. Германская конница в Литве и Курляндии в 1915 году. М.-Л., 1930. С. 173.
(обратно)198
Шапошников Б.М. Конница (кавалерийские очерки). М., 1923. С. 242.
(обратно)199
Боевое расписание австро-венгерской армии к 15 февраля 1916 г. Б.м. 1916. С. XI.
(обратно)200
Боевое расписание австро-венгерской армии к 18 августа 1916 г. Б.м. 1916. С. 103.
(обратно)201
Боевое расписание австро-венгерской армии к 25 марта 1917 г. Б.м. 1917. С. 117.
(обратно)202
Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914 — 1918 гг. М.-Мн., 2005. С. 657.
(обратно)203
Федотов Б.П. Германская армия в годы 1-й мировой войны (1914 — 1918 гг.)// Солдат, 2000, № 29. С. 17.
(обратно)204
Позек М. Германская кавалерия в Бельгии и во Франции в 1914 году. М., 1937. С. 223.
(обратно)205
Баторский М. Служба конницы. М. 1925. С. 224.
(обратно)206
Головин Н.Н. Современная конница//Военный сборник Общества ревнителей военных знаний. Белград, 1923. Кн. 4. С. 8.
(обратно)207
Головин Н.Н. Современная конница//Военный сборник Общества ревнителей военных знаний. Белград, 1923. Кн. 4. С. 45.
(обратно)208
Брусилов А.Л. Мои воспоминания. М., 1983. С. 58.
(обратно)209
Цит, по: Граф Келлер. М, 2007. С. 1047.
(обратно)210
Петр Николаевич Врангель. Главнокомандующий. М., 2004. С. 111.
(обратно)211
Протопопов Б.В. Сеноснабжение и война. М. — Л., 1929. С. 56 — 57.
(обратно)212
Воскобойников Г.Л. Казачество в Первой мировой войне 1914 — 1918 гг. М., 1994. С. 96.
(обратно)213
Ганин А.В. Атаман А.И. Дутов. М., 2006. С. 67 — 68.
(обратно)214
Военная быль, 1973, № 123. С. 14.
(обратно)215
Гурко В.И. Война и революция в России. Мемуары командующего Западным фронтом. 1914-1917. М., 2007. С.264-265.
(обратно)216
Матковский А.Ф. Самостоятельные действия крупных сил конницы на крыльях и в тылу неприятельских армий. Спб. 1911. С. 171.
(обратно)217
Простосинский Б. Работа стратегической конницы// Война и революция, 1925, № 4. С. 86.
(обратно)218
Шапошников Б.М. Воспоминания. Военно-научные труды. М., 1982. С. 204.
(обратно)219
Кавалеристы в мемуарах современников. 1900 — 1920. М. 2001. Вып. 3. С. 119.
(обратно)220
Брандт Г. Современная конница. М. 1936. С. 120.
(обратно)221
Сухомлинов В.А. Воспоминания. Мемуары. Мн., 2005. С. 53.
(обратно)222
Военная быль, 1967, № 86. С. 36.
(обратно)223
Гофман М. Война упущенных возможностей. М. — Л., 1925. СП.
(обратно)224
Кавалеристы в мемуарах современников. 1900 — 1920. М., 2001. Вып. 3. С. 117.
(обратно)225
Кавалеристы в мемуарах современников. 1900 — 1920. М., 2001. Вып. 2. С. 122.
(обратно)226
Данные приведены по: Приложение III в: Такман Б. Первый блицкриг, август 1914. М, 2002. С. 509 — 511.
(обратно)227
Коленковский А. Маневренный период Первой мировой империалистической войны 1914 г. М., 1940. С. 80.
(обратно)228
Военная быль, 1972, № 116. С. 31.
(обратно)229
Цит. по: Мировые войны XX века. Первая мировая война: Документы и материалы. М., 2002. С. 137.
(обратно)230
Головин Н.Н. Мысли об устройстве будущей Российской вооруженной силы. Белград, 1925. С. 218 — 219.
(обратно)231
См.: Оським М. В. Крушение германского блицкрига в 1914 году. Марна — Гумбиннен. М: Цейхгауз, 2007.
(обратно)232
Восточно-Прусская операция. Сборник документов империалистической войны. М, 1939. С. 553.
(обратно)233
Замечания начальника Прусского Генерального штаба о службе Генерального штаба. Б.м., 1911. С. 14.
(обратно)234
Катастрофы Первой мировой войны. М, 2005. С. 155 — 156.
(обратно)235
Евсеев Н.Ф. Августовское сражение 2-й русской армии в Восточной Пруссии (Танненберг) в 1914 г. М., 1936. С. 66 — 67.
(обратно)236
Головин Н.Н. Из истории кампании 1914 года на Русском фронте. Прага, 1926. С. 20 — 21.
(обратно)237
Данилов Ю.Н. Россия в мировой войне 1914 — 1915 гг. Берлин, 1924. С. 153.
(обратно)238
Андреев В. Первый русский марш-маневр в Великую войну. Гумбиннен и Марна. Париж, 1928. С. 6.
(обратно)239
Германия. Военно-статистическое описание. Часть 1: Восточно-Прусский район. Спб., 1912. С. 345 — 346.
(обратно)240
Головин Н.Н. Галицийская битва. Первый период. Париж, 1930. С. 101.
(обратно)241
Певнев А.Л. Конница по опыту мировой и гражданской войн. М., 1924. С. 30.
(обратно)242
Рогвольд В. Усиленная разведка Маркграбова 14/1 августа 1914 года. М, 1926. С. 35.
(обратно)243
Гордеев А.Л. История казаков. Мм 1993. Ч. 4. С. 33.
(обратно)244
Рогвольд В. Усиленная разведка Маркграбова 14/1 августа 1914 года. М., 1926. С. 24.
(обратно)245
Германия. Военно-статистическое описание. Часть 1: Восточно-Прусский район. Спб., 1912. С. 30.
(обратно)246
Восточно-Прусская операция. Сборник документов империалистической войны. М, 1939. С. 188.
(обратно)247
Цит. по: Граф Келлер. М., 2007. С. 1057.
(обратно)248
Гордеев А.Л. История казаков. М., 1993. Ч. 4. С. 34.
(обратно)249
Барсуков Е.З. Артиллерия русской армии (1900 — 1917). М, 1949. Т. 3. С. 175.
(обратно)250
Богданович П.Н. Вторжение в Восточную Пруссию в августе 1914 года. Буэнос-Айрес, 1964. С. 45.
(обратно)251
Кавалеристы в мемуарах современников. 1900 — 1920. М., 2001. Вып. 3. С. 125.
(обратно)252
Вацетис И.И. Операции на восточной границе Германии в 1914 году. М.-Л., 1929. Ч. 1. С. 320.
(обратно)253
Свечников М.С. Тактика конницы. М., 1923. Ч. 1. С. 16.
(обратно)254
См.: Кавалеристы в мемуарах современников. 1900 — 1920. М., 2001. Вып. 2.
(обратно)255
Фронтовые письма А.Е. Снесарева с 27 июня по 22 октября 1914 года…// Военно-исторический журнал. Интернет-приложение, 2006, № 1.С. 10.
(обратно)256
Военная быль, 1966, № 79. С. 7.
(обратно)257
Вестник русской конницы, 1910, № 7. С. 304 — 305.
(обратно)258
Восточно-Прусская операция. Сборник документов империалистической войны. М., 1939. С. 488.
(обратно)259
Дрейер В.Н. На закате империи. Мадрид, 1965. С. 110.
(обратно)260
Война и транспорт. Сборник статей. М., 1927. С. 86.
(обратно)261
Кирпичников А. Конные массы в развитии прорыва//Военно-исторический журнал, 1940, № 8. С. 31.
(обратно)262
Вильна-Молодечненская операция. Пг. 1916. С. 4 — 5.
(обратно)263
Евсеев Н. Свенцянский прорыв (1915 г.). М.г 1936. С. 235.
(обратно)264
Шапошников Б.М. Конница (кавалерийские очерки). М.г 1923. С. 18.
(обратно)265
Свечин А.Л. Искусство вождения полка по опыту войны 1914 — 1918 гг. М. 2005. С. 256.
(обратно)266
Шейдеман С.М. Стратегическая деятельность конницы на театре военных действий. М, 1921. С. 4.
(обратно)267
Позек М. Германская конница в Литве и Курляндии в 1915 году. М.-Л., 1930. С. 164.
(обратно)268
Попов В. Конница иностранных армий. М. — Л. 1927. С. 35.
(обратно)269
Кирпичников А. Конные массы в развитии прорыва//Военно-исторический журнал, 1940, № 8. С. 33.
(обратно)270
Евсеев Н. Свенцянский прорыв (1915 г.). М. 1936. С. 54.
(обратно)271
См.: Олейников А.В. Генерал П.А. Плеве и бои в Прибалтике весной — осенью 1915 года// Военно-исторический журнал, 2009, № 4. С. 46 — 47.
(обратно)272
Шварте М. Исторические примеры из мировой войны. М. — Л., 1928. С. 92.
(обратно)273
Данилов Ю.Н. Россия в мировой войне 1914 — 1915 гг. Берлин, 1924. С. 374.
(обратно)274
Керсновский А.Л. История русской армии. М., 1994. Т. 3. С. 308.
(обратно)275
Свечников М.С. Очерки стратегической и тактической деятельности конных масс. М, 1923. С. 139.
(обратно)276
Позек М. Германская конница в Литве и Курляндии в 1915 году. М.-Л., 1930. С. 173.
(обратно)277
Брандт Г. Очерки современной конницы. М., 1924. С. 63 — 64.
(обратно)278
Свечин А. А. Искусство вождения полка по опыту войны 1914 — 1918 гг. М., 2005. С. 282 — 283.
(обратно)279
Евсеев Н. Свенцянский прорыв (1915 г.). М.г 1936. С. 256 — 260.
(обратно)280
Верцинский Э.А. Из мировой войны. Таллин, 1931. С. 132.
(обратно)281
Матковский А.Ф. Самостоятельные действия крупных сил конницы на крыльях и в тылу неприятельских армий. Спб., 1911. С. 21.
(обратно)282
Гражданская война в СССР. M. 1986. Т. 2. С. 200, 274, 285.
(обратно)283
Цит. по: Военно-исторический журнал, 1995, № 1. С. 70.
(обратно)284
Асташов А.Б. Русский крестьянин на фронтах Первой мировой войны// Отечественная история, 2003, № 2. С. 78.
(обратно)285
См.: Стратегический очерк войны 1914 — 1918 гг. М, 1922. Ч. 4. С. 122.
(обратно)286
Евсеев Н. Свенцянский прорыв (1915 г.). М., 1936. С. 226.
(обратно)287
Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914 — 1918 гг. М. — Мн. 2005. С. 169.
(обратно)288
Лиддел-Гарт Б. Энциклопедия военного искусства. М. — Спб., 2003. С. 203.
(обратно)289
Позек М. Германская конница в Литве и Курляндии в 1915 году. М.-Л., 1930. С. 179 — 180.
(обратно)290
Торнау С.А. С родным полком. Берлин, 1923. С. 83.
(обратно)291
Фалькенгайн Э. Верховное командование 1914 — 1916 в его важнейших решениях. М., 1923. С. 121, 129.
(обратно)292
Шапошников Б.М. Воспоминания. Военно-научные труды. М. 1982. С. 222, 232.
(обратно)293
Наступление Юго-Западного фронта в мае — июне 1916 года. Сборник документов империалистической войны. М. 1940. С. 518 — 523.
(обратно)294
Хочешь мира, победи мятеж-войну! Творческое наследие Е. Э. Месснера. М., 2005. С. 516 — 518.
(обратно)295
Боевое расписание австро-венгерской армии к 18 августа 1916 г. Б.м., 1916. С. 106.
(обратно)296
Цит. по: Луцкий прорыв. Труды и материалы. М.г 1924. С. 239.
(обратно)297
Наступление Юго-Западного фронта в мае — июне 1916 года. Сборник документов империалистической войны. М., 1940. С. 189.
(обратно)298
См.: Военное дело. Сборник статей по военному искусству. М., 1920. Вып. 2. С. 143.
(обратно)299
Наступление Юго-Западного фронта в мае — июне 1916 года. Сборник документов империалистической войны. М. 1940. С. 193.
(обратно)300
Деникин А.И. Путь русского офицера. Статьи и очерки на исторические и геополитические темы. М., 2006. С. 356.
(обратно)301
Наступление Юго-Западного фронта в мае — июне 1916 года. Сборник документов империалистической войны. М. 1940. С. 215.
(обратно)302
Соколов Г.И. Боевые действия конницы. М., 1940. С. 119.
(обратно)303
Наступление Юго-Западного фронта в мае — июне 1916 года. Сборник документов империалистической войны. М., 1940. С. 208.
(обратно)304
Нелипович С.Г. Брусиловский прорыв. Наступление Юго-Западного фронта в кампанию 1916 года. М: Цейхгауз, 2006. С. 11.
(обратно)305
Последняя австро-венгерская война. Издание австрийского военного архива. М., 1929. Т. 4. С. 581.
(обратно)306
Сыромятников А. Прорыв. Его развитие и парирование. М. — Л., 1928. С. 95.
(обратно)307
Наступление Юго-Западного фронта в мае — июне 1916 года. Сборник документов империалистической войны. М., 1940. С. 225, 242, 243.
(обратно)308
Головин Н.Н. Современная конница//Военный сборник Общества ревнителей военных знаний. Белград, 1923. Кн. 4. С. 42.
(обратно)309
Капустин Н. Оперативное искусство в позиционной войне. М.-Л., 1927. С. 98.
(обратно)310
Брандт Г. Очерки современной конницы. М. 1924. С. 66.
(обратно)311
См.: Белое дело. Ледяной поход. М., 1993. С. 15.
(обратно)312
Простосинский Б. Работа стратегической конницы// Война и революция, 1925, № 4. С. 90.
(обратно)313
Стратегический очерк войны 1914 — 1918. М., 1920. Ч. 5. С. 48.
(обратно)314
Военная мысль в изгнании. Творчество русской военной эмиграции. М, 1999. С. 168.
(обратно)315
Свечников М.С. Тактика конницы. М., 1924. Ч. 2. С. 49.
(обратно)316
Стратегия в трудах военных классиков. М., 2003. С. 238.
(обратно)317
Наступление Юго-Западного фронта в мае — июне 1916 года. Сборник документов империалистической войны. М, 1940. С. 262 — 263.
(обратно)318
Луцкий прорыв. Труды и материалы. М., 1924. С. 11.
(обратно)319
Деникин А.И. Путь русского офицера. Статьи и очерки на исторические и геополитические темы. М., 2006. С. 363.
(обратно)320
Залесский П.И. Возмездие (причины русской катастрофы). Берлин, 1925. С. 201.
(обратно)321
Цит. по: Краснов П.Н. Воспоминания о Русской Императорской армии. М, 2006. С. 10.
(обратно)322
Маннергейм К.-Г. Воспоминания. Мн., 2004. С. 59.
(обратно)323
Керсновский А.А. История русской армии. М., 1994. Т. 4. С. 42.
(обратно)324
Военно-исторический вестник, 1961, № 18. С. 17.
(обратно)325
Дневник бывшего великого князя Андрея Владимировича. Л., 1925. С. 38.
(обратно)326
Керсновский А.Л. История русской армии. М., 1994. Т. 4. С. 47; Ненахов Ю.Ю. Кавалерия на полях сражений XX века: 1900 — 1920 гг. Мн., 2004. С. 332.
(обратно)327
Военная быль, 1973, № 123. С. 11 — 12.
(обратно)328
Военная быль, 1971, № 111. С. 5.
(обратно)329
См.: Суворов А.Н. Тактика в примерах. М., 1926. С. 324.
(обратно)330
Боевые действия пехотной дивизии. М., 1941. С. 272.
(обратно)331
Строков Л.Л. История военного искусства. Спб., 1995. Т. 5. С. 487.
(обратно)332
Хочешь мира, победи мятежевойну! Творческое наследие Е.Э. Месснера. М, 2005. С. 527.
(обратно)333
Керсновский А.Л. История русской армии. М., 1994. Т. 4. С. 98.
(обратно)334
Нилланс Р. Генералы Великой войны. Западный фронт 1914 — 1918. М., 2005. С. 657.
(обратно)335
Ветошников Л.В. Брусиловский прорыв. М., 1940. С. 150.
(обратно)336
См. введение в: Данилов Ю.Н. Великий князь Николай Николаевич. М., 2006. С. 13.
(обратно)337
Костин Б.А. Скобелев. М., 1990. С. 53.
(обратно)338
Цит. по: Толмачев Е.П. Александр III и его время. М., 2007. С. 151 — 152.
(обратно)339
Керсновский А.Л. История русской армии. М., 1994. Т. 2. С. 260.
(обратно)340
Епанчин Н.А. На службе трех Императоров. Воспоминания. М., 1996. С. 365.
(обратно)341
Португальский P.M., Рунов В.А. Верховные главнокомандующие Отечества. М., 2001. С. 11.
(обратно)342
Золотарев В.А., Соколов Ю.Ф. Трагедия на Дальнем Востоке: Русско-японская война 1904 — 1905 гг. М, 2004. Кн. 2. С. 271.
(обратно)343
Шавельский Г. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Нью-Йорк, 1954. Т. 1. С. 128.
(обратно)344
Рогвольд В. Конница 1-й армии в Восточной Пруссии (август — сентябрь 1914 г.). М., 1926. С. 13, 159, 163.
(обратно)345
Никольский Е.Л. Записки о прошлом. М., 2007. С. 130.
(обратно)346
Керсновский АЛ. История русской армии. М., 1994. Т. 3. С. 43.
(обратно)347
Сергеев Е.Ю. «Иная земля, иное небо…» Запад и военная элита России. 1900 — 1914 гг. М, 2001. С. 51.
(обратно)348
Золотарев В.А., Соколов Ю.Ф. Трагедия на Дальнем Востоке: Русско-японская война 1904 — 1905 гг. М, 2004. Кн. 2. С. 265.
(обратно)349
Михалев С.И. Военная стратегия: Подготовка и ведение войн Нового и Новейшего времени. М, 2003. С. 532.
(обратно)350
Кокошин А.Л. Стратегическое управление: теория, исторический опыт, сравнительный анализ, задачи для России. М, 2003. С. 144.
(обратно)351
Верховский A.M. Россия на Голгофе. Пг. 1918. С. 12.
(обратно)352
Данилов Ю.Н. Великий князь Николай Николаевич. М, 2006. С. 94.
(обратно)353
Корелин А.П., Степанов С.А. С. Ю. Витте — финансист, политик, дипломат. М, 1998. С. 180 — 181.
(обратно)354
Воронович Н.В. Потонувший мир. М., 2001. С. 186.
(обратно)355
Катков Г.М. Февральская революция. М., 2006. С. 59.
(обратно)356
Трубецкой B.C. Записки кирасира. М., 1991. С. 150 — 151.
(обратно)357
Сухомлинов В.А. Воспоминания. Мемуары. Мн., 2005. С. 231.
(обратно)358
Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX — XX столетий. 1881 — 1903. М, 1973. С. 149 — 150.
(обратно)359
Бок М.П. П. А. Столыпин: Воспоминания о моем отце. М., 1992. С. 202.
(обратно)360
Игнатьев А.Л. Пятьдесят лет в строю. М., 1986. С. 383.
(обратно)361
Сухомлинов В.А. Воспоминания. Мемуары. Минск, 2005. С. 293.
(обратно)362
Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX в. Очерки военно-экономического потенциала. М. 1986. С. 61 — 62.
(обратно)363
Деникин A.M. Старая армия. Офицеры. М, 2005. С. 114 — 115.
(обратно)364
Айрапетов О.Р. Генералы, либералы и предприниматели: работа на фронт и на революцию. 1907 — 1917. М, 2003. С. 36.
(обратно)365
Брусилов АЛ. Мои воспоминания. М, 1983. С. 64 — 65.
(обратно)366
Поливанов А.Л. Из дневников и воспоминаний по должности военного министра и его помощника 1907 — 1916. М, 1924. Т. 1. С. 120.
(обратно)367
Военное дело. Сборник статей по военному искусству. М. 1920. Вып. 1. С. 7.
(обратно)368
Дюпон. Высшее германское командование (с немецкой точки зрения). М., 1923. С. 7 — 8.
(обратно)369
Данилов Ю.Н. Великий князь Николай Николаевич, Париж, 1930. С. 366.
(обратно)370
Постижение военного искусства. Идейное наследие А. Свечина. М. 2000. С. 37.
(обратно)371
Цит. по: Восточно-Прусская операция. Сборник документов империалистической войны. М. 1939. С. 85.
(обратно)372
Богданович П.Н. Вторжение в Восточную Пруссию в августе 1914 года. Буэнос-Айрес, 1964. С. 18.
(обратно)373
Гиацинтов Э.Н. Записки белого офицера. Спб. 1992. С. 52.
(обратно)374
Головин Н.Н. Галицийская битва. Первый период. Париж, 1930. С. 369 — 370.
(обратно)375
Португальский P.M., Рунов В.А. Верховные главнокомандующие Отечества. М, 2001. С. 41.
(обратно)376
Друцкой-Соколинский В.Л. На службе отечеству. Записки русского губернатора. Орел, 1994. С. 30 — 31.
(обратно)377
Лемке М.К. 250 дней в царской ставке 1914 — 1915. Мн., 2003. С. 104 — 105.
(обратно)378
Реден Н. Сквозь ад русской революции. Воспоминания гардемарина. 1914 — 1919. М, 2006. С. 22 — 23.
(обратно)379
Руге В. Гинденбург: Портрет германского милитариста. М, 1982. С. 57.
(обратно)380
Айрапетов О.Р. Генералы, либералы и предприниматели: работа на фронт и на революцию. 1907 — 1917. М, 2003. С. 45.
(обратно)381
Кондзеровский П.К. В Ставке Верховного 1914 — 1917. Париж, 1967. С. 25.
(обратно)382
Шавельский Г. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Нью-Йорк, 1954. Т. 1. С. 138.
(обратно)383
Бубнов А.Д. В царской Ставке// Конец российской монархии. М, 2002. С 13.
(обратно)384
Поливанов АЛ. Мемуары. М, 1924. Т. 1. С. 131 — 132.
(обратно)385
Военный сборник Общества ревнителей военных знаний. Белград, 1922. Кн. 2. С. 12.
(обратно)386
Мартынов Е.И. Политика и стратегия. М, 2003. С. 29.
(обратно)387
Военный зарубежник, 1922, № 8 — 9. С. 418.
(обратно)388
См.: Оськин М.В. Галицийская битва. Август 1914. М.: Цейхгауз, 2006.
(обратно)389
См.: Нелипович С.Г. Варшавское сражение. Октябрь 1914. М.: Цейхгауз, 2006.
(обратно)390
См.: Оськин М.В. Лодзинская оборонительная операция. Осень 1914. М.: Цейхгауз, 2007.
(обратно)391
Свечин М.Л. Записки старого генерала о былом. Ницца, 1964. С. 111.
(обратно)392
Хочешь мира, победи мятежевойну! Творческое наследие Е. Э. Месс-нера. М., 2005. С. 499.
(обратно)393
Геруа А.В. Полчища. София, 1923. С. 192.
(обратно)394
Соколов Ю.В. Красная звезда или крест? (Жизнь и судьба генерала Брусилова). М., 1994. С. 56.
(обратно)395
См., напр.: Будберг А.П. Из воспоминаний о войне 1914 — 1917 гг. Третья Восточно-Прусская катастрофа 25 января — 8 февраля 1915 г. Сан-Франциско, б. д.
(обратно)396
См.: Оськин М.В. Штурм Карпат. Зима 1915 года. М., Цейхгауз, 2007.
(обратно)397
Западные окраины Российской империи. Мм 2006. С. 412.
(обратно)398
Керсновский А.Л. История русской армии. М., 1994. Т. 3. С. 196, 275 — 276; т. 4. С. 179 — 181.
(обратно)399
Сухомлинов В.А. Великий Князь Николай Николаевич. Берлин, б.д. С. 45.
(обратно)400
См.: За балканскими фронтами Первой мировой войны. М., 2002. С. 208 — 209.
(обратно)401
Бонч-Бруевич М.Д. Потеря нами Галиции в 1915 году. Часть 1: Через Карпаты в Венгрию зимою 1915 года. М., 1921. С. 108 — 109.
(обратно)402
ЦАРФ, ф. 601, оп. 1, д. 611, л. 1 — 2 об.
(обратно)403
Цит. по: Пуанкаре Р. На службе Франции 1914 — 1915: Воспоминания. Мемуары. М. — Минск, 2002. С. 659 — 660.
(обратно)404
Власть и реформы. От самодержавной к Советской России. М., 2006. С. 562 — 563.
(обратно)405
См.: Граф Келлер. М., 2007. С. 420.
(обратно)406
Мартынов Е.И. Политика и стратегия. М., 2003. С. 134.
(обратно)407
Военная быль, 1967, № 6. С. 3.
(обратно)408
Бубнов А.Д. В царской Ставке// Конец российской монархии. М., 2002. С. 78.
(обратно)409
Кобылин B.C. Анатомия измены. Спб., 1998. С. 22.
(обратно)410
Самойлов А.Л. Две жизни. Л., 1963. С. 176.
(обратно)411
Пуанкаре Р. На службе Франции 1915 — 1916: Воспоминания. Мемуары. М. — Минск, 2002. С. 86.
(обратно)412
Оськин М.В. Первый в российской истории Верховный Главнокомандующий в характеристике протопресвитера Г. Шавельского// Государство, общество, церковь в истории России XX века. Иваново, 2009. Ч. 2. С. 323 — 325.
(обратно)413
Архив русской революции. M.f 1991. Т. 10. С. 213 — 214.
(обратно)414
Военная мысль в изгнании. Творчество русской военной эмиграции. М, 1999. С. 139.
(обратно)415
ГАРФ, ф. 579, оп. 1, д. 2229, л. 1 — 3.
(обратно)416
ГАРФ, ф. 579, оп. 3, д. 322, л. боб. — 7об.
(обратно)417
Цит. по: Прусско-германский генеральный штаб 1640 — 1965. К его политической роли в истории. М, 1966. С. 464.
(обратно)418
ГВИА, ф. 2003, оп. 1, д. 1755, л. 12, 14 — 16.
(обратно)419
См.: Военный сборник Общества ревнителей военных знаний. Белград, 1922. Кн. 2. С. 215 — 217.
(обратно)420
Попов В. Конница иностранных армий. М. — Л., 1927.
(обратно)

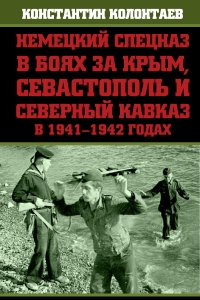


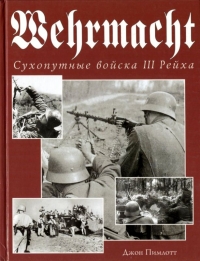
Комментарии к книге «Крах конного блицкрига. Кавалерия в Первой мировой войне», Максим Викторович Оськин
Всего 0 комментариев