Чеслав Станиславович Кирвель, Олег Александрович Романов Социальная философия: учебное пособие
Допущено
Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов учреждений высшего образования но философским и социологическим специальностям 2-е издание, доработанное
Рецензенты:
кафедра философии Института подготовки научных кадров Национальной академии наук Республики Беларусь;
доктор философских наук профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Республики Беларусь П.А. Водопьянов
В оформлении обложки использована картина А.Н. Сильвановича «Янтарный путь»
Предисловие
В начале III тысячелетия перед социальной философией и социогуманитарным образованием в целом встали принципиально новые задачи, что обусловлено фундаментальными трансформациями в развитии социума. Мир, в котором мы живем, вступил в полосу непредсказуемых перемен. Современная, полная противоречий и неожиданностей фаза развития человечества, открывая людям немало новых перспектив и возможностей, в то же время кардинальным образом изменила нашу маленькую планету, поставила перед людьми трудноразрешимые, не имеющие в прошлом аналогов проблемы. Неопределенность и альтернативность исторического развития ставит нас перед необходимостью оглядеться и задуматься, что же происходит с людьми, куда идет наша цивилизация.
Крупные социальные потрясения (экологические, демографические, военные и др.), угрожающие самому факту существования человеческого рода, настоятельно требуют новых путей социокультурного развития человечества, выработки новых ценностей, новой мировоззренческой системы координат, призванных обеспечить стратегию выживания человечества. Социальная философия, имеющая многовековой опыт критически-рефлексивного размышления над фундаментальными проблемами общественного бытия, может и должна помочь людям в решении всех этих сложных и животрепещущих вопросов современности, в поиске ответа на вызов среды.
Однако сделать это непросто. Осмысление злободневных проблем бывает по-настоящему продуктивным, если опирается на знание глубинных законов общества, возводится на надежном теоретическом фундаменте. Построение этого фундамента требует ответа на ряд принципиальной значимости вопросов: Каковы диапазон и мера реальных возможностей, в границах которых люди могут воздействовать на исторический процесс? В состоянии ли они вообще сознательно скоординировать и направить свои усилия на то, чтобы изменить вектор движения истории и утвердить новую модель развития своего бытия? Возможны ли в эпоху глобализации самостоятельное историческое творчество отдельных народов и наций, их самоопределение и самореализация? А может быть, в жизни общества действуют неумолимая логика, предзаданность, надчеловеческая сила, не сообразующаяся с нашими желаниями, предпочтениями и надеждами, которые, несмотря ни на что, координируют нашу судьбу? Или следует рассматривать свое социальное бытие как естественное, стихийно-спонтанно формирующееся в результате совокупной деятельности беспрерывно сменяющих друг друга поколений, безальтернативное состояние, которое надо принять и в котором приходится жить и действовать, не заглядывая далеко вперед, руководствуясь лишь сиюминутными потребностями? А может, все же у общества имеются неведомые нам защитные механизмы и инстинкт коллективного самосохранения, способные в нужный момент сработать? Поэтому основным предметом нашего внимания стал вопрос соотношения в современном общественном развитии стихийно-спонтанного и целенаправленного, закономерного и субъективно-волевого, исторически неизбежного и свободополагаемого, возможного и действительного, самоорганизующегося и организуемого начал в движении социума – вопросов, которые в начале III тысячелетия приобрели совсем новые звучание и смысл.
Цель учебного пособия состоит, во-первых, в ознакомлении студентов с основными категориями социальной философии, историей ее становления и современными проблемами, во-вторых, в попытке выдвинуть и обосновать с помощью социально-философского инструментария социальный проект развития мировой цивилизации и восточнославянских народов. Для решения этой задачи авторы стремились не просто познакомить читателей с базовыми идеями излагаемого курса, но и продемонстрировать возможности их применения при анализе актуальнейших проблем современности. Был избран проблемно-аналитический метод изложения, при котором основные социально-философские понятия и концепции вводятся не в абстрактно-теоретической форме, а в контексте тех реальных проблем, для решения которых они созданы.
Методологическая основа учебного пособия – полипарадигмальный подход, позволяющий раскрыть разные интерпретации основных социально-философских понятий и дать разностороннее видение проблем. Предлагается ознакомление с идеями классиков социальной философии, а также с работами современных отечественных и зарубежных исследователей. Важным методологическим принципом работы является диалектическое сочетание рационально-логического и валюативного (ценностного) подходов к решению поставленных задач.
Авторы полагают, что достижение истинного знания невозможно вне ценностной ангажированности. Принятие данного принципа позволило глубже проникнуть в сущность сложнейших социокультурных проблем современности.
Учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей вузов, всех интересующихся социогуманитарной проблематикой.
Глава 3 «Основные теоретические модели социальной реальности» подготовлена О.А. Романовым совместно с кандидатом философских наук С.Г. Павочкой.
Авторы
Раздел I Общие идеи и принципы социальной философии
Глава 1 Основные этапы развития социально-философской мысли
Глубокое понимание проблематики социальной философии невозможно без обращения к истории философской мысли об обществе, без анализа ключевых идей и концепций, разработанных в трудах социальных ученых. В отличие от естественных наук, в которых профессионалу достаточно знать нынешнее состояние своей отрасли, в философии необходимо ориентироваться во всей сложности и богатстве пройденного мыслителями пути. Закономерности развития наук о природе отличны от логики движения наук о духе: новая теория в снятом виде включает в свой состав старую; становится лишь одной из возможностей видения социальной реальности, причем не всегда более успешной по сравнению с предыдущими. Поэтому идеи, высказанные столетия назад, могут оказаться более продуктивными и современными, чем те, которые выражаются людьми, находящимися в одной хронологической реальности с нами.
Начиная экскурс в историю философской мысли об обществе, выскажем одно методологическое соображение. Учитывая близость и даже определенное единство проблемного поля социальной философии и философии истории, мы рассмотрим представления философов в обеих отраслях философского знания, что позволит создать панорамную картину процесса развития обществознания.
Первое теоретически продуманное представление об обществе и истории дала античная философия. В работах Платона (ок. 429–347 до н. э.) и Аристотеля (384–322 до н. э.), ставших вершиной развития древнегреческой мысли, впервые был разработан социально-философский подход к пониманию социума. В теоретических системах мыслителей воззрения на общество органично увязаны со всем кругом философских проблем (бытием, познанием, логикой, диалектикой человеческой души, этикой и т. д.), что свидетельствует об универсалистском характере их учений. Платон и Аристотель, рассуждая об обществе, затрагивают широчайший круг вопросов. Это вопросы возникновения общества, разделения труда, рабства, сословий, вопросы воспитания людей, определенные размышления об основах экономики обмена. В этом разнообразии тем выделяются узловые пункты, вокруг которых строится разговор об обществе.
Первое положение – устойчивая связь этической и социально-философской проблематики, осмысление общества в категориях этики. Так, Платон считал, что принципом устроения идеального государства является справедливость, которая приводит к счастью представителей всех слоев общества. Аристотель, размышляя о причинах возникновения государства, писал, что целью государства является общение, организуемое для блага граждан и охватывающее все другие формы общения. Государство, подчеркивает Аристотель, есть продукт естественного возникновения, т. е. оно произошло естественным путем. Второе положение – глубинный этатизм греков, т. е. утверждение первичности государства перед обществом. В греческой философии общество было производным от государства, а не наоборот. Общество как бы растворялось в государстве. Это проявлялось, например, в способе анализа общественных реалий, которые рассматривались с точки зрения государства, блага или пагубности для него. Некоторые феномены общественной жизни вообще выпадали из поля зрения мыслителей, если их связь с государством просматривалась недостаточно четко. Можно утверждать, что в античности философский образ общества был слабо эксплицирован (от лат. expliatio – разъяснение), общество выступало не в своей самодостаточности, а в одном из своих определений, пусть даже принципиально важном. Такая методологическая позиция оказалась весьма устойчивой и сохранилась практически неизменной до Нового времени.
В области философско-исторической мысли античная философия, породив множество гениальных достижений, не смогла осознать закономерной логики процессов развития человеческого общества. Согласно древнегреческим философам, в мире происходят лишь циклические изменения. Известный русский философ Алексей Федорович Лосев (1893–1988) убедительно показал, что древние греки в своем понимании исторического процесса ориентировались на наблюдения круговоротов в явлениях и процессах природы: смена дня и ночи, времен года и т. п. Соответственно формировалось и их представление об историзме. «Античное понимание историзма, – писал он, – будет складываться по типу вечного круговращения небесного свода, т. е. будет тяготеть к тому типу историзма, который мы… назвали природным историзмом. Здесь именно природа будет моделью для истории, а не история – моделью для природы»[1]. Еще одной причиной невозможности появления в античной мысли идеи истории стало отсутствие представления о внутреннем единстве человеческого рода.
Идея единства человечества как необходимое условие становления философско-исторического знания возникла вместе с зарождением христианства. Отцы христианской церкви резко выступили против греко-римских теорий круговорота и цикличности и предложили, во-первых, принцип провиденциализма, т. е. провидения Богом хода и исхода истории; и, во-вторых, идею линейного вектора исторического движения. В рамках христианского воззрения на историю выделяется и такой аспект истории, как необратимость. Если для античного сознания, как и для сознания традиционного общества в целом, характерен упор на повторяемость, воспроизводимость исторических реалий, иногда доводящийся до абсолютности, то для христианского сознания важен акцент на уникальность каждого события в истории. Природное бытие не имеет своей истории – оно таково, каким сотворил его Господь. Человеческое же бытие, движимое укорененной в нем свободой, есть бытие становящееся, направленное к утраченному совершенству. Одним из родоначальников европейской философии истории был Августин Аврелий (354–430 н. э.), обосновавший тезис о взаимосвязи и единстве исторических событий, который позволяет рассматривать историю как закономерный процесс. В своем главном историософском произведении «О Граде Божьем» он показал сложную диалектику двух планов реальности – времени и вечности. История возможна как временность, в которой участвует, с которой соприкасается вечность, т. е. Божественная реальность. Поэтому неслучайно в центре всей исторической мистерии человечества оказывается явление Христа. В Христе происходит непосредственное соединение сакрального и земного, временного и вечного. Жизнь Христа показала, что смена поколений в человеческой земной реальности не есть нечто бессмысленное, она не является пустым коловращением различных эпизодов мировой истории, случайно соседствующих или случайно же разделенных веками, как это иногда представлялось в античности, но являет собой действительный процесс вхождения временного мира в мир вечный. Августин попытался (и не без успеха), опираясь на христианскую основу, описать совокупность человеческих поступков, чаяний и деяний как внутренне связанное, доступное умозрению целое.
Эпоха Возрождения принесла с собой принципиальные изменения в мировоззрение людей и вместе с ними новые взгляды на общество, его устроение и перспективы развития. Одним из мыслителей, чье творчество знаменовало разрыв со средневековой религиозной традицией, был Никколо Макиавелли (1469–1527) – один из наиболее крупных и оригинальных социально-политических мыслителей эпохи Возрождения. Без него трудно понять и оценить специфику и характер духовной атмосферы Ренессанса. С Макиавелли начинается новая эпоха политического мышления. В его лице политическая мысль начала отделяться от других областей знания, быть автономной, превращаться в самостоятельную науку. Макиавелли главной концепцией своего учения выдвигает концепцию добродетели государя и жесткого реализма в политике.
Наблюдая всевозможные проявления, интенсивно формирующегося в его время буржуазного индивидуализма, Макиавелли в своем понимании природы человека приходит к весьма пессимистическим выводам. Он с горечью отмечает, что люди неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману, их отпугивает опасность и влечет нажива. Самый могущественный, с его точки зрения, стимул человеческих действий – это эгоизм, материальный интерес. Он писал, что скорее люди забудут смерть отца, чем лишение имущества. Макиавелли абсолютизирует наблюдаемые им среди некоторых слоев итальянских горожан черты эгоцентризма и индивидуализма, распространяет их на всех людей не только своей страны и эпохи, но и на людей всех эпох и государств.
Неискоренимый эгоизм человека и потребность его обуздания обусловливают необходимость государства. Изначальное зло человеческой природы, полагает Макиавелли, требует учреждения государственной организации как внешней силы, способной поставить ему более или менее жесткие пределы, свести его проявления к допустимой норме. В противоположность средневековому миросозерцанию, все воспитательные и контролирующие функции мыслитель отводит государству, государственным учреждениям и власти, а не церкви. Отсюда его признание государства высшим достижением человеческого духа, а служение государству – целью, смыслом и счастьем человеческой жизни.
Макиавелли прославился своим трактатом «Князь» (или «Монарх», «Государь»), в котором выдвинул и обосновал идеал правителя, сочетающего в своей личности «качества льва, способного расправиться с любым из врагов, и лисицы, способной провести самого изощренного хитреца», государя, не останавливающегося ради достижения своих целей ни перед какими жестокостями, вероломствами, клятвопреступлениями, обманами и убийствами. Образцом такого типа правителя послужил для Макиавелли крайне развращенный и жесточайше настроенный в отношении всех людей вплоть до принципиального аморализма и нигилизма Цезарь Борджиа, зверства которого сделали его имя нарицательным.
Характерный для Макиавелли подход, отделяющий политику от всякой морали и человеческой нравственности, впоследствии получил название «макиавеллизм». Не следует, однако, отождествлять самого Макиавелли с макиавеллизмом. Философ по своим внутренним убеждениям был сторонником умеренного демократического и республиканского строя, но считал, что такой строй возможен только в будущем. Как патриот своего народа, Макиавелли мечтал об изгнании из Италии захватчиков – испанцев и французов. Ввиду фактического положения Италии, ее раздробленности и хаотического состояния Макиавелли требовал установления жесточайшей государственной власти и беспощадного правления (деспотии) с целью приведения Италии в упорядоченное состояние. Во взглядах Макиавелли нашла свое отражение противоречивая, богатая крайностями эпоха, в которую он жил и творил. Он был сыном своего времени. Макиавеллизм представляет собой возрожденческий титанизм, но титанизм, освобожденный не только от христианской морали вообще, но и от гуманизма.
В Новое время социально-философская мысль получила мощный импульс для своего развития, обусловленный активным становлением буржуазно-капиталистических отношений: было пересмотрено соотношение государства и общества, произошло теоретическое расщепление общества и политических структур и раскрытие на этой базе их причинно-следственных связей, связей целого и части. Первым мыслителем, предложившим такое понимание социума, был английский философ Томас Гоббс (1588–1679). В своей теории Гоббс не отрицал огромное значение государства в общественной жизни. Напротив, английский мыслитель выступил апологетом мощной государственной власти. Его заслуга состоит в том, что он впервые показал естественное происхождение государства, политических институтов и отношений иных сфер общественной жизни.
Общество, по Т. Гоббсу, – это подобие гигантского механизма, а человек – элементарная его часть. По своей природе человек является эгоистом, живущим исключительно инстинктом самосохранения. А поскольку Т. Гоббс считает образцом последовательного и доказательного логического мышления геометрию Эвклида (III в. до н. э.), он ставит перед собой задачу дедуцировать содержание социальной науки из исходного эгоизма человека и подобных аксиом. Отказываясь от идеи Божественного происхождения государства, Т. Гоббс доказывал, что государство имеет естественное, чисто земное происхождение, так как создано самими людьми. Суть его учения такова: в естественном (дообщественном) состоянии царит беспредельный эгоизм, но люди равны по своей природе, и именно это равенство порождает непрерывные конфликты. Конфликт воль и стремлений существует как «война всех против всех», поэтому только деспотизм является условием гражданского благоденствия.
Т. Гоббс обосновывает переход от естественного состояния к общественному, или государственному, посредством взаимного согласия, договора. Образовавшееся государство подобно библейскому чудовищу Левиафану. Стоя на позициях крайнего антидемократизма, Т. Гоббс выступает против народного суверенитета, считая наилучшей формой правления монархию. Тем самым политико-центристская методология исследования общества получила в лице Гоббса первого и весьма влиятельного критика.
Линию исследования соотношения общества и государства продолжил французский философ Жан-Жак Руссо (1712–1778). Его представление о естественном догосударственном состоянии принципиально отличается от гоббсовского. Согласно мыслителю люди в естественном состоянии были добродетельными существами и забота о самом себе не вредила самосохранению других. Естественное состояние – это золотой век человечества. Причина его потери, по Ж.-Ж. Руссо, – возникновение частной собственности, которая вывела людей из естественного и перевела в государственное состояние. Руссо блестяще показал проблемы и противоречия, порождаемые частной собственностью, глубоко проанализировал причины социального неравенства, угнетения и эксплуатации. По существу философ провел самую глубокую критику буржуазного общества на домарксистском этапе развития социальной философии. Но, несмотря на различия понимания сути государства, Руссо и Гоббса объединяло понимание общества как целого с источником развития в нем самом.
В Новое время резко возрос интерес к экономическим, материально-производственным сторонам общественной жизни. Так, французский философ Клод Анри де Рувруа Сен-Симон (1760–1825) обращал особое внимание на развитие индустрии в обществе, появление соответствующих форм собственности, классов. Он считал, что социальный рассвет наступит благодаря развитию промышленности, сельского хозяйства, искоренению паразитизма в экономике, благодаря организации справедливого производительного труда. Значительный вклад в понимание экономических оснований общества внес английский ученьпЫ<к/и Смит (1723–1790). Его воззрения обычно рассматривают в курсе политэкономии как воззрения теоретика «незримой руки рынка» и свободной конкуренции. Однако его учение далеко выходит за рамки собственно политэкономии. Огромное социально-философское значение имел анализ А. Смитом человеческого труда, в частности производительного труда, процесса его разделения, сущности экономических законов.
В развитии социальной философии Нового времени можно выделить следующие тенденции. Во-первых, в поле зрения мыслителей попадало все большее количество общественных явлений, что свидетельствовало об экстенсивном развитии социального знания того времени. Во-вторых, теоретический интерес все больше смещался в сторону материальной сферы и ослабевал интерес к духовной стороне общественной жизни. В-третьих, были созданы предпосылки для понимания общества как целостного организма, выявления в нем координационных и субординационных зависимостей.
Философско-историческая проблематика в Новое время также получила импульс дальнейшего развития. Это связано с бурными процессами торгово-экономического и политического характера – колониальными захватами, Великими географическими открытиями, международной торговлей и подобным в XVII–XVTII вв. была четко определена предметная область философии истории. Термин «философия истории» ввел французский мыслитель Вольтер (Мари Франсуа Аруэ) (1694–1778). Он считал, что историк должен не просто описывать события, излагая их в хронологической последовательности, но философски истолковывать исторический процесс, рефлектировать над его бытием. Другими словами, в момент своего возникновения философия истории понималась как знание о знании исторических событий и служила метанаукой истории. Глубокую проработку проблематика философии истории получила в труде немецкого философа Иоганна Готфрида Гердера (1744–1803) «Идеи к философии истории человечества», где дается широкая панорама всей мировой истории. Как пишет немецкий просветитель, его интересовала наука, которая описывала бы всю историю человечества начиная от зарождения. Философско-историческое произведение Гердера сыграло важнейшую роль в становлении философии истории как особой дисциплины.
Бурный рост естественнонаучного знания в XVII–XVIII вв. вызвал достаточно резкое дистанцирование науки и религиозных идей и обусловил поиск универсальных законов истории, наподобие тех, которые активно открывались в природе. Программа поиска построения универсальной науки о сущности человека и исторического развития общества нашла многих приверженцев среди французских философов. Она была поддержана известным французским экономистом-физиократом Анн Роббер Жак Тюрго (1727–1781) в труде «Рассуждении о всеобщей истории»[2]. Особенно настойчиво эту программу пропагандировал Жан Антуан Никола Кондорсе (1743–1794) в работе «Эскизы об исторической картине прогресса человеческой мысли», где утверждал, что принципы новой науки об обществе могут служить не только для объяснения хода истории, но и для предвидения основных черт будущего развития.
Согласно Кондорсе, движение истории имеет поступательный характер – от некоторого несовершенного начала ко все более совершенным состояниям. Критерием совершенного состояния является разум, проникающий во все сферы бытия человеческого общества и побуждающий бытие к изменению. Напротив, удаленность от разума порождает несовершенство истории. Экспансия разума в жизнь приводит ко все более полной ее унификации, ибо люди оказываются равными друг другу именно как разумные существа. Отсюда светлое будущее человечества предполагает объединение – одна нация, одно государство, одно правительство, наконец, один язык. История в таком случае оказывается тотально управляемой.
Идеи философов-просветителей о возможности построения социально-исторической науки, способной предсказывать будущие формы социальной организации, нашли широкую поддержку среди ученых первой и частично второй половины XIX в., придерживавшихся разных мировоззренческих взглядов на историю и движущие силы ее развития (А. Сен-Симон, О. Конт, Г. Бокль и др.). Все они считали, что новые социальные исследования станут надежной основой политических, экономических и социальных реформ в преобразовании общества. Сам Н. Кондорсе, поддержавший Французскую революцию 1789 г. и избранный в Законодательное собрание Франции, твердо верил – эта революция будет удачной, если будут преодолены препятствия на пути прогресса человеческого разума и широкого просвещения народа.
Наиболее масштабная и амбициозная теоретическая программа реконструкции исторического процесса принадлежит немецкому философу Георгу Вильгельму Фридриху Гегелю (1770–1831). Исходя из своего основополагающего тезиса о господстве разума в мире, Г. Гегель утверждает, что всемирно-исторический процесс совершается разумно. Кроме самой аксиомы о первичности разума, философия истории не должна привносить никаких априорных положений, опираясь только на факты. Г. Гегель-диалектик настаивает, чтобы философский анализ истории, равно как и анализ любого другого процесса, руководствовался принципом развития, который является не просто спокойным процессом, совершающимся без борьбы, а тяжелой недобровольной работой, направленной против самого себя. Исторический процесс, подчеркивает Г. Гегель, диалектичен, и философия истории должна рассматривать его тоже диалектически, показывать в движении и развитии. Но движение имеет свою цель, и поэтому поиск конечной цели истории, наряду с выявлением ее оснований, явился важнейшей задачей немецкого мыслителя.
Цель истории, по Г. Гегелю, – максимально полное осуществление свободы. Окончательный вывод философа состоит в том, что «всемирная история есть прогресс в сознании свободы – прогресс, который мы должны познать в его необходимости». Шествие свободы происходит, по выражению Г. Гегеля, в некотором материале, каковым является субъект со своими потребностями. Но субъект живет в определенном государстве, и поэтому государство тоже должно находиться в центре внимания философии истории.
Идеалистический характер гегелевской философии истории был подвергнут критике Карлом Марксом (1818–1883). Источником исторического развития К. Маркс считает не оторванный от отдельного человека мировой разум, но вполне конкретные материальные потребности людей. Создавая материальные блага для удовлетворения своих потребностей, люди тем самым развивают и самих себя, и общество в целом, тем самым являясь источником исторического процесса. Более подробно марксистское понимание истории раскрыто в главе «Развитие общества как естественно-исторический процесс. Формационное членение истории».
Значительный вклад в развитие социально-философской проблематики внесли русские мыслители. В XIX в. процесс развития обществознания в России привел к осознанию неудовлетворительности социально-философских доктрин, преувеличивающих значение одного фактора в общественной жизни. Этот процесс породил необходимость построения такой социальной теории, которая бы носила обобщающий, синтезирующий характер и не только преодолевала бы односторонние и отвлеченные подходы к социальной действительности, но и серьезно учитывала своеобразную и специфическую природу общественного бытия. Попытка такого синтеза была осуществлена в философии Владимира Сергеевича Соловьева (1853–1900) и его последователей.
В. Соловьев подверг критике стремление рассматривать общество как организм, по аналогии с животным или растительным миром. Соглашаясь с тем, что общество есть нечто сложное, живущее и развивающееся, философ указывал, что это не дает основания отождествлять явления природные и социальные. Общество обладает особенными, только ему принадлежащими свойствами. Эти свойства связаны прежде всего с идеальной стороной общественных явлений. Общество живет и развивается по идеям, причем эти идеи – «сознательные мысли самих членов общества». В этом смысле общество «может быть названо организмом свободным и противоположно всем другим как только природным».
Выступая против редукции социального бытия к природному, В.С. Соловьев подчеркивал отсутствие абсолютной предопределенности в общественной жизни. Существование природного организма, отмечал мыслитель, обусловлено наличием инстинктов. Мы знаем, как разворачивается процесс органического развития «с началом и концом своим, от зародыша до пузырька». Иначе обстоит дело в социальной жизни, ибо развитие общества в его целом «есть только задача». Мы не можем с определенностью указать на его окончательные итоги, так как не только «начатки человечества скрыты, но и его концы», и мы «не знаем даже и того, в каком количественном отношении находится прожитый уже человечеством период ко всей его жизни».
Философ считал неправомерным сведение специфики общества к одной трудовой деятельности или к наличию совместно организованного бытия его членов. Подобный подход, по его мнению, исключает самое существенное – духовную сущность общественности и ее нравственные начала. Если мы сведем сущность общественной жизни к такому ее признаку, как труд, подчеркивал он, то превратим человека в подобие насекомого и человеческое общество ничем не будет отличаться от трудовой жизни муравейника.
Итак, общество, по мнению В.С. Соловьева и его последователей, не есть заданный извне природный организм. Его существование определяется теми целями, которые люди сами ставят перед собой. В этом смысле человеческая свобода оказывается свободой ставить перед собой задачи и находить их решения. В человеческом обществе нет жесткой предзаданности ни его начал, ни итогов, и все является результатом живой творческой деятельности. Выражаясь современным языком, для общества характерны функции целеполагания и целедостижения. Этически-религиозный фактор играет немаловажную роль в общественной жизни. Определяя духовное содержание эпохи, он дает дальнейшее направление историческому развитию. Общество – это особый духовный, целостный организм и организованная нравственность.
Стремление к синтетическому видению общества нашло наиболее полное выражение у Семена Людвиговича Франка (1877–1950). По мысли философа, существо общества составляет не внешнее взаимодействие обособленных индивидов, не столкновение атомистически мыслимых его элементов, а первично соборное многоединство. «Я» и «Мы» не противостоят друг другу, они органично слиты и взаимно питают друг друга. Двуединство «Я» и «Мы» проистекает из слитности человеческих душ в Боге. Мистически интерпретируя общественное бытие (сущность государства, права, гражданского общества), постулируя существование изначальной незримой духовной связи между людьми, благодаря которой только и становится возможной социальная жизнь, С.Л. Франк не признает в качестве движущей силы общества эгоизм и удовлетворение человеческих потребностей. Отвергая идею самодовлеющей личности и одновременно критикуя противоположную позицию, стремившуюся растворить личность в общественных интересах, философ отстаивает личность соборную. Общество приводится в движение скрытой силой мистической Богочеловеческой реальности. Это значит, что всякое притязание личности, групп людей должно доказать свою правомерность, свое соответствие абсолютной правде. Получается, что отдельный индивид, как и общество в целом, исполняет в конечном счете не свою собственную и не чужую человеческую волю, движение определяется нравственным сознанием служения верховным принципам.
Но наибольший вклад русская философия внесла в развитие философии истории. С момента пробуждения в России философского миросозерцания его развитие идет под знаком напряженного интереса к философско-исторической проблематике – вопросам о смысле, начале и конце истории, о всеобщих началах человеческой культуры, об исторической миссии сначала Святой Руси, позже – Великой России. В этом смысле, как отмечал Василий Васильевич Зеньковский (1881–1962), вся русская философская мысль «сплошь историософична». Солидаризируясь с оценкой Зеньковского, С.Л. Франк писал, что философия истории – одна из главных тем русской философии, все самое значительное и оригинальное, созданное русскими мыслителями, относится к этой области. Каковы же причины глубинной историософичности русской мысли, сущности духовных и практических оснований обращения к теме истории? Одним из возможных ответов является идея, согласно которой история России – сложная, трагичная, а иногда и прямо катастрофическая настоятельно требовала раскрытия ее смысла, понимания «замысла Творца о России».
Другая причина состоит в том, что древнерусское государство приняло в качестве официальной религии восточное христианство. Важнейшей разграничительной чертой православия и католицизма выступает сотериология, т. е. учение о спасении. Западное христианство, опираясь на Римское право, разработало юридическую теорию спасения: Бог выступает в виде судьи, а человек – подсудимого, который оправдывается перед Творцом добрыми делами. Нравственное богословие католической церкви выработало и рационально обосновало программу поведения индивида. В общем виде схема богоугодного поведения строилась следующим образом: на основе истин откровения, усвоенных с помощью веры и разума, разрабатывались нравственные нормы и путем церковного воспитания доводились до верующих. Иными словами, религиозные истины опосредованно влияли на деятельность людей. По мере эволюции религиозного сознания представления о «добрых делах» в западном христианстве изменяются. Религиозная и социальная сферы все более обособляются, появляется гуманизм, поставивший в центр своих установок проблему земного самоутверждения индивида. Теоцентризм (от лат. theos – бог + centrum – круг) уступает место антропоцентризму.
Иная ситуация складывается в восточном христианстве. Одним из источников учения о спасении в Православии являются идеи неоплатонизма. Процесс нравственного совершенствования – это процесс обожения, т. е. преображения человека. Индивид познает истины откровения не просто разумом, а входит в истину, следовательно, истина носит не только гносеологический, но и онтологический характер. Встать на путь Бо-гопознания – значит встать на дорогу преображения жизни. Тенденции к онтологизации истины усилились на Руси в период знакомства с исихазмом (от греч. sesychia – покой, отрешенность) (XIV в.). Идея синергизма (от греч. syneroca – совместное действие) делает акцент на совпадение энергий Бога и преображенного человека, в связи с чем Божественные истины начинают трактоваться не только как «правильное изложение Божественной воли», но и как жизнь по воле, т. е. как жизнь по правде Божьей.
Отсюда вытекает формула восточного христианства: «Хочешь понять – приходи и живи». Но преображение жизни происходит во времени, а значит, и в истории. Вот почему уже «древнерусскую литературу можно рассматривать как литературу одной темы и одного сюжета. Этот сюжет – мировая история, и эта тема – смысл человеческой жизни» (Д.С. Лихачев). Установки восточного христианства становятся не только центром церковной жизни, но вместе с тем и одной из решающих сил исторического процесса. Православие не «вне истории», а «внутри нее». Итак, онтологизм, укорененный в православии, придает особую историософичность отечественной духовной традиции.
Особенностью русской историософии также выступает обязательный приоритет духовных ценностей над материальными в детерминации истории. Развитие социума рассматривается как Богочеловеческий процесс, совместное действие трансцендентного и земного начал. В связи с этим необходимы условия для свободного избрания воли Божией, для осуществления провиденциальных (от греч. providencia – провидение) планов. Среди этих условий важнейшим выступает преодоление ориентировки человека на вещные ценности, которые не отвергаются вообще, но рассматриваются всегда как средство, а не цель. С приоритетом духовных ценностей связана и эсха-тологичность (от греч. eschatos – последний, конечный) отечественной историософии, ибо только с концом земного существования связывается преобразование плоти, ее полное одухотворение.
Еще одной заслугой русской философской мысли является глубокое и точное определение предмета философии истории. Так, С.Л. Франк пишет: «Существуют два типа философии истории, из них один ложен, а другой – истинен. Ложный (наиболее доселе распространенный) тип философии заключается в попытке понять последнюю цель исторического развития, то конечное состояние, к которому она должна привести и ради которого твориться вся история»[3]. Франк осуждает сторонников прогрессистского видения истории (И. Гер дера, А.Р. Тюрго, Н. Кондорсе, Г. Гегеля), справедливо отмечая, что никакого уготованного будущего, гарантированного счастливого финала человечество не имеет. С точки зрения Франка, философия истории есть конкретное самосознание человечества, в котором оно, обозревая все перипетии и драматические коллизии своей жизни, все упования и разочарования, достижения и неудачи, «научается» понимать свое истинное существо и истинные условия своего существования. Философия истории в этом смысле действительно осуществима.
Другой русский философ Николай Александрович Бердяев (1874–1948) в известной работе «Смысл истории» проанализировал сущность феномена «исторического». В истории, наряду с эмпирическим протеканием времени, в котором будущее поглощает прошлое, а настоящее кажется исчезающе малой величиной, действует особое метаисторическое время. В нем прошлое живет в настоящем и продолжается в будущем. «Поэтому, – подчеркивает Н.А. Бердяев, – нет ничего важней для исторического познания, как установление должного отношения к прошлому и будущему, как преодоление того культа будущего, во имя которого различные теории прогресса приносят в жертву настоящее, предавая забвению прошлое». Разрыв между вечным и временным, между прошлым и будущим есть величайшее заблуждение сознания, служащее препятствием на пути создания подлинной философии истории.
Задачей философии истории, по мысли русского философа, является установление тождества между человеком и историей, между его судьбой и метафизикой истории. Это тождество достигается через историческую память как некоторое духовное отношение к «историческому» в историческом познании, которое оказывается внутренне преображенным и одухотворенным. В определенном смысле историческая память обеспечивает победу вечности над забвением и смертью. Она уходит в самые глубины вечности. «Поэтому, – заключает Бердяев, – истинная философия истории есть философия победы истинной жизни над смертью, есть приобщение человека к другой, бесконечно более широкой и богатой действительности, чем та, в которую он ввергнут непосредственной эмпирией».
Социально-философским идеям русских мыслителей созвучны многие идеи социально-философской мысли Беларуси. Проблемы отношений человека и общества, совершенствования социальной реальности выступают для белорусских философов в качестве важнейших. Восточнославянская специфика белорусской культуры в том, что она предопределила главным средством совершенствования общественных отношений развитие нравственности, освоение духовных ценностей.
Служение «людям посполитым», идея «общего блага» – важнейший вектор решения смысложизненных проблем в размышлениях Франциска Скорины (до 1490 – не позднее 1551), который в полной мере следовал этому вектору в собственной жизни и судьбе. Залогом общественного процветания белорусский первопечатник считал приоритет интересов общества, патриотических мотиваций над интересами отдельной личности.
Определяющее влияние нравственности на жизнь общества обосновывали такие белорусские мыслители, как Андрей Волан (1530–1610) и Сымон Будны (1530–1593). Отличительной чертой воззрений белорусских мыслителей эпохи Возрождения стало их внимание к роли и значению законов как регулятора общественных отношений, что отражало влияние западно-европейской традиции регуляции социальных проблем. Однако законы «писаные», юридические, должны строиться на моральных основаниях, принципах любви и справедливости.
Добродетельное действие, моральные основания человеческой активности, стремление к их познанию – эти темы являются устойчивым элементом в рассуждениях социальнофилософского характера и в последующие периоды развития философской мысли Беларуси, независимо от того, религиозным (Л. Залусский, С. Полоцкий) или даже атеистическим (К. Лыщинский) является ее характер. Просвещенческая этика философской мысли Беларуси (А. Довгирд, М. Хриптович, И. Еленский), формировавшаяся под достаточно мощным влиянием западно-европейских идей, в духе времени преувеличивает потенциал разума и рациональность проектов в совершенствовании общества, но даже в ее рамках тот же А. Довгирд подчеркивает необходимость единства совести и глубины знаний, обосновывает значимость нравственного воспитания человека.
Проблема социально значимого, социально оправданного нравственного выбора, несмотря на различия в решении вопроса направленности формирования белорусского национального самосознания, сохраняет сквозной характер и в философской мысли белорусских народников и революционных демократов XIX – начала XX в.
И хотя в целом социально-философская мысль Беларуси в XIX–XX вв. имеет выраженный социально-политический характер, ее лейтмотивом на протяжении всей истории развития остается осмысление нравственных оснований социального бытия, а особенностью (по сравнению с тематикой собственно русской философии) – обоснование значения и роли законов и их исполнения в общественной жизни.
В XX в. большое внимание уделялось проблемам методологии социального познания. Особый вклад в осмысление этих вопросов внесла Баденская школа неокантианства. Ее представители Вильгельм Виндельбанд (1848–1915), Генрих Риккерт (1863–1936) и другие определили задачу философии в разработке методологических и логических основ научного познания. Философы Баденской школы разграничивают науки о природе и науки о культуре не только по предмету, но и по методу исследований. С их точки зрения, науки о природе (естественные науки) – это науки об общем, и они используют номо-логический, или генерализирующий, метод познания действительности. Этот метод заключается в образовании общих понятий и в формулировании общих законов. Рядом с данными науками имеются и иные – так называемые науки о культуре, цель которых – изучение неповторяемых единичных событий (например, историческая наука). Науки о культуре не имеют общих закономерностей, поскольку люди не в состоянии предсказать, что последует за достигнутым состоянием. В. Виндельбанд и Г. Риккерт считают, что можно лишь post factum указать основания того, что произошло. Вот почему эти науки излагают действительность, которая никогда не бывает общей, но всегда индивидуальной. В. Виндельбанд называет также науки идиографическими, т. е. науками только об индивидуальном, единичном и неповторяющемся, а метод, который эти науки применяют, идиографическим, или индивидуализирующим, т. е. методом, описывающим исторические явления в их неповторимости. С точки зрения Г. Риккерта, индивидуальность исторического события, постигаемая нами, не есть действительность, но только наше понимание действительности. Это связано с тем, что историк, занятый описанием единичных событий, должен иметь кроме формального принципа индивидуализации еще и дополнительный принцип, дающий ему возможность выделять из бесконечного многообразия фактов то существенное, имеющее значение исторического события, ведь в науках о культуре действительность распадается на существенные и несущественные явления. Историк должен произвести данный отбор. По мнению Г. Риккерта, он и делает этот отбор, когда относит события к культурным ценностям. Соответственно, метод отнесения к ценности Г. Риккерт называет индивидуализирующим методом, а сам такой род познания – пониманием. Благодаря отнесению события к ценностям, считает Г. Риккерт, мы только и можем познать уникальные формы культуры. Ведь человеческая культура многообразна и каждый ее тип требует специфического понимания своей уникальности, т. е. ценности. Правда, четкого ответа на вопрос о содержании ценности у Г. Риккерта и В. Виндельбанда нет. Они лишь говорят – ценности вечны и неизменны и не зависят от субъекта. При этом подчеркивается, что независимость состоит не в том, что ценность существует вне индивидуального сознания, а в том, что она обладает обязательной значимостью для него. Род познания, предложенный В. Виндельбандом и Г. Риккертом, родственен кантовскому практическому разуму: постичь путем интуиции дух человеческой культуры, неподвластный логическим категориям.
Неокантианство в лице В. Виндельбанда и Г. Риккерта внесло значительный вклад в разработку проблем специфики социального познания, особо подчеркнув ценностную природу социального знания. Однако противопоставление общего и единичного при определении особенностей наук о природе и культуре имеет свои пределы. Абсолютизация единичного, равно как и общего, для науки недопустима. Не может быть наук, игнорирующих общие связи и рассматривающих только какие-либо конкретные и уникальные факты сами по себе. Уникальное в истории не исключает повторяющегося в ней. Нагромождение фактов, просто их описание не есть еще история. В истории имеются различные виды соотношения общего и единичного. Так, в исторических науках, например, единичное событие не может рассматриваться как феномен, который будет исчерпан до конца фиксацией во времени и пространстве и не будет более сводим ни к каким другим общим отношениям. Скажем, отмечая уникальность войны 1812 г., мы не можем не видеть, что она несет в себе и родовую определенность войны вообще, т. е. совокупность существенных и повторяющихся признаков, присущих этому историческому явлению в целом. Собственно поэтому и в истории, и в других подобных науках основным является не подчинение отдельного феномена виду явлений, а включенность частного явления в более объемлющее, но столь же единичное целое.
В последней трети XX в. популярность и интеллектуальное влияние приобрела философия постмодернизма. Постмодернизм во многом стал реакцией интеллектуалов на идеологию просвещения, поэтому его часто называют идеологией пост-просвещения. На смену классическому типу рациональности с ее всеупорядочивающим детерминизмом, преклонением перед Разумом с большой буквы приходит постмодернистская раскованность, радикальная гетерогенность, непрерывная дифференциация, отрицание всякой упорядоченности и определенности формы. В философии истории постмодернисты отвергли все прежние объяснительные модели. С их точки зрения, истории как единого процесса нет, существуют лишь отдельные фрагменты, события истории. Для их описания они используют понятие «ризома», заимствованное из ботаники. Ризома не имеет единого корня, это множество беспорядочно переплетенных побегов, которые развиваются во всех направлениях. Поскольку, согласно постмодернизму, история состоит из трещин, разломов, провалов и пустот человеческого бытия, историк должен двигаться интуитивно, как ризома по пересеченной местности, где нет четких ориентиров. Современный французский философ Жиль Делез убежден, что такой подход позволяет непрерывно умножать грани исследуемой реальности. История становится полицентричной, она ломается, рвется, течет несколькими разнородными потоками, и будущее этих потоков неопределенно. Неопределенность, снятие всех и всяческих границ – ключевая характеристика постмодернистской парадигмы исторического познания. Ее изъяны – излишний негативизм, деконструктивизм, хаотический плюрализм, релятивизм.
Труднее выявить достоинства этой парадигмы, но они все-таки есть: отстаивание ценности разнообразия мира, расширение кругозора исследователя, учет особенностей его индивидуального развития, вплоть до самоидентичности. Постмодернизм вернул в философию истории вопрос о качественной весомости исторических событий и фактов, давно закрытый позитивистской философией. Он напомнил, что не существует корреляции между частотой появления и значимостью определенных событий в истории: только будущие поколения способны это оценить. Статистика и социологические выборки не охватывают размаха исторических событий и совершенно беспомощны в отношении динамики их саморазвития.
В современной западной философии можно выделить два крупных направления – онтологическое и гносеологическое. Представители онтологического направления Освальд Шпенглер (1880–1936), Арнольд Джозеф Тойнби (1889–1975) и другие стремятся к выяснению сущности исторического процесса, его смысла, движущих сил, условий прогресса и т. п. Объектом такого типа философии истории является исторический процесс в целом, человечество как субъект истории, а не отдельный народ или социальная группа. Гносеологическое направление главное внимание уделяет проблемам познания исторических фактов и событий. Его представители Вильгельм Дильтей (1833–1911), Георг Зиммель (1858–1918), РеймонАрон (1905–1983) и другие полагают, что предмет философии истории – логикотеоретические и методологические проблемы исследования исторического прошлого, его теоретическая реконструкция и установление истинности исторических фактов.
Гносеологическое направление получило и другое название: «критическая философия истории»; его сторонники утверждают, что критический подход к постижению истории есть единственный путь создания теоретически строгой модели исторического процесса. Центральной категорией критической философии истории является категория понимания. Пониманию истории должно предшествовать понимание как самого себя, так и другого, его опыта, умонастроения, ментальности.
Философия истории XX в. с особой силой поставила проблему коммуникации как сущностной характеристики исторического бытия и, говоря шире, как основания человеческого существования вообще. История возможна лишь в той мере, в какой люди открыты миру и друг другу. Точно так же и целые сообщества жизнеспособны вследствие их терпимости по отношению к другим общественным организмам. Настроенность на диалог создает предпосылки для будущего, открывает пространство для исторического творчества. История реализуется через общение. Она требует от человека неустанного внимания к бытию, являющемуся критерием и одновременно стержнем любого исторического события. Этот диалог с миром – также и основание для понимания нас самих. История в этом смысле является предпосылкой прорыва к нашей подлинной сути.
Глава 2 Предмет социальной философии. Место социальной философии в системе философского знания
Социальная философия по праву занимает одно из важнейших мест в сложном комплексе современных философских дисциплин. Перефразируя Гегеля, можно сказать, что социальная философия есть постижение наличного и действительного в мире социального. Сосредоточившись на сущем – обществе как таковом, социальная философия призвана исследовать природу общественных процессов в самом широком и глубинном смысле. Философское осмысление проблемы общества закладывает теоретико-методологические основы для изучения всех дисциплин обществоведческой специализации – социологии и политэкономии, юриспруденции и политологии.
Понимание общества в рамках социальной философии имеет свою специфику, определяемую ее философским статусом. Философия по своему изначальному смыслу призвана к осмыслению предельно общих проблем мироустройства, среди которых особое место занимают проблемы места человека в бытии, смысла и цели его жизни. Социальная философия в своем предметном поле преломляет эти проблемы применительно к сфере социального, формируя модель общественной жизни как одной из подсистем универсального бытия с присущими ей закономерностями функционирования и развития. Она вырабатывает интегральный взгляд на социальный мир, который оказывается невозможным для иных обществоведческих дисциплин.
Углубляя эту мысль, можно утверждать, что основная задача социальной философии заключается в том, чтобы показать различие между социальным и несоциальным, установить, что отличает надорганическую реальность от царств живой и неживой природы. Другими словами, социальная философия должна охарактеризовать социальность как часть мира, отличную от иных его частей и связанную с ними в единый мировой универсум. С.Л. Франк в своей знаменитой работе «Духовные основы общества» писал: «Что такое есть собственно общественная жизнь? Какова та общая ее природа, которая скрывается за всем многообразием ее конкретных проявлений в пространстве и времени, начиная с примитивной семейно-родовой ячейки, с какой-нибудь орды диких кочевников, и кончая сложными и обширными современными государствами?.. Какое место занимает общественная жизнь человека в мировом, космическом бытии вообще, к какой области бытия она относится, каков ее подлинный смысл, каково ее отношение к последним, абсолютным началам и ценностям, лежащим в основе жизни вообще?»[4]
Изучение проблемы социальности невозможно вне анализа темы человека как социального индивида, его отношений к миру и людям. Более того, философское рассмотрение отношений человека и общества во всей их сложности и многозначности является несущим стержнем всей социальной философии. Нераздельность человека и общества, их диалектическая взаимосвязь обусловливают антропологическую направленность социально-философской мысли, придают ей гуманистическое измерение. В социальной философии проблема смысла и цели человеческой жизни рассматривается в контексте сущности и направленности развития общества. Тем самым социальная философия приобретает статус человеческого самопознания, призванного дать ответы на фундаментальные вопросы мировоззрения: Что такое человек? Каково его истинное предназначение?
Отдельной и очень важной проблемой является вопрос соотношения социальной философии и других обществоведческих дисциплин. Отличие социальной философии от других социальных наук заключается в том, что ее объектом выступает социальное вообще, социальное как одна из подсистем мира, занимающая специфическое место в нем, и выявление ее соотношения и связи с иными сферами окружающей и охватывающей нас реальности. Объектом частных социальных наук является тот или иной фрагмент или аспект общества, социальной реальности, более или менее произвольно выбранный, но не социальная реальность как таковая.
Пристальное внимание к всеобщим свойствам социального не означает, что социальная философия не занимается изучением отдельных обществ или их типов. Общефилософское понимание диалектики всеобщего и особенного раскрывает нам способ их связи, при котором общее неразрывно связано с конкретными формами своего бытия. Отсутствие на географической карте общества вообще не говорит нам, что общее не существует в реальности. Это означает лишь то, что, не обладая предметностью, телесностью бытия, общее и особенное существуют в виде реальных, а не измышленных сознанием отношений сходства и подобия между отдельными явлениями. Тем самым в философском понимании общества выделяются два взаимосвязанных, относительно самостоятельных уровня: предельно абстрактный анализ всеобщих отношений, свойств и состояний социальности в ее наиболее чистом виде и более конкретный анализ определенных типов общества или отдельных обществ. Эти уровни органично связаны, но не заменяют друг друга. Основная задача социальной философии — раскрыть сущность общества в широком понимании этого слова, охарактеризовать общество как часть мира, отличную от иных его частей и связанную с ними в единый мировой универсум. Но решить эту задачу социальная философия сможет лишь в том случае, если не ограничится широким пониманием общества как социальной реальности вообще, но установит и иной, более узкий смысл этого термина, рассмотрит общество не только как надорганическую, но и как историческую реальность, не как социум вообще, но как конкретную форму социальности, отличную от иных ее форм.
Существует мнение, что социальной философии не следует вмешиваться в компетенцию частных наук, получая от них знание в готовом виде, но при всей его распространенности оно едва ли оправданно. С одной стороны, познание общего и всеобщего, на которое претендует философия, невозможно без познания отдельного, в котором и через которое это общее существует. С другой стороны, отдельные науки с неизбежностью оказываются во власти ползучего эмпиризма с его отказом от права на сколько-нибудь значительные обобщения общетеоретического порядка без обращения к методам, теориям и категориям философского уровня. Социальная философия предлагает частным наукам абстракции наивысшего уровня, тем самым являясь общей методологией познания общества по отношению к конкретным областям обществоведения. Задача предлагаемых научных абстракций состоит в том, чтобы упростить реальность и выделить главное для последующего концептуального осмысления, но при этом не исказить сущность этой реальности. Г. Гегель подчеркивал: «Все дело в том, чтобы в видимости временного и преходящего познать субстанцию, которая имманентна, и вечное, которое присутствует в настоящем. Ибо, выступая в своей действительности, разумное, синоним идеи, выступает в бесконечном богатстве форм, явлений и образований».
Методологическое обеспечение развития частных общественных наук предполагает философское продумывание их категорий и методов исследования. Другими словами, разработка теорий имеет в виду обращение к понятиям и методам, которыми оперирует социально-философское знание. Так, например, учение о государстве и праве своим теоретическим фундаментом имеет общие представления о становлении и развитии человека и общества, способах взаимодействия социальных групп и классов, сущности общественного сознания и т. п. Еще один аспект рассматриваемого соотношения заключается в обратном воздействии конкретных обществоведческих дисциплин на социально-философское знание. История, социология, экономическая теория, открывая законы функционирования и развития своих предметных областей, способствуют более глубокому проникновению в сущность социальности в целом.
Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что именно социальная философия разрабатывает особые исследовательские установки: научные парадигмы, осознанные или неосознанные каноны мышления, ориентирующие исследователей на определенную картину социального мира и различные аналитические стратегии. Специфика современного состояния социально-философского знания заключается в том, что происходит смена парадигмальных принципов и моделей исследования, обусловленных формированием новой научной картины мира. Начиная с XVII в., в культуре господствовала классическая картина мира, предопределившая теоретическую и мировоззренческую ориентацию всех отраслей научного и философского знания. В рамках данной парадигмы, или, если сказать шире, классической картины мира, сложился определенный стиль мышления и понимания действительности, базирующийся на следующих теоретических принципах и положениях.
1. Понимание мира, его объективное описание и объяснение могут быть достигнуты только посредством устанавливаемых наукой универсальных законов бытия.
2. Предметом науки является общее, повторяющееся, наука об индивидуальном, уникальном в принципе существовать не может. Случайность есть сугубо внешнее побочное явление, [5] не способное оказать на динамику объекта сколь-нибудь значительное влияние и, соответственно, не имеющее самостоятельного значения.
3. Действительность выступает как поле действия универсальных причинно-следственных (каузальных) связей и отношений; видимое их отсутствие или нарушение есть результат неполноты наших знаний. Отсюда понимание детерминизма[6] как принудительной каузальности, предполагающей фактор внешней по отношению к исследуемому процессу причины, понятой в качестве его детерминанты.
4. Развитие мира носит линейно-поступательный, однонаправленный и безальтернативный характер; имеющие место отдельные случайные альтернативы поглощаются магистральным течением событий.
5. Линейный, детерминистский подход дает возможность исчерпывающего адекватного описания сколь угодно отдаленного прошлого и невероятностного, опять же сколь угодно отдаленного, прогнозирования будущего.
6. Управляющее воздействие людей на объекты, если воздействие согласуется с их законосообразной логикой развертывания и развития, рождает желаемый результат и тем самым обеспечивает свободу людей, понимаемую как осознанную необходимость. Отсюда линейная модель управления процессами.
Таким образом, классическая наука основное внимание уделяла равновесию, устойчивости, однообразности, порядку – всем тем параметрам, которые характеризуют замкнутые системы и линейные соотношения. Мир при таком подходе мыслился как правильный, простой и однородный процесс, а природа – как мертвое пассивное начало, действующее по принципу механизма-автомата. Главное в этой схеме состояло в понимании природной и социальной среды как упорядоченной и закономерно устроенной системы, познав которую человек способен осуществить свою власть над внешними обстоятельствами и процессами, поставив их под свой контроль. Отсюда культ рациональности в западноевропейском сознании, уверенность в возможности человека как заведомо более совершенного творения, нежели природа, целенаправленно переделать мир.
Будучи преломленной в области социально-философского знания, классическая картина мира приобрела следующее содержание.
1. Действительным предметом социального познания и подлинным критерием его научной состоятельности выступает все то, что позволяет выявить и охарактеризовать общие законы и закономерности социальной эволюции, смену и повторение ее стадий и этапов.
2. Развитие общества носит законосообразный, прогрессивно-поступательный, линейно-восходящий, безальтернативный характер: настоящее всецело определяется прошлым, а будущее – настоящим и прошлым. Отсюда концепции не только провиденциалистского толка, но и социального прогресса, формационно-стадиального развития общества в виде экономического либо технологического детерминизма.
3. Проявление случайности в форме отдельного события или индивидуальной человеческой воли в конечном счете, поглощается и нейтрализуется общим ходом истории, ее законы при любом сочетании обстоятельств, отдельных индивидуальных воль, сил и тенденций в итоге неизбежно пробьют себе дорогу.
4. Развитие общества подчинено универсальной историчности, задающей общую направленность и единство всемирно-историческому процессу, т. е. на основе универсалий прогресса, равно доступного всем народам и государствам, постепенно формируется единое мировое пространство.
5. Развитие общества носит вполне предсказуемый характер. Ошибки и просчеты в прогнозировании будущего социального бытия есть результат неполного знания и понимания закономерностей его развития.
Таковы в самом общем и схематизированном виде базисные параметры классической парадигмы социального познания, которая так или иначе коррелировала с классической научной картиной мира.
Однако постепенно ситуация изменилась. В результате небывало резкого ускорения общественных процессов, уплотнения темпов социальных изменений, непредсказуемых сдвигов и трансформаций в человеческом бытии, а также под влиянием революционных открытий в естествознании, в частности в связи с достижениями термодинамики в XIX в. и квантовой механики в XX в., стала с трудом, встречая мощное сопротивление привычных идей и взглядов, формироваться новая картина мира. Получила свое развитие так называемая неклассическая наука. Ее сущностным признаком является рефлексия над субъективными средствами ведения научной деятельности, т. е. осознание, что используемые средства и методы не только помогают проникнуть в сущность познаваемого предмета, но и во многом формируют эту сущность. В рамках неклассической науки были обоснованы идеи о вероятностной причинности, о случайности как имманентном свойстве мироздания.
Во второй половине XX в. благодаря прежде всего становлению синергетики[7] нового междисциплинарного научно-мировоззренческого направления, объект исследований которого – процессы самоорганизации в открытых системах, в том числе и в общественной жизни, начинает утверждаться постнеклассическая научная картина мира.
В развитии общества и социального познания среди исследователей стал пробивать себе дорогу взгляд, согласно которому нет никакого предопределенного движения социума к модели светлого будущего, а оптимизм истории телеологически не задан. В ситуации последних десятилетий XX и начала XXI в. в обстановке трагических социально-политических метаморфоз на постсоветском пространстве и на фоне глобальных кризисных явлений, охвативших современную техногенную цивилизацию, стало вполне очевидным не только то, что будущее многовариантно, но и то, что его совсем может не быть.
Безграничность и многомерность социальной практики конца XX и начала XXI в., резко возросший динамизм общественной жизни в связи с непредсказуемыми процессами социальной трансформации и процессами перехода наиболее развитых стран к постиндустриальному обществу с его гибкими и подвижными структурами обнаружили ограниченность господствующей долгое время парадигмы линейно-поступательного развития социума. В результате на передний план выдвинулись другие характеристики социальной динамики: нелинейность и вариативность развития, несводимость многообразия общественных отношений к общему знаменателю, альтернативность, релятивность всех структур, их автономность по отношению к целому и т. д.
Формирующаяся картина мира (новая исследовательская парадигма) существенным образом трансформировала наши представления о закономерностях развития как природного, так и социального мира.
Выделим в качестве исходных следующие основоположения исследовательской парадигмы, которая сегодня утвердилась как в естественнонаучном, так и социогуманитарном знании:
• исследовательское поле науки включает не только познание закономерного, общего, универсального, повторяющегося, но и случайного, отдельного, неповторяющегося, индивидуально-событийного;
• трансформационные процессы интерпретируются как открытые и самоорганизующиеся, что означает отказ от принудительной каузальности, предполагающей наличие изолированных причинно-следственных цепочек и фиксацию внешнего по отношению к рассматриваемой системе объекта в качестве причины ее трансформации;
• отказ от рассмотрения случайности в качестве только внешней по отношению к исследуемому процессу помехи, которой можно пренебречь, и придание этой помехе статуса фундаментального фактора в механизме детерминации трансформирующихся систем; отсюда утверждение нового типа детерминизма, не отвергающего в объяснении мира случайности, а согласующегося определенным образом с ней: если в момент перехода объекта из одного состояния в другое (в точке бифуркации[8]) доминирует случайность, непредсказуемость, то после «выбора» системой направления развития и обретения новой формы устойчивости в действие вступают связи причинно-следственной обусловленности (детерминизм);
• развитие носит нелинейный, многомерный характер; оно многовариантно, альтернативно как в перспективном, так и ретроспективном плане, его темп и направленность не заданы однозначно и не сводимы к простой поэтапной поступательности; линейно организованные процессы, замкнутые системы, действующие как механизмы, выступают лишь как частный случай нелинейной динамики;
• новый, нелинейный тип детерминизма исключает возможность любого однозначного описания и невероятностного прогнозирования будущего состояния трансформирующихся систем;
• управление сложноорганизованными системами предполагает осознание и учет сущностных особенностей нелинейной динамики – неравновесность, неустойчивость, незапрограмми-рованность и альтернативность в процессах развития – и, соответственно, допускает возможность существования сфер и ситуаций, не подвластных контролю и непредсказуемых.
Таким образом, мы видим, что в рамках неклассической и постнеклассической картины мира имеет место различная ак-центуализация понятийных доминант: детерминизм – случайность, закрытые системы – открытые системы, линейность – нелинейность, устойчивость – неустойчивость, порядок – беспорядок, предсказуемость – непредсказуемость. Постнеклассическая картина, полностью не отрицая наличие в мире замкнутых систем, линейных соотношений, детерминистских связей (законов) и подобного, все же делает акцент на противоположных понятиях и принципах развития мира, стремится научным путем постичь то, что не было прежде предметом науки (хаос, беспорядок, становление и другое – явления, не имеющие до сих пор строгого определения), пытается рациональным способом объяснить нерационально устроенный мир.
Современная постнеклассическая картина мира в своем приложении к социальному познанию открыла в развитии общества процессы, при которых будущее не всегда и не обязательно является предопределенным итогом предшествующих событий (причин). В ее рамках делается акцент на том, что в точках бифуркации строго детерминистское описание социальных явлений становится недостаточным или вообще непригодным, ибо одно и то же событие (причина) способно стать толчком развития альтернативных сценариев.
Под влиянием синергетического сдвига в естествознании постепенно стало утверждаться понимание – в мире есть место порядку и беспорядку, равновесию и неравновесности, предсказуемости и непредсказуемости и т. д. Правда, пока можно обозначить лишь общие очертания нового стиля мышления и нового миропонимания, связанных с синергетикой. Тем не менее можно говорить о некоем методологическом синтезе в рамках постнеклассической картины мира, казалось бы, несовместимых ранее понятий и принципов, приближающих нас к формированию нового целостного образа мира.
В современной социальной философии перемешаны и сосуществуют методологические установки классического, неклассического и отчасти постнеклассического обществозна-ния. В сложившейся ситуации новационный методологический поиск необходимо направить не просто на освоение всего спектра современных социологических теорий, не просто на плюралистический перебор общественных моделей и концепций, а на выработку реального, рационально обоснованного мировоззренческого и методологического синтеза, базирующегося на поиске общих принципов соотношения, соизмеримости и взаимо-дополнительности различных методологических и общетеоретических подходов.
Анализ парадигмальных оснований социальной философии позволяет сделать вывод: социальная философия выполняет важнейшие функции – методологическую, мировоззренческую, гносеологическую и прогностическую.
Методологическая функция состоит в разработке теоретических моделей общества, она предлагает частным общественным наукам надежные основания для их исследовательской деятельности, дает возможность более полно и глубоко понять суть тех проблем, которыми они занимаются. Так, например, обращение социологов к идеям и методам социальной философии помогает исследовать сложнейшие процессы, происходящие в социальной структуре общества, в институтах семьи и образования, выявить подлинные причины суицидального и девиантного поведения и т. п. Историки могут использовать социальную философию как методологию при изучении конкретных социально-исторических организмов, культур разных народов и этносов. Юристы в социальной философии могут найти ценные для себя идеи о природе государства и права, отношениях государства и личности, об источнике прав и свобод человека.
Мировоззренческая функция состоит в том, что социальная философия формирует целостный взгляд на социальную реальность, позволяет понять ее в единстве сущности и существования. Принципиально важно отметить, что философское мировоззрение содержит не только рационально обоснованное знание об обществе, но и систему ценностей и идеалов, с помощью которых люди могут ориентироваться в социальном мире, оце-нивать его пригодность для своей жизни, соответствие или несоответствие человеческим потребностям и целям. Социальная философия строит и предлагает такую картину мира, в которой человек имеет надежные духовные ориентиры, позволяющие ему конструктивно мыслить и действовать. Значение мировоззренческой функции возросло в последние десятилетия. Сторонники идеологии глобализма развернули широкомасштабную критику всякой устойчивой, национальной, духовной идентичности народов, которая расценивается как наиболее значимое препятствие на пути к общепланетарной интеграции. Почему это происходит? Дело в том, что народ способен перенести «любые испытания, любой натиск враждебной ему материи при условии, что ему присуща устойчивая идентичность и вера в свое призвание в мире. И напротив, даже в условиях относительного материального благополучия народ деградирует и погибает, если поражен его центральный нерв – осознание своей идентичности и призвания (исторической незаменимости)»[9]. Отсюда и стремление идеологов глобализма любой ценой сформировать комплекс неполноценности и уязвленное историческое самосознание у восточнославянских народов. Цель подобных устремлений – общечеловек, у которого оборваны связи с природным и культурным космосом своего народа, утеряна память ландшафта и память предков, атрофирована потребность в высокосложном и уникальном. Подобный человек становится легкой добычей рекламы, превращается в заводную манипулируемую игрушку потребительского общества. Противостоять этому не представляется возможным без развития и широкой популяризации социогуманитарного знания, задача которого состоит в выдвижении и обосновании ценностно-мировоззренческих ориентиров в развитии общества.
Гносеологическая функция дает возможность постигнуть социальную реальность, раскрыть причины, механизмы и характер происходящих в обществе процессов. Познавательная роль социальной философии заключается прежде всего в том, что она дает целостную картину общественной жизни, исследует общество как целостный организм, как особую устойчивую систему. Законы, изучаемые ею, – это законы взаимосвязи всех сторон и звеньев общественного организма. Социальная философия открывает возможность увидеть проблемное поле мира социума в целом и тем самым приблизиться к истинному пониманию его сущности. Познавательную функцию такого рода не имеют другие социогуманитарные науки, исследующие в силу своей специфики лишь отдельные стороны и сферы общественной жизни. Поскольку философия выявляет логику движения социума, изучает общество как целостную систему и основные законы, по которым эта система функционирует и развивается, она выступает в качестве общей теории и метода для всех других наук, исследующих общество.
В условиях современности значение социально-философских знаний о мире многократно увеличилось. Сложность общественной жизни достигла такого уровня, что осуществить верный исторический выбор путей дальнейшего развития можно только на надежной познавательной базе. Сегодня, когда резко возросла роль субъективного фактора истории в форме усиления влияния различных идеологических доктрин, теоретических проектов и моделей общественного переустройства на судьбы народов и цивилизаций, принимать политические решения на основе интуитивных озарений или методом проб и ошибок безответственно и опасно. Решения, не опирающиеся на глубокое понимание происходящих в мире процессов, не имеющие под собой теоретически выверенных оснований, солидной экспертной проработки, только случайно могут быть правильными и привести к каким-либо положительным результатам. Государственные деятели, которые замыкаются в пространстве политически актуального, оказываются в плену текущих и сугубо прагматических значимостей. Они не учитывают ценностно-мировоззренческий фон в обществе и реальное состояние общественного сознания, не ориентируются при выработке тех или иных решений на дальние горизонты, на всю палитру добываемых наукой знаний о специфике и характере современной социальной динамики, и поэтому их ждет незавидная судьба. В конечном счете такие государственные деятели окажутся в ситуации кремлевских геронтократов начала 90-х гг. прошлого века.
Сущность прогностической функции состоит в том, что социальная философия, выявляя глубинные тенденции развития общества, может предвидеть их развертывание в будущем и построить более или менее приближенный к действительности образ. Назовем принципы социальной философии, открывающие такую возможность. Во-первых, социальная философия исходит из понимания общества в единстве его прошлого, настоящего и будущего.
1. Прогнозирование будущего возможно лишь на основе верно понятой истории. История, по словам испанского философа Хосе Ортеги-и-Гассета (1883–1953), – это «пророкнаоборот», дающий нам обратное, зеркальное отображение будущего. Исторический процесс определенным образом структурирован и допускает понимание со стороны глубокого и тонкого исследователя. Социальная философия, разрабатывая масштабные теории, объясняющие исторический процесс, тем самым подводит методологический фундамент под задачу рационального постижения будущего.
2. Социальная философия исходит из убежденности в наличии законов общественной жизни, которые могут быть определенным образом трансформированы или искажены, но не могут быть отменены частной волей отдельных лиц. Наличие социальных законов, многие из которых действуют на значительных отрезках исторического времени, исчисляемых столетиями или даже тысячелетиями, позволяет проводить более-менее теоретически строгое исследование перспектив развития общества.
Сильной стороной социально-философского прогнозирования является способность к комплексному, интегральному анализу социальной реальности, выявлению в ней не одной или двух, а огромного количества взаимосвязанных тенденций. Философы в размышлениях о будущем опираются на многовековой опыт человеческой культуры, используют в своей познавательной деятельности не только рационально-дискурсивные, но и интуитивные средства. В этом состоит существенное отличие социальной философии от частных наук, которые рассматривают лишь ограниченную область социальных процессов и обрабатывают данные о них с помощью компьютеров, не способных к творчеству, интуиции, фантазии, выходу за установленные пределы. Поэтому предвидения крупных философов (И. Канта, В. Соловьева, О. Шпенглера, Ф. Достоевского) оказывались гораздо более продуктивными, чем прогнозы, полученные с помощью сверхмощных современных компьютеров.
Правильность прогноза может служить одним из критериев истинности социальной теории. На эту возможность оценки обществоведческих теоретических моделей обращают внимание исследователи В.И. Пантин и В.В. Лапкин. «В методологическом и научно-практическом плане чрезвычайно важным является то обстоятельство, что прогноз служит одним из основных критериев истинности и плодотворности теории, положенной в основу анализа. Если неверен прогноз, то в чем-то ошибочна теория, и ее необходимо корректировать, дополнять или пересматривать», – пишут они[10]. Утверждение имеет под собой реальное основание в том смысле, что фундаментальная теория действительно должна проверять себя в социальной практике, и прогнозирование общественного развития – один из самых сложных и показательных способов такой проверки.
Углублению представлений о проблемном поле обществоведения будет способствовать анализ соотношения социальной философии и философии истории. Иногда эти отрасли философского знания отождествляются. В такой позиции есть определенный смысл, ибо их предметы весьма близки, иногда до неразличимости, но, тем не менее, каждая из них сохраняет свою специфику и заявляет о праве на самостоятельное существование в философском знании. Рассмотрим проблемное поле философии истории и ее отношение к социальной философии.
Философия истории наряду с онтологией, философской антропологией и теорией познания является непременной составной частью всякой цельной философской системы. В отечественной мысли до последнего времени ее проблематика либо ограничивалась рамками исторического материализма (его интерпретацией исторического процесса в соотнесении с формационным подходом), либо фокусировалась на изучении природы, средств и способов исторического познания, поэтому философия истории, несмотря на пробудившийся к ней в последние десятилетия интерес, остается недостаточно исследованным проблемным полем. Необходимо определить специфику философско-исторического знания, сформулировать его основные проблемы и показать отличия от смежных отраслей науки, в частности от истории.
Важнейшей задачей философии истории является постановка общеметодологических проблем исторического познания. Задача философа – определение концептуальных понятий нефилософской науки об обществе и истории. Именно философы продумывают понятие «история» в их диалектической связи с категориями «социум», «вечность», «время».
Они решают проблему законосообразности исторического процесса — наличия в событийном пласте общественной жизни объективных, неслучайных связей, позволяющих историку считать себя ученым, объясняющим исторические события, а не только «понимающим» их мотивацию и т. п. Таким образом, философы дают ответ на вопрос, как возможно историческое знание. В рамках собственно исторической науки такие вопросы не ставятся, ибо историки, как правило, с недоверием относятся к широким обобщающим конструкциям и генерализующим методам познания, в которых теряется уникальность отдельных событий.
Разумеется, проблемное поле философии истории и ее задачи не сводятся лишь к методологическому обеспечению историографии. В процессе понимания истории как целостного объекта возникают проблемы, которых не может увидеть исследователь, занимающийся изучением развития отдельных народов или содержанием конкретных эпох. И вот здесь возникает проблема единства исторического процесса, механизмов и этапов становления и перспектив дальнейшего развития человечества как целостного интегрированного образования. В научной литературе можно выделить два крупных подхода к решению этой проблемы. Один из них, который условно называется системным, реализует идею принципиального единства человечества, наличия у него общих глубинных оснований существования и развития. Эта идея развивалась на разных теоретикометодологических основаниях представителями религиозной философии Просвещения и сторонниками материалистического понимания истории. Плюралистический подход к истории появился позже, но довольно быстро завоевал популярность и утвердился в социально-гуманитарном знании. Его базовой интуицией является тезис о несводимости друг к другу и обособленности отдельных цивилизаций и культур. Плюралистический подход сформировался в трудах Данилевского, Шпенглера, Тойнби. Вся история превращается в этом случае в совокупность изолированных друг от друга социально-исторических образований – цивилизаций, возникающих и развивающихся полностью автономно, а значит, какие-либо отдельные стадии или эпохи в истории выделять не приходится.
Таким образом, основной проблемой философии истории является проблема становления всемирной истории человечества, анализ тернистого пути возможной интеграции людей в планетарную общность, прогноз судеб единого человечества, поджидающих его опасностей и альтернатив дальнейшего развития. Для решения этой сложной проблемы философия истории нуждается в формировании особого методологического инструментария, сочетающего в себе методы генерализующего обществоведения, направленные на установление общих социальных законов, с методами индивидуализирующего понимания крупных исторических событий, имеющих определяющее значение для человечества.
Принятие идеи единства человечества ведет нас к решению следующей крупной проблемы философии истории – осмыслению процесса взаимодействия отдельных стран и народов. Подобное взаимодействие всегда имеет верхний пласт, обусловленный уникальными особенностями народов, ситуации и эпохи. Но за внешним пластом конкретных процессов скрывается более глубокий слой закономерностей межкультурного обмена, становящийся предметом философского рассмотрения. Именно философия истории способна установить источники, природу и функции таких форм взаимодействия, как война, торговля, культурный обмен. Только в рамках философско-исторического знания может быть четко поставлена и решена проблема выявления наиболее общих закономерностей трансмиссии культурных ценностей от обществ-доноров к обществам-реципиентам. Актуальность этой темы многократно возросла в последние десятилетия, когда под видом глобализации зачастую стала осуществляться вестернизация стран не-Запада. Для восточнославянских народов указанная проблема приобретает особую остроту в связи с поиском цивилизационных ориентиров развития и активно обсуждается в рамках дискуссии славянофилов и западников вот уже два столетия.
Еще одной гранью темы единства мировой истории является проблема неравномерности исторического развития, эмпирически наблюдаемого и теоретически фиксируемого факта лидерства отдельных стран и народов. Одним из первых эту проблему поставил Г. Гегель, выделивший исторические и неисторические народы. Между лидерами и аутсайдерами складываются непростые отношения, в целом подчиняющиеся общим закономерностям исторической корреляции между более или менее развитыми в экономическом, социальном и политическом плане обществами. Именно на этой основе можно решать сложнейшую проблему осмысления таких неоднозначных явлений мировой истории, как империализм и колониализм.
Относительно новым предметом философии истории является сложный процесс интеграции отдельных народов в на-дэтническую и наднациональную общность, зримо проявивший себя во второй половине XX в. Именно философское мышление должно осмыслить содержание интеграционных процессов, сопряженных со множеством проблем и конфликтов, оценить перспективы интеграции, степень ее обратимости или необратимости, задуматься над реальными опасностями, поджидающими соединенное человечество, – от экологических проблем до прискорбной потери неконвертируемых ценностей национальной культуры, утраты определенных степеней свободы в рамках привычного национального суверенитета и т. д.
Философия истории способна решать и вполне практические задачи. Именно она может помочь обрести человечеству начала XXI в. подлинные возвышающие идеалы, показать необходимость изменения привычных жизненных ориентиров и стереотипов социального поведения. Философия истории способна извлекать уроки из значимых исторических событий и предлагать сделанные выводы в качестве программы дальнейшего развития.
Именно философия истории становится полем пересечения валюативной (ценностной) и рефлективной (сугубо научной) ветвей философствования. Задачи духовной ориентации человечества, разъяснения сложившейся исторической обстановки и перспектив ее развития заставляют философа совмещать объективный анализ ситуации с поиском целесообразных путей поведения в ней.
Глава 3 Основные теоретические модели социальной реальности
Одной из важнейших проблем социальной философии является исследование и раскрытие фундаментальных оснований общественной жизни. Общество представляет собой сложную и многогранную систему, в которой теснейшим образом переплетены материальные (экономические), духовные, географические, политические, социальные и другие связи и отношения. Поэтому выделение основного фактора социального развития представляет собой задачу, без решения которой невозможно понять имманентные (от лат. immanens – свойственный чему-либо) законы социальной жизни, объяснить мотивы и поступки людей в ходе их жизнедеятельности.
Мыслители всех времен искали социальные детерминанты, определяющие структуру общественных отношений. Поиски эти были непростые. Опыт развития науки об обществе показал, что попытки создать истинную теорию движения социума сталкивались с особыми трудностями, которых не знало естествознание. Стоит нам обратиться к истории науки об обществе, как мы обнаружим длинную цепь ошибок и заблуждений, преднамеренных или непроизвольных искажений фактов, иллюзий и утопий. Великое множество мыслителей, бравших на себя смелость объяснить, где находится сила, управляющая развитием общества, по каким причинам возникает та или иная структура общественных отношений, тот или иной облик общества, нередко терпели фиаско.
Мир социума – это такой предмет исследования, который никогда не поддается окончательным решениям, раз и навсегда установленным истинам. Даже самый поверхностный взгляд на общественную жизнь убеждает в том, что она представляет собой сложнейшую и запутаннейшую паутину (совокупность) связей, отношений и взаимодействий: люди трудятся или эксплуатируют чужой труд, ведут борьбу против врагов, страдают и гибнут, молятся Богу и обращаются к нему с проклятиями, ненавидят и любят, мечтают и надеются на лучшую жизнь, вступая при этом в самые разнообразные отношения. Трудно разобраться во всем этом сложном переплетении фактов, событий и обстоятельств, которые являет нам история на протяжении тысячелетий. Наиболее выдающиеся мыслители, которых волновали судьбы человечества, не могли понять, какая же сила управляет историей – этим хаосом событий и фактов. Столкновение добра и зла? Господь Бог? Воля героя или императора? Есть ли вообще какие-либо законы, действие которых обусловливает и предопределяет жизнь общества?
Тем не менее поиски ответов на эти вопросы не прекращались. Социально-философская мысль постепенно, от эпохи к эпохе, наращивала свой познавательный потенциал. В конце концов результатом этих поисков стало выдвижение и обоснование исследователями теоретических моделей, объясняющих с той или иной стороны процесс развития общества, предпосылки и причины социальных изменений и трансформаций.
Идеалистический подход к интерпретации общественных явлений получил необычайно широкое распространение, укоренился в социогуманитарном познании и безраздельно господствовал в философии вплоть до середины XIX в. Согласно взглядам сторонников этого подхода решающее значение в общественной жизни принадлежит духовному фактору. Здесь сущность связей, объединяющих людей в единое целое, усматривается в комплексе тех или иных идей, верований, идеалов. Так, французские философы XVIII в. предложили следующий принцип понимания сущности общества: «Мнения правят миром». Попытки найти тайную пружину великих исторических событий в умонастроениях отдельных личностей долгое время были излюбленным теоретическим методом у мыслителей, принадлежащих самым разным научным школам и направлениям. Даже создатель исторического материализма К. Маркс отдал дань идеализму, когда писал об основоположнике протестантизма М. Лютере: «Революция началась в мозгу монаха». Но этот принцип не мог стать основой теоретически строгой и непротиворечивой концепции, так как в реальной общественной жизни мнений и взглядов существует ровно столько, сколько мыслящих личностей.
Основоположник позитивизма Огюст Конт (1798–1857) объявил, что социальной детерминантой являются идеи: «Не читателям этой книги я считал бы нужным доказывать, что идеи управляют и переворачивают мир, или, другими словами, что весь социальный механизм действительно основывается на убеждениях»[11]. Мысль об обществе как порождении духа или духовной (религиозной, политической, юридической и т. п.) деятельности людей и о том, что общественное развитие определяется сознанием и волей отдельных выдающихся личностей, или Божественной волей в деятельности опять же немногих великих людей – «доверенных лиц» мирового духа (Г. Гегель), стала безраздельно господствующей во всей философской и социологической литературе до К. Маркса. Эта точка зрения приобрела характер традиции, получила распространение в художественной литературе, казалась чем-то само собой разумеющимся и не требующим доказательств.
Наиболее полно идею духовного фактора как основы общественной жизни выразил немецкий философ Г. Гегель. Он считал, что творцом всего сущего, а значит, и общества, и истории, является мировой разум. «Разум, – пишет Гегель, – есть субстанция, а именно то, благодаря чему и в чем вся действительность имеет свое бытие; разум есть бесконечная мощь… Разум есть бесконечное содержание, вся суть и истина»[12]. Всю общественную жизнь Г. Гегель превращает в историю мысли, которую нужно излагать и исследовать. Тем самым главной движущей силой общественного развития Г. Гегель считает разум, воплощенный в национальном духе. Следовательно, переходы в историческом процессе оказываются логическими изменениями и движениями. Но мировой разум у Г. Гегеля, оторванный от конкретных его носителей и превратившийся в Абсолютную идею, приобрел самодовлеющее и гипертрофированное значение, поскольку философ не учитывал роли материальных потребностей людей на протяжении всей их исторической деятельности.
Следующий крупный подход к пониманию сущности социальности может быть обозначен как натуралистический. Суть его состоит в том, что человеческое общество рассматривается как естественное продолжение закономерностей природы, мира животных и в конечном счете космоса. С этих позиций общество предстает как своеобразный эпифеномен природы, высшее, но не всегда самое удачное образование.
Важной разновидностью натуралистического подхода является биологический детерминизм. К этому направлению относятся учения и школы, возникшие во второй половине XIX в. на единой принципиальной основе – понимании общественной жизни через законы и категории биологии. Причиной возникновения биологического детерминизма послужили следующие факторы:
• бурное развитие биологии и достигнутые ею успехи (законы естественного отбора и борьбы за существование, открытие клетки, формирование генетики), которые выдвинули биологическое знание на ведущее место среди других естественных наук. Биология в значительной степени стала формировать на-учную картину мира и парадигмальные основания научного исследования;
• биологический детерминизм, ставший реакцией на упрощенную трактовку материалистического понимания истории, согласно которой человек предстает как сугубо социальное существо и его биологическое измерение является исчезающе малой величиной.
В рамках биологического детерминизма можно выделить две школы:
1) социальный дарвинизм, переносящий идеи борьбы за существование и естественного отбора как выживания сильнейших в сферу общественной жизни. Согласно этому учению закономерности, действующие в природной эволюции, в полной мере сохраняются в социальной истории. Соответственно, общественные отношения и конфликты имеют биологическую природу, а поэтому оправданы и неустранимы;
2) расизм (расово-антропологическая школа), исходящий из влияния расовых признаков на историю и культуру отдельных народов и цивилизацию в целом. Эти идеи стали теоретическим основанием практики колониализма, которую реализовывали европейские народы на африканском континенте, в обеих Америках, Индии и т. д. Однако современные и биологические, и культурологические исследования не дают никаких оснований утверждать и тем более реализовывать превосходство одной расы над другой. Показано, что расовые признаки не влияют ни на моральные, ни на интеллектуальные, ни на какие иные признаки индивидов и народов.
Натуралистическое направление в совокупности своих модификаций существует и по сегодняшний день, не составляя, однако, ведущей концепции в социальном познании. В XX в. громко заявила о себе социобиология. Ее новый синтез призван был дать универсальные ключи к пониманию единства природы и культуры через обнаружение универсальных принципов организации поведения живых систем. Исследуя проявления лидерства, агрессии, альтруизма и фиксируя их изоморфность в отношении аналогичных форм социальной активности, социобиология поворачивает социальное знание в сторону осмысления естественных детерминант поведения, доказывая его изначальную предзаданность природой. Предпринятое в ее границах установление сходных черт социального поведения людей и коллективного поведения животных, безусловно, способно предоставить ценные в эвристическом плане результаты. Но важно помнить, что обозначенная социобиологией проблема – гены-культура и расставленные ею акценты на исключительной значимости биологических инвариантов самоорганизации – не может быть отождествлена с социальным поведением человека.
Творческий целеполагающий характер деятельности, труд как способность изменять условия жизни – вот зримая граница между коллективностью (стадностью) и обществом, между протосоциальностью животных и социальностью человека. Различия еще рельефнее проступают при сравнении масштабов деятельности. Человек силен сознанием, абстрагирующей деятельностью интеллекта, идеальными моделями деятельности. Рефлекторные программы поведения получают у него восполнение через сознательную детерминацию поведения, придавая последнему целенаправленный характер. Все это означает, что задаваемые биологической конституцией формы деятельности не имеют по отношению к человеку и обществу строго принудительной силы, так как сохраняется полоса индивидуальной свободы, пластичность социального бытия.
Одним из наиболее влиятельных подходов к пониманию сущности социального бытия стало материалистическое понимание истории, предложенное Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом (1820–1895).
Подход, изначально направленный против идеалистической интерпретации исторического процесса, характеризовался последовательно проведенным принципом материалистического монизма. К. Маркс утверждал, что при построении целостной теории общества необходимо исходить не из отвлеченных рассуждений, а из реальных жизненных предпосылок. «Предпосылки, с которых мы начинаем, – не произвольны, они – не догмы; это действительные предпосылки, от которых можно отвлечься только в воображении. Это – действительные индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни, как и те, которые созданы их собственной деятельностью. Таким образом, предпосылки эти можно установить чисто эмпирическим путем»[13]. К. Маркс и Ф. Энгельс исходили из того, что прежде чем мыслить, заниматься наукой, философией, политикой и подобным, человеку необходимо есть, пить, иметь жилище и т. д. Иными словами, он должен удовлетворять свои материальные потребности. Мысль, сейчас очевидная, тогда означала революцию во взглядах на общество, возникновение нового, материалистического понимания истории. Несмотря на кажущуюся простоту, она очень глубока по содержанию. Если человек для того чтобы иметь возможность мыслить, должен удовлетворять свои материальные потребности, то это прежде всего означает, что основой истории является производство тех вещей, с помощью которых удовлетворяются материальные потребности людей, т. е. производство пищи, одежды, жилища и др. Напрашивался и другой вывод: если основу исторического развития составляет производство материальных благ, то это значит, что решающую роль в истории играют люди, производящие материальные блага, т. е. трудящиеся массы.
Таким образом, люди в процессе жизни вовлечены в процесс производства материальных благ, необходимых для удовлетворения их материальных потребностей. Но в ходе совместной деятельности они производят не только необходимые жизненные средства, но и свою материальную жизнь, которая является фундаментом общества, и самих себя – свое сознание, способы деятельности и отношений. Материальная жизнь является первичной по отношению ко всем другим сферам общества, она детерминирует социальные, политические и духовные формы жизнедеятельности людей. Материальные отношения как бы «стягивают» воедино всю социальную систему, придают ей целостный и закономерный характер. Однако при всей материальности (первичности и независимости от сознания) эти отношения не являются вещественными. Образно говоря, социальную материю нельзя пощупать (или чувственно ощутить иным способом), но она очень реально, а подчас трагически определяет жизнь миллионов людей. Известно, к каким последствиям привели попытки обойти действие закона стоимости, равно как и других законов общественной жизни.
Вывод об определяющей роли производства материальных благ в истории, об его первичности по отношению к духовной деятельности уже сам по себе наталкивает на мысль о том, что среди всех сложных общественных отношений – семейных и религиозных, классовых и национальных, политических, правовых и подобных – первичными, определяющими являются такие отношения между людьми, которые возникают в процессе производства материальных благ и непосредственно обусловлены им. Отсюда следует, что «производство непосредственных материальных средств к жизни и тем самым каждая данная ступень экономического развития народа или эпохи образуют основу, из которой развиваются государственные учреждения, правовые воззрения, искусство и даже религиозные представления данных людей и из которой они поэтому должны быть объяснены, – а не наоборот, как это делали до сих пор»[14].
Выделяя как основные, определяющие всю жизнь общества те отношения, которые складываются в процессе производства материальных благ, т. е. производственные отношения, К. Маркс стремится применить к общественным явлениям общенаучный критерий повторяемости, без которого невозможно открыть законы развития общества.
Однако нет двух абсолютно одинаковых стран. Каждая имеет свои особенности, отличается от других историей, языком, национальными обычаями – чем угодно. Значит ли это, что между различными странами нет ничего общего? Нет, не значит. Сформулировав понятие производственных отношений и проанализировав эти отношения в условиях различных стран, К. Маркс смог найти то общее, что было свойственно всем странам, находящимся на одном и том же этапе развития (например, на этапе капитализма), и обобщить существующие в них порядки в одно понятие общественно-экономической формации.
К. Маркс стремился доказать, что развитие общества представляет собой закономерную смену одной общественно-экономической формации другой, более совершенной. От примитивной первобытно-общинной формации к рабовладельческой, затем к феодальной, капиталистической и, наконец, к коммунистической – таково прогрессивное движение истории человечества.
Таким образом, К. Маркс в результате сведения всех общественных отношений к производственным, а последних к уровню развития производительных сил, получил, как ему тогда казалось, реальную возможность представить развитие общественно-экономической формации в виде естественно-исторического процесса, осуществляющегося на основе объективных, независимых от воли и желания людей законов.
Сам К. Маркс сформулировал сущность материалистического понимания истории в Предисловии к «Критике политической экономии». «В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание»[15]. Марксисты считали, что все эти открытия К. Маркса позволили превратить социологию в науку. «Как Дарвин, – пишет по данному поводу В.И. Ленин, – положил конец воззрению на виды животных и растений, как на ничем не связанные, случайные, «Богом созданные» и неизменяемые, и впервые поставил биологию на научную почву, установив изменяемость видов и преемственность между ними, так и К. Маркс положил конец воззрению на общество как на механический агрегат индивидов, допускающий всякие изменения по воле начальства, возникающий и изменяющийся случайно, и впервые поставил социологию на научную почву, установив понятие общественно-экономической формации как совокупности данных производственных отношений, установив, что развитие таких формаций есть естественно-исторический процесс». Более подробно сущность материалистического понимания истории нами раскрыта в параграфе «Развитие общества как естественно-исторический процесс. Формационное членение истории».
Одним из наиболее значительных мыслителей современной эпохи, чье творчество во многом определило направление развитие обществоведения в XX в., является Макс Вебер (1864–1920). Достаточно сказать, что в мировом социогуманитарном знании последние два десятилетия истекшего столетия получили название веберовского ренессанса. Макс Вебер с 1892 г. преподавал в Берлине, с 1894 г. был профессором национальной экономии во Фрайбурге в Брейсгау, с 1896 г. – в Гейдельберге, с 1918 г. – в Вене, с 1919 г. – в Мюнхене. Его работы посвящены проблемам истории хозяйства и социально-экономических эпох, взаимодействия религии и истории общества. Наиболее известное сочинение М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма».
В богатом наследии немецкого мыслителя можно выделить идеи, которые до сих пор сохраняют свое социально-философское и философско-историческое значение.
1. Большое значение для социологии, философии, вообще для наук об обществе и человеке, считал М. Вебер, имеет и понятие «идеальный тип». Оно означает, что целому ряду обобщающих научных понятий не соответствует какой-либо фрагмент действительности и что они, будучи своего рода моделями, служат формальными инструментами мышления в науке, например понятие «homo economicus» – «экономический человек». В действительности нет экономического человека как особой реальности, отделенной от других качеств человека. Но экономические дисциплины или социология в целях анализа создают такой идеальный тип.
2. М. Вебер конституирует свою социологию с помощью четырех чистых типов действия (идеальных типов): 1) действие может иметь рациональную ориентацию, руководствуясь данной целью (целерациональное действие); 2) действие может иметь рациональную ориентацию, относясь к абсолютной ценности (ценностно-рациональное действие); 3) действие может быть определено некоторыми аффектами или эмоциональным состояниями действующего лица (аффективное, или эмоциональное, действие); 4) действие может быть определено традициями или прочными обычаями (действие, ориентированное на традицию). В реальном человеческом действии эти моменты, разумеется, не отделены друг от друга: действие объединяет целевую рациональность с ценностной рациональностью, с аффектами и ориентациями на традицию. Но какой-либо из этих моментов в определенных действиях может превалировать. Кроме того, в целях анализа из названных аспектов можно сделать идеальные типы, подвергая специальному исследованию то одну, то другую сторону дела.
3. М. Вебер предполагал, что есть сферы деятельности и исторические эпохи, где и когда целерациональное действия человека выдвигаются на первый план. Такие сферы деятельности – экономика, управление, право, наука. «Рационализация» и «модернизация» весьма характерны для европейской истории последних столетий. В частности, управление обществом во все большей мере требует расчета, плана, целостного охвата деятельности государства и общества. С этим связана тщательно исследованная М. Вебером тенденция бюрократизации, которую он считает общей для цивилизационного развития всего мира. Бюрократизацию можно и нужно, по Веберу, ввести в рамки правил, подвергнуть контролю, но устранить эту тенденцию в принципе невозможно. Вебер различает два типа государственной власти – традиционное, или харизматическое, и легальное господство. На смену авторитету неограниченной власти в прежних обществах приходит легитимность, т. е. иными словами, опора на законы, на рациональные основания действия бюрократии, на расчет и контроль, на гласность в обсуждении всех действий государственной власти. При этом процедуры рациональной, легитимной бюрократии могут быть использованы в разных целях – как во имя сплоченной работы всех членов общества, так и во имя угнетения народа.
4. М. Вебер ставит такой философско-исторический вопрос: Как случилось, что определенные явления духа и культуры – рациональность, модернизация, легитимность – впервые пробили себе дорогу в странах Запада и именно здесь получили универсальную значимость? Ответ на него и дается в знаменитой работе «Протестантская этика и дух капитализма». Вебер уверен, что рациональность со времен Ренессанса становится на Западе общекультурным феноменом: она проникает не только в науку, философию, но также в теологию, литературу, искусство и, конечно, в повседневную жизнь общества, государства. Специализация и профессионализм – опознавательные знаки этого процесса.
Одна из важнейших идей немецкого ученого связана с вопросом о генезисе капитализма. Понятие «капитализм», заимствованное им из предшествовавшей литературы, М. Вебер поясняет как стремление получить наибольшую прибыль, которое было характерно для всех эпох и существовало во всех странах. Однако только в западном мире развилась общественная система, основанная на формально свободном наемном труде, допускающая рациональный расчет, широкое применение технического знания и науки, требующая рационально-правовых оснований действия и взаимодействия. Эту систему он, следуя К. Марксу, называл капитализмом. Но, в отличие от К. Маркса, М. Вебер не считал, что лучшая, более справедливая система придет вместе с социализмом. Он полагал, что созданной капи-тализмом форме рациональной организации – при всех ее недостатках и противоречиях – принадлежит будущее.
В центр исследования вышеназванной работы Вебер ставит процессы, в Европе совпавшие с Реформацией. Благодаря новой системе ценностей – этике протестантизма был узаконен, санкционирован новый жизненный стиль, тип поведения. Речь шла о том, чтобы сориентировать индивида на упорный труд, бережливость, расчетливость, самоконтроль, на доверие к собственной личности, достоинство, строгое соблюдение прав и обязанностей человека. Разумеется, сознательная цель Лютера или Кальвина вовсе не состояла в том, чтобы пробить дорогу духу капитализма. Они были озабочены реформированием религии и церкви. Но протестантизм глубоко вторгся в сферу вне-церковной жизни, сознания и поведения мирянина, предписав ему в качестве Божественных заповедей как раз то, что требовала наступающая капиталистическая эпоха. Внутримирская аскеза, которую проповедовал протестантизм, была эффективным идейным средством воспитания новой личности и новых ценностей. Напрашивался вопрос: А страны, не прошедшие через социально-воспитательное воздействие чего-то подобного Реформации и протестантской этике, смогут успешно развиваться по пути рациональности и модернизации? М. Вебер не утверждал, что все дело только в протестантской этике. К возникновению капитализма причастны и другие условия.
Значительный вклад в развитие современной социальной философии внесла структурно-функциональная теория американского социолога Толкотта Парсонса (1902–1979), автора работ «Структура социального действия», «Социальная система».
Т. Парсонс начал с переосмысления веберовской концепции социального действия, указывая на ее излишнюю рациональность. Осуществляя выход за рамки рациональности, он положил в основу теории не действие как таковое, а ожидания, ориентации субъекта действия по ситуации, поэтому действия рассматриваются как символические явления, включающие воспроизводство неизменного стандарта ориентации и определение значения объектов ситуации. Иными словами, в действии выражается не только мотивация или ориентация субъекта, но также и когнитивная составляющая, связанная с уяснением значений соответствующих действий.
Т. Парсонс предложил четырехфункциональную схему действия, структура которой вытекает из функциональных аспектов действия, т. е. из выполняемой по отношению к системе в целом роли: 1) адаптация – отражает возможности освоения внешней среды; 2) целедостижение – ориентировано на удовлетворение потребностей; 3) интеграция – отвечает за координацию элементов системы действия; 4) латентность (от лат. latens – скрытый, невидимый) – поддерживает устойчивость культурного образца, выступая как некоторый общекультурный стандарт, символический код или скрытые ценностные предпочтения и ориентации, делающие действия общезначимыми с позиции субъектов действования.
Выявленная Т. Парсонсом структура социального действия позволила сформулировать и общее видение общества как концепции взаимообмена подсистем действия: социальной, культурной и личностной подсистемы поведенческого организма. Различия между подсистемами действия также носят функциональный характер. Социальная подсистема выполняет функцию интеграции индивидов в коллективы. Культурной подсистеме отводится функция воспроизводства образца, не исключающая возможности его изменения. Личностная подсистема занимает центральное место в непосредственной реализации действия. Личность осуществляет целедостиженческие функции, будучи носителем культурных принципов и предписаний. При этом главными мотивами деятельности и, следовательно, целью действия является, согласно Т. Парсонсу, удовлетворение личных потребностей. Поведенческий организм представлен как подсистема условий действия, включающая информационные механизмы регуляции взаимодействия с окружающей физической средой. Таким образом, общество предстает как система взаимодействия подсистем – экономики, политики, социальной подсистемы и культуры. Взаимопроникновения между ними реализуются через обмен. Формами обмена являются соответственно деньги, власть, влияние и обязательства, определяющие иерархию отношений между средствами взаимообмена и подсистемами действия. Классическим примером символического обмена является процесс социализации, связанный с интернализацией социальных объектов и культурных норм в личности индивида, содержание опыта, получаемого в обучении.
Анализ структуры социальной системы включает четыре переменные величины: 1) ценности; 2) нормы; 3) коллективы; 4) роли. И если ценности содействуют воспроизводству и сохранению культурного образца, определяя принятие действующими субъектами совокупности общественных обязательств, то нормы интегрируют социальные системы, задают конкретные способы ориентации действий. Коллектив определяется статусом членства, характеризуется дифференциацией членов по статусам и функциям. Статус членства предполагает ожидание определенного действия (ожидание того, что люди, входящие в коллектив, будут делать то, чего ожидают от других). Роль как адаптация, по Т. Парсонсу, позволяет выделить совокупность индивидов, которые посредством взаимных ожиданий включаются в определенный коллектив. Приведение к единству всей сложности отношений между подсистемами общества осуществляется посредством социальной подсистемы как «сочленения норм с коллективной организацией»[16]. Сама же нормативность интерпретируется через введенное М. Вебером понятие легитимного порядка. Социальный порядок есть следствие лояльности дифференцированных внутри общества статусов и ролей. Она интегрирует различные подсистемы общества, делая возможным легитимный порядок.
Социолог особо выделяет сферу высшей реальности. У М. Вебера она была представлена как проблема смысла действий, структурирования в культурной системе смысловых ориентаций. Т. Парсонс движется в русле веберовских интерпретаций, считая, что легитимация происходит «в горизонте религиозного сознания и терминов». Самодостаточность общества в значительной степени зависит от легитимизированности его институтов ценностями, которые разделяются большинством людей. Поэтому общественный призыв, являющийся формой проявления общественного интереса, всегда обоснован. Это проверка лояльности. Регулирование лояльностей осуществляется социальным институтом государства.
Итак, складывается некая уравновешенная картина общества. Между природой человека и требованиями общества не существует фундаментальных противоречий. Равновесие общества обеспечено ясностью и выполнением ролевых ожиданий. Эффективность социального действия ставится в зависимость от их надлежащего исполнения. Несмотря на то что Т. Парсонс не исключал возможности ролевого отклонения (его причины связываются, в частности, со слабым уровнем освоения ценностей и норм, исполнением нескольких ролей с взаимоисключающими требованиями), считая реальным решение этой проблемы внутри общества силой позитивного (убеждение) или негативного (принуждение) социального контроля, в описанных принципах социального порядка он видел ключ для решения поставленного Т. Гоббсом вопроса: Как не допустить в обществе состояния войны всех против всех?
В аспекте темы представляется важным отметить своеобразный теоретический культурцентризм теории Т. Парсонса, заключающийся в ценностно-объяснительном подходе к социальной реальности. Более того, общие схемы не без влияния критики были подкреплены в дальнейшем конкретным материалом, что позволяло вывести их в контекст современности. Согласно Т. Парсонсу современный тип общества имеет эволюционный хронотоп – Запад как часть Европы, унаследовавшей традиции западной Римской империи. Западное христианство рассматривается им как исток современных обществ. Претерпевая процессы внутреннего разложения, средневековый христианский мир сменяется территориально-государственными и национально-культурными принципами членства. В современном мире, по мысли социолога, они представляют собой систему обществ. При этом Т. Парсонс осознавал, что утверждение единого истока современности, последовательно связываемого с западным типом цивилизационного развития, чревато впадением в европоцентризм, возводящий в исторический эталон достижения Запада. И все же на этом пути мыслитель не был одинок. Близкие его соображениям идеи развивал М. Вебер, указывавший на уникальность социокультурной системы, породившей «рациональный буржуазный капитализм». Сегодня проблема приобретает иное звучание: универсален ли опыт Запада? Т. Парсонс считал, что адаптивные способности не всегда могут являться результирующей ценностномотивированной деятельности, однако допускал в перспективе возможность возникновения постсовременной фазы социальной революции со спецификой присущих ей отличных от современности социокультурных характеристик. Кроме того, общества не существуют изолированно. Будучи системами, включающими подсистему культуры, они открыты вовне, что приводит к взаимодействиям и контактам, делая возможным плодотворный культурный обмен. Современность не возникает на пустом месте. Внутри себя она несет культурные элементы различных пространственных и временных напластований западного и незападного происхождения. Отсюда открытость, незавершенность системы современных обществ, не поддающейся определению ее окончательных очертаний. По этой причине приписывание универсальной значимости западному опыту преждевременно – он может оказаться локально самодостаточным, исторически ограниченным типом социальности, искусственно подводимым под мерки универсальности.
Значимым опытом западноевропейского социального теоретизирования современности является теория коммуникативного действия немецкого философа и социолога Юргена Хабермаса (р. 1929), обобщившего в своих теоретических выкладках достижения многих предшествующих традиций и авторитетов философского и социального знания. Теория коммуникативного действия замышлялась Ю. Хабермасом как продолжение критической теории общества Франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Э. Фромм, Г. Маркузе). В существенной мере этим обусловлена мировоззренческая и методологическая ее направленность как теории, не только несущей знание о критически осмысливаемой современности, но и выдвигающей широкие социокультурные проекты ее преобразования, включая цели и ценности общественной деятельности. Посредством радикальной программы их обновления предполагалось осуществить эмансипацию культуры, освобождение человека и общества.
Ю. Хабермас определяет общество как социокультурную систему, развитие которой связано, во-первых, с освоением внешней среды в процессе производства и, во-вторых, с созданием внутренних структур в процессе социализации с помощью инструментальных и социальных действий. Процесс трудовой деятельности как форма инструментального действия находится в тесной связи с межличностными отношениями – интеракцией как формой коммуникативной деятельности. Их единство обусловлено «жизненным миром» человека. Однако в большинстве общественных теорий в центр рассуждений была поставлена сфера производства, инструментальный, научно-технический разум как определяющая сила общественного бытия. Поскольку жизненный мир фундирован не только инструментальными основаниями деятельности, приводящими в условиях современности к овеществлению и тотальному порабощению человека, то основополагающая задача социальной теории усматривается в обосновании несиловых форм социального взаимодействия, реализуемого на основе взаимопонимания людей и подлинной коммуникации – коммуникативной рациональности, теория которой была представлена Ю. Хабермасом в работах «Познание и интерес», «Теория коммуникативного действия».
Социолог начинает с осмысления общественно-исторических реалий XX в. При этом их анализ является критическим (критикуются средства социального управления и господства, изощренные технологии манипуляции общественным сознанием). Причина существования указанных явлений заключена в основополагающем для Запада принципе рациональности, основанном на науке и технике. Познавательная и инструментальная сила науки и техники обусловила динамику капитализма, усилила эффективность организации труда, однако последствия этих процессов для культуры трагичны. Рационализация, проникая в духовную сферу общества, вызывает разрыв между ценностным и формально-ориентированным социальным действием. Привнесенные в культуру научно-техническая рациональность и целерациональное действие неизбежно проявляют по отношению к ней свою репрессивность, выраженную в бюрократизации, господстве властных отношений, культе денег. Современность не может определять себя иначе. Поэтому отмеченные явления выступают предпосылкой уяснения ее существа. Ю. Хабермас прослеживает неоднозначное воздействие рационализации на социокультурную и природную среду, на самого человека. Главный порок рационализации состоит в искажении подлинных целей человеческого бытия, не связанных с жестким утилитаризмом. Цели и смыслы жизни человека вообще не могут быть адекватно воспроизведены в логике инструментального разума, они не доступны научно-технической и экономической рациональности. Поскольку она главенствует в современном обществе, то люди продолжают находиться в условиях ложной интеракции, не оставляющей места для свободного проявления их индивидуальности и преодоления насилия. Иными словами, научно-технический тип рациональности диктует свои правила игры, активность, творчество индивидов не исключаются, но они возможны только в горизонте очерченных его принципами пределов. Последние задаются существующей в обществе системой властных отношений, ориентированной на максимальную эффективность, расчет и выгоду, которые порождают постоянно воспроизводящую деформацию коммуникативных практик.
Дальнейшая рационализация культуры сущностно обедняет жизненный мир, приводит к расщеплению науки, морали и искусства, выпадению из традиции. Поэтому проект модерна как масштабного обустройства общества, который сформировался в XVIII в. (проект Просвещения) и предполагал рост научного знания, поиск универсальных основ морали и права, освобождение искусства и практическую реализацию открывавшегося в их рамках потенциала для решения социальных и человеческих проблем, связанных с установлением власти над природой, углубленным пониманием мира и человека, нравственным совершенствованием, созданием справедливых общественных институтов и достижением счастья людей, оказался незавершенным. События XX и начала XXI в. развеяли оптимистические проекты Просвещения. Как следствие этого сам модерн пребывает в состоянии внутреннего расщепления. И это не только оставшиеся от настойчивых притязаний разума осколки воззрений прошлого, но и обнаружившая себя тенденция к устойчивой фрагментации целостности жизненного мира. Его трансформации в обществе модерна определяются безграничной экспансией целерациональности, отождествленной с разумом в целом.
Невозможность подлинной коммуникации определяется тем фактом, что наука и техника, пронизывая все сферы современного общества, приобретают новые, не свойственные им ранее социально-экономические функции, сливаются с феноменом власти. Вместе с тем узурпация власти чревата тоталитарными последствиями. Ситуация, при которой язык повседневности подменяется и вытесняется языком власти, означает регламентацию дискурса структурой властных отношений, превращение его в господствующую идеологию. Идеология – признак инструментализации разума, ведущего к установлению «технологической рациональности». Круг замыкается. Поэтому закономерен вопрос о выходе из ситуации.
Ю. Хабермас, поворачивая социальную теорию к жизненному миру человека, усматривает пути выхода из сложившейся ситуации в реабилитации мировоззренческого потенциала традиции, еще не исчерпавшего себя в условиях современности. Выступая с критикой научно-технической рациональности и технократического отношения к миру, он, тем не менее, принимает и продолжает его рационалистическую интенцию. Отход от сциентизма[17] не сопровождается радикальным отказом от науки. Поскольку имеющийся тип рациональности ложен, то перспектива решения актуальных общественных проблем связывается с контекстом этики, языка и идентичности. Прогноз в отношении перспектив культурного капитала, находящегося в кризисе позднекапиталистического общества, формулируется с учетом необходимости трансформации существующего типа рациональности, подлежащей переопределению на коммуникативных основаниях. Коммуникация и основанное на ней действие связываются с универсальностью познавательной деятельности. При этом последняя объединяет практические цели и ценностные ориентации, выступая как единство познавательного, морального и эстетического. Производительные силы общества преобразуются в производительную силу коммуникации как ведущий фактор общественного развития, посредством которого осуществляется общий рост сознания, истолкования и понимания, делающих возможным очередной этап «гражданской эмансипации». Основания социального обновления, таким образом, связываются не с производством, а с культурой. Подлинная коммуникация, в отличие от ложной, всегда выстраивается как модель субъект-субъектных отношений. В ее границах реализуются интерсубъективные ценности и смыслы, происходит координация действий, что означает переход от монолога к многоуровневому диалогу, консенсус дискурса, достижение рационально мотивированного согласия. Актуализация повседневных практик, ревитализация традиции должны привести к восстановлению утраченной современным обществом целостности «жизненного мира» и направить процессы социальной модернизации в иное, некапиталистическое русло.
Раздел II Общество как целостная система. основные сферы общественной жизни
Глава 4 Понятие общества. Системность в жизни общества и ее специфика
Понятие «общество» является центральным во всех социальных дисциплинах, включая социальную философию, философию истории, социологию, историческую науку, политическую экономию и др. Обращаясь к его изучению, мы сразу обнаруживаем, что оно имеет не один, а множество смыслов, зачастую весьма далеких друг от друга (например, российское общество, великосветское общество, общество охраны памятников истории и культуры и т. п.). Поэтому, приступая к изучению общества, необходимо, во-первых, раскрыть основные значения данного понятия, во-вторых, определить собственно философский объект своего исследования, установив категориальное, а не бытовое значение ключевого термина.
Знакомство с философскими трудами показывает, что термин «общество» используется в них в нескольких взаимосвязанных смыслах, отличающихся друг от друга уровнем абстракции, теоретического обобщения. На первом, наиболее низком уровне обобщения под обществом понимаются реальные субъекты исторического процесса, которые выступают в виде конкретных самодостаточных социальных организмов и имеют достаточно четкую пространственно-временную локализацию (в таком случае идет речь о белорусском, российском или немецком обществе). На следующем уровне обобщения философский анализ выделяет типические черты, универсалии, присущие разным обществам на конкретно-историческом этапе их развития (феодальное, капиталистическое, индустриальное и т. п.). Еще один шаг по лестнице абстракций ведет нас к созданию логической модели «общества вообще» – идеального типа, синтезирующего существенные свойства и признаки любого самодостаточного социального коллектива, существовавшего, существующего или способного существовать в истории независимо от ее стадиальных и региональных характеристик. И на самом высоком уровне теоретического обобщения мы находим антитезу «общество – природа», где под обществом понимается уже не способ коллективной жизни людей, а модель «социальности вообще», т. е. системная совокупность свойств и признаков, присущих явлениям коллективной и индивидуальной жизни людей, благодаря которым они включаются в особый мир, выделенный из природы и от природы отличный. В таком значении термин «общество» совпадает с понятиями «надорганический мир», «социокультурная реальность», «социальная форма движения материи», с помощью которых различные философские и социологические школы отражают сущностное различие природных и неприродных реалий нашего мира. Другими словами, общество здесь выступает как особый, существующий по своим собственным законам мир людей и мир созданных ими культурных артефактов – порождений человека, которых нет в нерукотворной природе.
Под обществом в широком значении понимается организационная форма совместной жизнедеятельности людей по производству материальных и духовных ценностей. В более узком смысле общество можно определить как институциональную систему устойчивых связей между людьми и социальными группами.
Возникнув из глубокого единства с природой, человек принципиально отличается от своих предков. В отличие от животного он способен производить (причем по мерке любого вида, а не только своего), а также строить по законам красоты. Животное действует утилитарно, в соответствии с потребностью, человек же способен выйти за ее пределы и быть свободным и универсальным. Животное непосредственно тождественно своей жизнедеятельности, человек делает собственную жизнь своим предметом. В результате он достигает высшей формы деятельности – самодеятельности, она становится свободной. Все это возможно в результате принципиального, революционного, качественного сдвига – замены генетических форм и механизмов на социальные.
Признание принципиального различия социального и природного уровней бытия требует рассмотрения тех сущностных характеристик общества, которые и порождают социокультурную реальность как особый мир. Первое необходимое условие общественной жизни – коллективность. Это наиболее явное и очевидное измерение общества было отмечено и продумано уже мыслителями древности (вспомним аристотелевское опре-деление человека как «животного политического»). В связи с тем, что изолированный индивид не способен самостоятельно обеспечивать свою жизнь, вторым необходимым условием его существования является кооперация с другими людьми, в которой человек нуждается в той же мере, что и в продуктах питания или создающих их средствах труда. Более того, индивид может стать человеком в собственном смысле этого слова только в процессе погружения в социокультурную среду, взаимодействуя с себе подобными. Вне сообщества людей ребенок останется в животном состоянии, о чем свидетельствуют жестокие опыты, поставленные самой жизнью. Известны и детально описаны случаи, когда потерявшихся детей воспитывали животные. Маленькие детеныши сформировались полностью по подобию того биологического вида, в котором они находились, и после возвращения в человеческое общество уже не смогли адаптироваться к нему и приобрести человеческие признаки и качества.
Свойство коллективности является необходимым, но не достаточным условием общественной жизни. И без развернутой аргументации ясно, что такие коллективные субъекты, как, например, общество книголюбов или филателистов, не являются обществом в строгом значении термина, несмотря на то что обладают рассмотренным нами свойством. Следовательно, мы должны углубить анализ и ответить на вопрос: Приводит ли взаимодействие индивидов к формированию нового качества – надындивидуальной реальности, и если приводит, то в каком отношении она находится к отдельному человеку? Ответы на этот вопрос в социальной философии сложилось под воздействием двух подходов (направлений), которые можно условно назвать социальным номинализмом и социальным реализмом[18]. Представители социального номинализма утверждают, что общество представляет собой простую совокупность, сумму индивидов. Поэтому единственно реальными объектами социального исследования являются только люди. Подобного рода взгляд нашел свое четкое выражение в работе известного русского историка, историософа и социолога Николая Ивановича Кареева (1850–1931) «Введение в изучение социологии». Он писал: «Личность есть единственное реальное существо, с которым имеет дело социология. Народы или отдельные классы одного и того же народа суть собирательные единицы, состоящие из отдельных личностей»[19]. Сторонники социального номинализма, не отрицая факт существования надиндивидуальных структур социальной реальности, видят в них исключительно продукт индивидуальных действий и взаимодействий людей как единственно возможных субъектов общественной жизни. К ним относятся Карл Поппер (1902–1994), Джордж Хомане (1910—988). Суть теоретической позиции социального реализма заключается в том, что общество хотя и состоит из индивидов, но ни в коем случае не представляет их простую совокупность. Оно есть целостное образование, имеющее свою жизнь, не сводимую к существованию составляющих его людей; общество – это особый субъект, развивающийся по собственным, только ему присущим законам. Такой взгляд был четко сформулирован еще Аристотелем в знаменитой работе «Политика». «Итак, очевидно, – писал он, – государство существует по природе и по природе предшествует каждому человеку; поскольку последний, оказавшийся в изолированном состоянии, не является существом самодовлеющим, то его отношение к государству такое же, как отношение любой части к своему целому»[20].
По сути полемика этих двух подходов упирается в проблему системности общества, а именно в проблему выявления его интегративных свойств, которые возникают как результат взаимодействия составляющих его подсистем, частей, элементов. Уже в древности возникли представления о сложной упорядоченности мироздания, наличии в природе и обществе органической целостности и системного единства. Так, в древнекитайской философии (Лао-цзы, Конфуций) они определялись категорией дао, а в древнегреческой – понятием логос. Оба этих понятия выражали одну и ту же мысль о гармоничности, мудрой организованности мира, органическом единстве составляющих его частей: неба и земли, природы и общества, личности и власти. В дальнейшем эти воззрения развивались, углублялись и привели к формированию системного подхода к изучению общества. Современная социальная философия исходит из понимания общества как сложноорганизованного системного объекта, используя при этом общенаучную методологию анализа подобных объектов. Для лучшего уяснения проблемы рассмотрим основные положения системного подхода.
Первый и наиболее простой признак системного объекта – его качественная определенность, выделенность относительно среды своего существования, способность быть автономным самотождественным явлением, отличным от других явлений мира. Однако качественная обособленность объекта не является достаточным признаком его системности. Поэтому вторым необходимым признаком системы считается гетерогенность ее строения. Это означает, что система есть объект, выделенный относительно среды своего существования и в то же время состоящий из некоторого множества автономных, также выделенных друг относительно друга частей. Причем необходимым условием собственно системного единства является взаимосвязь и взаимоопосредованность частей, а также частей и целого. Взаимозависимость частей и целого проявляется в особых интегральных свойствах системы. Проиллюстрируем этот тезис на примере существования и развития живого организма. Каждый из органов (сердце, печень, легкие и т. п.) не обладает свойствами жизни, ими обладает только организм как целое. Именно этот факт позволяет нам говорить о возникновении системной целостности, которая не сводится к сумме образующих ее частей, оказывается «больше» ее – больше на те интегральные свойства, которые присущи целому и отсутствуют у его частей.
Всем этим признакам отвечает человеческое общество, представляющее в терминологии исследователя К.Х. Момджяна систему «субстанциального» типа[21]. Таким системам присущи два главных признака. Первый из них связан с возможностью системы содержать внутри себя все причины своего возникновения, т. е. общество обладает свойством самопорождения, которое мыслители прошлого считали атрибутом субстанции. Второй признак – качественная самодостаточность, под которой понимается способность системы существовать по собственным законам. Это не означает полную независимость от внешней среды, ибо самодостаточной является сущность системы, а не ее существование, что выражается в способности системы самостоятельно структурировать себя из материала среды, сохранять свою автономию от разрушительных воздействий, изменяться в соответствии с собственными импульсами, а не внешними «толчками».
Тип связи, характерный для систем субстанционального типа, мы, вслед за Гегелем, назовем органическим. Критикуя механицизм как «поверхностный и бедный мыслью способ рассмотрения, который оказывается недостаточным даже по отношению к природе, и еще более недостаточным по отношению к духовному миру»[22], немецкий мыслитель раскрывает сущность органических связей в системах природного и социального мира. Она заключается в том, что элементы целого не могут существовать вне его, и принадлежность к целому является необходимым условием их существования. В самом деле, мы не считаем, что отдельные органы тела способны существовать сами по себе и при желании договориться о собственном существовании. Мы можем утверждать, что существует определенная первичность целого в отношении частей. Это не означает, конечно, что целое способно существовать до своих частей и независимо от них. Речь идет о другом – первопричинах структурной дифференциации и функциональной организации системы, которые обнаруживаются в свойствах целого, а не в свойствах образующих его частей, взятых по отдельности. Из вышеизложенного следует, что общество как система имеет сверхсложный и иерархический характер: в нем можно выделить различные уровни в виде подсистем, компонентов, элементов, которые связаны соподчинительными линиями, не говоря уже о подчинении каждого из них импульсам и командам, исходящим от системы в целом. В то же время надо учитывать, что внутрисистемная иерархичность не абсолютна, а относительна. Каждая подсистема, каждый уровень социальной системы неиерархичны, т. е. обладают известной степенью автономии (что отнюдь не ослабляет систему в целом) и одновременно усиливают ее: позволяют более гибко и оперативно отвечать на поступающие извне сигналы, не перегружать верхние эшелоны системы такими функциями и реакциями, с которыми вполне могут справиться низлежащие уровни целостности.
Следующей задачей, стоящей перед исследователем социальной системы, является выделение ее элементного состава. Общепризнанным считается положение, согласно которому основным структурным элементом общества является человек. Представители различных философских школ и направлений могли по-разному трактовать сущность человека, видя в нем то изолированного индивида, то носителя некой ролевой функции, то общественного человека (сущность человека не есть нечто абстрактное, существующее вне человека, а совокупность общественных отношений, которые создаются и осваиваются им в процессе совместной с другими деятельности), но никто не отрицал универсально-определяющего значения человека, связующего воедино все элементы и сферы общественной жизни.
Другим важнейшим элементом общества являются социальные предметы, которые люди создают и регулярно используют, многократно увеличивая тем самым эффект своей деятельности. Социальные предметы можно условно разделить на два класса – вещи (орудия) и знаки (символы). С помощью предметов первого класса, т. е. орудий, люди оказывают прямое воздействие на тот реальный мир, в котором живут, физически изменяя его в своих интересах. Функцией знаков является изменение не реального мира, а наших представлений о нем. Они воздействуют на наши сознание, стремления, желания, цели и лишь через их воплощение в деятельности – опосредствованно на отличную от сознания реальность.
Еще один элемент, который нельзя увидеть глазами и пощупать руками, но без которого ни люди, ни вещи, ни символы никогда не составят целостной социальной системы, – связи и отношения между уже названными элементами. Сущность общественных связей и отношений, соединяющих людей, вещи и идеи в единое, раскрывается в процессах опредмечивания и распредмечивания, овеществления и отчуждения. Отношение человека к человеку опосредуется миром вещей и, наоборот, контакт человека с предметом по сути дела является общением с другим человеком, его силами и способностями, аккумулированными в предмете. Социальные качества сверхчувственны, невещественны, но вполне реальны и объективны в своей вещной форме и существенно определяют жизнь человека и общества. Каждый предмет «опредметил» в себе устойчивые, упорядоченные стереотипы человеческой деятельности. Усваиваясь человеком, «распредмечиваясь», покоящиеся свойства предмета в той или иной мере переходят в способы деятельности человека и включают последнего в систему сложившихся связей и отношений.
В ходе развития и усложнения социальных связей и отношений возникают устойчивые безличные (не зависящие от индивидуальных свойств носителя) социальные роли и статусы, которые вынуждены принимать на себя живые индивиды, исполняя обязанности начальников и подчиненных, собственников и лишенных собственности и т. д. Совокупность подобных ролей и статусов образует систему социальных институтов, обеспечивающих обязательное для каждого индивида исполнение «общих функций», в которых овеществляются (и зачастую отчуждаются от индивидов) общественные отношения и связи. Интегральным социальным институтом общества является государство, стремящееся к установлению равновесного состояния, которое характеризуется устойчивостью, порядком и однородностью.
Сложное взаимодействие элементов социальной системы образует социокультурную среду существования индивидов – столь же объективную, не зависимую от их воли, как и природная среда с ее эволюционными или термодинамическими законами. Создаваясь людьми, эта среда, тем не менее, первична по отношению к отдельным индивидам, детерминируя их социокультурные характеристики. Это значит, что сам факт рождения в Древней Греции, средневековой Франции, Беларуси или Российской Федерации начала XXI в., в семье феодала, буржуа или свободного гражданина предопределяет некий социокультурный статус (в его сословном, профессиональном, властном, экономическом, ментальном выражении). Конечно, человек своими усилиями может изменить параметры своего статуса (опять же, с учетом тех возможностей, которые предоставляет ему общество закрытого или открытого типа). Но в целом эта возможность индивидуальной трансформации своего местоположения в социальной системе не отменяет сильнейшего детерминационного воздействия надиндивидуальных реалий на формирование людей, что позволяет относить общество к органическим системам, в которых ставшее целое способно оказывать формирующее воздействие на свои части.
Глава 5 Материально-производственная сфера общества
Сложность и многомерность человека как биосоциодуховного существа определяет наличие у него целого ряда потребностей – от витальных (физиологических) до высших духовных. Их удовлетворение предполагает наличие разнообразных предметов, созданием которых занимается материальное производство. Именно оно создает практические средства деятельности, позволяющие людям изменять природную и социальную реальности в соответствии со своими нуждами. Другими словами, человек способен стать относительно независимым от влияния внешней среды, преобразуя наличные элементы естественного мира в необходимые для жизни материальные блага. Тем самым чувственно-практическое освоение обществом определенной природной действительности коренным образом отличается от приспособления животных к реальным условиям их существования.
Воздействие человека на природу представляет собой трудоемкий процесс, такую целенаправленную деятельность, которая предполагает использование человеком ранее созданных им орудий и средств труда, самой разнообразной техники для достижения заранее поставленных перед собой целей. Данное принципиальное отличие целенаправленной деятельности человека от активности животных одним из первых четко сформулировал К. Маркс. «Паук, – писал он, – совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т. е. идеально. Человек не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю»[23].
Сущность материального производства и его роль в общественной жизни наиболее полно раскрыта в социально-философском и политэкономическом учении марксизма. Именно К. Маркс одним из первых рассмотрел материальную деятельность человека как детерминанту социальных процессов, показал базисный характер труда во всей системе общественного производства. Но, разумеется, марксистское прочтение данной проблемы не является единственным. Альтернативные и не менее глубокие теории были предложены, в частности, русскими мыслителями первой половины XX в., показавшими укорененность материального производства в абсолютных духовных началах бытия. Кроме того, значительный вклад в понимание сущности материального производства внесла современная социально-философская мысль, глубоко продумавшая социокультурную детерминацию хозяйственной деятельности. Рассмотрим эти теории и попытаемся выделить то ценное, что они дают для понимания своего предмета.
Рассматривая сущности материально-производственной сферы общественной жизни с марксистских позиций, необходимо выделить ключевую категорию, с помощью которой будет раскрыто все богатство содержания данной сферы и показана ее связь с другими подсистемами социума. Такой категорией является труд, представляющий собой сложное, многокачественное, многоуровневое явление. В своей глубине труд предстает как труд вообще, абстрактный труд. Это значит, что труд имеет всеобщие характеристики, присущие всем его формам на всех этапах развития человеческого общества. «Процесс труда, – писал К. Маркс, – как мы изобразили его в простых и абстрактных его моментах, есть целесообразная деятельность для созидания потребительских стоимостей, присвоение данного природой для человеческих потребностей, всеобщее условие обмена веществ между человеком и природой, вечное естественное условие человеческой жизни, но потому он не зависим от какой бы то ни было формы этой жизни, а, напротив, одинаково общ всем ее общественным формам. Потому у нас не было необходимости в том, чтобы рассматривать рабочего в его отношении к другим рабочим. Человек и его труд на одной стороне, природа и ее материалы – на другой – этого было достаточно»[24].
Анализ абстрактного труда позволяет нам выделить его существенные стороны. Первой стороной является природный характер труда, что означает его включенность в цепочку природных процессов. Природную основу имеет активность человека, природный субстрат имеет использование им средств труда, из природы работник получает предмет своей преобразовательной деятельности. В своей деятельности человек не только считается с законами природы, но и использует и даже подчиняется им. «Человек в процессе производства может действовать лишь так, как действует сама природа, т. е. может изменять лишь формы вещества. Более того, в самом этом труде формирования он постоянно опирается на содействие сил природы»[25]. Вторую сторону определяет трудовой процесс, т. е. деятельность человека как социального существа, отличная от активности животных или бездушных природных сил. Будучи существом социальным, человек способен к целеполаганию, к предвосхищению в своем сознании конечных результатов труда и этапов развития самого процесса. Другими словами, огромное место в материальном производстве занимает идеальная составляющая, сознание как имманентный компонент трудовой деятельности человека. Идеальное через живую деятельность человека материализуется, воплощаясь в изменениях материальных факторов труда. «Природа не строит ни машин, ни локомотивов, ни железных дорог, ни электрического телеграфа, ни сельфакторов и т. д. Все это – продукты человеческого труда, природный материал, превращенный в органы человеческой воли, властвующей над природой, или человеческой деятельности в природе. Все это – созданные человеческой рукой органы человеческого мозга, овеществленная сила знания»[26]. Материально-природное и идеальное в труде не находятся в состоянии самотождественности, покоя и изолированности, а постоянно перетекают и обусловливают друг друга. То, что сознание овеществляется в продукте, мы уже сказали, но и движение материальных факторов труда непрерывно отражается в сознании субъекта, отливаясь в формы нового целеполагания труда. Весь трудовой процесс, таким образом, предстает как развивающаяся, обогащающаяся диалектика материального и идеального, их непрерывного взаимопревращения.
Важно отметить, что трудовая деятельность носит глубоко объективный характер, т. е. осуществляется в рамках сложившихся социальных условий, наличного уровня технологий вооруженности и степени развития самого общественного человека. Это значит, что масштабы, уровень, мотивы и продукты деятельности во многом предопределены степенью развитости социокультурной системы в целом. Из сказанного не следует, что человек не может выйти за ее пределы и обречен на рабское подчинение неким безличным и довлеющим над ним силам. Напротив, человек и общество способны трансцендировать, преодолевать свою конкретно-историческую ограниченность. Сама способность к трансцендированию осуществляется в рамках наличного материального уровня преобразования природы исходя из возможностей самого этого уровня, из тенденций изменения, ему имманентно присущих.
Тем самым процесс труда подчиняется действию глубинных общественных закономерностей, которые можно разделить на три большие группы.
К первой группе относятся закономерности всеобщеисторического характера. Они обусловлены самой потребностью трудиться и производить нужные человеку предметы и процессы, определенным устройством человеческого тела, предполагающим столь же определенный характер, ритм и организацию труда. Свое выражение эти закономерности получают в трудовых традициях народов, которые оказываются весьма живучими и могут сохраняться даже при качественном изменении общественного строя.
Ко второй группе относят закономерности формационного характера, что отражается в понятиях «рабовладельческий труд», «феодальный труд» и т. п. Эти закономерности порождены вполне определенным уровнем развития производительных сил – сложностью орудий труда и имеющимися в распоряжении общества предметами труда. Но в наибольшей степени формационные закономерности обусловлены типом производственных отношений. Именно на его основе складываются определенные интересы, мотивационные структуры, детерминирующие характер трудовой деятельности общественного субъекта. Так, в рамках экономических формаций вся структура общественных отношений складывается вокруг частной собственности, которая определяет господствующие виды труда, критерии его производительности и оценки успешности, а также помыслы, стремления, конкретные мотивы трудящихся людей.
К третьей группе можно отнести закономерности конкретно-исторического характера, связанные с определенными событиями в жизни общества. Например, в экстремальных социальных ситуациях меняются характер и интенсивность труда, а он сам рассматривается как дело чести, подвига и геройства. В ситуациях же стабильного развития меняются и сам процесс труда, и вся система его оценок. Эти закономерности сложно взаимодействуют друг с другом, причем «удельный» вес каждой из них может меняться по мере развития общества.
Дальнейшее развитие, конкретизацию и углубление идея труда получила в категориях производительных сил и производственных отношений. Проблематика производительных сил и производственных отношений, их сущность и связи детально проработаны в марксистской философской и социологической литературе. Поэтому мы остановимся лишь на узловых моментах данного вопроса и попытаемся выделить то содержание, которое сохранило свою теоретическую значимость до настоящего времени. Под производительными силами в философской литературе понимается система субъективных (человек) и вещественных (техника) элементов, осуществляющих «обмен веществ» между обществом и природой в процессе общественного производства. К. Маркс, анализируя производительные силы, различает производительные силы труда и всеобщие производительные силы. Главным элементом производительных сил труда является человек трудящийся, понимаемый очень широко. Во-первых, человек предстает как рабочая сила, способная производить какие-либо потребительные стоимости. Во-вторых, человек обладает способностью к потреблению, вне которой бессмысленно любое производство. В-третьих, и для К. Маркса это наиболее значимо, производительными силами является все духовное богатство личности, ее зрелость, многосторонность, развитость. В этом контексте Маркс первый поднялся до понимания значимости свободного времени, необходимого для полноценного развития личности. «Сбережение рабочего времени равносильно увеличению свободного времени, т. е. времени для того полного развития индивида, которое само, в свою очередь, как величайшая производительная сила обратно воздействует на производительную силу труда»[27].
Еще одним элементом производительных сил является уже не живой, воплощенный в человеке, а овеществленный труд, представленный в средствах производства. С помощью средств производства человек воздействует на материю природы, преобразуя ее в блага, удовлетворяющие его потребности. Маркс подчеркивал значимость средств труда, развитие которых вызывает глубокие изменения в процессе труда, а в результате и во всех процессах общественной жизни. В зависимости от изменений в использовании орудий труда и от изменения их самих изменяется и структура рабочей силы и серьезные трансформации претерпевает сама личность трудящегося.
Тем самым производительные силы труда включают человека как субъект труда и орудия труда. Всеобщие производительные силы представляют собой разделение и кооперацию труда, дающие значительный социально-экономический эффект (чем полнее и разумнее организовано разделение труда, тем выше всеобщая производительная сила общества); силы, связанные с уровнем духовной культуры.
К. Маркс высоко оценивал значение науки и был одним из первых, кто осознал ее стратегическое значение для будущего. Накопление знаний и навыков, – писал он, – суть «накопление всеобщих производительных сил общественного мозга»[28].
До сих пор мы говорили о производительных силах, составляющих одну сторону процесса производства. Другой стороной являются производственные отношения, характеризующие экономические позиции, в которых находятся классы, социальные группы по отношению к собственности, обмену, распределению произведенных материальных и духовных благ. В рамках производственных отношений происходит формирование и развитие комплекса трудовых мотиваций, складывание разветвленной системы стимулов к труду. На практике это означает, что людей заставляют работать не громкие лозунги и призывы, но вполне реальные жизненные мотивы, не последнее место среди которых занимает нужда. Тем самым анализ производственных отношений позволяет нам увидеть природу той экономической силы, которая побуждает человека включаться в трудовой процесс.
Рассмотрим сущность производственных отношений более внимательно. Производя, люди воздействуют не только на природу, но также и друг на друга, и эти системы взаимодействий, непосредственных и опосредованных, сознательных и неосознанных, образуют производственные отношения между людьми. «В производстве люди вступают в отношение не только к природе. Они не могут производить, не соединяясь известным образом для совместной деятельности и для взаимного обмена своей деятельностью. Чтобы производить, люди вступают в определенные связи и отношения, и только в рамках этих общественных связей и отношений существует их отношение к природе, имеет место производство»[29]. Способ производительного труда, по необходимости выполняемого совместно, порождает разделение труда, отношения между работающими людьми, организацию труда, организацию распределения произведенных благ.
Термин «отношение» означает здесь не только произвольную систему сознательных взаимодействий, но также и объективные системы зависимостей людей, которые могут даже не знать о существовании друг друга. Например, в системе производственных отношений связаны и зависимы рабочие колониальных стран, капиталисты, торговцы, потребители. Производственные отношения – это сложная и запутанная сеть связей и зависимостей, в которую включены люди, занятые процессом производства, обмена и распределения благ.
В ходе производства объективно происходит выделение труда более легкого и более тяжелого, даже изнурительного, умственного и физического, творческого и репродуктивного, руководящего и исполнительского. Очевидно, что выполнять изнурительный монотонный труд по доброй воле ни один человек не захочет. Поэтому должны быть созданы механизмы принуждения, одним из которых является лишение трудящегося частной собственности. Если трудящийся не владеет орудиями и средствами производства, он не может с ними соединиться, а значит, и работать. Следовательно, невладение орудиями и средствами производства делает трудящегося силой самого экономического характера, подчиненным зависимым по отношению к тем, кто ими владеет. Он вынужден трудиться на тех условиях, которые диктует ему собственник орудий и средств производства. Другими словами, человек будет работать на протяжении времени, определенного собственником, в условиях, созданных собственником, получать столько, сколько ему заплатит собственник. Если он отказывается от таких условий, это, как правило, означает голодную смерть. Хороший пример, иллюстрирующий значимость производственных отношений, приводит К.Х. Момджян[30]. Известен исторический анекдот об английском предпринимателе, которому в один несчастный для него день пришла в голову мысль перевести свою фабрику из Англии в Австралию. Зафрахтовав пароход, предприниматель погрузил на него все необходимое оборудование, посадил рабочих, инженеров, техников и отправился в дальний путь с надеждами на скорое обогащение. Увы, этим надеждам не суждено было сбыться. Капиталист так и не сумел создать прибыльное производство, поскольку по забывчивости не захватил с собой важнейшее условие успеха – производственно-экономические отношения старушки Англии, которые вынуждали людей трудиться на его предприятии. Рабочие, которые в метрополии не имели иной возможности заработать себе на хлеб, высадившись на австралийском берегу, быстро поняли, что оказались в мире иных экономических реалий. Их окружали еще никому не принадлежащие плодородные земли, реки, полные рыбы, и прочие блага, делавшие работу на фабриканта-путешественника ненужной, невыгодной и потому бессмысленной. Неудивительно, что многие рабочие предпочли заняться охотой, земледелием и прочими делами, которые были невозможны для них на родине, в условиях экономической несвободы. Мы видим, как прежние экономические отношения, разрушившись в новых условиях жизни, разрушили и некогда организованный производственный коллектив, обладавший, казалось бы, всем необходимым для дальнейшего существования.
Таким образом, производственные отношения опираются на определенную основу, которой является отношение людей к орудиям производства, т. е. форма собственности на средства производства. Форма собственности на средства производства определяет производственные отношения в целом и прежде всего взаимоотношение всех общественных групп, занятых в процессе производства, в частности принципы распределения произведенных благ, а также место, занимаемое в разделении труда, и степень допустимого участия в доходе, приносимом производством. Владельцы средств производства образуют один важный общественный класс, другой класс образуют те, кто не имеет собственных орудий, но предлагает свою рабочую силу, продавая или отдавая внаем свои мускулы, умения или знания. Таким образом, форма собственности на средства производства обусловливает существенную характерную черту производственных отношений, а именно разделение людей, занятых в процессе производства, на общественные классы.
В рамках марксистской парадигмы производительные силы и производственные отношения образуют экономическую основу общественной жизни. Вместе с тем они составляют настоящий становой хребет каждой большой общественной формации. На их основе развиваются институты и учреждения, регулирующие общественную жизнь и удовлетворяющие другие потребности, создаваемые культурой. Словом, на их основе вырастает надстройка культурной деятельности общества, т. е. научной, философской, художественной, религиозной и политической деятельности.
Марксистское понимание сущности материального производства и его роли в общественной жизни, безусловно, обогатило социально-философскую науку, показав мощнейший фактор детерминации социальной системы. Вместе с тем глубокое осмысление данной проблемы на современном этапе социокультурного развития предполагает выход за пределы марксистской парадигмы, разумеется, с сохранением того ценного, что в ней накоплено. Современная социальная философия показывает, что материальное производство не безосновно и самодостаточно, но само детерминируется факторами социокультурного порядка – религиозными, цивилизационными, идеологическими. Опираясь на различия традиционного и техногенного общества, рассмотрим социокультурные предпосылки ведения хозяйства в данных цивилизационных типах. В традиционных культурах, сформировавших космоцентрическую картину мира, общество не противопоставлялось космосу, а человек – обществу, но мыслилось как их органичная часть. Каждый член общества чувствовал свою призванность, следовал по своему пути, реализовывал жизненную задачу и предназначение. Предназначение и высший смысл своей деятельности чувствовал и традиционный предприниматель. Его хозяйственная активность, которая, пусть не всегда соответствовала высоким моральным образцам, все же встраивалась в космический порядок. Отношения с партнерами и клиентами реализовывались на основе солидаристских и патерналистских принципов, а требования религии находились на первых местах в системе мотиваций. Видный немецкий экономист, социолог, историк и философ Вернер Зомбарт (1863–1941) отмечал, что для «буржуа старого стиля» еще сохраняют значение религиозные, моральные, социальные ценности, еще можно взывать к его совести, убеждениям и чувству общей судьбы с соотечественниками. «Все, кто служил капитализму: крупный землевладелец и крупный заморский купец, банкир и спекулянт, мануфактурист и шерстеторговец – все они все-таки не переставали соразмерять свою коммерческую деятельность с требованиями здоровой человечности: для всех них дело оставалось только средством к цели жизни; для всех них направление и меру деятельности определяют их собственные жизненные интересы и интересы других людей, для которых и вместе с которыми они действуют»[31].
И дело не в том, что традиционный предприниматель отличался какой-то особой гуманностью. Сама система отношений традиционного общества предполагала человеческие отношения с работниками и партнерами, ибо от их честности и надежности слишком многое зависело в организации дела. Отношения с госаппаратом также не могли ограничиться формализмом права, так как власть принадлежала не законам и институтам, а людям. Нельзя было устраниться от нужд общины, города, государства, богатеть вопреки их жизненным интересам, ибо от них зависит и судьба самого предпринимателя, не ставшего еще гражданином мира, безразличным к местным проблемам. Другими словами, космоцентричная парадигма традиционной культуры формирует не человека экономического, но человека хозяйствующего, для которого «социальные и культурные отношения и институты, нравственные и эстетические ценности, а также природное окружение являются не средствами достижения цели, а предпосылками деятельности и ее значимыми факторами»[32].
В Новое время на Западе произошел распад форм традиционной социальности и началось интенсивное формирование культуры техногенной цивилизации, сопровождавшейся актуализацией формального римского права в системе государственной власти и широким распространением идей возрожденческого гуманизма, противопоставлявшего человека природе. Человек стал мыслить себя антагонистом Космоса, у которого необходимо вырвать нужные для процветания и обогащения блага. Социальный порядок представлялся не как органичная часть порядка вечного, космического, а как сугубо человеческое установление, продукт «общественного договора» или «отношений собственности». Данное мироощущение нашло свое рациональное обоснование в социальной философии, представившей общество как совокупность человеческих атомов, отталкивающихся друг от друга в силу противоположности движущих ими интересов (И. Бентам). На базе именно этой философии английская политэкономия в лице А. Смита и Давида Риккардо (1772–1823) сформировала свое представление о человеке экономическом – своего рода машине, считающей интересы и стремящейся в каждом данном случае достичь наибольшей выгоды с наименьшими затратами. С небольшими изменениями, сводящимися к тому, что на место индивида был поставлен класс, ничего не желающий знать, кроме все того же материального интереса, понятие «экономический человек» было ассимилировано К. Марксом, а вслед за ним и марксистами.
В рамках техногенной цивилизации сформировалось новое понимание экономики и экономической активности человека. Под экономикой стал пониматься такой тип хозяйственной жизни, для которого характерна всеобщность отношений обмена, ориентация на рыночные показатели производительности и эффективности, исчислимость результатов. Многомерная же человеческая личность начала активно перевоплощаться в одномерного человека экономического, прагматичного и эгоистичного, целью которого является рентабельное дело. Все то, что не способствует рыночному успеху, такой человек рассматривает как безразличное или даже враждебное для себя. Учитывая, что ценности высокой культуры (мораль, религия, философия, искусство) имеют некоммерческий характер, они вытесняются из круга его интересов и структуры мотивов, а человек из цели превращается в средство: «Живой человек, – пишет В. Зомбарт, – с его счастьем и горем, с его потребностями и требованиями вытеснен из центра круга интересов и место его заняли две абстракции: нажива и дело. Человек, следовательно, перестал быть тем, чем он оставался до конца раннекапиталистической эпохи, – мерой всех вещей»[33]. Согласно Зомбарту индивидуализм и антропоцентризм становятся императивами нового социального порядка. Вместе с тем истолковываться они могут по-разному. Исследователь пишет об этом так: «Торгаш и герой – они образуют два великих тезиса, как бы два полюса ориентации человека на Земле. Торгаш… подходит к жизни с вопросом: что ты, жизнь, можешь мне дать? Он хочет брать, хочет за счет по возможности наименьшего действия со своей стороны выменять для себя по возможности больше, хочет заключить с жизнью приносящую выгоду сделку; это означает, что он беден. Герой вступает в жизнь с вопросом: жизнь, что я могу дать тебе? Он хочет дарить, хочет себя растратить, пожертвовать собой без какого-либо ответного дара; это значит, что он богат».
В. Зомбарт критикует нищету торгашеского мировоззрения и исповедующего его адепта – торгаша по всем социальным направлениям деятельности: хозяйственной, научной, государственной, военной. Торгашеский дух характеризуется направленностью всего мышления на практические цели, ему соответствует ярко выраженная тяга к телесным удобствам, материальному благополучию, комфорту; выгода, связанная с наибольшим удобством и соответствующим набором материальных благ, является важнейшим критерием состоявшейся успешной индивидуальной жизни… «Этот человечишка заключает с жизнью своего рода пакт, по которому он обязуется совершать определенные действия, но только ввиду получения прибыльной оплаты» (на том свете или на этом – все равно)[34].
Противоположностью торгашескому является героический дух. Его представляют люди долга. «Добродетели героя противоположны добродетелям торгаша: все они позитивны, все любят жизнь; это дарящие добродетели: готовность к самопожертвованию, верность, простодушие, почтительность, храбрость, благочестие, послушание, доброта…»[35]. Героическое понимание жизни связано с патриотической настроенностью, служением какому-то делу, чему-то надындивидуальному, например идее народа, отечества. Оно связано с культивированием «внутреннего человека», с достоинством человека как его нравственной величиной, его творческим служением делу.
Для экономического человека наивысшей и универсальной ценностью становятся деньги. Служа этой ценности, экономический человек становится, с одной стороны, терпимым и толерантным к добру и злу, красоте и уродству, истине и лжи. Эти понятия для него попросту безразличны. Но, с другой стороны, он совсем не толерантен, когда дело касается препятствий, стоящих на его пути, будь то конкурент, подлежащий безжалостному уничтожению, или моральная норма, через которую можно и должно переступить. Здесь обнаруживается, что экономический человек не толерантен, а скорее агрессивен, склонен к применению тоталитарных методов управления и ведения борьбы. Кроме того, деятельность экономического человека приводит к стиранию многообразия культурных и социальных миров ради удобства и выгоды массового производства и массового потребления. Социальный космос, воспринимаемый сквозь призму специфического видения «экономического человека», превращается в утилитарный объект, по отношению к которому возможно применение прямого или опосредованного политико-идеологическими конструктами насилия, в поле для безответственных экспериментов по претворению в жизнь социальной модели, наиболее адекватной удовлетворению экономических интересов.
Сегодня назрела потребность в разработке и реализации принципиально иного типа хозяйствования, преодолевающего нигилизм человека экономического и способствующего проявлению подлинно созидательных сил человека как в отношении к социоприродному космосу, так и к своему собственному «Я». Важнейшее значение в формировании постэкономической парадигмы материального производства должны сыграть идеи русских мыслителей, которые, теоретически осмысливая русскую традицию экологобезопасного и культурсозидательного способа ведения хозяйства, высказали глубокие и яркие идеи о его месте в мировом бытии и о задачах, стоящих перед трудящимся человеком. Одним из первых хозяйственно-экономические проблемы поставил и всесторонне продумал В.С. Соловьев в своих сочинениях «Экономический вопрос с нравственной точки зрения» (1896) и «Оправдание добра» (1900).
Соловьев рассматривал хозяйственную деятельность как вспомогательную. Цель человека, с его точки зрения, заключается в достижении абсолютной нравственности. Хозяйство может помочь в этом, если будет сконцентрировано на обеспечении достойного существования. Экономические реальности вступают в борьбу с нравственными принципами, и в этом единоборстве, по Соловьеву, должна победить нравственность. Экономические бедствия обусловлены тем, что хозяйственные отношения не связаны должным образом с началами добра. Окончательное решение всего социально-экономического вопроса заключается только в нравственной организации хозяйственных отношений[36].
Интересные мысли о природе и сущности экономико-хозяйственных отношений есть в трудах Н.А. Бердяева. Он критикует экономическую концепцию К. Маркса и его последователей, полагая, что их взгляды на проблему хозяйства узки и односторонни. Марксистское понимание сводится к производству и обмену товара. Однако действительная задача хозяйства гораздо шире. Она заключается в овладении хаотическими силами природы, в победе над природной скованностью земной жизни, в высвобождении человеческого духа. Хозяйственная жизнь не только не противоположна духовной, но тождественна ей, «хозяйство как претворение природных сил, как их организация и регуляция – есть акт человеческого духа»[37].
Среди всех представителей философии Серебряного века наиболее обстоятельные работы по вопросам политэкономии принадлежат Сергею Николаевичу Булгакову (1871–1944), который провел систематическое и глубокое исследование социально-экономических проблем в книге «Философия хозяйства». С.Н. Булгаков считал, что природа, достигнув самосознания и способности труда в человеке, вступает в новую эпоху своего существования, ибо хозяйственный труд – это иная сила природы, иной «мирообразующий» фактор – космогонический, принципиально отличный от остальных сил природы. Поскольку эпоха хозяйства – определенная эпоха в истории земли и в истории космоса, космогонию можно разделить на два периода: инстинктивный, до-сознательный, или дохозяйственный, существовавший до появления человека, и сознательный, или хозяйственный, возникший с его появлением[38]. Высшая задача сознательной хозяйственной деятельности – осуществление Божьего завета о владении землей, новом обретении прав на природу, некогда утерянных человеком, о покорении смертоносных стихий, очеловечивании природы и освобождении себя. С.Н. Булгаков дает следующее определение хозяйства: «Это есть борьба за жизнь с враждебными силами природы в целях защиты, утверждения и расширения, в стремлении ими овладеть, приручить их, сделаться их хозяином»[39].
В системе философско-экономических взглядов С.Н. Булгакова надо особо отметить его учение о трудовой этике. Главная мысль заключается в том, что религиозно-этические заповеди оказывают благотворное влияние на характер экономикохозяйственной жизни. Речь идет о таких христианских ценностях, как личная ответственность, идеалы подвижничества и аскетизма, честности и справедливости. Смысл и значение булгаковской трудовой этики во многом совпадают с концепцией М. Вебера, выводившего современный капитализм из аскетической этики протестантизма. Булгаков впервые в рамках русской религиозной философии предпринял попытку адаптировать веберовские постулаты к российским реалиям.
В целом, с точки зрения философа, экономическая деятельность есть лишь одно из проявлений Вселенской борьбы Жизни и смерти, Добра и зла, Света и тьмы. При таком подходе к науке хозяйства у нас должны быть иные критерии, нежели если это критерий снижения себестоимости единицы продукции. Общий вывод С.Н. Булгакова: теории капитализма и социализма основаны на убеждении в исключительной экономической природе человека, стремящегося понять и абсолютизировать свои материальные интересы. Такой взгляд необходимо преодолеть и установить прочную связь между религиозно-нравственными основаниями бытия и хозяйственными материальными процессами. Эта связь поможет открыть новые горизонты и выработать пути перехода от нынешней экономики «падшего человека» к тому разумному и любовному хозяйствованию, идея которого заложена в трудах мыслителей от византийского периода до Ф.М. Достоевского.
Глава 6 Социальная сфера жизни общества
Сущностное своеобразие социальной сферы жизнедеятельности общества состоит в том, что в центре ее находится не столько производство материальных и духовных ценностей, сколько процесс формирования человека как социального существа в ходе развертывания деятельности и системы отношений ряда надиндивидуальных субъектов, выполняющих роль посредствующего звена между индивидом и обществом. Подобного рода субъектами являются большие и малые социальные общности – народ, нация, класс, семья и др. Социальная философия изучает законы, согласно которым в обществе складываются устойчивые группы людей, отношения между этими группами, их связи и роль в обществе. Эти законы и составляют содержание особой области общественной жизни – его социальной сферы.
Входя в состав устойчивой группы (как правило, не одной, а нескольких), отдельно взятый индивид получает реальную возможность не только опосредованно интегрироваться в общество в целом, но и оказывать через суммарную активность таких общностей влияние на ход развития социума в целом. Это происходит посредством выполнения каждой личностью соответствующих социальных ролей, вытекающих для нее из самого факта принадлежности к той или иной социальной общности, которая в рамках своего объединяющего начала накладывает на индивида определенные обязанности и дает права по отношению к другим своим членам. Социальные общности, с одной стороны, – не что иное, как своеобразные формы стимуляции и организации социальной активности личности, а с другой – они предстают в качестве дифференцированных уровней функционирования и форм самореализации общества как основного субъекта социального процесса.
Тем самым сложилась устойчивая и достаточно распространенная в научной литературе теоретическая позиция, в рамках которой под социальной сферой понимают совокупность социальных общностей (группы, классы, нации и т. д.) и отношений между ними, поскольку каждая из них преследует свои цели и защищает свои интересы. Но такая интерпретация должна быть углублена и дополнена, так как не отражает ряда сущностных черт социальной подсистемы. Социальная сфера – это также сфера производства и воспроизводства человека как биологического, социального и духовного существа. В ее состав входят здравоохранение, система социального обеспечения и защиты, процессы постижения культурных ценностей и продолжения рода. Значение социальной сферы предопределяется потребностью общества в многообразии человеческих типов, являющемся условием эффективного долгосрочного развития общества в целом. Поэтому необходимо выяснить, каков реальный механизм воспроизводства в обществе человека в его всеобщих характеристиках. Три аспекта анализа социальной сферы – классовый, половозрастной и семейный представляются особенно важными.
Роль первого аспекта классовой принадлежности в формировании личности подробно раскрыта в марксистской научной литературе. Несмотря на определенные преувеличения и даже абсолютизацию классовой принадлежности личности, которую постулировал марксизм, нельзя не признать, что складывающиеся в обществе отношения собственности по поводу средств производства и произведенных ими материальных благ определяют способы распределения общественного богатства между людьми и, следовательно, особенности индивидуального потребления и развития.
Но не только отношения собственности определяют особенности воспроизводства человека в обществе. Второй существенный аспект анализа социальной сферы жизнедеятельности людей – половозрастное деление общества. Дети, молодежь, люди зрелого возраста, пожилые люди и глубокие старики по-разному включены в общественную жизнь. Потребности и интересы у этих возрастных групп разные, как и способы их удовлетворения. Этот факт предопределяет различия в динамике личностного развития и порождает серьезные общественные проблемы. Рассмотрим такие значимые в этом контексте категории, как возраст и пол (гендер). Как и всякий биологический организм, человек рождается и обычно проходит стадии детства, юности, зрелости и старости. Та или другая ступень в онтогенезе, тот или другой возраст становятся основанием для объединения, идентификации, дифференциации, а также для противопоставления другим по возрасту.
Возраст – не просто временной отрезок, прожитый человеком, это еще и знак в процессе социальной символизации, наполненный социальными и культурными смыслами. Так, например, в культуре традиционного общества высоко ценился возраст зрелости и старости (вспомним образы мудрых старцев, существующие у всех народов с богатой исторической традицией).
Различные возрасты формируют такие социальные общности, как поколения, которые занимают различные положения в социальной иерархии. Мы уже отмечали, что в стабильном обществе отцы – наверху социальной лестницы, дети – внизу. Между поколениями всегда складывались непростые отношения – от противостояния отцов и детей до фундаментального чувства взаимной приязни и любви. В социальном отношении поколение детей отличается повышенной эмоциональностью, импульсивностью, большей мобильностью и стремлением к переменам. Поэтому старшие поколения всегда стремились направить разрушительный потенциал молодежи в социально приемлемое русло. В цивилизованном обществе выработался целый ряд социальных институтов, выполняющих эту задачу. В их числе всеобщая воинская повинность, позволяющая удержать самую активную часть молодых мужчин в рамках жесткого порядка. Сегодня наиболее распространенным способом организовать молодежную энергию и оградить общество от эксцессов служит массовое образование, особенно высшее[40]. Кроме того, существенную роль играют такие социальные институты, как спорт, религия, тюрьма.
Не менее значимыми для отдельной личности и для всего общества являются социальные общности, образованные по половому признаку. Сущность пола у человека не может быть выведена лишь из природных закономерностей, а коренится в социально-онтологических основах. Рациональный анализ показывает, что распределение общностей мужчин и женщин – не только и не столько биологическое, сколько социальное. Биологическое выступает лишь как предлог для социальной дифференциации. Неслучайно с помощью одежды, различного воспитания и подобных культурных средств половая дифференциация многократно усиливает то естественное различие полов, которое дано природой. Иначе говоря, мы имеем дело не с полом, а с гендером.
Гендерная дифференциация обладает более высоким уровнем императивности, чем возрастная. Это связано уже с тем, что каждый человек, как правило, проходит все возрасты жизни, в то время как идентификация с тем или другим гендером, за редчайшими исключениями, пожизненна. Социальность гендера состоит в том, что он связан с иерархической структурой общества. Уже на начальных этапах цивилизационного развития сложилось разделение на привилегированный пол (мужчины) и подчиненный пол (женщины). Мужчины заняли в социальном устройстве сферу публичного, оставив женщинам сферу приватного. Поэтому сегодня непривилегированная общность создает объединения, вооруженные собственной идеологией.
К примеру, феминистская идеология утверждает, что мужчины построили цивилизацию, базирующуюся на насилии, угнетении и эксплуатации. Засилье мужчин не позволяет человечеству выйти из перманентных военных конфликтов, оно загнало мир в экологический тупик. Перспективы, с этой точки зрения, либо за доминированием женщин, либо за действительным равенством гендеров. Более мягкие формы феминизма, как, например, у X. Арендт, сосредоточиваются на критике приватной сферы социального порядка, к которому оказываются привязаны женщины.
Выделяется три типа культурно-взвешенного феминизма:
1) либеральный феминизм; суть его такова: женщиной не рождаются, ею становятся (С. Де Бовуар, Б. Фридман, А. Рич); в противоположность андроцентристскому обществу должно быть создано андрогинное общество, где половые различия второстепенны;
2) марксистский – природа женщины – совокупность общественных отношений (Д. Гримшоу);
3) постструктуралистский – анатомия женщины – не судьба, а источник. Женщина может мыслить через тело (С. Гриффин). Тело есть источник интеллектуального восприятия, воображения, видения.
Казалось бы, в противоположность женским объединениям и женской идеологии должны сформироваться мужская идеология и мужские объединения. Однако этого не происходит потому, что доминирующий гендер встраивает свои объединения и свою идеологию в господствующие как бы внегендерные объединения и внегендерную идеологию. Государство и государственная идеология в цивилизованном обществе носят по преимуществу мужской характер.
Сущность пола не может быть сведена и к социальности. В русской философии была глубочайшим образом обоснована мысль о том, что пол имеет не анатомо-физиологическое, не психологическое, не социальное, а метафизическое происхождение. Сущность пола заключается в его связи с Абсолютом, а смысл – в генерации чувства любви к Абсолюту через любовь к людям и миру. Русские философы переосмыслили знаменитое платоновское понимание любви, предложенное им в диалоге «Пир», согласно которому смысл любви – в стремлении к утраченному единству, целостности. Эта идея принимается русской мыслью, но с существенным дополнением – не к телесному, а духовному единству должна вести половая любовь, и смысл пола в том, чтобы порождать эту жажду целостности, причастности миру и Богу.
Третий важнейший аспект анализа социальной сферы общества – семья как малая социальная группа. В чем же состоит сущность семьи? Если за основу взять позицию, согласно которой основным в общественной жизни является производство, можно выделить по крайней мере три вида производства, свойственные семье: производство вещей (материальное производство), производство идей (духовное производство), производство людей. Именно на семью ложится основная нагрузка по производству и воспроизводству человека как социального существа, развитой личности.
Семья – это социальная общность, основанная на супружестве и кровном родстве. В рамках семьи формируется социальный порядок, организующий людей, живущих вместе и ведущих общее хозяйство. Часто для отражения специфики семейных отношений используется красочная метафора – совместное пение (дуэт, трио, квартет и т. д.). Внутри семьи складывается круг людей, которых можно назвать ближними.
Основу семьи составляет брак – отношения супругов между собой и отношения супругов и государства по поводу взаимодействия супругов как представителей разных полов с целью воспроизводства жизни. В браке существенны, во-первых, функциональная связь между индивидом как обособленным производителем новой жизни и государством и, во-вторых, регламентированность брака правом. Иными словами, публичное вторгается в сферу приватного и контролирует его. Если говорить об основах брака и семьи, можно выделить два фактора, способствующих семейно-брачным связям: биологический и социокультурный. Биологический фактор, проявляющийся в половом влечении и сексуальных отношениях, выступает лишь как предпосылка семейно-брачных связей. Очевидно, что реализация полового инстинкта возможна без брака и вне его. Поэтому основной силой, строящей семью, является совокупность социокультурных ценностей и смыслов, выработанных в ходе возвышения человека от животных форм организации своей жизни к собственно человеческим механизмам регуляции общественных отношений – социокультурный фактор. Брак и семья в той форме, в которой они существуют, являются не изначальным социальным феноменом, а возникли в результате непростого эволюционного процесса. На этапе раннепервобытного общества между членами рода существовали неупорядоченные половые отношения, т. е. промискуитет. В целом они соответствовали типу отношений, на основе которых развиваются сообщества многих видов животных, в том числе и высших. Данный тип отношений довольно быстро вступил в противоречие с другими важнейшими отношениями среди пралюдей, а именно – с производственными. Дело в том, что борьба за самку может быть довольно острой, и такие конфликты расстраивали хозяйственную жизнь коллектива, препятствовали организации слаженных действий на охоте и т. п.
Способом решения этой проблемы было введение акойтии (от лат. а – не + coitys – половой акт) на время, предшествовавшее охоте, войне и иным значимым для рода совместным действиям. Нарушение запрета рассматривалось как тяжелейший проступок и каралось, как правило, смертью. Общей тенденцией в развитии первых человеческих сообществ было постоянное увеличение продолжительности акойтии вплоть до полного запрета половых отношений между членами одного рода. Культурным обоснованием этого запрета стала тотемная форма мышления, т. е. представление о том, что весь род является потомком какого-то животного, являющегося священным. Очевидно, что вступление в половую связь с кем-либо из представителей рода означало то же самое в отношении тотемного животного, что рассматривалось как святотатство. Тем самым на смену родственному браку приходит групповой брак. В чем его суть? Все члены одного рода должны были искать себе полового партнера среди представителей другого рода. С кем устанавливалась связь, на какое время и условия отношений определялись доброй волей брачных партнеров, но безусловным требованием было установление такого отношения с представителем определенного рода. Поэтому, если сформулировать более определенно, групповой брак – это отношения между родами, где один род выступал как групповая жена, а другой – как групповой муж. Причем один и тот же род по отношению к разным родовым группам мог играть обе эти роли. Для группового брака характерна дислокальная и дисэкономическая формы брачных отношений. Это значит, что брачные партнеры жили раздельно в поселениях своих родов и не вели совместное хозяйство. Дети, рождающиеся в результате брачных отношений, принадлежали к роду их матери. В дальнейшем развитии предписание вступать в брак лишь с членами определенных родов постепенно исчезает. От всей старой системы остается лишь запрет вступать в половую связь, а значит и в брак, с членами своего рода. С переходом к классовому обществу исчезает и он. В результате индивидуальный брак становится единственной формой регулирования отношений между полами.
Первоначальный индивидуальный брак с тем, чтобы отличить его от более поздних форм индивидуального брака, именуют парным. Это название не самое удачное, ибо наводит на мысль, что он всегда был союзом лишь одного мужчины только с одной женщиной. Таким он являлся чаще всего, но далеко не всегда. Как свидетельствуют данные этнографии, один мужчина мог состоять точно в таких союзах с несколькими женщинами одновременно, т. е. иметь несколько жен, а женщина – иметь несколько мужей. Подобный брак не исключал ни многоженство, ни многомужество. Но главная претензия к термину заключается в том, что он не выражал сущности этой формы брака, которая состояла в равенстве мужчины и женщины. Оба супруга в равной степени принимали участие в общественном производстве, оба трудились и имели равные права на получение доли общественного продукта. Так было и на той стадии развития первобытного общества, когда люди получали свою долю в соответствии с потребностями (фаза раннепервобытного общества), и на фазе позднепервобытного общества, когда наряду с распределением по потребностям возникло и получило развитие распределение по труду. Поэтому они в равной степени выступали по отношению к детям как иждивители (кормильцы). Вклад каждого супруга в семью в качественном отношении был равен вкладу другого. В экономическом отношении они выступали как равные стороны. А экономическое равенство супругов влекло за собой их равенство и во многих других отношениях. Конечно, это равенство было не абсолютным, но тем не менее оно было.
На смену парному браку приходят патриархальный брак и патриархальная семья. Они складываются в условиях перехода от варварства к цивилизации. Примеры патриархальных семей: это в той или иной форме досуществовавшие до XIX в. южнославянские задруги, семейные общины в России. В социальном порядке патриархальной семьи первостепенную роль играет мужчина. Счет родства ведется по отцовской линии (патрилинейностъ). Род, взорванный патриархальной семьей, теряет хозяйственное и организационное единство. Жена теперь селится в общине мужа (патрилокальностъ). Парный брак через патриархальные обычаи постепенно перерастает в моногамию.
Моногамия представляет собой одновременное брачное сожительство одного мужчины с одной женщиной. Таким образом, многовековая история ограничения половых связей достигает своего предела. На основе патриархата формируется и частная собственность, хозяйственная основа моногамной семьи. При этом женщина занимает подчиненное положение не только в семье, но и в обществе, не только в сфере приватного, но и в сфере публичного. Ф. Энгельс называл возникновение моногамии, основанной на патриархате, всемирно-историческим поражением женского пола.
Чем прочнее были половые и имущественные связи супружеской пары, тем все более биологическое родство совпадало с социальным положением родителей по отношению к своим детям. Родителями стали называться лишь кровные родители. Социальный институт моногамной семьи возникает как разрешение противоречия между необходимостью индивидуальной ответственности в процессе производства вещей (частная собственность) и необходимостью коллективной (парной) формы производства новой жизни, т. е. между социальной и природной сторонами жизни общества в сфере приватного.
Сформировавшись, моногамный брак эволюционировал, усиливал или отбрасывал какие-то функции, решал различные общественные задачи. Если говорить о современной семье, то надо отметить, что тенденции ее развития глубоко противоречивы. Во-первых, индустриальное общество подрывает основы семьи, широко вовлекая женщин в процесс общественного производства. Это объективно приводит к уменьшению количества детей в семье, хотя само индустриальное общество нуждается в рабочей силе. Это противоречие частично решается за счет третьего мира и так называемого внешнего пролетариата (А. Тойнби). Во-вторых, современный уровень материального производства сделал возможным весьма комфортный, даже изнеженный образ жизни для огромного числа людей в составе золотого миллиарда. И это немедленно привело к глубокому кризису семьи, ибо семья с необходимостью предполагает аскезу, жертвенность и отказ от эгоизма.
Если сегодня вся незападная часть населения мира все же в большей или меньшей степени сохранила стремление иметь детей, а стало быть и стремление сберечь свои общества, народы, их веру и культуру, то Запад, обогнавший весь мир по уровню научно-технического прогресса и экономического преуспевания, осуществивший множество всяких революций во всех сферах своей жизнедеятельности, к настоящему времени, похоже, утратил или, в лучшем случае, утрачивает это желание. Бесконечная модернизация, радикальное изменение базовых ценностей жизни, всех традиционных основ человеческого существования, получивших теперь свое теоретическое оправдание в философии постмодернизма, с удивительной легкостью привели к вырождению в глубинных недрах западноевропейского социума пассионарной энергии.
Конечно, падение рождаемости, отказ от многодетности как поведенческой нормы имеет, как и всякое сложное явление вообще, множество причин, каждая из которых под определенным углом зрения может показаться главной. Нельзя, например, серьезно говорить о современной демографической ситуации на европейском континенте без учета того обстоятельства, что именно Западная Европа, первая вступившая на путь индустриализации и, соответственно, интенсивной урбанизации, тем самым привела в действие активный процесс экономического раскрестьянивания в своих странах. В этнодемографическом плане этот процесс возымел далеко идущие последствия в современном мире. Там, где оказалась разрушенной или вытесненной на периферию социально-экономической и повседневно-бытовой жизни общества традиционная крестьянская семья и почти тотально возобладал городской образ жизни, там повсеместно наблюдается резкое снижение рождаемости. Именно город, легализовавший аборты и контрацептивы, возвел сначала в норму 1—2-детную, а затем и совсем бездетную семью.
Исторический опыт свидетельствует, что наиболее надежной социальной базой промышленного производства являются не граждане третьего-четвертого поколения, ориентированные на изнеженный, комфортный образ жизни, а сохранившие традиционную аскезу вчерашние крестьяне, которые умеют сочетать в себе трудолюбие, терпение, скромность, способность к жестким ограничениям и сдерживанию своих субъективных притязаний. Известный российский философ А.С. Панарин пишет, что по этому критерию Китай и Индия выступают в качестве стран, сохранивших самую большую социальную базу продуктивной экономики в лице аграрного большинства населения, поставляющего материал для гигантских промышленных армий. На Западе, где процесс урбанизации давно завершился, такая социальная база уже утрачена. Горожане третьего-четвертого поколения стали дезертирами продуктивной экономики, предпочитающими легкий хлеб новых рантье, держателей ценных бумаг и азартных игроков глобальных финансовых рулеток (пирамид). Акцентируем внимание: депопуляция белой расы, нарастающая в современном мире, тесно сопряжена с получившей распространение в Западной Европе эпидемией потребительства ради потребительства. Наблюдаемый ныне процесс распада института семьи в значительной мере является следствием сформировавшегося во всех экономически развитых странах потребительского общества. Распад института семьи – важнейшее проявление общества данного типа. «Семья – это прежде всего ответственность, это ресурсы, это время и деньги, а значит, резкое ограничение потребления. Поскольку альтернативные (содержанию семьи) пути использования имеющихся ресурсов обеспечивают более высокий уровень потребления, постольку потребитель (будь то мужчина или женщина) не заинтересован в семье, причем пропорционально расходам, необходимым для ее содержания»[41].
Как ни подходить к рассматриваемой проблеме, приходится признать: дети в потребительском обществе – лишняя обуза. Вот красноречивое высказывание на этот счет П.Дж. Бьюкенена, автора получившей широкий резонанс в современном мире книги «Смерть Запада». Он пишет: «Все принялись сокращать семьи, у всех вдруг стало меньше детей. Отсюда возникает противоречие: чем богаче становится страна, тем меньше у нее детей и тем скорее ее народ начинает вымирать. Общества, создаваемые с целью обеспечить своим членам максимум удовольствия, свободы и счастья, в то же время готовят этим людям похороны»[42].
Конечно, потребительский фетишизм, если взять его индивидуально-психологический аспект, исходит из стремления человека чем-то компенсировать не состоявшуюся реализацию потенциальных способностей и интенций, потерянность и не-найденность в тех сферах человеческой деятельности, которые требуют постоянного самосовершенствования, а соответственно, и постоянного возобновления усилий, что в практике реальной жизни оказывается далеко не всем по плечу. Отсюда жгучая психологическая неудовлетворенность, которую, как правило, легче всего заглушить внешними атрибутами успеха, в частности, престижным потреблением. Иначе говоря, потребительство основано на сильнейшем стимуле – стремлении человека к самоутверждению. «В индивидуализированном обществе (которое сегодня, заметим, интенсивно навязывается и в странах постсоветского пространства. – Авт.) такое стремление тождественно желанию выделиться из массы, стать отличным от других людей. Но поскольку тенденция к индивидуализации потребления становится всеобщей, субъекты интегрируются в единую систему, незаметно подчиняясь ей»[43]. На деле стремление приобрести индивидуальную неповторимость посредством потребления оборачивается всеобщей унификацией, трансформируется в «тотальную нейтрализацию» (Г. Маркузе), а всякий декларируемый на индивидуальном уровне нонконформизм (в данном случае стремление выделиться) превращается в реальной практике функционирования общества как определенной целостности в поголовный конформизм, конформизм массового масштаба. В конечном счете непрекращающаяся смена потребительских товаров начинает выступать как одна из самых безнадежных и неудачных попыток заполнить пустоту и бессмысленность жизни. Другие способы борьбы с психологической неудовлетворенностью, обусловленные кардинальной потребностью человека в самореализации, – алкоголизм, наркомания, токсикомания и подобное – стоят в этом же ряду. По большому счету, все это явления одного порядка. Такова парадоксальная логика экспансии в современных экономически развитых странах психологии и идеологии потребительства.
Тем не менее действительный смысловой код потребительского фетишизма невозможно понять и объяснить вне анализа современного социально-экономического контекста, исходя только из экзистенциально-личностных особенностей и психологических трудностей, связанных с проблемой самореализации и самоосуществления человека в этом мире. Полное торжество рыночного обмена, процесс превращения рыночной экономики в рыночное общество, проникновение логики рынка во все сферы человеческого бытия, придание экономизму характера тоталитарной идеологии – вот глубинные корни и причины победного шествия потребительства по современному миру. Потребительское общество обернулось тем, что люди в нем стали рассматриваться не столько как индивиды, стремящиеся все больше потреблять, сколько как одушевленные товары, желающие и покупать, и быть купленными одновременно.
Сегодня с потребительством как доминирующей системой организации жизни людей, определяющей алгоритм их поведения и ценностные установки, сопряжен целый комплекс сложных и трудноразрешимых проблем. Здесь и стремительное разрушение биосферы, и распад института семьи, и снижение рождаемости, и рост уровня преступности, и увеличение количества людей с избыточным весом, и захватывающие все новые слои и группы населения психические расстройства (прежде всего в форме депрессии), и растущий уровень употребления алкоголя, и, наконец, быстро возрастающее количество самоубийств. В действительности, как бы странно это ни было, расцвет потребительского общества имеет своей обратной стороной духовную деградацию и физическое вырождение населения самых богатых и, казалось бы, преуспевающих стран.
В конце первого десятилетия Нового века пандемия потребительства обернулась еще одним преломлением, способным в совокупности с целым рядом других факторов привести человечество к драматическим последствиям. Как обнаружилось, непосредственным поводом стремительно развернувшегося на нашей планете в 2008 г. глобального финансово-экономического кризиса стала многолетняя привычка граждан западных стран, и прежде всего США, жить в долг, постоянно брать кредиты с целью приобретения все новых и новых товаров. В конце концов практика опережающего потребления за счет кредитов и займов привела к потере платежеспособности и разорению в массовом масштабе. Тотальный невозврат кредитов побудил банки реализовывать залоговое имущество. В результате недвижимость упала в цене, а это вызвало цепную реакцию невозврата кредита по всей ипотечной пирамиде. Приведем некоторые факты. Начиная с 1970-х гг. во всех странах «Большой Семерки», а также Австралии и Канаде наблюдалась устойчивая тенденция к сокращению доли сбережений при одновременном неуклонном росте доли потребления граждан этих стран, которая все чаще начинала превышать 100 % от располагаемого ими дохода. Причем все это происходило при постоянном и довольно существенном росте доходов. Так, например, в 1980 г. норма потребления среднего американца составляла 92,1 % от общей доли доходов, но спустя 13 лет она увеличилась до 96 %, т. е. выросла на 2,9 %, а норма сбережения в эти годы упала с 7,9 % до 4 %, т. е. почти в 2 раза[44]. Описанная ситуация противоречит экономической теории, согласно которой рост потребления и рост дохода не совпадают, хотя рост потребления идет менее быстрыми темпами, поскольку большая часть дохода после удовлетворения естественных потребностей тратится на покупку дорогостоящих предметов длительного пользования и, следовательно, на некоторое время изымается из расходной части в сферу накопления. Однако в реальности произошли существенные изменения – после удовлетворения естественных потребностей жажда потребления не утихла, а возросла, о чем свидетельствуют статистические данные. Это обстоятельство говорит об изменении потребительского поведения, причину которого следует искать в трансформации сознания, в формировании соответствующей иерархии ценностей. По большому счету такая ситуация свидетельствует о наступлении новой эпохи символического потребления, эпохи манипулирования культурными кодами (символами), инициирующими потребительские психологические установки на потребление ради потребления. «В течение каких-то десятков лет всепроникающая телереклама создала целый мир разнузданного, не знающего удержу потребительства, где физические нужды граждан, ограниченные, казалось бы, самой природой, раздуты и доведены до абсурда столь же искусственно, сколь и искусно. Демон потребительства, втягивая в свой круговорот все большее число людей и ресурсов, заставляет «свободных граждан» участвовать в бешеной гонке по кругу до полного физического и морального истощения. Отсюда невиданная по масштабам пандемия сердечных и нервных болезней, резкое пополнение рядов душевнобольных и самоубийц. Отсюда и СПИД, который, как считают специалисты, напрямую связан с исчерпанием ресурсов организма из-за злоупотребления лекарствами и тониками. Но отсюда и питательная среда для коррупционеров, рэкетиров и прочих носителей анархии, когда разборки бандитов и терроризм становятся социальной нормой»[45].
Мы сталкиваемся с интересной метаморфозой: функциональное потребление, обусловленное производством, нацеленным на обеспечение надлежащих функциональных свойств вещи (на удовлетворение реальных потребностей человека), заменяется символическим потреблением, в котором функциональные свойства вещи отходят на второй план, становятся лишь средством обеспечения соответствующего имиджа товара, что обеспечивает потребителю возможность утверждать свой социальный статус[46]. В результате возникла ситуация абсолютного доминирования престижного потребления, сопровождающегося формированием целого мира искусственных, ложных и надуманных потребностей. Поведение потребителя в данном случае имеет сходство с поведением человека, страдающего разного рода маниями – к азартным играм, алкоголю или наркотикам. А это означает, что индустриальная (постиндустриальная) цивилизация Запада, придав престижному потреблению массовый характер и возведя его в ранг основного инстинкта человечества, вступила на опасный, даже катастрофический путь развития. Ибо процесс разрастания престижного потребления, в принципе не имеющего верхней границы, выступает как развитие по экспоненте (от лат. exponens – показывающий), уходящей в бесконечность, что на синергетическом языке может быть описано как выход современной цивилизации на режим с обострением, т. е., по существу, на режим сверхбыстрого нарастания кризисных явлений.
Огромные изменения произошли и в домашней экономике. Столетия женщина бескорыстно выполняла множество разнообразных сложных домашних обязанностей. Ни она сама, ни члены ее семьи даже не задумывались над тем, сколько бы это стоило в случае предъявления счета. Здесь имело место бескорыстие созидания, развитая способность к дарению. Долгое время не задумывалось о рыночной стоимости труда женщины и общество, эксплуатируя авторитарно-патриархальную мораль и традиционную жертвенность тех, кто по обычаю следовал этой морали. Сегодня женщины требуют включить все домашние заботы и дела в систему рыночного обмена. И это неудивительно. Логика развертывания рыночных отношений неизбежно должна была привести к этому.
Что же может произойти с обществом, если капитал доверия и бескорыстного дара, в течение всей истории человечества авансировавший любую профессиональную и общественную деятельность, вообще прекратит свою работу? Кто и что сможет компенсировать его бесценную значимость? Кто и как, например, будет осуществлять функции рождения и воспитания детей? В самом деле, можно ли без непредвиденных драматических последствий заменить бескорыстную семейную этику дара прагматикой меновой эквивалентности? В сущности, речь в данном случае идет о модернистской (постмодернистской) попытке заменить естественное искусственным, спонтанное – расчетливо умышленным.
Сегодня деградацию способности дарения мы наблюдаем и у представителей третьего возраста – пенсионеров. Подобно тому, как ныне молодежь бунтует против обязанностей взрослой жизни и отвергает тяготы репрессивной социализации, старики начинают потакать своему подсознательному, своим впечатлениям и желаниям, подавленным в период их профессиональной мобилизации.
Возможно, этот феномен был бы не столь трагичен по своим социальным последствиям, если бы он ограничивался только домашней экономикой. Обнаружилось немало симптомов того, что масштабный процесс массового дезертирства в полной мере захлестнул и саму индустриальную экономику.
Индустриальное общество добывало свой человеческий материал из недр деревенской (крестьянской) космоцентрической культуры. Однако активный субъект западноевропейской индустриализации «в основном выходец из деревни, несший в себе колоссальный заряд энергии и нерастраченной силы, питавших промышленность и другие виды деятельности, уступил место новому социальному типу – усредненному продукту городской массовой культуры. Новый тип человека – дитя общества потребления (цивилизации досуга), охваченный ныне широко распространенной в богатых странах болезнью, которую социологи назвали аномией и значение которой близко медицинскому термину «анемия», т. е. малокровие и безволие»[47]. Дефицит энергии – главная характеристика этого типа.
Человек индустриального общества перестает рожать детей, потому что ему не вполне ясны меновые перспективы этих демографических инвестиций. Его первая попытка состояла в том, чтобы переложить родительские тяготы на тех, кто еще сохранил архаичную способность дарения, – на представителей третьего возраста. Но по мере того как последние в свою очередь осваивают меновой тип мышления, ничего не дающий даром, демографическое производство оставляется растущим числом людей в качестве архаичной сферы, ускользающей от законов эквивалентного обмена. Повисает в воздухе и вся система образования, унаследованная от эпохи Просвещения. Дело в том, что лишь отдельные сегменты ее, способные давать быструю практическую отдачу, сохраняют смысл для людей, глухих к внеэкономическим импульсам.
Такова историческая плата за индустриализацию, раскрестьянивание, урбанизацию, потребительство, гедонизм и комфорт.
Глава 7 Политическая сфера общественной жизни
Статус единой целостной системы общество приобретает не стихийно, а посредством сознательно осуществляемой самоорганизации и устойчиво налаженного процесса управления общественными делами. Истории известны два типа организации общественной жизни: неполитический и политический. Первый присущ первобытно-родовому строю, в рамках которого не было еще социальной дифференциации людей по их интересам и устремлениям и жизнедеятельность которого поэтому строилась на принципах самоуправления, т. е. при активном и непосредственном участии всех взрослых членов общины в решении многообразных вопросов их совместной жизни и при неформальном лидерстве вождей и старейшин. Второй утверждается с появлением частной собственности и разделением общества на классы, отношения между которыми изначально имели антагонистический характер.
В условиях, когда интересы и цели образовавшихся классов и других социальных общностей превратились в имеющие разную направленность центробежные мотивационные силы, способные вызвать разрушение единой социальной ткани общества, потребовался особый род деятельности, специально предназначенный для регулирования отношений между социальными общностями с целью создания условий как для удовлетворения их интересов, так и сохранения и укрепления целостности социума.
Такой род деятельности получил название «политика». В повседневном словоупотреблении понятие политики может использоваться очень широко. Мы можем говорить о кадровой политике организации, о политике главы семьи в отношении других ее членов, о валютной политике банка и т. д. Однако в науках, которые политику делают своим предметом, это понятие используется в строго определенном категориальном значении. Под политикой в этом случае понимается вид рисковой (не гарантированной) коллективной деятельности в области властных отношений, участники которой пытаются изменить свой статус в обществе и перераспределить сферы влияния в контексте сложившихся исторических возможностей. В этом смысле можно сказать, что политика — это стремление к участию во власти (ее удержанию, использованию, захвату, ниспровержению) или к оказанию влияния на распределение власти между группами людей внутри государства или между государствами.
Для понимания сущности политики выделим ее важнейшие особенности. Во-первых, политика служит мощнейшим фактором объединения и разъединения людей по признаку их отношения к действующей власти. Тем самым в политической жизни формируются устойчивые и хорошо организованные группы, стремящиеся определенным образом поучаствовать во власти. Особенно важно для понимания политики, что каждая из противоборствующих групп стремится представить свой интерес как всеобщий (выразить его в общей форме), а поэтому пытается убедить всех в этом или даже принудительно навязать эти свои интересы обществу, используя нередко силовые или манипулятивные методы воздействия на людей. Во-вторых, политика – это не только теоретические представления о государстве и власти, но и практические действия по ее использованию в определенных целях. Это означает, что политика – сложное и ответственное дело, ей должны заниматься люди, имеющие соответствующую подготовку и высокий уровень духовного развития.
Центральное место в политике занимает проблема власти. Именно посредством власти в обществе устанавливаются и воспроизводятся политические отношения. Ее значение настолько велико, а сущность настолько сложна, что целые поколения мыслителей на протяжении многих столетий пытались постичь те глубины, в которых укоренена власть, понять причины ее привлекательности и в то же время ее губительность. В марксистской философии было предложено социально-экономическое объяснение природы власти: она возникла вместе с частной собственностью, классовым неравенством, эксплуатацией и государством. Но неравенство – категория не только социологическая, но и антропологическая и даже онтологическая. Неравенство было бы неверно понимать как исторически преходящее состояние, имеющее культурно-исторические причины своего возникновения и последующего отрицания. Скорее, неравенство является изначальным состоянием человеческого общества, что во многом определяет его динамику. Так, например, продуктивность экономического обмена базируется на индивидуальных различиях субъектов хозяйства, неравенство социальных групп приводит к изменению социальной системы в целом. Неравенство статусов известно не только среди людей, но и среди животных. Этологи (ученые, изучающие поведение животных) убедительно свидетельствуют об иерархической природе биологических сообществ. Тем самым неравенство есть универсальная характеристика живого, и, значит, власть укоренена гораздо глубже, нежели полагали марксистские теоретики. Что означает выражение «А имеет власть над Б»? Это значит, во-первых, что влияние А на Б выше, чем влияние Б на А, во-вторых, что поведение Б для А более предсказуемо, чем поведение А для Б. Как мы увидим ниже, властные отношения между А и Б при этом увеличивают взаимную предсказуемость и упорядоченность их поведения. Таким образом, власть есть средство борьбы с неопределенностью и хаосом, один из ответов человека на космический вызов хаоса.
Асимметрия влияний всюду сопутствует нам: в семье, в отношениях между друзьями и возлюбленными, не говоря уже о служебных и собственно политических отношениях. Более того, человеку необходима и власть над самим собой. Благодаря достижениям психоанализа, структурной антропологии, философии постструктурализма давно уже развенчан миф эпохи Просвещения, раннего романтизма и сентиментализма о благостной природе человека, которую портит несправедливо устроенное общество. В современных изысканиях человек выступает как существо амбивалентное, носящее в себе разнородные начала, способное устремляться как к Добру, так и к Злу. В свое время, отвечая А.П. Чехову («Человек рожден для счастья, как птица для полета»), Н. Бердяев заметил, что человек – существо трагическое, стремящееся к страданию, к самоценной драматургии бытия. Власть в этом смысле является способом подавления человеком некоторых иррациональных сил своей души, механизмом личностного развития.
Говоря о власти, нельзя не обратить внимание на те результаты, которые получил в ходе своих размышлений немецкий философ Фридрих Ницше (1844–1900). Он сделал проблему власти ключевой проблемой своих интеллектуальных изысканий. «Что есть счастье? – Чувство растущей власти, чувство преодолеваемого противодействия, не удовлетворенность, но стремление к власти, не мир вообще, но война, не добродетель, но полнота способностей (добродетель в стиле Ренессанса, verte, добродетель, свободная от моралина)…»[48]. Ф. Ницше провел языческую эстетизацию власти и проницательно указал на то, что власть из средства очень легко превращается в самоцель, становится высшей страстью человека, средоточием его помыслов. Но наиболее полно и глубоко диалектику власти, ее иррациональные глубины и метафизическую природу раскрыл Ф.М. Достоевский в «Легенде о Великом инквизиторе». «Мы исправили подвиг Твой (Христа, подарившего человеку автоно-мию духа – свободу. —Авт.) и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели, как стадо, и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки… Ты бы мог еще и тогда взять меч Кесаря… Ты вспомнил бы все, чего ищет человек на земле, то есть: перед кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный, общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей… Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения… Самые мучительные тайны их совести – все, понесут они нам, и мы все разрешим, и они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны»[49]. Достоевский проникновенно изображает жажду абсолютной власти, показывает условия и предпосылки ее обретения. Таким образом, именно в политике бушуют наиболее сильные страсти, проявляются яркие характеры, обнаруживается готовность к борьбе и риску, ибо в политической деятельности люди перераспределяют один из важнейших ресурсов своей жизни – власть.
В научной литературе сложилось несколько крупных подходов к пониманию проблемы политической власти. Так, сторонники бихевиористского (от англ, behavior – поведение) подхода понимают власть как тип поведения, направленный на изменение активности других людей. В рамках телеологического подхода власть рассматривается как способ достижения определенных целей, значимых для человека или группы. С этой позиции власть – это способность одного субъекта навязать свои цели другим субъектам. Так, например, полагает американский экономист Джон Кеннет Гэлбрейт (1908–2006). Инструменталистский подход трактует власть как возможность использования определенных средств, например насилия для достижения какого-либо результата. К. Маркс и Ф. Энгельс в своем «Манифесте Коммунистической партии» именно в этом теоретическом ключе говорят о власти как организованном насилии одного класса над другим. М. Вебер по существу развил марксистское понимание власти, когда писал, что власть – это возможность лидера осуществлять свою волю вопреки сопротивлению тех, кого это затрагивает. Сторонники структурно-функционального подхода утверждают, что власть – это качество не человека, а системы социальных отношений, в которых с необходимостью возникают статусы управляющих и подчиненных, власть имущих и бесправных.
Любое понимание природы власти предполагает постановку вопроса о ее субъекте. В современных работах по этому вопросу особое значение придается элите и сформировано целое направление анализа ее деятельности – теория элит. Ее наиболее видными представителями являются Вильфредо Парето (1848–1923), Гаэтана Моска (1858–1941), Чарльз Райт Миллс (1916–1962). Сущность теории элит сводится к тому, что власть везде и всегда принадлежит меньшинству – особой отличной от всей массы народа, избранной группе людей. Это правящее меньшинство они называют господствующим классом или элитой. Классики данной теории выдвинули много интересных идей о составе и способах формирования элитных групп, отношений между ними, качественных признаках элитарнее. Но, с нашей точки зрения, сегодня самой важной проблемой является связь между элитой и народом, а также характеристики системы ценностей элиты.
Если говорить о тенденциях развития элиты большинства постсоветских стран, то следует особо подчеркнуть, что именно в ходе современных реформ, осуществляемых на основе идеологии неолиберального фундаментализма (который, кстати сказать, ничуть не лучше исламского фундаментализма), оторванность верхов (элиты) от народа беспрецедентно усилилась. С началом всеобщего распространения новейших информационных технологий (формированием информационного общества), давших старт глобализации, в этом процессе обнаружились принципиально новые измерения. Возникшие глобальные информационные поля оказались способными действовать на сознание людей поверх государственных границ, создавать возможность манипуляции сознанием в планетарном масштабе. И что здесь удивительно: первыми жертвами этих открывшихся новых информационных возможностей явились элиты народов, отставших в своем развитии от стран-гегемонов – лидеров глобализации. Современным глобалистским структурам нет нужды воздействовать на сознание всего населения той или иной страны с целью формирования у него нужных для этих структур установок и ориентиров. Достаточным оказывается значительно более простой и менее затратный вариант: добиться желаемого поведения общества воздействием не на все его слои, а на сознание его элиты. На практике посредством данного воздействия транснациональные структуры и институты, концентрирующие в своих руках колоссальные ресурсы, международные финансовые и, что очень важно, коммуникативные сети, получили возможность с очевидно растущей легкостью подчинять себе национальные правительства, которые в силу этого перестают быть, по сути дела, национальными, что хорошо сегодня видно на примере некоторых государств Латинской Америки и стран СНГ и России. Подвергшись форсированной обработке сознания (формы здесь могут быть самые разные), элита начинает по-иному, чем возглавляемое ею общество, мыслить, исповедовать другие мировоззренческие ценности, иначе воспринимать окружающий мир и реагировать на него. Оторвавшаяся от общества элита утрачивает не только свою эффективность, но и свою общественно полезную функцию. Причем такая ситуация, возникшая в обществе, уничтожает сам смысл демократии, поскольку исходящие от общества импульсы, представления и идеи просто не воспринимаются элитой (она живет в другом мире). Соответственно народ до очередного социального катаклизма перестает влиять на осуществляемый выбор направления развития и принятия решений. «В результате потенциал демократии съеживается до совершенно незначительных размеров самой элиты. С какой скоростью и насколько при этом незаметно для общества протекает данный процесс, наглядно демонстрирует пример нашей страны (России. – Авт.), в которой «демократы» уже к 1998 г., т. е. за семь лет своего господства, оторвались от народа значительно сильнее, чем коммунисты – за семьдесят лет своего»[50].
«Дезертирство элит» (выражение А.С. Панарина) в нашу эпоху – явление сложное, многоаспектное. Но в любом случае оно не только естественно историческое, спонтанное, а вполне сознательно инспирируется и проводится в жизнь. Достаточно сказать, что в современных западных странах, прежде всего в США, действует немало «аналитических институтов», «мозговых трестов», «мозговых центров», направленных на идеологическое программирование сознания элит стран мировой периферии с целью установления нового мирового порядка. Задача всех этих центров и трестов – научить местные элиты смотреть на национальную политику через призму глобального подхода, по сути дела, сориентировать их исключительно на обслуживание интересов наиболее развитых стран современности. Будучи мощными генераторами идеологии, данные аналитические институты «создают тонким и опосредованным образом мировоззренческие аксиомы для посвященных и стереотипы для профанов»[51], разворачивают активную деятельность, подменяющую и дополняющую работу дипломатии и идеологической разведки США и западноевропейских государств. Наиболее ярким воплощением этих институтов, трестов и центров является Совет по внешним сношениям в США. Многие эксперты полагают, что как центр принятия решения Совет по внешним сношениям стоит над администрацией США[52].
Еще одной значимой проблемой политической философии, а по существу ее центральной проблемой является вопрос о государстве, его источниках и значении в общественной жизни. Сложились десятки подходов к пониманию государства, причем разные мыслители могут оценивать его значение диаметрально противоположно. Так, Г. Гегель считал государство «земным божеством», а Ф. Ницше – «холодным чудовищем», анархисты требовали его упразднения, а Т. Гоббс и Г. Гегель отстаивали мысль о вечности государства и его непреходящем значении в жизни человека. Философами, политологами и го-сударствоведами было создано много теоретических моделей государства. Выделим несколько из них. Исторически первой была органическая теория государства. Ее родоначальником является Аристотель, который считал, что государство – это многоединство составляющих его людей, граждан. Поскольку люди необходимы друг другу для обеспечения жизнедеятельности каждого, то и государство как единство всех становится органически необходимым людям для упорядочения их жизни и отношений между ними. Обновленная версия органического подхода была предложена в XIX в. английским социологом Гербертом Спенсером (1820–1903). Он выдвинул теорию о глубоком родстве биологического и государственного организмов, проводя аналогию между клетками тела и индивидами как элементарными частицами государства. Г. Спенсер и другие сторонники органического подхода пытались установить общность функционирования и развития органов тела и государственных органов. Например, они рассуждали о транспорте как о кровеносной системе государства, о правительстве как о мозге и т. д. В своих работах сторонники этой теории много места уделяли проблеме болезней и смерти государственного организма.
Еще одной теорией возникновения государства, пользующейся значительной популярностью, является теория общественного договора. Ее авторы – Т. Гоббс, Джон Локк (1632–1704), Ж-Ж. Руссо. Согласно мыслителям общество, будучи агрегатом разных индивидов, не может существовать без власти, и с этим согласны все люди. Именно факт согласия людей по поводу необходимости власти и лежит в основе государства, ибо преодолеть войну всех против всех можно лишь путем проведения общей воли, выраженной в государственной власти. Согласно Т. Гоббсу люди не способны руководить собой, живя по естественным законам природы, и поэтому необходима внешняя сила, которая бы обеспечила безопасность и спокойное существование всех. Конкретный механизм формирования государства ни один из теоретиков общественного договора не рассмотрел. Тем не менее они показали, что государственная власть опирается не только на авторитет и принуждение, но и на волю подчиненных (их согласие и одобрение). Иначе говоря, государственная власть должна осуществлять общую волю людей в обществе. Конечно, воззрение на государство как на продукт соглашения между людьми не согласуется с историческими данными, но многие ученые и политики рассматривают общественный договор в качестве идеала, к которому должно стремиться и идти реальное государство, чтобы учитывать и претворять в жизнь индивидуальные интересы как можно большего числа своих граждан.
Более обоснованную и теоретически зрелую концепцию государства предложил немецкий философ Г Гегель. С его точки зрения, государство – это основа и средоточие конкретных сторон народной жизни: права, искусства, нравов, религии, и потому оно – форма ее общности. Государство в полной мере представляет народ потому, что в его основе лежит дух народа. Это значит, что государство – такое объединение, которое обладает всеобщей силой, ибо в своем содержании и цели несет общность духа. В рамках же гражданского общества никакой общности нет, так как там человек выступает как изолированный индивид, стремящийся к удовлетворению своих приватных потребностей. Гражданское общество значительно уступает государству по своей значимости, так как в последнем личность выступает как всеобщий субъект, несущий универсальные качества человека. Тем самым Гегель еще более последовательно, чем теоретики общественного договора, разводит государство как область всеобщих интересов людей и гражданское общество как область проявления частных интересов и целей индивидов. Он считал, если смешивать государство с гражданским обществом и полагать назначение государства в обеспечении и защите собственности и личной свободы, то это значит признавать интерес единичных людей как таковых окончательной целью, для которой они соединены. Следствием такого признания может стать ситуация, когда каждый сугубо произвольно станет определять, быть или не быть ему членом государства. Государство, подчеркивал Гегель, – это объективный дух, а следовательно, и сам индивидуум постольку объективен, истинен и нравствен, поскольку он есть член государства.
Марксизм развивает антииндивидуалистический подход к пониманию государства, предложенный Гегелем. Но он принципиально не согласен с тем, что государство выражает дух нации в целом. Государство навязано обществу, и оно есть продукт непримиримости классовых противоречий. Источником государства является разделение общества на антагонистические классы, и поэтому оно никакая не общая воля, а машина для подавления одного класса другим. Дело в том, что на ранних этапах развития общества произошло выделение экономически господствующей группы людей, которая искала способ перевести свое экономическое господство в политическое. Методом реализации политической власти со стороны правящего класса является насилие и только насилие. Государство никогда не существует для умиротворения классов, а только для подавления одного класса другим.
В марксистской теории много места уделяется вопросам развития государства. Большая заслуга Маркса состоит в том, что он впервые рассмотрел государство с позиций историзма, т. е. не как вечный и неизменный феномен, а как социальное образование, имеющее свое начало и обреченное на слом в результате социалистической революции. Марксисты очень любили цитировать Энгельса: «Общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит государственную машину туда, где ей будет настоящее место: в музей древностей, рядом с прялкой и бронзовым топором». Такая постановка вопроса, конечно, является сильным преувеличением, но поскольку она признает, что государство способно меняться, имеет под собой некоторые основания.
Глава 8 Духовная жизнь общества. Общественное сознание
Духовная сфера жизни общества – самая сложная. В общей структуре социума она образует высший уровень и в то же время пронизывает собой содержание всех остальных уровней, ибо в обществе ничего не происходит без участия духовно-интеллектуальных сил людей. Более того, именно в процессе духовного производства формируется «идеальный план» любой другой человеческой деятельности.
Духовная сфера социальной системы в качестве своих важнейших элементов имеет духовное производство, духовные потребности, духовное потребление и общение. Но поскольку в духовном потреблении и общении происходит как воспроизведение, так и создание духовных ценностей, понятия «духовное производство» и «духовная сфера» можно считать не только рядоположными, но и по своей сути тождественными. Будучи процессом, духовное производство, опредмечиваясь, приобретает статус реальной действительности в виде духовной культуры.
Духовное производство есть создание ценностей духовной культуры на основе развертывания духовной деятельности и связанного с ней комплекса соответствующих отношений людей. В зависимости от характера духовной деятельности и ее направленности на созидание тех или иных духовных ценностей духовное производство дифференцируется на ряд видов: философское, научное, идеологическое, нравственное, художественное, религиозное. Субъектами каждого из них являются как отдельные индивиды и их группы, так и общество в целом. Конечным продуктом духовного производства как определенного вида человеческой деятельности являются знания и идеальные образы, опредмеченные в вещах духовной культуры и реализованные в нравственных, эстетических, религиозных, научных, правовых, политических общественных отношениях и в соответствующих социальных институтах.
Понятие «духовное производство» в большей мере подчеркивает процессуальный характер духовной сферы, что в определенных контекстах является совершенно оправданным. Но не менее значимым аспектом этого социального феномена является его непосредственное присутствие в общественной жизни, или, другими словами, факт наличного бытия идеального в жизнедеятельности социума. Если с помощью понятия духовного производства удается воспроизвести духовную жизнь общества во всех ее предметных воплощениях и общественных отношениях, то понятие общественного сознания направлено лишь на постижение этой жизни как наличного бытия идеального. Поэтому первое понятие шире второго. Можно сказать, что общественное сознание – это духовное производство, но взятое в аспекте его сущности. Оно представляет собой духовную деятельность социума, направленную на познавательное отражение в виде идеальных образов существенных характеристик общественного бытия и всей реальной действительности.
Исходя из вышесказанного, дадим определение данной категории. Общественное сознание — это совокупность политических, правовых, нравственных, религиозных, эстетических, философских идей и представлений людей на определенном этапе развития общества, иными словами, общественное сознание есть понимание действительности обществом в целом, классом, социальной группой и отношение к ней в соответствии с этим пониманием. Общественное сознание обладает сложной структурой и различными уровнями, начиная с житейского, обыденного, от общественной психологии и кончая математически выраженными законами, входящими в состав достоверного теоретического знания. Принципиально важно отметить, что когда говорят об общественном сознании, то отвлекаются от всего индивидуального и берут взгляды, характерные для всего общества в целом, т. е. берут такое сознание, которое никому в отдельности не принадлежит.
Но здесь правомерно поставить вопрос: Откуда берется общественное сознание? Ведь общество состоит из людей, обладающих своим, глубоко индивидуальным сознанием, которое весьма трудно поддается какой-либо типизации. Общественное сознание действительно не существует вне конкретных его носителей, вне живых личностей, так же как нет истории без действующих в ней людей. Общественное сознание может существовать только в индивидуальном и через индивидуальное, так как сознание является сознанием отдельного человека, психической деятельностью личности.
Причем индивидуальное сознание есть нечто личное. Оно составляет достояние отдельного человека, выступает как деятельность его мозга, несет на себе печать его личности, особых черт его характера; рождается, развивается и умирает вместе с рождением, развитием и смертью отдельного человека; выражает неповторимые черты жизненного пути каждого отдельного человека, особенности его воспитания, характера и т. д. Короче, сколько людей на земле, столько и индивидуальных сознаний. И в то же самое время «сознание с самого начала есть общественный продукт и остается им, пока вообще остаются люди»[53]. Налицо противоречие, которое необходимо разрешить.
Дело в том, что сознание каждого человека вбирает в себя опыт, знания, убеждения, верования, заблуждения, оценки той общественной среды, в которой он живет. Наука, искусство, религия, политические убеждения, нравственные нормы в той форме, в какой они существуют в данном обществе, изо дня в день действуют на личность, делают из каждого отдельного человека носителя определенного образа жизни, уровня культуры и психологии. Получается, что процесс осознания мира отдельным человеком всесторонне обусловлен развитием познания мира всем человечеством. Новорожденный ребенок вообще никаким сознанием не обладает, сознание у него появляется потом, в результате учебы, общения с окружающими и т. д. Этот новорожденный, таким образом, постепенно усваивает исторически достигнутый уровень развития именно общественного сознания.
Стало быть, общественное сознание оказывается чем-то большим, нежели просто индивидуальное сознание. Уровень развития общественного сознания есть всегда уровень, достигнутый всем человечеством. Причем все богатство общественного сознания зафиксировано в языке, который не является личным достоянием отдельного человека, а принадлежит всему обществу. Отдельный человек, даже тогда, когда он наедине с самим собой размышляет в своем кабинете или комнате, всегда использует те инструменты мысли, слова, понятия, категории, которые выработало все человечество.
Однако говоря об общественном сознании как принадлежащем всему обществу в целом и никому в частности, неправомерно было бы утверждать, что это сознание есть просто арифметическая сумма индивидуальных сознаний, или что оно витает независимо от сознания отдельных личностей. Подобно тому, как общество не есть простая сумма составляющих его людей, так и общественное сознание не есть сумма сознаний отдельных личностей. Оно есть нечто большее – особая духовная система, которая живет своей относительно самостоятельной жизнью и влияет на каждого человека, заставляя его считаться с исторически сложившимися нормами как с чем-то объективным, хотя и нематериальным. Общественное сознание как бы поднимается над индивидуальным сознанием. Его носителем являются классы и социальные группы. Общественное сознание прямо или опосредованно создается, конечно, отдельными людьми, но оно выходит из-под их власти и становится достоянием всего общества. Тем самым между общественным и индивидуальным существует диалектическая связь, связь различия и единства.
Социально выработанные нормы сознания питают индивидуальное мышление, служат предметом личных убеждений, источником нравственных предписаний, эстетических чувств и представлений. Общественное сознание воздействует на индивидуальное через массовые средства информации, систему образования и воспитания, духовную жизнь коллектива. Оно обслуживает потребность общества как целого. Вот почему общественное сознание должно, во-первых, соответствовать уровню развития потребностей и, во-вторых, быть доступным для пользования всеми людьми. Ни то, ни другое не обязательно для индивидуального сознания, которое обслуживает потребности отдельного человека, служит руководством в его деятельности и поступках.
В отдельных областях общественного сознания индивид может подняться выше достигнутого уровня. Делая свои открытия общим достоянием, он обогащает общественное сознание. В этом случае вопрос о том, воспринимает общество эти открытия или нет, определяется уровнем общественного развития. Открытия, сделанные индивидом, нередко расходятся с общепринятыми положениями, ставшими достоянием общественного сознания. Сколько усилий и жертв потребовалось для того, чтобы в науке утвердились гелиоцентрическая система Н. Коперника, идеи М.В. Ломоносова, теория Н.И. Вавилова и т. д. При этом потребности общественного развития отражали именно эти теории, а не взгляды большинства их противников.
Кроме этого, не все идеи составляют достояние истории. В сознании людей возникает немало идей, которые остаются личным достоянием и не приобретают общественного характера. Но те идеи, которым удалось выйти за пределы личного существования отдельного человека, приобретают надиндивидуальный характер, превращаются в нормы поведения всех, двигают исторический прогресс. Именно такую роль и сыграли открытия И. Ньютона, творения В. Шекспира, Ф.М. Достоевского и др. В приведенных примерах индивидуальное сознание является прогрессивной стороной, а общественное сознание, наоборот, реакционной, консервативной стороной. Но может иметь место и обратное явление.
Рассмотрение сущности общественного сознания предполагает постановку вопроса о движущих силах его развития. Учитывая то обстоятельство, что данная проблема была наиболее основательно проработана в марксистской философии, рассмотрим современные результаты ее осмысления. Согласно марксистской теории общественное сознание не имеет абсолютно самостоятельного определения. Понять сущность и социальную роль общественного сознания можно лишь в соотношении с противоположным понятием «общественное бытие». В историческом материализме понятие общественного бытия выработано для обозначения совокупности материальных явлений общественной жизни, а понятие общественного сознания – для обозначения всей совокупности духовных явлений общества. В этих понятиях конкретизируется материальная и духовная жизнь общества.
Общественное бытие включает деятельность людей, направленную на создание необходимых для жизни материальных благ – пищи, одежды, жилищ, средств передвижения и т. д. Оно составляет прежде всего отношения между людьми, возникающие в процессе производства и распределения материальных благ, т. е. производственные отношения. Таким образом, общественное бытие — это вся совокупность материальных отношений, в рамках которых протекает реальный процесс жизни людей, вся совокупность общественных, материальных условий их существования. Или иначе, общественное бытие – это совокупная материальная жизнь людей, охватывающая производственную определяющую и обусловленную ею непроизводственную социально-практическую предметную деятельность людей и соответствующие ей общественные отношения как способ бытия этой деятельности, находящие свое отражение и осмысление в общественном сознании.
Важно отметить, что различение общественного бытия и общественного сознания носит относительный и несколько условный характер. Очевидно, что общественное бытие есть деятельность людей, обладающих сознанием, и оно имманентно их человеческой природе, составляет ее внутреннее содержание. Маркс и Энгельс не считали необходимым специальное разъяснение термина «общественное бытие», поскольку обозначали им общественную жизнь, общество. Это недвусмысленно утверждается в работе «Немецкая идеология», в которой мы читаем: «Сознание (das Bewusstsein) никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием (das bewusste Sein), а бытие людей есть реальный процесс их жизни». Далее, развивая цитируемое положение, основоположники марксизма указывают: «Мы исходим не из того, что люди говорят, представляют себе, мы исходим также не из существующих только на словах, мыслимых, воображаемых, представляемых людей; для нас исходной точкой являются действительно деятельные люди, и из их действительного жизненного процесса мы выводим также и развитие идеологических отражений и отзвуков этого жизненного процесса».[54] Но если сознание выводится из общественного бытия, то это возможно лишь потому, что оно внутренне присуще ему, находится внутри него как духовная составляющая. Тем самым общественное бытие определяет общественное сознание подобно тому, как целое определяет все то, что составляет его слагаемые.
Мысль о том, что общественное бытие (общественная жизнь) включает и общественное сознание (духовную жизнь общества), которую оно определяет, обнаруживает себя и в конкретных исследованиях К. Маркса и Ф. Энгельса. Так, характеризуя возникновение и развитие классового общества, Энгельс пишет: «Низкая алчность была движущей силой цивилизации с ее первого до сегодняшнего дня; богатство, еще раз богатство и трижды богатство, богатство не общества, а вот этого отдельного жалкого индивида, было ее единственной определяющей страстью»[55]. Очевидно, что здесь речь идет не только о сознании, но о всей полноте общественной жизни классового общества.
Закономерно возникает вопрос: В каком отношении находятся общественное бытие, вся совокупность общественных отношений и производство материальных благ, которое, разумеется, не находится вне общественного бытия, т. е. общественной жизни? Согласно учению Маркса и Энгельса общественное бытие (общественная жизнь) обусловлено общественным производством. Исторически определенный способ производства – сочетание производительных сил и производственных отношений обусловливает все другие стороны общественной жизни. При этом производительные силы определяют производственные отношения, а совокупность последних составляет экономическую структуру общества, или экономический базис, который, как доказывают основоположники марксизма, определяет правовую и политическую надстройку общества, а также формы общественного сознания, в частности религию, философию, моральные и эстетические воззрения. По словам Ф. Энгельса, «экономическая структура общества каждой данной эпохи образует ту реальную основу, из которой и объясняется в конечном счете вся надстройка, состоящая из правовых и политических учреждений, равно как и из религиозных, философских и иных воззрений каждого данного исторического периода»[56].
Аргументируя этот общий тезис, К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали, что люди для того, чтобы иметь возможность мыслить, а тем более заниматься духовным и творчеством, должны, как минимум, удовлетворять материальные потребности, без которых сама человеческая жизнь невозможна. Отсюда, по их мнению, ясно, что основой исторического развития является не производство идей, а производство материальных благ. В своей истории люди начинают трудиться не для того, чтобы мыслить, а мыслить для того, чтобы трудиться, т. е. для того, чтобы удовлетворять свои насущные потребности. Таким образом, фундаментом, исходным пунктом исторического развития являются не общественные взгляды и идеи людей, а те отношения между людьми, которые возникают в процессе производства материальных благ, в труде.
Положение об определяющей роли общественного бытия по отношению к общественному сознанию иногда воспринимается с трудом: ведь любому делу предшествует мысль, т. е. прежде чем создать что-либо в реальности, люди сначала создают это в своей голове, идеально. Опираясь на этот неоспоримый факт, в философии сложилось довольно влиятельное направление, которое пытается объяснить общественное бытие исходя из общественного сознания, толковать общественное сознание как первичное, а общественное бытие как вторичное. Такое направление получило название «идеализм».
Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо рассмотреть историю становления общественного сознания. В первобытном обществе, как известно, не было профессий, все делали все, что вообще люди могли тогда делать, – охотиться, собирать коренья, плоды и т. д. Труд в этой ситуации носил нерасчлененный характер. Соответственно этому и сознание людей было не дифференцированным, нерасчлененным. Не было людей, которые профессионально занимались бы искусством или отправлением религиозных культов. «Производство идей, представлений, сознания, – писали Маркс и Энгельс, – первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни»[57].
В первобытном обществе все элементы общественного сознания – религиозные представления, искусство, система различных запретов, зачатки знаний были не только не различны между собой, слиты в единое синкретическое целое, но и находились в непосредственной связи с трудовой деятельностью. Например, первобытное искусство (различные ритуальные танцы, наскальные рисунки, магическая охота и т. д.) выступало как дополнение и обеспечение действительной охоты, как психологическая подготовка к этой охоте (внушение, самовнушение) и являлось необходимым моментом реальной трудовой деятельности.
Однако по мере развития трудовой деятельности, возникновения прибавочного продукта, разделения труда, и прежде всего разделения труда на умственный и физический, из всего комплекса единого, нерасчлененного, мифологически-религиозного сознания первобытных людей начинают выделяться отдельные самостоятельные области, которые постепенно стали превращаться в особые формы общественного сознания (политические, правовые, эстетические, нравственные и философско-научные идеи и виды духовного производства). Важно отметить, что стоило только появиться отдельным сферам трудовой деятельности, как сразу же появились и отдельные области общественного сознания. Например, как только развитие и разделение труда привело к возникновению частной собственности, классов и государства, с необходимостью выделяются и новые отношения между людьми – политические и правовые. Эти отношения так или иначе осознаются людьми. Соответственно возникают новые самостоятельные формы общественного сознания – политическое и правовое сознание. Энгельс иллюстрирует этот исторический факт: «Как только становится необходимым новое разделение труда, создающее профессиональных юристов, открывается опять-таки новая самостоятельная область…»[58].
Таким образом, каждая форма общественного сознания вызывается к жизни определенными общественными потребностями, вытекающими в конечном счете из развития материального производства. Этим также обусловлено и то, что одни формы общественного сознания появились раньше, а другие позже. Если для обеспечения материальной жизни первобытного общества было достаточно трех неразрывно связанных между собой форм общественного сознания – морали, религии и искусства, то для обеспечения жизнедеятельности классового общества появилась необходимость в новых формах общественного сознания, таких как политическое и правовое, ведь политическое и правовое сознание отражают отношения между классами. Скажем, философское и научное сознание могло возникнуть тоже только тогда, когда для обеспечения производственной деятельности и общественной жизни оказалось недостаточно обычного повседневного опыта. Тогда собственно и появляется группа лиц, профессионально занимающихся научной теоретической деятельностью.
Возникновение частной собственности, классов и государства оказывает чрезвычайно важное влияние на общественное сознание и в другом отношении: в классовом обществе общественное сознание приобретает неизбежно классовый характер. Коль скоро в основе деления общества на классы лежит разделение труда, то первым же следствием деления общества на классы и социальные группы с различным местом в процессе материального производства было и деление в сфере общественного сознания. Единое, первоначально нерасчлененное общественное сознание первобытных людей теперь распадается на различные, противоположные сознания борющихся классов. Это и понятно: различные условия материальной и духовной жизни социальных классов привели к различиям в мышлении и чувствах лиц, принадлежащих к разным классам. Антагонизм в материальной основе общества породил антагонизм и в общественном сознании. С тех пор история классовых обществ движется не только в форме материального и физического столкновения между противоположными классами и их интересами, но также в форме борьбы между противоположными чувствами и идеями противоположных классов, различными классовыми идеологиями.
Однако отражение общественным сознанием общественного бытия не есть непосредственный, механический акт. Если бы это было так, то мы марксистскую концепцию сознания вынуждены были бы просто отнести к вульгарному материализму. Будучи отражением, общественное сознание, тем не менее, в своем развитии обладает известной относительной самостоятельностью. Эта самостоятельность общественного сознания проявляется, во-первых, в опосредованности отражения, которая выражается во взаимодействии различных форм общественного сознания; во-вторых, в преемственности развития идей и во взаимодействии духовных культур различных стран, в так называемом переносе культур; в-третьих, в отставании общественного сознания от общественного бытия, в постепенности и частичности отражения; в-четвертых, в опережении общественным сознанием общественного бытия.
Рассмотрим данные параметры относительно самостоятельности общественного сознания.
1. Определяющая роль общественного бытия не является непосредственной для всех форм общественного сознания, а осуществляется через промежуточные звенья. Например, если мы возьмем все формы общественного сознания (политические, правовые, нравственные, эстетические, религиозные, философско-научные представления и идеи), то увидим, что поли-тически-правовое сознание ближе всего стоит к общественному бытию и непосредственно его отражает. Другие же формы общественного сознания, скажем философия, искусство, религия, отражают общественное бытие опосредованно, а именно через эти политические, правовые взгляды и отношения. Один и тот же экономический факт, к примеру эксплуатация и ростовщичество, отражается, с одной стороны, непосредственно в праве, экономической теории и морали, а с другой – опосредованно через эти непосредственные отражения – в других формах общественного сознания, например в литературе. Отражение одного явления в одних формах общественного сознания (право, политика) становится предметом отражения в других формах общественного сознания (наука, искусство), т. е. само отражение начинает отражаться, простое, непосредственное отражение превращается в цепное, серийное и взаимное.
Итальянский марксист Антонио Лабриола верно заметил, что смысл содержания «Божественной комедии» Данте нельзя объяснить непосредственно из-за особенностей флорентийской мануфактуры, а можно объяснить лишь опосредованно – путем анализа идей, чувств и политической борьбы, т. е. совокупного общественного состояния, выросшего на экономическом базисе, для которого эта мануфактура была только характерным элементом и показателем. Подобное писал Плеханов о живописи Давида, а именно, что ее невозможно непосредственно вывести из экономики, а следует выводить из классовой борьбы и классовой идеологии и психологии, которые порождены этой экономикой.
2. Относительная самостоятельность общественного сознания проявляется и в преемственности духовного развития человечества. Общественные идеи и теории в каждую новую эпоху не возникают на пустом месте. Они разрабатываются на основе идейного материала предыдущих эпох, под воздействием предшествующих этапов идейного развития и преемственной связи с ними. Так складывается непрерывная линия идеологического развития во всех областях общественного сознания – в философии, искусстве, морали и т. д. «Исторический идеолог, – писал Ф. Энгельс, – располагает в области каждой науки известным материалом, который образовался самостоятельно из мышления прошлых поколений и прошел самостоятельный, свой собственный путь развития в мозгу этих следующих одно за другим поколений»[59]. В другом месте Ф. Энгельс пишет: «…Раз возникнув, всякая идеология развивается в связи со всей совокупностью существующих представлений, подвергая их дальнейшей переработке»[60]. Отсюда ясно, что расцвет в развитии идей, и наоборот, упадок в этом развитии могут легко не совпадать с периодами экономического подъема и упадка. Например, расцвет немецкой культуры XVIII – первой половины XIX в. пришелся на период материального унижения Германии, выразившегося в экономической отсталости и политической раздробленности и усугубленного поражением во франко-прусской войне. Однако немецкий народ, несомненно, находящийся в ряду великих народов, развил огромную компенсаторную активность и смог преодолеть свое материальное унижение мощнейшим прорывом в сфере духа. На это время приходится расцвет немецкой классической философии и литературы, крупные достижения в области музыкального искусства и т. д.
3. Кроме этого, в развитии общественного сознания во все периоды истории наблюдается неравномерность. Неравномерность эта проявляется в следующем. В каждую историческую эпоху та или иная форма общественного сознания начинает задавать тон всей духовной жизни вообще. Например, в античной Греции в V в. до н. э. особенно большую роль в общественном сознании играли философия и искусство (театр, скульптура, архитектура). В средневековой Европе верховенство взяла религиозная форма общественного сознания. Именно она тогда оказывала преобладающее влияние на философию, мораль, искусство, политические и правовые воззрения. В условиях капиталистического общества на первый план выдвигаются научная философия, политические и юридические теории и взгляды. Неравномерность развития общественного сознания также подтверждает факт его относительной самостоятельности по отношению к общественному бытию.
4. Далее, относительная самостоятельность общественного сознания выражается и в том, что оно в своем развитии может отставать и отстает от общественного бытия, т. е. в материальных условиях общества могут произойти многочисленные и огромные изменения, и в то же время эти изменения могут не сразу и не во всем объеме отразиться в общественном сознании, морали, праве, науке и т. д. Например, вместе с зарождением в XV в. капитализма в Европе стал зарождаться и пролетариат как класс. Однако прежде чем возникла и отделилась от буржуазной пролетарская идеология, прошли столетия. А если точно, то пролетарская идеология сформировалась лишь в XIX в. Феодальное общество начало экономически и политически развиваться уже в Y в., однако свою специфическую феодальную культуру оно создало только к середине X в., лишь через 500 лет. Вообще на изменение экономического базиса, скорее всего, реагирует политическое и правовое сознание. Политика – концентрированное выражение экономики. Остальные формы общественного сознания, как правило, с большим опозданием начинают отражать происшедшие в обществе изменения. Причем перестройка общественного сознания происходит не так быстро и легко у различных социальных групп и даже в одной и той же группе у разных людей.
5. Относительная самостоятельность общественного сознания проявляется в том, что оно может в своем развитии опережать общественное бытие. Например, в общественном сознании могут появиться идеи, для реализации которых еще не созрели материальные условия (таковыми были для своего времени некоторые идеи утопических социалистов). Наука тоже очень часто в своем развитии опережает общественное бытие.
Таким образом, общественное сознание, будучи в конечном счете отражением общественного бытия, тем не менее обладает значительной относительной самостоятельностью по отношению к общественному бытию. В целом относительная самостоятельность общественного сознания выражается в том, что оно в своем развитии обладает внутренней логикой и своими специфическими закономерностями, не вытекающими прямо из логики и закономерностей развития общественного бытия.
Однако дело не сводится только к тому, что общественное сознание обладает относительной самостоятельностью. Общественное сознание оказывает обратное воздействие на развитие общественного бытия, ускоряя это развитие или, наоборот, его замедляя. Анализируя первый план (движение от общественного бытия к общественному сознанию), мы главным образом характеризуем общественное сознание со стороны его происхождения и содержания: Что, как и каким способом отражает общественное сознание в общественном бытии? Каков результат этого отражения или познания людьми своего собственного бытия? Раскрывая же второй план – движение от общественного сознания к общественному бытию, – мы рассматриваем общественное сознание со стороны его активно-творческой роли, как реализацию в жизнь идей и стремлений людей. В этом плане общественное сознание выполняет функцию идеального мотива, побуждающего людей к деятельности для удовлетворения их потребностей, служит духовным средством изменения внешнего мира и овладения им. Здесь общественное сознание выступает в качестве причины, воздействующей на различные явления общественной жизни, в том числе и на экономические отношения. В названном взаимодействии экономика выступает в конечном счете как решающая причина, а другие явления, которые в начале возникают как следствие экономических явлений, в дальнейшем сами становятся причиной и оказывают влияние на экономику и друг на друга. Такова диалектика взаимодействия общественного бытия и общественного сознания в ее марксистской интерпретации.
Общественное сознание обладает довольно сложной структурной организацией. В качестве важнейшего элемента общественного сознания выступают его формы, каждая из которых отражает какую-то сторону общественной жизни. В социальной философии сложилась устойчивая традиция выделения семи форм общественного сознания:
• политическая форма – система взглядов, обосновывающих политику, проводимую тем или иным классом или социальной группой;
• правовая форма, или правосознание, – представления и понятия, выражающие отношение людей к действующему праву, знание прав и обязанностей, законности и противозаконности; это правовые теории и правовая идеология;
• моральная форма сознания – это взгляды общества на те или иные поступки людей, выражающие оценку их с точки зрения добра и зла, справедливости и несправедливости, честности и бесчестия, сложившаяся система неписаных законов (мораль – один из основных способов регуляции поведения человека в обществе с помощью норм);
• эстетическая форма сознания – система взглядов, которая отражает мир в форме произведений искусства, в виде художественных образов. Художественный образ является особым средством, с помощью которого человек раскрывает эстетические свойства действительности, оценивает ее как прекрасную и безобразную. Художественный образ всегда обладает чувственной наглядностью. Благодаря этому свойству художественный образ оказывает эстетические воздействия на людей, вызывая у них не только мысли, но и чувства, переживания – радость, удовольствие, боль, гнев и т. д.;
• религия как форма общественного сознания – это мировоззренческие взгляды и мироощущение, а также поведение, основанное на вере в существование Бога. Отличительной чертой и вместе с тем ключевым моментом религиозного мировоззрения является признание идеи существования двух взаимосвязанных миров: естественного и сверхъестественного;
• философия как форма общественного сознания – система взглядов, отражающая сущностные признаки мира в его целостности и единстве и пытающаяся определить место человека в нем;
• научная форма общественного сознания – это рационально-теоретические представления людей об отдельных сферах бытия (природе, обществе, человеке).
Многообразие этих форм и критерий их отличия друг от друга зависит от того, что именно отражает общественное сознание в общественной жизни (предмет отражения) и как отражает (способ отражения). Кроме этого, в социологическом аспекте, т. е. с точки зрения обратного воздействия общественного сознания на общественное бытие, различие между формами общественного сознания устанавливается по той роли, которую каждая из этих форм играет в жизни общества.
Если мы возьмем предмет отражения как критерий различия форм общественного сознания, то обнаружим, что политическое сознание, например, отражает отношение между классами, мораль – отношение человека к человеку, коллективу, классу, обществу. Предметом частных наук являются объективные законы различных форм движения материи. Предметом же философии являются наиболее общие законы окружающего нас мира и отношение к нему человеческого сознания и т. п. При этом каждая форма общественного сознания вызывается к жизни определенными жизненными потребностями, т. е. каждая форма общественного сознания имеет под собой ту или иную социальную основу в виде потребности.
Если мы возьмем способ отражения как критерий различия форм общественного сознания, то установим, что наука и философия, например, отражают свой объект в форме логических понятий, законов, теорий; мораль – в нормах и принципах нравственности (добро, зло, справедливость, свобода и т. п.); искусство – в художественных образах, религия – в системе догматов.
Если же предложить критерием различия форм общественного сознания роль, которую они играют в жизни общества, то увидим, что политическое сознание, например, формулирует социальные задачи и воплощается в действиях классов, масс, в деятельности политических учреждений и организаций. Естественные науки обслуживают практические потребности производства, техники и технологии; их открытия, достижения материализуются в новых орудиях труда, материалах и т. д. Роль нравственности в том, что она формулирует моральные качества личности, служит выработке нравственного сознания, участвует в регулировании отношений между людьми и т. д.
Итак, формы общественного сознания отличаются друг от друга предметом, который они отражают, формой отражения (как отражается предмет), социальной основой своего появления (общественной потребностью), а также своеобразной ролью в развитии общества.
Однако структура общественного сознания гораздо сложнее и вовсе не сводится к его формам. При изучении структуры общественного сознания в специальной литературе стало общепринятым говорить о двух основных уровнях – обыденном и теоретическом сознании. Оба эти уровня пронизывают все формы общественного сознания.
Обыденное сознание включает эмпирические знания и общественную психологию.
Под эмпирическим срезом общественного сознания обычно понимают знание и навыки, выработанные в повседневной жизни, нетеоретические и несистематизированные представления людей об окружающем мире, об их собственном социальном положении и т. д. Сфера повседневного, будничного сознания людей широка, противоречива и подвижна, поскольку наряду со стихийно-материалистическими представлениями, здравым смыслом она включает фантастические, ложные представления. Хотя эмпирическое сознание является поверхностным, не раскрывает сущности явлений, оно, тем не менее, – довольно устойчивый ориентир людей в их повседневной жизни и деятельности. Более того, как показывает Новейшая история, обыденное сознание людей может в ряде случаев быть ближе к истине, чем вполне наукообразные теории. Когда в начале 90-х гг. XX в. людям в России и Беларуси со ссылкой на самые современные учения доказывали, что приватизация является ключом к благосостоянию и процветанию, реакцией народного здравого смысла было полное неверие. Опыт российских реформ последних десятилетий подтвердил эту догадку обыденного сознания.
Важнейшая составная часть обыденного сознания – общественная психология. Общественная психология — это чувственно-эмоциональная и волевая сторона сознания масс: социальные чувства, эмоции, настроения, волевые установки и т. п. Важную роль в общественной психологии играют личные и общественные интересы людей, классов, групп. Сфера общественной психологии многообразна. Ее стержнем называют психический склад, т. е. совокупность наиболее характерных для данного класса или социальной группы общественных настроений и представлений, жизненных норм и стремлений, которые определяют общественное поведение данного класса, выступают стимулом практической деятельности. В целом характерной особенностью обыденного сознания является то, что оно представляет собой первую непосредственную ступень отражения общественного бытия, изучение обыденного сознания составляет предмет науки – социальной психологии.
Теоретический уровень представляет собой более высокую ступень общественного сознания – научные знания и идеологию. Научные знания и идеология считаются делом теоретиков, профессионалов и представляют собой систематизированные взгляды относительно природы и общества. Источником того и другого компонента общественного сознания является труд. Поскольку именно труд лежит в основе жизни людей, а он невозможен без знаний, постольку ясно, что на его основе появляется такая часть общественного сознания, которая призвана обслуживать общество необходимыми ему знаниями. В начале, в первобытном обществе, знание людей носило эмпирический характер, оно непосредственно было связано с повседневной деятельностью людей. Собственно в первобытном обществе общественное сознание не подразделялось ни на какие уровни. Согласно принятым нами делением все общественное сознание первобытных людей можно было квалифицировать как обыденное сознание.
С разделением труда на умственный и физический и с возникновением классов структура общественного сознания резко усложняется, точнее, с этих пор и можно говорить о структуре общественного сознания именно как о структуре. Постепенно в соответствии с этим разделением труда в общественном сознании возникает теоретический уровень отражения действительности – наука и идеология. При этом общественное сознание приобретает классовый характер, классовым содержанием наполняется и общественная психология, которая в рамках обыденного сознания существовала еще до появления классов.
Здесь возникает вопрос: В чем заключается сходство и различие научного знания и идеологии? Чтобы понять это, надо опять обратиться к анализу трудовой деятельности. Труд, как и сам человек, существует только в обществе. Вне общества и общественных отношений труд вообще невозможен. Поэтому мы и говорим, что процесс труда включает два ряда отношений – отношение к природе и отношение людей друг к другу (производственные отношения). Поскольку люди воздействуют на природу с целью получения необходимых им продуктов, то у них возникает потребность в объективных знаниях о свойствах и законах действительности.
Человеческое сознание в принципе правильно способно познать объективную действительность. Правильное понимание действительности является одним из необходимых условий обмена веществ между природой и обществом, одним из условий осуществления процесса труда как целесообразной деятельности человека. Вместе с тем труд, как известно, невозможен в обществе без определенных форм организации и общественных отношений. Поскольку люди вступают в эти отношения, в обществе появляется потребность в таком сознании, которое отражало бы именно эти отношения, т. е. в идеологии. Идеология, как и познание, также порождена общественным интересом, но иного характера. В истории различные общественные формации возникали, развивались и заменялись другими на основе материальной необходимости, но с помощью идеи (идеологии), объединяющей и организующей массы. Общественный интерес, порождающий эти идеи, направлен или на укрепление и сохранение данной формы общественных отношений, или на ее изменение. Поэтому-то в развитии общественного сознания возникают две взаимосвязанные друг с другом тенденции: во-первых, познавательная, обусловленная потребностями накопления объективных знаний о природе и обществе, во-вторых, идеологическая, обусловленная потребностями изменения или охранения данных общественных отношений.
Идеология – это система взглядов, идей, отражающая жизнь общества, выражающая потребности, интересы, стремления и цели классов, социальных групп, а также служащая закреплению или изменению существующих общественных отношений.
Как научное знание, так и идеология выступают на абстрактно-теоретическом уровне как систематизированное сознание. Однако наука и идеология не одно и то же. Если научное познание изучает объект так, как он существует независимо от человека и его интересов, то в идеологии осознается как раз интерес человека, направленный на сохранение и изменение общественных отношений, и действительность здесь отражается через призму этого интереса. Если научное познание в классовом обществе не перестает быть научным познанием (ведь нет физики пролетарской и физики буржуазной), то идеология носит классовый характер, т. е. если научное знание, чтобы верно отразить действительность, вынуждено быть беспристрастным, то идеология, чтобы обосновать выгоду и интерес того или иного класса, по необходимости должна быть пристрастной. А истина и классовый интерес далеко не всегда совпадают, т. е. идеология может быть как научной, или по крайней мере содержать в себе элементы научного знания, так и антинаучной (ложным сознанием).
В целом познание и идеологию нельзя ни отождествлять, ни разрывать и противопоставлять друг другу. С одной стороны, сознание действительности всегда находится в органической связи с определенной идеологией. Иначе говоря, идеологический элемент содержится и в самой науке. С другой стороны, идеологические формы, хотя и возникают на основе иных, чем наука, социальных потребностей, содержат в себе познавательный элемент (элемент объективного знания) именно потому, что они являются формами отражения действительности.
В заключение необходимо сказать несколько слов о важности осмысления темы идеологии в современном мире. В предыдущих разделах уже шла речь о возрастании в условиях современности роли субъективного фактора истории. Но возрастание роли субъективного фактора истории диктует в свою очередь необходимость переноса акцента с анализа общественного сознания как отражения общественного бытия на раскрытие механизма его воздействия на реальные социальные процессы, на анализ его самостоятельной, активно-творческой роли в движении социума. Это в первую очередь касается идеологии как важнейшего структурного элемента общественного сознания. Можно определенно утверждать, что сегодня формирование образа будущего должно иметь в своей основе не только упование на разного рода материальные факторы, но и в первую очередь на духовные факторы, т. е. на все то, что имеет отношение к области идеального, духовного, например воодушевление, жертвенность, вдохновение. Здесь оправданно будет напомнить известное замечание русского историка В.О. Ключевского о том, что «закономерность исторических событий обратно пропорциональна их духовности».
Основные противоречия современности, вопреки расхожему представлению, находятся не в экономической и научно-технической сфере. Они разворачиваются в первую очередь в пространстве идей, где сегодня столкнулись идея истории как процесса, ломающего логику «стартовых условий» и «решающих преимуществ», присущего наиболее развитым в экономическом отношении странам, и идея «конца истории» – вечного настоящего, которое не оставляет надежды отставшим, проигравшим – ни сейчас, ни в будущем. Убеждение в том, что вулкан истории отнюдь не потух и способен к новым цивилизационным выбросам, может воодушевить всех потерпевших, помогает им обрести надежду, а вместе с ней – достоинство и силы.
Таким образом, если мы посмотрим на будущее не с точки зрения рационализма, всюду находящего закономерность и экстраполирующего ее вперед, но с позиции духовного отношения к миру, предложенного нам классической культурной традицией, то без труда обнаружим ложность футурологии, подсчитывающей исторические издержки и приобретения. Духовные масштабы будущего измеряются не цифрами роста, а воплощением идеалов духовности и справедливости. Если в обществе не остается пассионариев, воодушевленных ими, то у него нет и будущего. Поэтому идеология, действительно выражающая глубинные интересы всего общества, а не отдельных индивидов и групп, способна стать силой исторического масштаба, преобразующей жизнь целых народов и цивилизаций.
Не менее важной задачей, стоящей перед идеологией в современной социальной ситуации, является ценностно-мировоззренческое обеспечение развития национального государства, выдвижение его перспективного социального проекта. «Полновесность присутствия в мире всякого государства проявляется в его продуктивной индивидуальной, четко определенной и предсказуемой внутренней и внешней политике, базируется на совокупности принципов и идей, которые имеют единый источник и основание», – пишет известный белорусский философ А.С. Майхрович[61]. Этим единым основанием, которое накладывает отпечаток неповторимой специфичности на все проявления жизнедеятельности народа и государства, и выступает идеология. Наличие такого духовного основания является также необходимой предпосылкой внутреннего единства и сплоченности общества.
Сегодня, когда многие народы на постсоветском пространстве переживают время тяжелых испытаний, активное содействие объединительным тенденциям белорусского общества, его сплочению, осознанию им своего духовного единства приобретает исключительно важное значение. «Потому что без консолидации общества невозможно никакое целенаправленное социальное действие и творчество, в том числе и реализация насущных сегодняшних задач по реформированию экономики и общественной жизни и созданию прочных предпосылок дальнейшего пути белорусского народа и государства в XXI столетии»[62].
Раздел III Основные проблемы социальной динамики
Глава 9 Движущие силы социальной динамики. Проблема существования и действия объективных социальных законов
Общество представляет собой сложную систему, обладающую способностью к саморазвитию. Эта мысль не отвергалась и не отвергается практически никем из мыслителей прошлого и настоящего. Более того, способность социальной системы к саморазвитию и самодетерминации является одной из научных аксиом современного социального знания. Сегодня общество понимается как открытая, обладающая определенной степенью согласованности своих подсистем и в то же время известной неравновесностью социальная система, что позволяет описывать ее динамику с помощью нелинейных математических моделей. Понимание движущих сил социальной динамики представляет непростую философскую проблему.
Если обратиться к истории науки об обществе, то мы увидим чуть ли не уходящую в бесконечность цепь гениальных прозрений, эпохальных иллюзий и фальсификаций. Великое множество мыслителей всех времен и народов, несмотря на все свои предвосхищения, нередко впадали в крайнюю односторонность или, чаще всего, силы, управляющие историей, выносили вовне, за пределы самой этой истории. И это неудивительно: человеческое общество – одно из наиболее сложных явлений мира. К тому же в исследовании общественной жизни часто субъект и объект познания совпадают или меняются местами, что неизбежно порождает пристрастность, желание приукрасить или очернить действительность исходя из тех или иных частных или групповых интересов.
В целом эволюция взглядов на движущие силы развития общества шла следующим образом. Первоначально силы, управляющие социальной динамикой, пружины изменения и преобразования общества выносились за рамки человеческого и социального мира, локализовались в сфере сверхъестественного. Эти силы и пружины неизменно выступали в виде персонифицированных духов или божественного провидения и действовали исключительно извне, так или иначе управляя индивидуальной и коллективной жизнью людей, историей и человеческими судьбами.
Позже субъект управления историей (естественные силы, натуральные факторы – биологические, географические, климатические и т. п.), оставаясь все еще вне общества и человечества, был спущен на землю и значительно приближен к людям. Отныне человеческое общество, его функционирование и всевозможные трансформации стали рассматриваться как прямой продукт этих сил и факторов.
Многие мыслители обратили свои взоры на самого человека, стали усматривать движущую силу в самих людях. Правда, поначалу эта способность не распространялась на всех человеческих существ, а приписывалась только великим людям: королям, полководцам, гениям и т. д. Последние объявляются подлинными творцами истории, двигателями общества. Причем выдающиеся способности великих людей, их харизма пока еще не связываются с внутренней логикой развития общества, его интенциями и потребностями, а рассматриваются как врожденные, генетически наследуемые, или как приобретенные в ходе индивидуального развития. Субъект исторического развития был, таким образом, очеловечен, гуманизирован, но еще не социализирован.
Далее случилась интересная метаморфоза. «С появлением социологии, – пишет известный польский психолог П. Штомпка, – произошел удивительный поворот: субъект деятельности социализировался, но вновь дегуманизировался. Он помещался строго в пределы общества, которое рассматривалось в организменных терминах как саморегулирующаяся и самотрансформирующаяся целостность»[63]. Подход, рассматривающий субъекта действия исключительно как силу социального организма, лег в основу целого ряда социально-философских течений, согласно которым история вершится где-то над человеческими головами. Людям и их деятельности во всемирной истории в рамках этих течений вольно или невольно отведена роль статистов и марионеток, за спиной которых история, ее законы делают свое дело. Это прежде всего касается всех вариантов эволюционизма, функционализма и многих теорий развития. Во избежание упрощения ситуации подчеркнем, что во всех этих названных течениях и направлениях роль выдающихся личностей полностью не отрицалась. Но в любом случае ей отводилось подчиненное положение. В великих людях, как правило, видели лишь средоточие творческих сил общества, воплощение социальных настроений, исторических традиций, проявление метавласти, которая формирует социальный контекст.
Новый шаг в осмыслении пружин истории – это абсолютизация ролей различных учреждений, особенно тех, которые обладают неотъемлемой прерогативой осуществлять изменения и даже принуждать к ним. В результате на первый план выдвинулись проблемы социальных институтов, служб и их привилегий и возможностей.
Однако наиболее значимым поворотом в развитии теории социальных изменений явилось распространение понятия движущих сил на всех людей, на все выполняемые ими роли, а не только на избранное меньшинство, отдельные социальные институты и всесильные службы. Стало укрепляться убеждение, что поступки и действия каждого человека, сколь бы они ни были, казалось, незначительными, переплетаясь и сливаясь с поступками других людей, обретают силу, способную трансформировать историю, как бы постепенно и незаметно это ни происходило. Совокупный результат деятельности всех людей в данном случае начинает выступать действительной движущей силой истории, подлинной причиной социальных изменений. При таком подходе источник социальной динамики перемещается вниз, в гущу повседневной жизнедеятельности людей, приземляется. Изменения в данном случае происходят в результате многочисленных и разнородных решений и поступков, принимаемых и свершаемых бесчисленным количеством людей. Люди в своей повседневной практике воссоздают и преобразуют свое общественное бытие примерно так, как они в своей повседневной речи воссоздают и изменяют свой язык. Решающими становятся скрытые, непреднамеренные последствия человеческих действий. Частные интересы, эгоистические цели и соответствующие им действия аккумулируются в данном случае в исторически совокупный результат, который, в конечном счете, и обусловливает те или иные социальные изменения. Такой подход к анализу источников и факторов социальных изменений развивал, в частности, известный американский социолог Роберт Кинг Мертон (1910–2003)[64].
Тем не менее, чтобы глубже понять природу движущих сил истории как определенных причинных факторов, ведущих общество или его элементы к изменениям и структурной организации во времени, в результате чего формируется социальная реальность, качественно отличающаяся от предшествующей, остановимся на анализе проблемы существования и действия объективных социальных законов.
В самом общем виде объективная общественная закономерность выступает как результат совокупной деятельности бесконечного числа человеческих поколений, регулярно меняющих друг друга. В этой цепи поколений, которая никогда не прерывалась, каждое новое поколение помимо своей воли попадает в мир социальной реальности, которая сложилась ранее и без него. Оно застает в готовом виде определенный способ производства, определенные формы общественного устройства, культуры, идеологии, т. е. все то, что было достигнуто. В данной ситуации людям по необходимости приходится творить свою историю каждый раз исходя из наличных условий, ранее сложившихся обстоятельств. Их деятельность и активность всегда разворачивается в контексте данной им реальности. Человек не может выйти из общества, стать над ним и исключительно произвольно строить свою жизнь. В этой ситуации социальная реальность воспринимается как предзаданная совокупность объективных условий, сложившихся независимо от человеческого сознания и обстоятельств человеческого бытия.
Значит, обусловленность процесса дальнейшего развития и преобразования общества его предшествующим состоянием выступает как один из моментов исторической необходимости. Не только в политике, экономике, науке, искусстве, но даже в быту реальная жизнь устанавливает жесткие границы человеческому своеволию, вынуждая людей тщательно соотносить субъективно желаемое с объективно возможным.
К объективным условиям бытия людей относятся также коллективные представления и общественное сознание, составляющими которого они являются. Интерсубъективное, надындивидуальное сознание, выходящее за рамки опыта отдельных людей, индивидов, может, как и многие другие социальные явления, формироваться стихийно, выступая как незапланированный продукт духовного производства. Люди практически везде – в стране своего проживания, в сословной или профессиональной среде, в различных формальных организациях сталкиваются с безличными духовными образованиями: стереотипами мышления и чувствования, нормами морали и права, которые стихийно складывались в течение длительного времени и которые явно выходят за рамки их индивидуального опыта, предзаданы им, принудительно программируют их сознание и поведение, навязываются всей принятой в обществе системой социализации. Совокупность таких надындивидуальных реалий коллективной жизни создает объективную социокультурную среду существования и жизнедеятельности индивидов.
В целом получается так, что результаты деятельности одного поколения становятся объективными предпосылками деятельности другого поколения, и это последнее поколение изменяет современный мир, опираясь на те возможности, которые уже имеются в наличии. Поколение, находящееся на стадии присваивающей экономики – охоты и собирательства, не может перейти к капиталистическому способу производства. Нельзя от феодальной мельницы перейти к компьютерной технологии, от организации первобытной охоты шагнуть к выводам современной научной организации труда, от мифологического сознания перейти к теории относительности и т. п.
В этом смысле история закономерна, ибо она детерминируется целым рядом объективных факторов, имеет свою объективно-субъективную логику, задающую направление изменения как любой стороны общества, так и общества в целом. Вообще, именно детерминационное воздействие на сознание и поведение людей новых поколений надындивидуальных реалий, сложившихся в результате духовного творчества и практической деятельности предшествующих поколений, позволяет нам относить человеческое общество к системам органического типа, где целое способно оказывать формирующее воздействие на свои части. С какой стороны ни смотреть, получается, что между событиями истории существуют некоторые объективно обусловленные зависимости, которые никакая свобода воли не может изменить. Наличие этих зависимостей и позволяет нам говорить о законах истории, общественных закономерностях. Вместе с тем закономерности общества осуществляются только через деятельность людей. Нет этой деятельности – нет ни истории, ни общества. Люди творят свою историю в той мере, в какой она творит их. Это сложный взаимосвязанный процесс.
Это только одна сторона сложного процесса общественного развития. Каждому поколению действительно объективно предзадана реальная основа того, что составляет отправной пункт его жизнедеятельности. Но каждое новое поколение не просто повторяет то, что делалось предшественниками, а действует в соответствии со своими, уже новыми потребностями и интересами, стремится реализовать свои собственные цели, в той или иной степени отличающиеся от целей людей предшествующих поколений. Зададимся в связи с этим вопросами: Может ли каждое новое поколение произвольно, по своему разумению изменить дальнейшее развитие общественно-исторической ситуации, которая сложилась ранее, до него? Направить движение общества в любую, какую ему заблагорассудится, сторону? Факты, убеждают в обратном: каждое поколение, пришедшее на смену другим поколениям, не может сразу, самовольно изменить то, что было достигнуто предшественниками. Оно по необходимости должно включаться в социальный процесс, который уже имеет место. Конечно, включившись в социальный процесс, пришедшее поколение (одно больше, другое меньше) всегда привносит что-то новое в сложившуюся ситуацию, что-то меняет, иногда, казалось бы, коренным образом, революционно, но, как правило, всегда не так и не в том направлении, как ему хотелось бы. Объективный результат практически никогда не совпадает с субъективными устремлениями и целями. Почему так получается?
Каждый нормальный человек обладает разумом, волей, эмоциями и своими целями. То же можно сказать по отношению к социальным группам, классам, нациям, государствам и т. д. Однако цели у разных индивидов и групп, классов, народов и государств, как правило, не совпадают, их устремления никогда не бывают полностью направлены в одну сторону. В реальной жизни их действия встречают противодействие других людей, групп, наций, государств, которые тоже имеют цели и устремления. Они сталкиваются, сливаясь в поток поступков масс, классов, партий, правительств, погашаются, дают некий общий результат, который ни от кого в отдельности уже не зависит. Этот результат и представляет собой историческую необходимость, определенную раенодейстеующую, среднестатистическую всех сил, воль и действий, имеющих место в историческом процессе. Это оборачивается тем, что деятельность людей нередко приводит к противоположному изначальной цели появлению на исторической арене чего-то такого, что никто по отдельности и все вместе ни знать, ни хотеть не могли. Воистину, «крот истории» роет свою дорогу в потемках.
Таким образом, между людьми возникают интегральные реалии общественной жизни, которые, как и вещи, не могут рассматриваться простым порождением сознания. За мозаикой осознанных человеческих действий скрывается как бы второй, подспудный, более глубокий пласт истории. Как писал Г. Гегель, «во всемирной истории благодаря действиям людей вообще получаются еще и несколько иные результаты, чем те, к которым они непосредственно стремятся и которых они достигают, чем те результаты, о которых они непосредственно знают и которых они желают, они добиваются удовлетворения своих интересов, но благодаря этому осуществляется еще нечто дальнейшее, нечто такое, что скрыто содержится в них, но не осознавалось ими и не входило в их намерения»[65]. Г. Гегель, как и позже К. Маркс, за многообразием осознанно-целенаправленных действий людей видит глубинную общую объективную логику истории. В этом Гегель усмотрел «хитрость разума» истории. Правда, если для Гегеля логика истории базируется на развертывании разума, «мирового духа», то для Маркса она выступает как результат практической, материальной деятельности людей.
Итак, система реальных общественных отношений обладает способностью складываться стихийно, независимо от желаний людей, а сложившись – властно влиять на их поведение, подталкивать их к выбору определенных жизненных целей, ориентировать их на определенные социально-значимые поступки и тем самым существенно ограничивать их, казалось бы, безграничную свободу воли.
И, наконец, следует отметить, что стихийность общественно-исторического процесса характеризуется тем, что люди не осознают (точнее, далеко не полностью осознают) объективно складывающиеся общественные последствия своей преобразующей деятельности. Люди, как правило, способны просчитать лишь ближайшие последствия своей деятельности, то, что дает им выгоду здесь и теперь, но они обычно не могут, да и не стремятся предвидеть конечные результаты своих действий. Например, выкорчевывая леса и засевая поля с целью получения пропитания, человек чаще всего наносил серьезный вред окружающей среде. С течением времени его деятельность приводила к тому, что наиболее урожайные земли превращались в пустыню (Сахара). Этого человек не ожидал и не хотел. Причем такого рода результаты деятельности далеко не всегда очевидны и могут быть учтены заранее. Осуществляя преобразующее вмешательство в природную и социальную среду, человеку не только в прошлом, но даже и сейчас не в состоянии просчитать все последствия этого вмешательства. Поэтому деятельность людей нередко осуществляется вопреки действительной природе объектов. Как это ни досадно признавать, люди очень часто не ведают, что творят.
Несмотря на то что люди обладают способностью к целесообразной деятельности, к расширяющемуся и углубляющемуся воздействию своего сознания и воли на окружающий мир, в истории все же остается нечто такое, что не подвластно человеку и не может быть изменено какими бы то ни было волевыми усилиями. Это нечто и можно квалифицировать как объективные законы социума, составляющие как бы невидимую нить, связывающую многие, казалось бы разрозненные, явления в единое целое. И хотя подобные законы есть результат, итог совокупной деятельности индивидов, преследующих свои цели, они, тем не менее, носят не субъективный, а объективный характер.
Иногда возникает впечатление, что общественная закономерность как бы действует вне людей и над ними, поскольку всякий раз оказывается не продуктом свободного целеполагания деятельности группы, правительства или индивида, а чем-то таким, что явно не совпадает с целями, которые они сознательно стремились реализовать. Парадоксальность ситуации состоит в том, что законы общества складываются в результате деятельности людей, раскрывающейся с точки зрения внутренних механизмов этой деятельности, факторов и причин, но люди при этом не господствуют над ними, а подчиняются как чему-то надличностному и самостоятельному, попадают под загадочную логику их движения и действия. В самом деле, кто возьмется сегодня утверждать, что развитие человечества уже перестало носить иррационально-неуправляемый характер и направляется разумной, тем более доброй волей? Ссылки на Организацию Объединенных Наций здесь будут вряд ли уместны, хотя эта организация принимает много мудрых решений, но они, как правило, остаются на бумаге и не берутся в расчет отдельными, особенно самыми сильными государствами.
Утверждая наличие в мире социальной закономерности, необходимо определить ее основания и условия реализации. Если исходить из понимания социального закона как необходимой, существенной и повторяющейся связи социальных явлений, а также их субординационных или координационных зависимостей, то такие связи и зависимости так или иначе прослеживаются в разных сферах общественной жизни и между сферами. Так, например, закономерная связь усматривается между объективными потребностями людей в пище, одежде, жилище, безопасности, средствах передвижения и развитием их способностей к удовлетворению этих потребностей, что находит свое выражение в развитии знаний, умений, навыков, а также техники, технологии и других элементов производительных сил. Можно говорить также о закономерной связи разделения труда и социальной структуры общества, его социальных и профессиональных составов.
Об общественных законах позволяет говорить и тот факт, что в самой природе (биосоциальной) людей и в способах их объединения есть много сходного. Сходство это лежит в единстве происхождения обществ из доисторических племен, свидетельством тому являются, например, языковые семьи. Сходство имеет место в общности реакций на внешние воздействия природы и соседей. Похожие явления лежат в основе группирования людей в коллективы: способы объединения и решения проблем, формы организации и управления и многие другие явления имеют неотъемлемые черты любого общества и вытекают из основы существования людей как вида.
Труд как необходимое условие существования людей, важнейший фактор человеческого бытия требует определенной организации. Поэтому любое общество – от примитивного первобытного коллектива до современных высокоразвитых государств – имеет определенные способы организации производства. В сущности, социальные законы есть законы человеческих объединений, структурирования этих объединений, функционирования и взаимодействия их частей, поведения людей как членов этих объединений. Например, чтобы большой коллектив мог достаточно долго и успешно функционировать в качестве единого целого, в нем должны сложиться управляющий орган, определенная иерархия руководителей, достаточно компетентных (адекватных делу), обладающих соответствующим опытом, волевыми качествами и т. д. И эти требования суть объективные законы организации и успеха. Игнорирование их приведет к тому, что данное объединение перестанет быть жизнеспособным, будет плохо функционировать и распадется, т. е. нарушение законов организации трудовой деятельности, государственного управления и подобное неизбежно сопровождается тяжелыми негативными последствиями для общества. Однако нарушение законов организации общественной жизни, законов человеческого бытия не означает их отмену. Это просто поведение, по тем или иным причинам не считающееся с законами.
Социальные законы обладают определенной универсальностью, т. е. действуют в принципе одинаково там, где появляются социальные объекты и условия, к которым они относятся. Различны лишь конкретные формы их проявления. Так, государственная власть организуется и функционирует по одним и тем же законам везде, где она возникает. Это вовсе не означает, что она у всех времен и народов аналогична. Она изменяется, разнообразится в зависимости от различных факторов, достигает различных уровней развития. Но законы, по которым это происходит, практически одни и те же. Законы – это своего рода постоянные «правила поведения» явлений и объектов, определяющие их строение, движение, функционирование. Социальные законы – самые глубокие механизмы общественных изменений. Их действие носит скрытый характер и на поверхности обнаруживается в виде доминирующих тенденций развития.
Раскрывая сущность социальной закономерности, необходимо отдельно рассмотреть проблему повторяемости социальных фактов и событий. Напомним, что социальный закон – это существенная, устойчивая и повторяющаяся связь социальных явлений. Правда, ряд социальных философов отказывается признать существование социальных законов, опираясь на внешне бесспорный факт уникальности и неповторимости социальных явлений. Исследователи, отрицающие существование объективных социальных законов, не устают подчеркивать, что в общественной жизни, в отличие от природы, ничего не бывает дважды, ничего не повторяется, что история людей есть бесконечный поток всегда новых, уникальных событий. А то, что не повторяется, не может быть обобщено, а то, что не может быть обобщено, не поддается научному объяснению.
И действительно, повторяемость представляет собой важнейший признак закономерности. Поэтому обнаружению законов, этих постоянных правил поведения объектов, должно предшествовать обнаружение некоторой регулярности такого поведения, его повторяющихся черт. В мире природных явлений это прослеживается довольно легко и часто. Например, все молекулы воды устроены одинаково и одинаковым образом ведут себя, разлагаясь на кислород и водород под действием электрического тока; астрономы не сомневаются в правильности космических законов и практически безошибочно определяют очередное затмение Солнца и т. д. В обществе же нет одинаковых людей, социальных групп и объединений – все они живут и действуют по-разному. У каждого народа – своя особая судьба, своя история и т. д. Если взять движение социума в целом, можно сказать следующее: как нельзя взрослому человеку вернуться в детство, так нельзя вернуть, воссоздать прошлые события в том виде, какими они были в реальной человеческой истории. Необходимо признать, что история, рассмотренная с точки зрения ее персонажей, отдельных событий, свершений, принципиально неповторима.
Но означает ли это, что в конкретной общественной жизни людей – в человеческой истории отсутствует вообще всякая объективная повторяемость, что любое социальное явление абсолютно универсально и не содержит в себе вообще никаких черт, повторяющихся в другое время и в другом месте? Отвечая на этот вопрос, признавая уникальность исторических явлений за несомненный факт, мы, тем не менее, считаем, что данная уникальность имеет не абсолютный, а относительный характер. Оказывается, только при поверхностном взгляде на социальную реальность не обнаруживается в ней никаких повторений, не усматривается в истории людей ничего, постоянно и регулярно повторяющегося. При углубленном подходе выясняется: за уникальными, не имеющими аналогов единичными событиями стоят определенные структуры, константные факторы человеческого поведения, в которых воплощены его устойчивые, повторяющиеся характеристики. Если внимательнее присмотреться, можно увидеть, что любые исторические события, будь то конкретная война или конкретная революция, несут в себе родовые определенности войны вообще и революции вообще, являются вариантами существенных признаков, повторяющихся на всем протяжении истории или на определенных ее этапах.
Нам представляются, поэтому, ошибочными все попытки редуцировать, свести жизнь социума к феноменологическому пласту уникальных, неповторимых событий. В сущности, такого рода попытки вообще закрывают вопрос о существовании общих закономерностей развития социума, которые так или иначе детерминируют деятельность людей в их историческом развитии.
В целом полотно человеческой истории, траектория ее движения есть результат сложного, неоднозначного и постоянно изменяющегося соотношения начал объективного и субъективного характера, из игры и взаимодействия которых и выявляются (выкристаллизовываются) базовые факторы социальной эволюции, глубинные основания человеческого бытия, которые людям необходимо знать и учитывать в своих замыслах и поступках.
Глава 10 Субъективная сторона исторического процесса
Рассмотрение сущности и механизма действия социальной закономерности позволило раскрыть лишь одну сторону сложного процесса общественного развития. Исторический опыт показывает, что деятельность, активность людей реально формируют облик социальной действительности, влияют на ход и направленность исторического процесса. Считать людей марионетками, значит не только их бесконечно унижать, но и до предела примитивизировать вопрос о характере социального развития, логике общественного бытия. Другими словами, в общественной жизни наряду с объективной закономерностью неустранимо действует субъективный фактор, воля и стремления отдельных индивидов и социальных групп.
Рассмотрение проблемы роли и значения субъективного фактора требует постановки следующих вопросов: Каково соотношение объективного и субъективного в истории? Является ли оно постоянным, константным или их удельный вес может определенным образом меняться?
Данную проблему можно рассматривать в долгосрочном и краткосрочном плане. На относительно небольших отрезках исторического времени значение субъективного фактора резко возрастает в переходные периоды, когда действие внутренних закономерностей предшествовавшего уклада жизни ослабело, а закономерности нового уклада еще не сложились. Именно в этот период начинает интенсивно твориться облик будущего мира, рельефно проявляется пластичность и податливость истории. Это происходит потому, что в действии социальной закономерности как бы образуется вакуум, зазор, в который бурно направляется свободная воля людей, их устремления и предпочтения. Ярким и колоритным примером такого процесса может служить европейское Возрождение.
В долгосрочном плане рельефно проявляется тенденция возрастания роли субъективного фактора в истории. Эта тенденция обусловлена следующими причинами: постепенно растет опыт организации масс различными социальными институтами и партиями, совершенствуются технические средства связи и способы взаимодействия между людьми, что позволяет концентрировать усилия огромных человеческих масс в определенном направлении во имя достижения тех или иных целей, в том числе и таких, которые не отвечают глубинным интересам широких слоев населения.
В XX в. субъективный фактор истории стал реальной силой, определяющей судьбы целых поколений и народов. Оказалось, что в наше время затруднительно говорить о каких-то чисто объективных социальных процессах, протекающих вне и независимо от субъективной воли, от субъективного фактора истории. Возьмем, к примеру, общественные экономические отношения, которые в свое время К. Маркс в отличие от идеологических рассматривал как материальные, возникающие стихийно, не проходя в своем генезисе через сознание исторических субъектов, чисто объективные. Как известно, на этой точке зрения наше обществоведение держалось долго. Теперь, однако, мы можем утверждать, что стихийность формирования экономического базиса – явление не вечное, исторически ограниченного действия, т. е. не имеющее универсального характера и не могущее быть распространенным на все времена. При ближайшем рассмотрении оказывается, стихийность социально-экономических процессов постепенно преодолевается, вытесняется целерациональным началом, способностью сознания влиять не только на функционирование, но и на становление экономических реалий. В качестве примеров такого рода инноваций сознания в некогда закрытой для него сфере экономических отношений может служить экономика Советского Союза, явившаяся результатом сознательного выбора в пользу огосударствления средств производства, а также теперешние попытки российской властной элиты сознательно построить экономику рыночного типа. При этом все большее число социальных явлений, некогда полностью не зависимых от сознания, складывается как результат целей и замыслов людей, определяется сознанием как реальной целевой причиной своего возникновения. Конечно, стихийность социальных процессов вряд ли когда-либо в будущем будет до конца преодолена. Это, на наш взгляд, в принципе невозможно. Тем не менее, мы не можем не признать, что сегодня в какой-то степени утверждается плановая история, управляемое, конструируемое общество, имеют место непрекращающиеся попытки определенными силами, в частности мировым олигархическим интернационалом, взять под свой контроль ее движение. Трагедия истории заключается в том, что нарастающая сила целенаправленного воздействия на природную и социальную среду отнюдь не сопровождается гуманизацией социума, а, скорее, ведет к разрушению фундаментальных основ человеческого бытия, оборачивается не прогрессивными, как этого хотелось бы, а регрессивными общественными изменениями. Если выразиться более последовательно, то возросшая роль субъективного фактора истории на каждой развилке ее дорог грозит обернуться новой и еще более опасной формой угнетения и подавления людей, а применительно к нашему времени – всепланетарным тоталитаризмом. На практике возросшая роль данного фактора не принесла людям гуманизации их жизни, мира и праведности. Напротив, в XX в. субъективный фактор весьма часто принимал деструктивный характер, находил свое прямое выражение в приверженности к волюнтаристической тенденции. Примером этому может служить Октябрьская революция в России, которая рельефно продемонстрировала миру, что человечество вступило в новую эпоху – эпоху неизвестных ранее возможностей крупномасштабного исторического произвола и насилия и вместе с тем – в эпоху небывалого по своему размаху социального творчества и новаторства, связанных с резким возрастанием роли именно субъективного фактора истории. С этого периода как никогда стала бесспорной мысль о том, что «сознание не только отражает мир, но и творит его» (В.И. Ленин). Теоретическое сознание небольшой кучки людей смогло переплавиться в общественное бытие, насильственно прервать естественную фазу развития великой страны. Деструктивно-конструктивная утопия – продукт рациональной гордыни – получила воплощение в реальности, обнаружила способность стать практикой, быть приведенной в исполнение.
Вообще реалии XX в. изменили наше представление о закономерностях развития социума. В этом столетии небывало усилился государственный контроль над общественной и частной жизнью. Возможности манипулирования сознанием миллионов людей благодаря современной информационной технике оказались беспрецедентными; следует добавить и объективный процесс усиления роли управленческих функций и возросшую в связи с этим опасность бюрократизма, возможности быстрой концентрации общественных сил не только в интересах прогресса, но и регресса и т. п. Этим в значительной степени обусловлены трагедии, организованные властью сознательно. Отсюда и расширяющиеся возможности проведения в жизнь программ и проектов, разрабатываемых верховной властью часто в полной зависимости от различных личностных решений вождей и вовсе не контролируемых народными массами.
Можно определенно утверждать, что многие трагические события российской (советской) истории непосредственно связаны с экспансией внешностных, оторванных от отечественного опыта и традиций проектов тотального социального переустройства, навязываемых обществу центральной властью. Именно в XX в. человек, возомнивший себя творцом и господином своей исторической судьбы, сумел навязать общественному развитию, своему социальному бытию искусственно сконструированные проекты и модели нового мира, нового порядка, совершить хирургическую операцию над живым телом народов, над веками сложившимися социальными организмами.
Такие крупные исследователи, как Н. Бердяев и X. Ортега-и-Гассет уже давно отмечали, что тоталитаризм как жесткая система всеохватывающего контроля над жизнедеятельностью людей связан с вторжением в общественную и личную жизнь фактора техники. С их точки зрения, тоталитаризм в широком смысле есть власть техники, механизация социальных отношений, технизация стиля мышления и машинизация человека. Ни диктатура римских рабовладельцев, ни восточные деспотии не обладали возможностью такой концентрации бесконтрольной власти, которая появилась у современных государств благодаря развитию техники. Диктаторы XX в. смогли воспользоваться вкладом современной технологии в искусство деспотии.
Вот почему даже самый глубокий и тщательный анализ объективных и субъективных предпосылок и в целом исторических обстоятельств и традиций, сложившихся в ряде государств к началу XX в., не в состоянии был дать полного и законченного объяснения последующему процессу становления и упрочнения в странах тоталитарных режимов и систем. Ибо тоталитаризм представляет собой продукт особых исторических обстоятельств, явление нового, а не традиционного уклада жизни. Он исторически уникален и может быть, следовательно, объяснен только с учетом специфики XX в.
Таким образом, XX в. стал наряду с прочим веком самоосуществления утопии, эпохой реальной жизни места, которого нет, временем экспансии искусственно конструируемых образов и моделей светлого будущего. И соответственно этому многие проблемы и сложности, с которыми столкнулись люди XX в., не имеют под собой объективной основы – они были порождены утопическим прожектерством.
Можно, конечно, сказать, что выбор, не считающийся с логикой исторического развития, осуществляемый самонадеянным субъектом, рано или поздно отметается историей или трансформируется до неузнаваемости. Примеров тому множество. Но это мало утешает: далекое и совсем недавнее прошлое свидетельствует, что ошибки в выборе направления общественного развития, способов движения к субъективно избранной цели всегда оплачивались народом – бедствиями и лишениями целых поколений.
Но если исторический выбор в условиях XX в. оказал такое существенное влияние на судьбы народов и людей, то он уже не может быть привилегией какой-либо политической силы, сколь бы ни казалась она авангардной и прогрессивной. Сегодня никто не в праве решать за всех, навязывать обществу проекты тотальной переделки общественной жизни, противоречащие коренным свойствам природного и человеческого мира, не вытекающие из традиций и исторического опыта народа. Люди должны знать, что существуют фундаментальные основы общества, на которые никто и никогда не должен покушаться, что преждевременные попытки взорвать существующий порядок вещей, навязать обществу, исходя из априорного идеала, новые формы бытия могут обернуться в конечном счете трудновосполнимыми потерями, люди должны, наконец, иметь уверенность, что глубинные структуры человеческого бытия не будут впредь разрушены в результате очередного волюнтаристского социального эксперимента.
Следует заметить, что история, как это ни странно, обладает удивительной способностью всякий раз уходить из-под полного сознательного контроля и вместе с тем преподносить людям всевозможные сюрпризы. Она по сей день неистощима на выдумки, склонна к неожиданным решениям, трагична, загадочна и неуправляема. Ее вулканические выбросы и волны, как правило, застигают людей врасплох. А в тех своих проявлениях, где она, кажется, стала уже управляемой и контролируемой, каким-то парадоксальным и непонятным образом оборачивается чудовищной тиранией, насилием и деструкцией. В сказанном нас убеждает опять же печальный опыт XX в. Оказалось, что разум как самое эффективное средство покорения мира и гуманность – вещи все реже и реже сопрягаемые. В системе мировоззрения и поведенческих реакций современного цивилизованного человека гуманистическая ориентация выступает отнюдь не как первостепенная. Выяснилось, что с цивилизацией вполне уживаются дикость, варварство и вандализм. В недалеком прошлом цивилизованные европейцы с целью насильственного захвата капитала не останавливались перед уничтожением сотен тысяч невинных людей из колонизируемых стран Азии, Африки и Австралии. А сегодня цивилизованные американцы не остановились во имя своих эгоистических и захватнических интересов перед применением в Ираке кассетных и вакуумных бомб, разрушением уникальных музеев и древнейших на Земле памятников культуры. Впрочем, это в традиции американцев. Это они в свое время впервые в мире применили чудовищное ядерное оружие в войне с Японией. Воистину, «цивилизованная дикость – самая худшая из всех дикостей» (выражение К. Вебера). Неудивительно, что сейчас исследователи с нарастающей тревогой заговорили даже об экспансии нового варварства, неоварваризации. Так, К.С. Гаджиев утверждает, что мы являемся свидетелями пришествия варвара в новой ипостаси, в ипостаси нового цивилизационного варварства. Причем исследователь подчеркивает, что если в прежние времена варвары приходили с отсталой периферии цивилизованного мира (например, применительно к Римской империи), то сегодня одним из магистральных направлений развития мира «является движение цивилизованного варварства (или нового варварства) с Запада на Восток»[66].
Отсюда следуют самые трудные вопросы: Как гуманизировать субъективный фактор истории, направить человеческую деятельность в гуманистическое русло? Если и в самом деле люди являются не только хорошо управляемыми марионетками, бездумными исполнителями предопределенных вердиктов истории, воплощенных в производительных силах, технологических, демографических тенденциях или революционном порыве, а действительными творцами истории, то как добиться того, чтобы они действовали с позиции гуманизма?
Обсуждаемые вопросы чрезвычайно актуализируют проблему перспектив, возможностей и границ социального регулирования, сознательного управления общественными процессами. Очевидно, что человечество к настоящему времени попало в трудноразрешимую коллизию, в парадоксальную ситуацию: стихийно-спонтанное развитие общества уже невозможно, а вездесущее рациональное управление социальными процессами опасно – часто принимает деструктивный характер. Парадоксальностью такой ситуации и порождены разные, порой противоположные точки зрения по вопросу необходимости сознательного регулирования социальных процессов. Для решения вопроса предлагается три подхода.
Первый подход — необходимость сознательного управления социальными процессами и контроль за всем и вся в жизни людей. На практике также устремления ведут к тоталитаризму, к превращению личности в объект абсолютной калькуляции.
Второй подход — либеральный, предполагающий, что все беды идут от попыток субъекта регулировать социальные процессы. Подход опирается на принцип саморегулирования: пусть общество развивается само по себе, самотеком.
В основе третьего подхода (синтетический вариант) лежит идея необходимости и неизбежности сознательного управления социальными процессами, которая диктуется нарастающей угрозой экологических катастроф, опасностью неконтролируемого применения ядерного оружия, возможностью разрастания разрушительных межнациональных и межгосударственных конфликтов и т. д. Однако предлагаемая сознательность – это не синоним проектной логике, проективности, стремящейся подчинить развитие общества заданной схеме. Такая сознательность заключается в следующем: уметь вовремя подключить волю и разум к стихийному, органическому процессу общественного развития, не ломая и не насилуя этот процесс, помогать ему устранять преграды на пути, препятствовать деструктивным устремлениям отдельных лиц и групп и т. д.
Непременным условием успешного развития любого общества является гармоническое взаимодействие в нем процессов самоорганизации и организации. Так, на примере рынка можно показать, что самоорганизация сама по себе не способна обеспечить социальную справедливость в жизни людей. Ведь рынок не принимает в расчет никаких других соображений, кроме коммерческой выгоды: он отдает товар только тому, кто может за него заплатить. Поэтому в рамках общества самоорганизация нуждается как в коррекции, так и в управлении со стороны органов и институтов государства. Государство в состоянии смягчить и исправить недостатки рынка путем проведения соответствующей налоговой политики и осуществления помощи малоимущим и низкооплачиваемым слоям населения.
Из всего сказанного следует, что субъективный фактор истории – обоюдоострое оружие, его возросшая роль чрезвычайно сложна, двойственна и противоречива. С одной стороны, его игнорирование, стремление ограничить целенаправляющее начало в историческом движении, упование исключительно на действие механизмов саморегуляции могут, как в этом нас убеждает сегодняшняя действительность, придать развитию общества катастрофический, разрушительный характер. С другой стороны, надо признать, что, несмотря на необходимость и неизбежность в условиях современности сознательного управления социальными процессами, общественная саморегуляция пока остается наивысшим проявлением упорядоченности и органичности движения. А это значит, что пользоваться возросшей силой субъективного фактора необходимо крайне осторожно и в определенных пределах. Отсюда также следует, что перед политическим руководством стран, находящихся в переходном состоянии (в том числе и перед политическим руководством восточнославянских стран), стоит задача фундаментальной важности: привести в действие механизмы общественной саморегуляции (самоорганизации) и научиться их разумно сочетать с практикой сознательного управления социальными процессами, с государственным администрированием и регулированием (организацией). Причем в каждом конкретном случае мера данного сочетания должна сообразовываться с традициями, ментальностью и историческим опытом того или иного народа. Политиков же, которые при решении этой сложнейшей задачи будут впадать в крайности, т. е. делать ставку на механизмы общественной саморегуляции или полностью их игнорировать и уповать только на собственную политическую волю и государственное администрирование, неизбежно ждет крах.
В советский период дилемма стихийного (самоорганизация) и сознательного (организация) решалась исключительно в пользу последнего. Предполагалось, что всеохватывающий сознательный контроль над природными и социальными процессами призван избавить человека от унизительного положения марионетки внешних обстоятельств, что позволит ему поставить себе на службу ранее господствовавшие внешние над ним стихийные силы природы и общества и тем самым обеспечит историческую свободу. Отсюда устойчивая тенденция к максимально возможному ослаблению и вытеснению стихийно-спонтанных процессов из социальной жизни, стремление к вездесущему планированию и государственному регулированию.
В период истории Советского Союза, который у нас и за рубежом называли перестройкой, а теперь однозначно квалифицируют как номенклатурный или аппаратный переворот, российские реформаторы впали в другую крайность – вместо того чтобы в разумных пределах смягчить отрицательные последствия и издержки всеохватывающего планирования и государственного регулирования, они стали интенсивно внедрять в массовое сознание миф об автоматизме рыночного механизма и необходимости полного изгнания государства из экономической жизни общества. В результате оценки стихийно-спонтанного и целеволевого начал в развитии социума поменялись местами. Абсолютизация сознательного (организация) и отрицание стихийного (самоорганизация) сменились необоснованным преувеличением роли механизмов спонтанной рыночной самоорганизации и нигилистическим отрицанием всякой значимости целерационального, сознательного начала в жизни общества. Причем государственное регулирование и управление, целенаправленный политический, финансовый и юридический контроль за экономическим развитием общества со стороны государства стали отождествляться с несвободой, а спонтанностихийные процессы в экономике (невидимая рука рынка) стали однозначно оцениваться как подлинная свобода.
В современных условиях политика такого рода невмешательства государства в регулирование экономикой, преувеличение самоорганизующей роли рынка может дорого стоить наро-дам, вступившим на путь модернизации своих обществ. Надежда на чисто рыночную самоорганизацию общества применительно не только к странам, где не сложились развитые рыночные отношения, но и даже к странам с развитым рынком сегодня не может быть оправдана. На практике шоковая терапия, ориентированная на рыночную саморегуляцию, к которой прибегли, например, в России радикальные реформаторы, обернулась невиданным спадом производства, галопирующей инфляцией, перекачкой капитала за границу, формированием криминально-мафиозного, олигархического капитализма.
Сегодня важно четко представлять, какие ценности культивировать, от каких отказываться и как все это скажется на процессе гуманизации общественной жизни. Задача состоит в том, чтобы обеспечить интеграцию человеческой духовности на основе высших ценностей, что позволит осуществлять гуманистически выверенные действия. Сравнительный анализ систем ценностей – сначала в теоретическом, а затем и практическом плане – важнейшая потребность современности. Гуманитарное развитие добавляет к имеющимся видам контроля и экспертизы еще и аксиологическую экспертизу. Новый вид экспертизы должен выявлять и культивировать наиболее соответствующие гуманности векторы духовного развития человечества.
Чтобы сохранить себя, человечество должно решить две взаимосвязанные задачи: 1) обезопасить от духовного вырождения и деградации, саморазрушения изнутри в результате эрозии «экологии души», утери человеком человеческого; 2) спастись от разрушения внешней среды обитания, коллапса биосферы, эрозии «экологии природы». В этом, возможно, и есть смысл истории.
И здесь может оказаться полезной возросшая роль субъективного фактора истории, расширившиеся возможности современного социального субъекта. Ведь, в конце концов, мощь и сила субъективного фактора истории могут быть направлены не только на разрушение и деструкцию, но и на созидание, на утверждение гуманистических начал в развитии социума. И это в принципе реально на любом этапе современного исторического процесса. Ибо история всегда так или иначе открыта для социального творчества. В ситуации, когда нет альтернативы от скатывания в пропасть, когда ни одна из реальных возможностей не в состоянии удовлетворить, активный социальный субъект может осуществить творческий прорыв, который еле-дует интерпретировать как «овозможивание невозможного» (выражение известного российского философа С.А. Левицкого). Тому есть немало исторических примеров. В частности, известный российский исследователь Л.Н. Гумилев, изучая проблему этногенеза, указывает, что бывают ситуации, когда ценности и идеи какой-либо группы единомышленников (консор-ции), стоящих у истоков нового этноса, а шире сказать – новой организации социума, оказываются способными весьма быстро овладеть критической массой и развернуть ход истории самым неожиданным образом.
И действительно, человек по сути своей – существо творческое, субъект исторического выбора и действия. Причем надо иметь в виду одно важное обстоятельство: будущее в значительной степени станет таким, каким мы его увидим сегодня. В силу действия механизма «самоорганизующихся» и «самоосуществляющихся» пророчеств оно в немалой степени будет соответствовать тому, к чему мы будем стремиться и за что мы будем бороться.
Глава 11 Альтернативы истории и проблема выбора путей общественного развития
Признание субъективного фактора в качестве важнейшей движущей силы общественного развития закономерно приводит нас к рассмотрению проблемы исторического выбора, осуществляемого социальными субъектами. Исторический выбор, будучи укорененным в глубинных пластах общественного бытия, диалектически связан с принципиальной многовариантностью социальной динамики. Развитие социума открыто, незапрограммировано, не подчинено действию каких-либо жестких закономерностей и однозначно не детерминировано ни каким-либо одним фактором, будь то политика, экономика или еще что-нибудь, ни даже всей совокупностью факторов, имевших место в предшествующий период развития. Оно в каждый момент истории готово к становлению нового, в каждый момент времени его будущее носит вероятностный характер и творится здесь и теперь. Из любой конкретной точки его бытия исходит не одно, а целый веер потенциально возможных направлений развития, степень вероятности утверждения которых может измениться в каждый последующий момент.
В социальной жизни характер становления нового, как правило, не предопределен жестко и однозначно содержанием старого. Новое всегда является сложным сплавом традиционных и нетрадиционных элементов, его природа зависит главным образом от современных социальных и политических условий. Даже специфика отрицания старого, т. е. сама форма негации, ее глубина, степень деструктивности, неизбежно оказывают определенное влияние на тенденции развития нового, в известной мере задают направленность последующему процессу общественных изменений. Но главное то, что новое обладает способностью к самодетерминации: возникающая общественная система опирается не просто на ту конфигурацию социально-политических сил, которая была характерна для предшествующей системы, но творит для себя соответствующие социальные образования, порождает адекватный для себя социальный базис, который впоследствии становится действенной ее опорой. В результате свершившийся социальный выбор в ряде случаев может привести к необратимым изменениям, на годы и даже многие десятилетия задать определенное направление развитию общества. Факторы же, повернувшие историю на этот путь, могут, с точки зрения своей общественной значимости, быть незначительными, во многом случайными. Реализовавшись, однако, они жестко определяют движение общества в новом направлении. Причем вероятность такого развития многократно возрастает, когда тот или иной проект преобразования общества становится идеологической доктриной какой-либо общественно-политической силы, монопольно властвующей в обществе.
Все это означает, что на конкретном историческом этапе, в сложном переплетении ветвящихся дорог общественной эволюции, исторических потенций и возможностей, решающую роль играют субъективный фактор, непредсказуемый человеческий выбор и поступок, случайное стечение обстоятельств. Именно они в преимущественной степени определяют конкретное «лицо» формирующихся новых исторических обстоятельств и уклада жизни людей. И если свершившееся конкретное событие никак не вкладывается в полосу прогрессивно-поступательного развития общества, то истории предстоит немало «потрудиться», чтобы преодолеть его последствия.
Историческая действительность, таким образом, является в значительной мере пластичной, способной к различным переменам. В сущности, если не к истории в целом, то к миру конкретных событий понятия «историческая закономерность» и «необходимость» надо применять весьма осторожно, с учетом игры случайностей и человеческих предпочтений. Нравится нам это или нет, история всегда будет представлять собой одну из выбранных и реализованных людьми возможностей, при этом далеко не всегда соответствующих оптимальному пути социального развития. Как свидетельствует исторический опыт, способностью к самодетерминации, обретению собственной, не вытекающей прямо из природы старого, логики развития обладает и тоталитаризм, сыгравший столь драматическую роль в истории XX в.
В наши дни альтернативность истории не требует особой верификации: факт ее наличия можно непосредственно наблюдать даже на уровне обыденного сознания. В последние полтора десятилетия XX в. мы стали свидетелями, а некоторые из нас даже действующими лицами разыгрывающейся на советском и постсоветском пространстве драмы выбора путей развития общества, столкновения и борьбы исторических альтернатив, побед одних из них и поражения других. На наших глазах зачастую рушилось за несколько дней то, что создавалось в течение долгого ряда лет. Мы, независимо от отношения к происходящему, пережили целую серию крутых метаморфоз истории – кризисных сдвигов в политической, социально-экономической и культурной жизни общества. Скорость протекания социальных процессов, непредсказуемых, часто трагичных и всегда касающихся каждого из нас, превзошла самую буйную фантазию. На авансцене политической жизни стали неожиданно появляться множество новых лиц, сменяющих друг друга, группирующихся, нападающих один на другого и защищающихся. Невозможно этот калейдоскоп событий, лиц, обстоятельств описать с позиций жесткого детерминизма.
Эмпирически наблюдаемые явления позволили исследователям сделать важный теоретический вывод: историческую свободу людей неправильно, как это было ранее, рассматривать исключительно как осознанную необходимость. Современный уровень социального познания требует осмыслить историческую свободу как осознанную возможность, т. е. как возможность исторического выбора из имеющих место в данной ситуации альтернативных путей развития, которые, как мы уже старались показать, история всегда имеет в запасе. Это значит, что люди обладают способностью преодолевать историческую инерцию и творить собственное будущее, осуществлять выбор этого будущего исходя из целого спектра исторических альтернатив, обладающих различной или одинаковой возможностью для реализации.
Благодаря особенностям развития социума субъект истории имеет возможность формировать пути истории, т. е. принимать исторически сложившуюся ситуацию и действовать в рамках инерции истории, либо направить свои усилия на изменения status quo, преодоление (углубление, расширение) наличного уровня исторической необходимости. Такого рода возможность исторического субъекта обусловливает субъективную сторону существования альтернатив истории.
Тем самым истории внутренне присуща альтернативность. Это объясняется реальным существованием в жизни социума различных противоборствующих политических, экономических и социальных структур, сил и тенденций разной направленности. Последнее обстоятельство позволяет придать исторической возможности (альтернативности) онтологический статус, идентифицировать ее как особую сферу реальности, признать ее укорененность в каждой точке социального пространства и в каждый момент социального времени.
Однако во избежание упрощения отметим, что тезис о свободе как осознанной необходимости не может быть отвергнут окончательно и во всех случаях. Хотя в истории, как правило, существует множество возможностей, тем не менее, в отдельных случаях могут возникнуть ситуации, когда будет иметь место лишь одна возможность. Правда, единственная возможность – предельный случай, который возникает лишь тогда, когда общество находится в критическом состоянии и исчерпаны все другие возможности, кроме гибели. Такая ситуация для отдельных народов мира неоднократно имела место (неслучайно некоторые исследователи рассматривают человеческую историю как кладбище цивилизаций и народов). В будущем (возможно, недалеком) такая ситуация станет реальностью для всего человечества, если оно не будет сообразовывать свое развитие с экологическим императивом и окажется не способным дать ответы на глобальные вызовы современности.
Но даже в критических ситуациях, вплоть до последнего момента имеются две возможности – гибель и предельная концентрация сил общественного организма с целью самосохранения. Реализация второй возможности требует от общества пресечения всякого противостояния классов и социальных групп, подчинения деятельности элит и масс единой общенациональной цели и воле, их готовности и способности идти на сверхусилия до выхода из критической ситуации. В этом случае историческая свобода и может выступить лишь в форме осознанной необходимости.
Проблема альтернативности теснейшим образом сопряжена с вопросом о роли случая в историческом процессе. Следует отметить, что социальная система является весьма чувствительной к проявлению случайности. В период социальной неустойчивости, в переходном состоянии, когда осуществляется крупный сдвиг в развитии общества и рождаются новые структуры, меняется диспозиция социальных сил, даже малая случайность может возыметь радикальное значение для дальнейшей судьбы общества в целом, т. е. в точках бифуркациии (если прибегнуть к синергетической терминологии) незаметные случайности могут привести к качественной перестройке системы, к коренному изменению дальнейшей траектории ее движения. Случай в данной ситуации означает гибкое начало, имеющее непосредственное отношение к появлению нового в процессе развития.
Разного рода случайности выполняли роль спускового механизма, импульса и почвы для экономического, политического, нравственного и любого другого выбора, становились в высшей степени значимым фактором движения социума. В некоторые моменты истории роль свободной воли отдельной личности или организованной социальной группы (даже небольшой) вполне может не раствориться в результате стихийно-спонтанного столкновения с волями других субъектов исторического процесса, а стать доминирующим и даже системообразующим фактором в процессе разворачивающихся событий, перейти с микроуровня на макроуровень. Правда, в спокойные эпохи в период более равновесного существования социальных систем, когда преобладают детерминистские связи и отношения, способные противостоять опасностям века, исторические случайности рельефно себя не обнаруживают.
Таким образом, будущее всегда есть результат синергетического эффекта множества социальных выборов, проб и ошибок, пересматриваемых и постоянно изменяемых решений. Например, в общественном развитии может сыграть весьма существенную роль совсем непредсказуемый по своей природе такой фактор (историческая случайность), как отдельная личность. При определенных условиях политические лидеры и вожди способны влиять на макросоциальные процессы, воздействовать на общественное развитие ничуть не меньше, чем объективные закономерности. Известно, что вернувшиеся после февральской революции из длительной эмиграции большевистские лидеры и не помышляли о скорой социалистической революции. Однако В.И. Ленин, обладая незаурядной силой внушения и убеждения, сумел их нацелить на немедленное вооруженное восстание. В результате седьмая (апрельская) Всероссийская конференция РСДРП(б) официально провозгласила курс на социалистическую революцию. Трудно переоценить роль и значение этого субъективного по своей природе решения в последующей исторической судьбе России. Прав был известный русский философ Н. Бердяев, когда он, имея в виду Октябрьский переворот, писал, что Ленин на практике сумел доказать способность незначительного организованного меньшинства прервать детерминизм социальной закономерности. Очевидным сегодня представляется и то, что в крушении Советского Союза существенную, если не решающую, роль также сыграл субъективно-личностный момент.
Идея нелинейности социальной среды как важнейшего условия ее самоорганизации позволяет по-новому понять исторический процесс в эволюционном смысле (различие стран и народов в достигнутом уровне социальной эволюции) и в мультикультурном (принципиальное социокультурное разнообразие стран и народов, находящихся на примерно одинаковом эволюционном уровне развития). Она также дает нам возможность осмыслить социальную динамику как устойчиво-неустойчивый, многомерный и вместе с тем целостный процесс, в рамках которого имеют место взаимопроникновение и взаимо-наложение различных по своему содержанию и направленности детерминистских импульсов, сфер и начал (детерминант) человеческого бытия – от природных до идеологических, что в своей действительности обеспечивает многоуровневый, поли-детерминистский подход в понимании движущих сил развития общества. Рассмотрение жизни общества в виде открытого, сложного и неоднородного взаимодействия основных компонентов, разных, имеющих свою специфику факторов, сил и тенденций, в ходе которого происходит чередование, взаимо-переходы хаоса и порядка, бесконечное становление полифонической целостности, показывает как невозможность существования единого идеального и универсального порядка для всех времен и народов, так и несостоятельность интерпретации истории как иерархии высших и низших ступеней, как непреложного движения вперед.
Все сказанное – это одна сторона правды. Другая ее сторона состоит в том, что многофакторность, многовариантность, стохастичность в развитии общества еще не означают в социальной жизни вообще отсутствие причинно-следственных связей и что поэтому нельзя предвидеть дальнейший ход общественных событий. Случайность, стихийность или сознательная концентрация усилий людей в определенном направлении могут сбить, отбросить с того или иного пути общественного развития, привести к сложным блужданиям в рамках спектра исторических альтернатив и возможностей. Но сам спектр возможностей и путей развития общества не безграничен. Ветвящиеся дороги общественной эволюции имеют конечное число, в определенной мере обусловлены прошлыми событиями и обстоятельствами, предшествующей исторической практикой.
Иначе говоря, логика истории диктуется долгосрочными факторами существования: природно-климатическими, геополитическими, цивилизационными, экономическими и пр. Она не так принудительна, как это представлялось сторонниками непреложных исторических закономерностей, бывает на своих развилках максимально открытой для всевозможных социально-утопических экспериментов, но она, как свидетельствуют факты, вовсе не безобидна и может быть довольно мстительной. В последнем нас особенно убеждают трагические последствия радикальных рыночных реформ, развернутых в России и ряде других стран СНГ.
Под покровом так называемой событийной истории скрывается глубинное течение исторического времени, которое обычно поверхностный взгляд не замечает так же, как не замечает он движения Земли вокруг своей оси. Например, никакие усилия людей древних обществ периода рычага и лопаты не смогли бы превратить эти общества в машинные, буржуазные, поскольку для такого превращения необходим длительный ряд столетий вызревания объективных предпосылок. Иными словами, случайность, субъективность, различные отклонения весьма существенно влияют на социальный процесс, но влияют не произвольно, а в рамках вполне определенного спектра исторических возможностей. Кроме того, когда общественная система выбирает определенный путь развития, дальнейшая ее эволюция происходит в рамках детерминистского поля, в соответствии с детерминистскими законами. Следовательно, случайное и необходимое в жизни социума не исключают, а дополняют друг друга.
Глава 12 Личность и массы в историческом процессе
Логика осмысления проблемы социального развития с необходимостью предполагает постановку вопроса о субъекте исторического выбора, той силе, которая является подлинным творцом исторических изменений. Категория субъекта исторического процесса весьма непроста для теоретического анализа и поэтому различным образом истолковывалась историками, философами, правоведами, социологами, а также государственными и политическими деятелями. Первая сложность заключается в том, что человек в процессе общественной жизни является одновременно и ее творцом, субъектом, и результатом, объектом. Этот диалектически противоречивый субъект-объектный статус человека и социальных групп затрудняет понимание того, в какой мере человек может влиять на историю. Второй сложностью является выяснение координационных и субординационных отношений между такими разнопорядковыми субъектами общественной жизни, как личность, народ, класс, человечество. Сложность усугубляется еще и тем, что в научной литературе до сих пор ведутся дискуссии о содержании и границах данных понятий, доходящие вплоть до отрицания некоторых из них.
Как было показано выше, история – это глубоко закономерный процесс, имеющий внутреннюю логику, не сводимую к логике жизнедеятельности отдельных индивидов. Но в то же время история есть продукт человеческих усилий по достижению своих частных целей и интересов. В некоторых случаях деятельность одного человека оказывала настолько мощное влияние на общество в целом, что становилась сопоставимой с ролью объективных железных законов истории. Вот почему выделение вопроса о том, насколько отдельная личность может повлиять на историю, всегда находилось в центре внимания социальной философии. Другими словами, одной из важнейших проблем осмысления исторического процесса является проблема роли личности в истории.
Сложилось несколько конкурирующих теорий о роли личности в истории. Первую из них П. Штомпка назвал героическим детерминизмом[67]. Главное положение этой теории заключается в том, что история есть исключительно продукт деятельности великих личностей, героев. Общетеоретическим основанием подхода являются принципы идеализма и волюнтаризма. Согласно идеализму «идеи правят миром» (выражение Вольтера), и поскольку их разрабатывают критически мыслящие личности, то они и являются детерминантами исторического процесса.
Классическая формулировка теории героического детерминизма дана в широко известной работе шотландского историка и философа Томаса Карлейля (1795–1881) «Герои, почитание героев и героическое в истории». «В каждой эпохе мировой истории мы обнаруживаем Великого человека, которого можно назвать его спасителем, той искрой, из которой разгорается пламя. История мира была биографией великих людей»[68]. Т. Карлейль проводит скрупулезный анализ нескольких категорий героев. Среди них те, кого уподобляют богам, кого рассматривают как наместников богов (пророки и священники) и поэты, писатели, правители (Магомет, Данте, Шекспир, Кромвель, Наполеон).
Последовательное применение этой теории сталкивается с серьезными трудностями. Одна из них – признание факта, что великие личности действовали в сложившемся социальном контексте, который определенным образом влиял на их деятельность. Если принять возражение, что данный социальный контекст есть наследие великих личностей, живших ранее, то вместо целостной картины общественной жизни мы получим раздробленную мозаику, состоящую из своеволия и капризов отдельных людей.
Вторая теория противоположна первой. Она строится на утверждении предопределенности курса истории и движимости внутренними побудительными силами и заблокированности от воздействия людей, в том числе великих героев. Сторонники этой теории провозглашают фатализм и рассматривают индивидов в качестве частиц, которых влекут за собой волны истории. В лучшем случае они являются носителями исторического процесса, воплощением истории, ее закономерностей, направлений и целей.
Одним из наиболее видных представителей данного подхода является Г. Гегель. Он убедительно показал, что в ходе истории возникают противоречия между существующими порядками и появляющимися возможностями их изменить. Эти возможности содержат некое всеобщее, т. е. нечто такое, что имеет огромное историческое значение. Но это всеобщее может быть первоначально реализовано лишь в деятельности отдельных индивидов, обладающих исключительными способностями и готовых к осуществлению всеобщего. И поэтому «историческими людьми, всемирно-историческими личностями являются те, в целях которых содержится такое всеобщее»[69].
Исторические личности появляются тогда, когда созревают необходимые условия для реализации значимых проектов, имеющих всемирно-историческое значение. Но потребность в подобном проекте, как правило, еще не осознана массами, и потому великие личности обладают блестящим умом и понимают глубинную тенденцию исторического процесса в данный момент. Тем самым они лучше постигают суть дела, нежели остальные люди. С точки зрения Гегеля, появление великих людей на исторической сцене необходимо и неизбежно, так как дальнейший прогресс общества становится невозможным из-за накопившихся противоречий между старым и новым. Великий человек разрешает эти противоречия и спасает всех от гибели. Г. Гегель отмечает, что когда цель достигается, то великие люди «отпадают как пустая оболочка зерна. Они рано умирают, как Александр, их убивают, как Цезаря, или их ссылают, как Наполеона на остров св. Елены».
Согласно Г. Гегелю и другим сторонникам социального фатализма великие личности – это продукт исторических времен, они лучше других отвечают требованиям эпохи. Такие требования закономерны, обязательны, и на них непременно должен кто-то откликнуться. Дело не в какой-то конкретной личности, на ее месте может оказаться другая, которая в любом случае выполнит необходимую историческую роль.
Этот довод высмеял Т. Карлейль: «Время зовет? Увы, мы знали времена, которые достаточно громко звали великого человека, но никто не отозвался на призыв! Провидение его не послало. Время звало изо всех сил, но вынуждено было отступить и потерпеть крах, потому что тот, кого звали, не пришел».
Итак, существуют различные ответы на вопрос, насколько отдельный человек может повлиять на ход истории. Одни обращают внимание на историческую необходимость и ее роль в формировании великой личности, другие утверждают производность самой необходимости от воли великого человека. Но эти точки зрения не противоречат друг другу при условии их рассмотрения не абстрактно, а в конкретно-исторических ситуациях.
Прежде всего следует подчеркнуть, что великая личность действительно может проявить себя только в особых исторических обстоятельствах. Выдающиеся люди должны найти благодатную почву для своих идей, открытий. Если это им удается, то они становятся способными вести за собой других и таким образом влиять на социальные процессы, изменять курс истории. Но если их идеи не соответствуют требованиям времени, не отвечают нуждам и чаяниям масс, то никакие уговоры или принуждение не помогут. Иными словами, никто не сможет сыграть исторической роли, если социальные обстоятельства этому не благоприятствуют.
Чтобы стать великой личностью, разумеется, одних внешних условий недостаточно. Человек, желающий оставить яркий след в истории, должен обладать личными характеристиками, необходимыми для выполнения трудных и масштабных государственных задач. Такая личность обязана иметь тонкий и проницательный ум, решительность, твердость в отстаивании убеждений, ответственность и, что очень важно, неразрывную духовную связь с народом, чьи нужды и чаяния она воплощает. Деятельность великого человека должна носить в целом конструктивный характер, но это не означает, что она должна всем нравиться и вызывать бесконечное одобрение. Без этих качеств человек не может стать великой личностью, если даже имеются соответствующие исторические условия и он оказался во главе процесса.
Человек, который свой личный талант и возможности ставит на службу своему народу, – подлинно великая личность. Он заслуживает не только благодарной памяти современников и потомков, но и признания и уважения со стороны идейных противников. Ярый роялист и сторонник Бурбонов, очень суровый критик и, можно сказать, враг Наполеона I Франсуа Рене де Шатобриан (1768–1848) вот как характеризовал деятельность французского императора: «Бонапарт велик не своими словами, речами и писаниями, не любовью к свободе, о которой он всегда очень мало заботился и которую даже и не думал отстаивать; он велик тем, что создал стройное государство, свод законов, принятый во многих странах, судебные палаты, школы, мощную, действенную и умную систему управления, от которой мы не отказались и поныне; он велик тем, что возродил, просветил и благоустроил Италию; он велик тем, что вывел Францию из состояния хаоса и вернул ее к порядку, тем, что восстановил алтари, усмирил бешеных демагогов, надменных ученых, анархических литераторов, нечестивых вольтерьянцев, уличных говорунов, убийц, подвизавшихся в тюрьмах и на площадях… велик тем, что прославил свое имя и среди диких, и среди цивилизованных народов, тем, что превзошел всех завоевателей, каких знало человечество прежде, тем, что десять лет подряд творил чудеса, ныне с трудом поддающиеся объяснению»[70]. Если говорить об отечественной истории, то, как бы ни критиковали Сталина, он остается великой личностью в истории, ибо его деятельность в целом носила конструктивно-созидательный характер. Он сыграл выдающуюся роль в организации победы над фашистской Германией, в превращении Советского Союза во вторую сверхдержаву мира. «Он, – как писал Черчилль, – получил Россию с сохой и оставил с атомной бомбой»[71].
Подводя итог, можно утверждать, что подлинные исторические изменения возможны лишь при взаимодействии великой личности и народных масс. Никто в одиночку, лишь своими силами не в состоянии изменить историю. Великая личность должна быть способна подвигнуть к действию других людей, мобилизовать их или сопротивляться им, вести за собой, устрашать силой или характером, соблазнять идеями, увлекать эмоциями – короче, вытаскивать из рутины и застоя. Таким образом, человек, удовлетворяющий всем этим требованиям, может в полной мере считаться великой личностью.
Важнейшим субъектом исторического развития является народ. Понятие «народ» имеет сложную теоретическую судьбу. Долгое время, вплоть до XVIII–XIX вв., за ним не признавалось самостоятельной роли в историческом творчестве, которое считалось результатом деятельности великих личностей. Переломным этапом стала Великая французская революция, наглядно продемонстрировавшая значение народных масс в истории. Однако и после нее излюбленными сюжетами исследователей долго оставались политика, дипломатия и право, т. е. сферы, в которых действуют представители высших социальных слоев. Только благодаря работам историков-романтиков О. Тьерри, Ф. Гизо и О. Минье статус субъекта общественной жизни приобрело третье сословие – простолюдины, которых они отождествили с буржуа и противопоставили двум привилегированным сословиям – дворянству и клиру. Следующий шаг в реабилитации понятия «народ» сделал марксизм, однако противоречиво и не до конца. Дело в том, что, с точки зрения марксистской философии и социологии, народ – это обязательно прогрессивная общность, как правило, занятая в материальном производстве. Однако народ способен не только к прогрессивным, но и к регрессивным действиям, а тем более не все представители народа ведут материально-производственную деятельность.
Для лучшего уяснения сути понятия «народ» соотнесем его с понятием «нация». В отечественной философской мысли было принято следующее определение нации: «Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психологического склада, проявляющегося в культуре». При исследовании нации советские исследователи исходили (и не могли не исходить, ибо нации в первую очередь возникли в Европе) из западноевропейских реалий генезиса наций и национальных отношений. А эти реалии связаны с выходом на авансцену истории буржуазии как мощной движущей силы общественного развития и, следовательно, с формированием буржуазных общественных отношений. Капиталистический способ производства потребовал для своего развития формирования крупных экономических и политических пространств и общенационального рынка, что в свою очередь предполагает наличие общей территории и общего языка. Поэтому вовлеченные в буржуазные общественные отношения социально-этнические общности стремятся к объединению, к тому, чтобы иметь общую территорию, общие экономические отношения, единое национальное государство, единый рынок, единый язык, на котором все смогли бы общаться. Таким образом, процесс формирования буржуазных отношений и нации как новой социальной общности людей представляет собой единый процесс. Но вместе с тем это и процесс формирования единого народа с общей экономикой, общей территорией, общим языком и общей культурой. Поэтому в Западной Европе понятия нации и народа вначале совпадали.
Советское определение нации исходило из тех реалий, которые существовали в Западной Европе в начале XX в. До сих пор данный подход к пониманию нации сохраняет научное значение и может использоваться в теоретическом анализе. Однако сложные этнодемографические процессы второй половины XX в. заставляют углубить наши представления о нации и о народе. Дело в том, что на территории европейских государств сегодня живут и имеют европейское гражданство представители неевропейских этносов: арабы, азиаты, негры и т. д. Как свидетельствует и непосредственный опыт, и социологические исследования, большая часть представителей этих этнических групп не идентифицирует себя с каким-либо европейским народом и не желает встраиваться в новую систему духовного производства.
Поэтому сегодня ряд исследователей предлагают различать понятия «народ» и «нация». В самом первом приближении нация есть социально-политическая и социально-экономическая общность, а народ – социально-этническая и социокультурная общность»[72].
Исходя из этого, дадим более развернутую характеристику народа. Каждый народ имеет несколько атрибутивных качеств, наличие и специфика которых конституирует его как культурную целостность. Во-первых, каждый народ имеет собственную историческую судьбу[73], выражающуюся во внутренней логике его развития, не могущей быть измененной отдельными индивидами или группами. Историческая судьба предполагает наличие сверхзадачи, трансцендентной цели, стремление к которой вносит смысл в существование данного народа. Например, реализация идеологемы «Москва – Третий Рим» может быть рассмотрена как важнейшее измерение исторической судьбы русского народа. Во-вторых, еще одно качество народа – общая вера и национальная идея, духовно цементирующие народ. Это прекрасно понимали лучшие представители русской культуры, которые, начиная с первой половины XI столетия, с митрополита Иллариона и его «Слова о Законе и Благодати», упорно искали такую идею. Продумывание национальной идеи особенно важно в кризисные, переломные эпохи, когда народ ищет новые пути развития. Именно тогда создаются манифесты национальной идеи, будь то «Речи к немецкой нации» Иоганна Готлиба Фихте (1764–1814) или «Русская идея» В. Соловьева. В-треть-их, атрибутом народа является единство исторической памяти и исторической перспективы. Одновременное присутствие в историческом бытии народа прошлого и будущего, памяти и проекта является залогом восходящего устойчивого развития. Резюмируя сказанное, отметим, что при отсутствии какого-либо из рассмотренных атрибутивных качеств народ не сможет состояться, а с утратой одного из них даже состоявшийся народ распадается.
В советской и в значительной степени постсоветской философии, историографии, литературоведении сложилась устойчивая традиция рассматривать народ как решающую силу исторического прогресса в силу следующих веских оснований.
1. Крупные сдвиги в технологическом укладе и в целом в материальном производстве, подготавливающиеся незаметными, исподволь накапливающимися изменениями в трудовой деятельности больших масс людей. Стремление каждого отдельного индивида (если это соответствует его интересам) повышать эффективность своего труда приводит к зримым трансформациям всей структуры общественного производства.
2. Роль народных масс в сфере общественно-политической жизни. Господствующие классы в большей или меньшей степени вынуждены были учитывать отношение народа к своей политике, что находит свое выражение в известных уступках требованиям трудящихся, на которые приходится время от времени идти господствующим классам под натиском масс. Каждая демократическая свобода либо учреждение, которыми по праву гордятся развитые страны Запада, появились в свое время под напором борьбы народных масс. Но особенно ощутима решающая роль народных масс в эпохи социальных революций. Такая оценка относится не только к позитивному, но и к негативному вкладу масс в революцию. Если, с одной стороны, кардинальное переустройство общества невозможно без активного вмешательства масс, то, с другой стороны, цена преобразований во многом определяется уровнем их культуры, который не всегда находится на должном уровне.
3. Народ является подлинным творцом духовной культуры. Народ создает и хранит язык, в котором закрепляются неповторимые образы мира и человека, нравственные ценности и общественные идеалы. Народное искусство подготовило появление профессионального и по сей день питает его своими сюжетами, своей мудростью, своими изобразительными средствами. Произведение искусства, философии, науки лишь тогда приобретает подлинную культурную ценность, когда явно или опосредованно выражает чаяния народа, потребности его прогрессивного экономического, социального, нравственного и умственного развития.
Высокая оценка роли народных масс и порождаемых ими великих личностей, присущая в основном марксистской историософии, сегодня подвергается аргументированной критике. Сложные и противоречивые процессы массовизации, атомизации, глобализации и подобное ставят под сомнение возможность проявления народом исторической субъектности, а действия отдельных личностей все чаще растворяются в безличных сетях информационных, политических и иных коммуникаций. Как итог осмысления этого социального опыта в социально-гуманитарном знании сложились концепции, предлагающие иную трактовку проблемы субъекта общественно-исторического процесса.
Одной из наиболее популярных является концепция элитизма (элитаризма), предложенная итальянскими социологами Вильфредо Парето, Гаэтано Моска, а также немецким политическим философом Робертом Михельсом (1876–1936). Много интересных суждений о значении элиты в жизни общества и развитии культуры высказал Ф. Ницше. Согласно концепции элитизма общество делится на две неравные части: элиту и массу. Различие между ними проходит по линии личностной зрелости и вытекающих из нее компетентности, способности к сложным видам деятельности, интеллектуальной развитости. Сторонники элитизма утверждают, что единственным субъектом истории является элита, тогда как масса представляет собой пассивный материал для реализации ее замыслов.
В. Парето утверждал, что между элитой и остальной массой населения постоянно происходит обмен: часть элиты перемещается в низший слой, а наиболее способная часть последнего пополняет состав элиты. Процесс обновления высшего слоя Парето называет циркуляцией элит. Благодаря циркуляции элита находится в состоянии постепенной и непрерывной трансформации.
Циркуляция элит функционально необходима для поддержания социального равновесия. Она обеспечивает правящую элиту необходимыми для управления качествами. Но если элита оказывается закрытой, т. е. циркуляция не происходит или происходит слишком медленно, это приводит к деградации элиты и ее упадку. В то же время в низшем слое растет число индивидов, обладающих необходимыми для управления чертами и способных применить насилие для захвата власти. Но и эта новая элита утрачивает способность к управлению, если она не обновляется за счет представителей низшего слоя.
По теории Парето, политические революции происходят вследствие замедления циркуляции элиты либо по причине накопления элементов низкого качества в высших слоях. Революция выступает как своего рода альтернатива, компенсация и дополнение циркуляции элит. В известном смысле сущность революции и состоит в резкой и насильственной смене состава правящей элиты. При этом, как правило, в ходе революции индивиды из низших слоев управляются индивидами из высших, так как последние обладают необходимыми для сражения интеллектуальными качествами и лишены тех качеств, которыми обладают как раз индивиды из низших слоев.
Иную трактовку соотношения элиты и массы предложил испанский философ X. Ортега-и-Гассет в своей знаменитой книге «Восстание масс» и в ряде других работ. Он аргументировал тезис о том, что масса, ранее занимавшая подчиненное и вторичное положение в системе общества, сейчас вышла на авансцену истории, стала формировать саму ткань общественной жизни, определяя ее содержание и ход развития. Мыслитель весьма критично воспринимает складывающуюся ситуацию, полагая, что залогом успешности развития любого общества является аристократизм, тогда как масса бесконечно далека от любой формы аристократичности. «Масса – всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же «как и все», и не только не удручен, но доволен собственной неотличимостью… Особенность нашего времени в том и состоит, что заурядные души, не обманываясь насчет собственной заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всюду… Масса сминает непохожее, недюжинное и лучшее. Кто не такой, как все, кто думает не так, как все, рискует стать изгоем… Такова жестокая реальность наших дней, и такой я вижу ее, не закрывая глаз на жестокость»[74].
В современной философии, культурологии, психологии и других социально-гуманитарных науках эти идеи оказались весьма востребованными и получили широкое распространение по причине усиления тенденции массовизации всех сторон общественной жизни. Сегодня уже можно констатировать, что тип человека-массы окончательно сформировался и занял господствующее положение в социальной системе европейских и постсоветских стран. К характерному признаку этого типа относится социальная дезориентированность относительно ценностей и приоритетов даже жизненно важного плана (цель и смысл жизни, жизненный идеал и т. д.). Из-за одновременного распространения противоречивых, порой взаимоисключающих суждений сознание массового индивида погружено в бульон не-проваренной и взаимонесовместимой информации, что затрудняет адекватную ориентацию, порождает безразличие, апатию, анархичность настроений. Следствием этого является психическая неустойчивость, некритичность, легковерие, внушаемость. У массового человека понижена способность к рассуждению, на него большее впечатление производит не аргументированный и обоснованный анализ, а энергичное, уверенное, пусть и легковесно бездоказательное утверждение: подчиняя волю, оно снимает с человека необходимость принимать самостоятельное решение, а следовательно, и нести ответственность. Массовый человек нередко бывает сентиментален, однако в то же время он не чувствителен к чужой боли, не склонен (в известной мере вследствие частичной атрофии эстетических чувств и способностей) к сопереживанию, эгоистичен, равнодушен к мнению, достоинству и даже жизни другого человека. Похоже, будто утрачен какой-то особый нерв, отвечающий за чувство причастности к самому человеческому роду, и эту свою связь с ним человек уже не ощущает.
Погруженность массового человека в экранную культуру приводит к ослаблению способности к размышлению, глубинным ассоциациям, перспективному воображению. На этом фоне психологи отмечают снижение способности к концентрации, следовательно, к умению и способности сосредоточения (а значит, к обучению), т. е. разрушается основа, на которой возможно формирование глубоких устойчивых чувств, способности сопереживания и т. п. Замену идеалов и ценностей стандартами и модой можно рассматривать как следствие разрушения способности к долговременному, перспективному построению мыслительно-образных программ, что формирует упрощенный, вульгаризованный взгляд на действительность, который к тому же деромантизирован даже у молодежи.
В целом массовый человек отличается меньшей степенью подавления бессознательного, ибо компоненты массовой культуры воздействуют на подпольные пласты психики, на иррациональную составляющую души, которая находится вне постоянного контроля сознания. У такого человека легко высвобождаются инстинкты, ослаблены моральные запреты, он руководствуется простейшими, сиюминутными стимулами и мотивами, импульсивен, переменчив, способен лишь к относительно краткосрочным программам действия. Особенностью массового человека становится то, что он не только отвыкает от отвлеченных умственных усилий, но и часто предпочитает иллюзии. Правда ему безразлична, особенно если она ему неудобна и разрушает состояние спокойного полусна, в котором он пребывает. Такое состояние представитель американской трансперсональной психологии Ч. Тарт называет согласованным (координированным) трансом[75], считая это разновидностью измененного состояния сознания в отличие от сознания, полностью осознающего себя.
Массовый человек становится все более опустошенным при всем многообразии и яркости внешнего наполнения его бытия, все более внутренне безликим и бесцветным при внешней претенциозности «оформления» его присутствия в мире – его потребностях, запросах и т. п. Предприимчивый и инициативный массовый человек в действительности все менее способен к самостоятельному решению проблем: как отдыхать, ему советует туристское бюро, как одеваться – определяет мода, кем работать – рынок, как вести себя – имиджмейкер, как жениться – астролог, как жить – психоаналитик, и т. д. Походы в консерваторию или картинную галерею заменяет шоппинг, все более становящийся теперь самостоятельной формой отдыха, времяпрепровождения[76].
Но самое важное и трагичное состоит в том, что процессы массовизации не обошли стороной и элиту, которая сегодня практически в полном объеме представлена типом массового человека. Прежняя элита существовала как своего рода оппозиция «массе» и представляла собой более высокий уровень социальной стратификации, прежде всего в культурно-духовном отношении. Элита считала себя призванной способствовать повышению культурного уровня народных масс, создавала программы формирования всестороннего развития личности и, наконец, сама являла образцы культурной деятельности, пропагандировала и поддерживала высокое искусство. Сейчас так называемая элита противостоит массе не в культурном отношении, а лишь в обладании властью. Нынешняя элита не может служить образцом в культурном отношении и не испытывает чувства ответственности перед народом. Буржуазные отношения с их принципом всеобщего равенства перед деньгами привели в элиту того же массового человека, но более успешного, более активного и удачливого, чем остальные.
По сути, сегодняшняя элита по своему мышлению представляет собой группу массовых людей, оказавшихся в силу ряда причин (как лично обусловленных, так и случайных, особенно в нашей отечественной действительности) в составе некой управляющей группы, состоящей из политиков, финансистов, менеджеров самого разного профиля и уровня (от чиновников транснациональных корпораций до президентов), а также руководителей различных форм масс-медиа, которые одновременно входят в эту управляющую группу и сами наняты ее верхушкой для обслуживания ее интересов. И если раньше масса по отношению к элите выступала как опекаемая ею, то теперь – только как управляемая. Поэтому новая элита фактически сама заинтересована в ухудшении «качества» людей, ибо толпой легче управлять.
Низкое качество современной постсоветской элиты зафиксировано многими исследователями. Например, М. Ремизов выделяет следующие качества российского высшего слоя – крупного бизнеса и верхушки бюрократии:
• короткий горизонт сознания и целеполагания, что выражается в отсутствии способности мышления в надличностных категориях;
• фетишизм в отношении к деньгам и предметам потребления, т. е. поклонение им – деньгам и предметам, а не тому, что их создает. А создают их общественные отношения и присущая человеку способность к труду и творчеству. Эта особенность делает типового российского «элитария» эталонным потребителем, а не создателем стоимостей;
• провинциализм, выражающийся, в частности, в том, что российский истеблишмент воспринимает интеграцию в западную элиту как самоцель. И тем самым объективно обесценивает собственные статусные позиции, ставя под вопрос всю систему, внутри которой они сформированы[77].
Современный экономист М. Делягин в процессе анализа такого важнейшего компонента элиты, как информационное сообщество, т. е. группы людей, профессионально занимающихся формированием общественного сознания путем применения информационных технологий, пришел к выводу, что внешняя яркость, энергетика, умение произвести нужное впечатление «трагически сочетаются с внутренней пустотой, интеллектуальной скудостью и граничащим с убожеством догматизмом»[78].
Убедительное социально-философское объяснение данному феномену дал А.С. Панарин. Он показал, что в мире обнаружилась тенденция выхода элит из-под социального контроля, обусловленная падением СССР и временным ослаблением социалистической идеи. Во всем мире экономические и обслуживающие их интеллектуальные элиты все более открыто начали заявлять о необходимости пересмотра прежних соглашений с обществом, которые мучительно вырабатывались на протяжении XIX–XX вв. Суть этих соглашений состояла в том, что крупный бизнес, имея возможность законно обогащаться, возлагает на себя социальную ответственность, выражающуюся в высокой ставке налога на сверхдоходы, соблюдении трудового законодательства, участии в значимых общественных проектах. Сегодня найденный компромисс все чаще и чаще нарушается со стороны элитных группировок[79].
В большинстве стран на постсоветском пространстве это общемировое противоречие многократно усилено специфическими местными реалиями. Процессы приватизации и формирования нового слоя экономической элиты были осуществлены юридически и морально нелегитимно – товарищи по партии и товарищи из спецслужб тайком поделили собственность за спиной народа, оставив подавляющую часть населения своих стран обездоленными. Очевидно, что в процессе «большого хапка» на привилегированных уровнях социальной лестницы оказались далеко не лучшие, что противоречит самой сути элиты. Тем самым можно обоснованно утверждать, что процесс дезертирства элит – это всемирный феномен, имеющий далеко идущие последствия, касающиеся изменения самой сути общественных отношений и закономерности общественного развития.
Глава 13 Основные типы социальных изменений: эволюция, революция, трансформация
Осмысление проблемы социальной закономерности неизбежно приводит к решению вопроса о том, каким образом и в какой форме она реализуется в общественной жизни, т. е. к вопросу о типах изменений, характерных для социальной системы. В социальной философии и общественных науках традиционно выделяют два основных типа – эволюционный и революционный пути развития, а в последние десятилетия стали активно обсуждать возможности трансформационного преобразования социума. Рассмотрим каждый из них.
В самом первом приближении под эволюцией можно понимать количественные изменения, а под революцией – качественные скачки. Однако такой взгляд является чрезмерным упрощением проблемы. В действительности дело обстоит намного сложнее. Уже в конце XVIII в. один из основоположников эволюционного учения в биологии Жан Батист Ламарк (1744–1829) утверждал, что развитие – это не просто рост, не постепенное увеличение одного качества, но порождение нового качества, замещение им ранее бывшего. Признаком же, отличающим эволюцию от революции, выступает медленная, без перерывов постепенности и резких взрывообразных потрясений всей системы замена старого на новое.
В общественных науках модель эволюционных изменений развивалась такими учеными, как О. Конт, Г. Спенсер, Эдуард Бернштейн (1850–1932). Работы О. Конта и Г. Спенсера способствовали формированию идей буржуазного либерализма и их распространению в рабочем движении в виде реформизма. О. Конт в равной мере выступал как против традиционалистов, так и против радикалов, объявлявших единственным условием прогресса революционное разрушение. Стремясь преодолеть характерное для эпохи Просвещения противопоставление социального порядка и прогресса, Конт мечтал об обществе, в котором социальный порядок не приводит к застою, а прогресс – к революционной анархии. Он писал: «Основное согласование между порядком и прогрессом составляет еще более неотъемлемое преимущество позитивизма… Порядок становится… неизменным условием прогресса, между тем как прогресс составляет беспрерывную цепь порядка»[80]. Общественный прогресс, считал Конт, должен опираться на духовные, реформационные преобразования. Вопреки либеральному оптимизму он оценивал складывающиеся раннекапиталистические отношения как проявление глубокого кризиса. С социалистами же его разделяло отрицательное отношение к революционному преобразованию общества.
С наибольшей полнотой идеи эволюционизма воплотил в своем творчестве английский мыслитель Г. Спенсер. Он одним из первых попытался рассмотреть общество как живой организм, и потому его по праву называют родоначальником органической школы в социологии, согласно которой функции общественных институтов и учреждений сравниваются с функциями отдельных органов и частей организма. Основным законом общественного развития он считал выживание наиболее приспособленных обществ, а уровень их развития связывал с разделением общества на отдельные группы и классы. Интересно отметить, что именно Спенсер повлиял на представления Дарвина о борьбе за существование и выживание наиболее приспособленных как факторе эволюции природы. В области общественных отношений он горячо защищал принципы индивидуальной свободы и конкуренции. Всякое вмешательство в естественный ход событий, а тем более социалистическое планирование, по его мнению, приводит к биологическому вырождению, поощрению худших за счет лучших.
История, согласно учению Спенсера, есть глубоко объективный процесс и не является продуктом сознательного творчества социальной группы или отдельной личности. Напротив, сама человеческая деятельность, ее цели и намерения должны получить естественное обоснование в законах социальной эволюции. Задачей общественных наук в этой связи является изучение массовых явлений, социальных фактов, раскрывающих действие всеобщих законов эволюции, процессов, совершающихся независимо от воли отдельной личности, их индивидуальных свойств и субъективных намерений. Из его теоретических посылок логично вытекает низкая оценка государства как субъекта общественной жизни. Г. Спенсер был сторонником ограничения роли государства в современном обществе, поскольку сильное государство ведет к ограничению индивидуальной свободы и может исказить естественное течение социальных процессов.
Еще одним видным сторонником эволюционного пути развития был немецкий философ и политический деятель Э. Бернштейн. Он находил возможным осуществить переход к социалистическому обществу путем реформирования капиталистического строя, т. е. без крупных социальных потрясений. По этому пути пошли многие страны Запада, в том числе Швеция, Дания, Норвегия, Канада, Финляндия, Исландия. Они смогли реализовать проект синтеза сущностных черт капитализма и социализма путем медленных политических преобразований и грамотных экономических реформ. Их опыт оказался весьма интересным, и хотя недавние глобальные потрясения заставили пересмотреть некоторые принципы жизнестроения этих стран, тем не менее проект общественного развития, предложенный ими, сохраняет свое значение.
Таким образом, понятие эволюции используется как в естественных, так и в социально-гуманитарных науках для описания развития систем разного типа. При этом эволюция в широком смысле – это синоним развития, точнее, это процессы, которые в социальных системах ведут к усложнению, дифференциации, повышению уровня организации системы. Эволюция в узком смысле включает лишь постепенные количественные изменения, противопоставляемые качественным скачкам, т. е. революции.
Революция — это изменение во внутренней структуре системы, которое становится связующим звеном между двумя эволюционными стадиями в развитии социальной системы, это коренное качественное изменение, т. е. скачок. В ходе революции происходят глубинные трансформации всей системы общественных отношений, причем происходят резко, быстро, взрывообразно. В отечественной науке проблема революций осмыслена довольно полно, и в частности указывается, что методологической основой ее анализа является диалектический закон отрицания отрицания. Революция в этом смысле есть проявление диалектического отрицания. Советские обществоведы широко использовали гегелевский термин «снятие», в котором органически сопряжены три смысловых плана: упразднение, сохранение и подъем. Диалектическое отрицание обозначает устранение, уничтожение, отбрасывание старого, но не любого старого, а того, что не отвечает изменившимся условиям и препятствует дальнейшему развитию. При этом оно вбирает, удерживает и сохраняет все жизнеспособное, перспективное, ценное, что есть в отрицаемом состоянии, что было в предшествующем развитии. Наконец, диалектическое отрицание дает жизнь новому качественному состоянию, новой стадии развития. Важно отметить, что в реальном революционном процессе, в конкретном ходе его развития на первый план может выступать любой из трех аспектов диалектического отрицания.
Тем самым советские обществоведы абсолютизировали конструктивную роль революции, ее созидательные возможности. Представляется, что социальная революция несет в себе черты, которые гораздо глубже могут быть отражены с помощью категорий деструктивного отрицания или социального нигилизма. Многие революции сопровождались разгулом таких варварских стихий, что становится чуть ли не бессмысленным говорить о каком-то революционном созидании. Так, в первые годы и даже десятилетия после Октябрьской революции восточнославянские народы пережили страшный период тотального отрицания своей культуры, истории, национальной субъектности. Идеологи пролеткультовского движения призывали «сбросить за борт современности» русских писателей и поэтов А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя и других, глумились над выдающимися страницами русской истории, уничтожали целые пласты отечественной культуры (религию, отдельные сферы науки и философии, классическое искусство). А.В. Луначарский, в то время народный комиссар просвещения (в ведение которого входили наука и искусство), отмечал, что в своей практике он неоднократно сталкивался с работниками, ошибочно понимавшими задачи партии в отношении культуры. Он писал: «Люди, полные революционным пылом (в лучшем случае, а иногда не менее почтенными страстями), много кричали о «культурном Октябре», они представляли себе, что в один прекрасный час какого-то прекрасного месяца не менее прекрасного года произойдет параллельно взятию Зимнего дворца взятие приступом Академии наук или Большого театра и водворение там новых людей, по возможности пролетарского происхождения или, во всяком случае, любезно улыбающихся этому пролетариату» (Известия ВЦИК, 1922, 3 ноября). Предлагалось провести полный разгром в вузах и начать строить новые, ликвидировать старых специалистов науки, создать новые программы по математике, физике, в которых было бы все «наоборот», и т. п. В период так называемой культурной революции в Китайской Народной Республике огромный вред развитию науки и культуры был нанесен хунвейбиновским вандализмом, прикрывавшим свое дикое варварство вывеской идеологии пролетариата.
Об этих и других опасностях революции прозорливо предупреждали русские мыслители Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Петр Бернгардович Струве (1870–1944), С.Л. Франка другие. В сборнике статей «Вехи» критиковали позицию утопического прожектерства, мечтаний о наступлении социализма в ближайшем будущем и возможности фантастического скачка из «царства необходимости» в «царство свободы». Суть дела, как писал Струве, «не в том, как делали революцию, а в том, что ее вообще делали»[81], подчеркивая, что смысл его утверждения связан именно с понятием «делание», выражающим неоправданное вмешательство в исторический процесс с целью его ускорения «революционным взвинчиванием рабочего класса», провоцирующим государство на террор.
При всех индивидуальных трактовках революции, ее причин и результатов, авторы сборника «Вехи» были единодушны в одном – интерпретации ее как нарушения естественного хода исторического процесса. Такое понимание органично вытекало из общей историософской концепции сборника, суть которой состояла в понимании исторического процесса как объективации, т. е. выражения вовне, внутреннего мира человека. В основе веховской концепции лежало признание первичности духовной жизни личности над социальными формами – в том смысле, что при наличии связи между обоими началами исходной точкой общественного развития и совершенствования является сознание, а не мертвая сила утверждений. Тем самым русские мыслители выступили против понимания революции как локомотива истории и прогрессивного в своей сущности социального феномена.
Вопрос о причинах и движущих силах социальной революции также дискуссионен. Многообразие позиций обусловлено принадлежностью исследователей к тем или иным философским школам и течениям, ценностным отношением к изучаемому явлению, а также тем обстоятельством, что в XX–XXI вв. произошла целая серия революций во всем мире, особенно в Восточной и Центральной Европе, затронувших в том числе и восточнославянские народы. Рассмотрим классические и современные теории, отвечающие на вопрос об источнике и закономерностях протекания социальных революций. В отечественной науке советского периода наибольшую известность получила ленинская трактовка причин возникновения революции. Введенное В.И. Лениным в научный обиход понятие «революционная ситуация» охватывает совокупность объективных условий, выражающих социально-экономический кризис данного общества и определяющих возможность политического переворота.
Революционная ситуация, по В.И. Ленину, характеризуется следующими признаками:
• невозможностью для господствующих классов сохранить в неизменном виде свое господство;
• обострением, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных классов;
• значительным повышением активности масс, в мирную эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена привлекаемых как всей обстановкой кризиса, так и самими верхами к самостоятельному историческому выступлению[82].
Широко известна теория русско-американского социолога Питирима Александровича Сорокина (1889–1968), развитая им в книге «Социология революций» по горячим следам революции 1917 г. и Гражданской войны. П. Сорокин, понимая под причинами восстаний и войн «комплекс условий, связь событий, обрамленных в причинную цепочку, начало которой теряется в вечности прошлого, а конец – в бесконечности будущего»[83] и подчеркивая, что непосредственной предпосылкой всякого «революционного отклонения в поведении людей» всегда было «увеличение подавленных базовых инстинктов большинства населения, а также невозможность даже минимального их удовлетворения»[84], выделял следующие причины: 1) «подавление» голодом «пищеварительного рефлекса» большой части населения; 2) «подавление» инстинкта самосохранения деспотическими экзекуциями, массовыми убийствами, кровавыми зверствами; 3) «подавление» рефлекса коллективного самосохранения (семьи, религиозной секты, партии), осквернение их святынь, измывательства над их членами в виде арестов и т. п.; 4) неудовлетворение потребностей людей в жилище, одежде и подобном даже в минимальном объеме; 5) «подавление» полового рефлекса большинства населения во всех его проявлениях (в виде ревности или желания обладать предметом любви) и отсутствие условий его удовлетворения, наличие похищений, насилия жен и дочерей, принудительного замужества или разводов и т. п.; 6) «подавление» собственнического инстинкта масс, господство бедности и лишений, и в особенности, если это происходит на фоне благоденствия других; 7) «подавление» инстинкта самовыражения или индивидуальности, когда люди сталкиваются, с одной стороны, с оскорблениями, пренебрежением, перманентным и несправедливым игнорированием их достоинств и достижений, а с другой – с преувеличением достоинств людей, не заслуживающих того; 8) «подавление» у большинства людей их импульса к борьбе и соревновательности, творческой работе, приобретению разнообразного опыта, потребности в свободе (в смысле свободы речи и действия или прочих неопределяемых манифестаций их врожденных наклонностей), порождаемой «чересчур уж мирной жизнью», монотонной средой обитания и работой, которая не дает ничего ни мозгу, ни сердцу, постоянными ограничениями в свободе общения, слова и действий. Это, по мнению Сорокина, неполный список причин. При этом он подчеркивает, что и сила «подавления» наиболее значимых инстинктов, и их совокупное число влияют на характер «продуцируемого революционного взрыва».
В современном западном обществоведении значительной популярностью пользуется структурный подход к пониманию революции американской исследовательницей Т. Скочпол. Она многое позаимствовала из марксистской теории, пересмотрев ее по ключевым вопросам понимания государства и оценки роли крестьянского фактора в нем. Опираясь на теоретическое наследие М. Вебера, а также работы Е. Тримбергер, М. Блока и других, Скочпол предложила трактовать государство как «совокупность административных, полицейских и военных организаций, возглавляемую и в большей или меньшей степени координируемую исполнительной властью». Рассматривая государство как «потенциально автономную структуру», со своей собственной логикой и целями, она утверждала, что ее действительная автономность обусловливается конкретными историческими обстоятельствами, а не априорным подходом к государству как к арене столкновения различных экономических интересов или орудию господствующего класса.
Под социальной революцией Т. Скочпол понимала «стремительные радикальные трансформации государственных и классовых структур общества, которые сопровождаются и частично поддерживаются классовыми восстаниями снизу». Постижение причин революции и последующего восстановления государственной системы возможно, по Т. Скочпол, только при соотнесении фактора «международного давления» с классово структурированными экономиками и политически организованными интересами. Итак, основу структурного подхода, по мнению исследовательницы, составляют принцип потенциальной автономии государства и концепция международного и всемирно-исторического контекста на фоне классовых противоречий внутри общества.
Анализируя причины возникновения революций во Франции, России и Китае, Т. Скочпол обратила внимание на то, что во всех этих случаях наблюдались коллапс (дисфункция) административного или военного аппарата, широкомасштабные крестьянские волнения и политические движения «маргинальной элиты». Еще одним ключевым фактором служило «международное давление» (военные кампании), которое подрывало осуществление планов модернизации.
Интересную концепцию революционных изменений предлагает американский социолог Дж. Голдстоун, который предпринял успешную попытку синтезировать существующие подходы к данной проблеме и выработал интеграционную теоретическую модель. В отличие от своей университетской наставницы Т. Скочпол, Голдстоун более оптимистично настроен в отношении создания общей концепции революции, хотя и полагает, что каждый фактор должен рассматриваться в контексте конкретных условий и во взаимосвязи с другими переменными анализа.
Переосмысливая понятие революции, Дж. Голдстоун предложил перейти от социального понимания феномена к более нейтральной трактовке – как «принудительного низложения формы правления, сопровождаемого реконсолидацией власти новыми группами, осуществляющими руководство через новые политические (иногда социальные) институты». В то же время ученый сохранил в своем анализе принцип «потенциальной автономии государства» и разграничил процессы государственного распада, борьбы за власть и последующего восстановления государства. Каждый процесс, по его утверждению, имеет свою собственную динамику и требует отдельного каузального анализа.
Голдстоун описал три источника, необходимых для возникновения революции:
1) финансовое (ресурсное) истощение государства. Речь идет об уменьшении ресурсов, имеющихся в распоряжении государства, относительно его расходов и обязательств, с одной стороны, и ресурсов потенциальных внутренних и внешних противников, с другой;
2) отчуждение и конфликт внутри элиты, которая состоит из людей, пользующихся особым влиянием благодаря высокому положению в иерархических структурах. Формирующаяся контрэлита открыто противодействует политическому курсу, образует коалицию и выдвигает требования по реформированию системы;
3) высокий потенциал мобилизации населения, т. е. желание людей улучшить свои социальные и статусные позиции посредством актов прямого политического действия.
Триаду источников дополняют экономико-демографические условия возникновения революции – инфляция (особенно в условиях неэффективности государственных институтов) и рост численности населения.
Радикализирующее воздействие демографического фактора на ситуацию в современном мире, по Голдстоуну, проявляется в следующем:
• растет сельское население в условиях частной собственности на землю;
• несоизмеримо с экономическим ростом увеличивается численность городских жителей;
• становится все больше выпускников высших учебных заведений, несмотря на ограниченный доступ к высоким статусным и социальным позициям и сильную конкурентную борьбу за них;
• в условиях слабости политических институтов непропорционально велика доля лиц от 15 до 25 лет по отношению к численности взрослого населения;
• наблюдается миграция населения из регионов с иной этнической или политической идентичностью.
Под международным фактором возникновения революции понимается не просто военное или экономическое соперничество государств на международной арене, а их включенность в альянсы и мировую систему разделения труда. Политическая и экономическая поддержка со стороны союзников может иметь как позитивные (усиление государства), так и негативные (например, раскол и отчуждение элиты) последствия. Иностранные компании своими действиями либо способствуют притоку инвестиций и подъему экономики, либо истощают национальные ресурсы и тормозят процесс преобразований, в том числе развития классов управленцев и квалифицированных специалистов, либо даже препятствуют ему.
Анализируя в данном контексте причины революций в странах третьего мира, Дж. Голдстоун описывает неразрешимую дилемму, перед которой оказывались правящие режимы. С одной стороны, они должны были сохранять поддержку сверхдержавы, которая оказывала им военную и финансовую помощь, с другой – поддержку внутренних элит, ориентированных на независимое положение своей страны в мире. Действия режима навстречу любой из сторон подрывали его так же, как и бездействие. Отсюда вывод Голдстоуна: при возникновении подобной неразрешимой дилеммы в условиях структурных дисбалансов различных сфер жизни общества нестабильные, неопатримониальные государства терпят крах (Иран, Никарагуа, Филиппины).
Американский ученый предложил, на наш взгляд, продуктивное решение проблемы завершения революции. Дж. Голдстоун выделил слабый и сильный варианты завершения революции. В слабом варианте революция заканчивается тогда, когда «важнейшим институтам нового режима не грозит активный вызов со стороны революционных или контрреволюционных сил»[85]. Например, революция во Франции завершилась в Термидоре 1799 г. после захвата власти Наполеоном. Октябрьская революция – после победы большевиков над белыми армиями и консолидацией политической власти в 1921 г. В свою очередь согласно сильному варианту завершения революции «она заканчивается лишь тогда, когда политические и экономические институты отвердели в формах, которые остаются неизменными в течение значительного периода, допустим 20 лет»[86], однако эта формулировка меняет суть определения слабого варианта завершения революции. Получается, что Великая французская революция завершилась с провозглашением в 1871 г. Третьей республики, Великая русская – в 1930-е гг., когда И.В. Сталин консолидировал политическую власть, а под большевистскую диктатуру было подведено экономическое и социальное основание. Более того, окончательное примирение русского общества с коммунистическим режимом вообще произошло лишь после победы в Великой Отечественной войне.
В последние десятилетия в научной литературе активно обсуждается возможность общественных преобразований, соответствующих теоретической модели трансформации. Повышенное внимание исследователей и политиков к ней обусловлено тем обстоятельством, что социальные издержки революции, как правило, недопустимо велики и многократно превышают те обретения, которые были получены в ее ходе. Эволюционный же путь развития не пригоден для решения масштабных задач выхода из глубокого кризиса либо качественного изменения социальной системы в соответствии с требованиями времени.
Термин «трансформация» (от лат. transformare – изменять, преобразовывать, превращать) первоначально использовался в технике, физике, математике, генетике, но с 1950—1960-х гг. стал широко использоваться для описания радикальных структурных перемен, перехода общества к качественно иному состоянию организации. Социальная трансформация – это изменение социального бытия людей, социетального типа общества, обусловленное внешними факторами и внутренней необходимостью, постепенное, но в то же время радикальное и относительно быстрое. Главными чертами, отличающими трансформацию от иных форм социальных изменений, являются:
• направленность на изменение не отдельных частных сторон, а сущностных черт, определяющих социетальный тип общества;
• постепенность и относительно мирный характер протекания;
• неизбежность, длительность и глубина аномии, обусловленной опережающим разложением старых общественных институтов по сравнению с созданием новых;
• принципиальная зависимость хода и результатов процесса от деятельности и поведения не только правящей верхушки, но и массовых общественных групп;
• слабая управляемость и предсказуемость процесса, важная роль стихийных элементов развития, непредрешенность его итогов.
Движущими силами трансформационного процесса в той или иной степени являются все элементы социальной структуры общества, хотя формы, механизмы и эффективность их участия в этом процессе неодинаковы. Интенсивность и направленность трансформационной активности разных общественных групп определяется, во-первых, имеющимися у них возможностями воздействия на трансформационный процесс, тесно связанными с положением на стратификационной шкале; во-вторых, их принадлежностью к выигравшим или проигравшим в результате совершившихся общественных перемен; в-третьих, их социокультурными характеристиками: структурой ценностей, потребностей, интересов и мотиваций.
Трансформации, охватившие страны Центральной и Восточной Европы, можно определить как системные, затрагивающие весь спектр общественной жизни государств: их политику, экономическую и социальную структуру, духовную жизнь. Под системной трансформацией обычно понимаются следующие изменения:
• в экономике – применение технологий, основанных на использовании научного (рационального) знания, расширение вторичного (индустрия, торговля) и третичного (услуги) секторов хозяйства, развитие рынков товаров, капитала и труда;
• в социальной сфере – ослабление прежних предписанных (коммунитарных, аскриптивных) типов социальности и расширение сферы новых целерациональных связей, основанных на профессиональных или рыночных критериях, что сопровождается ростом социальной и профессиональной дифференциации, разделением сфер частной и общественной жизни;
• в политической области – образование централизованных государств, в то же время разделение ветвей власти, включение широких масс населения в политические процессы, установление политической демократии, формирование осознанных интересов различных общественных групп;
• в культурной области – дифференциация духовных систем и ценностных ориентаций, плюрализация общественного сознания и образования, многообразие течений в философии и науке, развитие средств распространения информации. В духовной жизни получает признание ориентация на перемены (реформы) и отказ от прежних запретов на нововведения. Однако перемены не охватывают всей совокупности социокультурной регуляции, а признаются лишь в функционально необходимых сферах, связанных с новыми ожиданиями.
В социальной структуре и составе населения трансформирующихся стран происходят как количественные, так и качественные изменения. Масштабы, тенденции, глубина и особенности протекания трансформации социальной структуры, ее усложнение определяются комплексом факторов: 1) структурными изменениями в экономике (различные формы собственности – государственная, акционерная, частная, с участием иностранного капитала) и ее кризисом; 2) глубокими переменами, связанными с изменениями в системе занятости (система планового формирования, распределения и использования рабочей силы уступает место не просто свободному, но «дикому» рынку рабочей силы, что привело к безработице, преобразованию критериев социальной дифференциации, перестройке трудовой мотивации, углублению социального неравенства, резкому разрыву в оплате труда разных категорий работников);
3) снижением уровня жизни подавляющей части населения;
4) социальной аномией (разрушением одной ценностно-нормативной системы и несформированностью другой) и социальной депривацией (ограничением либо лишением доступа к материальным и духовным ресурсам, возможностям, необходимым для удовлетворения основных жизненных потребностей индивидов или групп).
Выделяют ряд сущностных признаков общественной трансформации.
1. Неравновесность, неустойчивость протекающих социальных процессов. В обществе зрелом, состоявшемся происходящие изменения имеют естественный характер, обусловленный целями функционирующей системы, и служат средством приведения ее в устойчиво-равновесное состояние, выполняя, таким образом, важную регулятивную функцию. В переходном обществе, наоборот, изменения носят, как правило, необратимый характер, расшатывают основы старой социальной системы, открывают простор развитию новых социальных отношений. Подобное состояние объективно обусловливает неравномерность протекания самих изменений, асинхронность социальных процессов. Усиление либо ослабление этой неравномерности зависит от ряда факторов (в основном субъективного порядка) и конкретно-исторических условий, складывающихся в стране, переживающей переходную эпоху.
2. Преходящий (временный) характер. Период развития любого общества не может длиться вечно, он закономерно имеет начало и конец. Завершение переходного периода связано со вступлением обновленного общества в стадию своей зрелости, когда обеспечено безусловное главенство новых социальных отношений. Продолжительность переходной эпохи для каждого конкретного общества индивидуальна и подчинена действию множества различных эндогенных и экзогенных факторов – политических, социально-экономических, социокультурных и др.
3. Вероятность, альтернативность, многовариантность развития. Процессы, протекающие в человеческом обществе, малопредсказуемы, в отличие, например, от физико-химических процессов, в которых конечный результат можно прогнозировать с достаточно высокой степенью вероятности. Трансформационное состояние общества напоминает в чем-то кибернетический черный ящик, в пространстве которого может сочетаться неопределенное число связей, факторов, обусловленностей, обеспечивая на выходе потенциальную многовариантность, альтернативность итоговых форм и многообразие их содержания. В соответствии с концепцией английского социолога А. Тойнби в состояние неустойчивости общество попадает в результате своеобразного вызова, который ставят перед ним возникающие обстоятельства – природные, экономические и прочие факторы, требуя адекватного ответа. Последний может быть альтернативен (вариантен) не только по своим мерам, но и по результатам, т. е. либо иметь успешное окончание посредством снятия противоречий либо завершиться даже гибелью данной локальной цивилизации.
4. Трансформационная динамичность. Действия, происходящие в зрелом обществе в течение длительного времени, в трансформирующемся социуме могут совершаться почти мгновенно, так как изменения в переходном обществе, как правило, быстропротекающие процессы. Когда такие сверхсжатые во времени события и процессы затрагивают систему ключевых социальных отношений, норм, ролей, многие социальные слои и группы населения оказываются не в состоянии также быстро и адекватно осознать перемены, усвоить новую систему ценностей, ассимилировать ролевые и статусные функции и т. д. В результате возникает некое специфическое состояние социальной невесомости, сопровождаемое резким усилением социальных отклонений и социальных патологий, могущих принимать значительные масштабы и глубину. Чем быстрее общество выйдет из него, тем скорее будет достигнуто социальное равновесие и обеспечен единый нормативный порядок в социуме.
5. Отсутствие целостности, полноты свойств и признаков социальных форм и отношений трансформирующегося общества, их конгломеративность и противоречивость. Данному состоянию общества соответствует параллельное сосуществование как старых, уходящих с исторической сцены, так и замещающих их новых социальных форм и социальных отношений, которые протекают в условиях постоянной борьбы, столкновений, обострения противоречий и антагонизмов. Особенный характер противоречий в переходном обществе заключается в том, что их разрешение ведет не к простому снятию локальных проблем развития, мешающих эффективному функционированию существующих традиционных социальных форм и социальных отношений, а к их замене новыми прогрессивными видами, представляющими уже совершенно иные модели общественного организма. Эпоха трансформации, как правило, несет в себе изменения революционного характера, если они связаны со сменой экономических и социополитических систем. При этом необходимо учитывать, что противоречия между старым и новым в переходном обществе проявляются на поверхности явлений как противоречия между стоящими за ними определенными субъектами отношений – отдельными слоями общества и социальными группами и их интересами, а также, что направленность, и особенно скорость протекания переходных процессов, в значительной степени детерминированы действием субъективных факторов, что характерно для процессов, происходящих во всех трансформирующихся странах.
6. Необратимость изменений трансформирующегося общества. Даже в варианте возврата к старой системе невозможны точный повтор ее прежнего состояния, генетически идентичное воспроизведение старых социальных отношений и т. п. Иными словами, переходность уже сама по себе исключает простой возврат к прежнему состоянию. По выражению философа Н.Н. Моисеева, если «начало» состоялось, то в силу вступает правило: «Система не помнит своего прошлого», что перекликается с известной мудростью древних: «Нельзя дважды войти в одну и ту же воду».
7. Историчность, особость трансформирующегося общества. Эти качества обусловлены спецификой эпохи, во временных рамках которой протекают переходные процессы и с которой связаны различия в исходных состояниях трансформирующегося социума, конечными результатами, содержанием социальных противоречий и подобным, а также особенностями конкретно-исторических условий страны, переживающей переходный период, особенностями ее локальной цивилизации.
Названные признаки имеют тесную связь и взаимообусловленность, автономно и в совокупности предопределяя особенные и общие свойства и специфику переходного общества. Однако теоретически строгое рассмотрение сущности трансформации предполагает ее концептуальное осмысление. На сегодняшний день сложилось довольно много теорий, пытающихся выявить направленность и механизмы трансформационных изменений. К их числу относится и модернизационный подход, и обновленные версии марксизма, и теория постиндустриального общества, и др. Каждая из этих теорий вносит свой вклад в понимание процесса трансформации, и мы провели анализ их сильных и слабых сторон в соответствующих разделах учебника. В данной главе рассмотрим теорию П. Штомпки, который трактует процесс трансформации как травму. Целью данной концепции, претендующей на парадигмальный статус, является «исследование негативных, дисфункциональных последствий, возможных в результате важного социального изменения»[87]. Под травмой понимается деструктивное воздействие на социальное тело, в результате которого возникает патология социального агента. Другими словами, в процессе социального изменения при определенных условиях могут возникать события, вызывающие нарушения привычного образа мысли и действия, меняющие, часто трагически, жизненный мир людей, их модели поведения и общения. Важно подчеркнуть, что события, для того чтобы стать травматическими, должны быть соответствующим образом интерпретированы, т. е. любое событие само по себе не является травматическим, но становится таковым в результате его культурной оценки. Но если социальный факт все же оценен как травма, то он способен вызвать три типа коллективных травматических симптомов. Во-первых, происходят деструктивные изменения на биологическом уровне социальности, проявляясь в виде уменьшения численности населения, росте умственных и физических патологий, общей биологической деградации. Во-вторых, серьезные нарушения возникают в социальной сфере – политическая анархия, экономический кризис, недееспособность армии и т. д. В-третьих, травма воздействует на культурную ткань общества, проявляясь в нивелировании ценностей, обессмысливании социальных норм, утрате идентичности. Как пишет П. Штомпка, «верования отвергаются, вера подрывается, доверие исчезает, харизма терпит крах, идолы рушатся». Преодоление травмы может осуществляться разными путями. С определенной долей условности их можно разделить на две группы – активного и пассивного противодействия. К первой относятся инновация и бунт, ко второй – ретриатизм и ритуализм.
Можно упомянуть другие научные разработки и теории переходных процессов, но более важными являются вопросы: Могут ли все эти исследования достаточно глубоко объяснить сложные и противоречивые процессы и явления, происходящие сейчас в странах с радикально меняющейся переходной ситуацией? Обладают ли данные исследования и теории достаточной полнотой и универсальностью, чтобы объяснять различные переходные процессы?
Полагаем, что имеющиеся теории и гипотетические модели ограничены в своих эвристических и прогностических возможностях, ибо они не являются общими теориями переходного процесса. Отдельные из них посвящены анализу перехода только от одной конкретной общественной системы к другой (например, переход от капитализма к коммунизму). Некоторые анализируют и обобщают уже реально осуществившиеся переходные процессы в страноведческом аспекте (Испания, Германия и др.). Есть исследователи переходных процессов, которые отдают приоритет единственной, как правило экономической либо культурной, сфере общества. Таким образом, создание общей теории переходных процессов (периодов) является до сих пор нерешенной и, безусловно, необходимой задачей.
Глава 14 Причинные факторы социальной эволюции
Чтобы нарисовать картину социальной динамики в развернутом виде, необходимо обратиться к анализу базовых факторов социальной эволюции. Вопрос о причинных факторах общественного развития, их качественной определенности и характере с древних времен привлекал пристальное внимание исследователей. Традиционно социальные философы стремились открыть и описать наиболее фундаментальные и важные факторы социальной эволюции, или то, что можно назвать перво двигателями, конечными причинами социальных процессов. Одни из них выдвигали в качестве решающего фактора, или детерминанты, определяющей функционирование и развитие общества, естественную среду обитания и ее изменения, географические и климатические условия (флору, фауну, ту или иную конфигурацию земной поверхности – горы, реки, моря и т. д.); другие – чисто биологические факторы (рост народонаселения, борьбу за существование, расовые различия людей и т. д.); третьи – экономические факторы (способ производства, характер распределения и потребления материальных благ в обществе, а также классовую борьбу); четвертые – развитие интеллекта, исследовательскую активность (рост и накопление научных знаний, развитие новых технологий и т. д.).
Среди многочисленных версий социальных детерминизмов, претендующих на выдвижение главного, системообразующего, оказывающего определяющее воздействие на все прочие социальные явления фактора, выделяются две основные. Сторонники первой делают акцент на идеальных процессах, вытекающих из интеллектуально-духовного развития человечества, – ценности, идеология, политика, религия, этика и подобные; представители второй считают, что детерминирующая роль в развитии общества принадлежит материальным процессам – экономическим, технологическим, биологическим, экологическим и т. д. Решая вопрос о характере зависимости между отмеченными факторами и источниками общественного развития, исследователи, как правило, полагали, что они выступают никак не в форме субординации, т. е. примыкают к так называемому монистическому[88]течению в социальной теории, согласно которому в развитии общества всегда имеется главный, самый важный фактор, своего рода перводвигатель социальных процессов, центральное звено, ведущая, основная движущая сила.
Радикальные сторонники монизма убеждены – выделенный ими главный фактор носит универсальный характер, т. е. действует везде и всегда, во всех обществах и на всех этапах их эволюции. Менее радикальные монисты полагают, что разные исторические эпохи или географические регионы человеческой истории могут иметь свои главные, конечные причины развития.
В XX в., однако, наметилась тенденция избегать поиска конечных причин и рассматривать взаимосвязи факторов общественного развития не в виде субординации, а в виде координационных зависимостей, когда развитие общества понимается как результат взаимодействия многочисленных сил, причинных факторов, детерминант – материальных и идеальных, не разделяемых на главные, определяющие, и неглавные, определяемые, где ни один из факторов не квалифицируется как конечная причина социальных изменений. Это означает, что в современной социальной теории взяла верх ориентация на переход от монизма в интерпретации движущих сил развития общества к плюралистическому объяснению причин социальных изменений. Ныне многие исследователи отвергают абсолютизацию единственных, доминирующих, центральных факторов, вызывающих все последующие социальные изменения, и рассматривают эти факторы исключительно в координационной взаимосвязи, когда каждый из них так или иначе связан со всеми остальными, ими обусловливается и их обусловливает и, соответственно, играет определенную, свойственную ему роль в жизни общества. Отсюда вытекает важный методологический принцип: каждый исследователь вправе выбирать свой собственный «центральный фактор», к примеру рассматривать жизнь общества с точки зрения той роли, которую в ней играет свойственное человеку, как и всякому живому организму, стремление к наслаждению и избеганию страданий (как это делали Уорд, Паттен) или исследовать логику движения социума, исходя из той роли, которую в нем играют экономические отношения собственности (как это было характерно для К. Маркса), или изучать историю под углом зрения духовно-религиозных факторов (как это было присуще М. Веберу). Такие исследования, как полагает известный французский теоретик Р. Арон, будут оправданными и плодотворными, но лишь до тех пор, пока не станут сопровождаться догматической абсолютизацией, не станут рассматриваться в качестве единственно возможного.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что большинству социальных философов так и не удалось в своем анализе жизнедеятельности общества до конца преодолеть и элиминировать дилемму «материализм – идеализм». И дело не только в том, что эта дилемма глубоко укоренена в традиции философского дискурса, но и в реальной сложности, противоречивости и неоднозначности взаимосвязей материального и идеального начал, особенно когда речь идет об анализе социальных феноменов.
Сам факт наличия множества факторов (или движущих сил), обусловливающих изменения общества, никем ныне не оспаривается. И в этом смысле можно сказать, что теория факторов действительно верна. Трудности, а порой и неразрешимые противоречия начинаются тогда, когда пытаются установить иерархию факторов, их соподчиненность. В самом деле, даже на феноменологическом уровне тезис «Факторов много и все они равнозначны» не выдерживает критики. Ведь совершенно очевидно, например, что утверждение о доминирующей роли экономики в странах европейского капитализма и в странах азиатского и африканского континентов вряд ли будет в одинаковой степени правомерно. Или в той же самой Европе определяющие факторы социальных изменений в эпоху Нового времени и средневековья наверняка не были абсолютно одинаковыми и сопоставимыми.
В целом, в интегральном процессе развития в течение длительного, охватывающего исторические эпохи (мегаэпохи) времени жизнь социума действительно так или иначе определяется совокупностью факторов. И в этом смысле правы те авторы, которые подчеркивают, что весь опыт XX в. отверг моно-факторный подход и еще раз убедительно показал, что на формирование той или иной общественной структуры и уклада жизни оказывает влияние множество факторов: прогресс науки и техники, состояние экономических отношений, устройство политической системы, вид идеологии, уровень духовной культуры, национальный характер, международная среда или существующий миропорядок. При этом принципиально важно обратить внимание на следующее обстоятельство. В конкретный период человеческой истории, в определенных пространственно-временных координатах жизнедеятельности тех или иных обществ роль и значение различных факторов (детерминант) не равноценна и не одинакова. Практически в каждый период исторического движения на авансцену жизнедеятельности общества выдвигается какой-либо один фактор (или несколько), который начинает доминировать над остальными, задавать направленность развития всему обществу в целом (как это было, например, в период Средневековья с религиозным фактором). Самоорганизация общественной системы в каждый конкретный период своей истории имеет некую основу, стержень, вокруг которого начинают группироваться, завязываться все другие элементы данной системы, т. е. выявляется некая системообразующая идея (понятие), формируется определенное поле притяжения, которое в синергетике обозначается как аттрактор (от англ, to attract – притяжение).
При такой постановке вопроса никак нельзя уклониться от необходимости определенного структурирования факторов социальной эволюции, объединения их в те или иные группы и блоки, установления между ними координационных и иерархических зависимостей и, в целом, рассмотрения их типологических особенностей.
Когда речь идет о движущих силах социально-исторического процесса, сразу же встает вопрос о характере соотношения между теми факторами, которые действуют изнутри, и теми факторами, которые действуют извне, т. е. о характере соотношения между эндогенными и экзогенными факторами социальной эволюции. Эндогенные причины коренятся внутри самого социального процесса, раскрывают потенциальные возможности, свойства и тенденции, заключенные в этом процессе, имманентны ему, вытекают из природы социального. Экзогенные причины действуют извне на процесс развития общества. Социальному организму, для того чтобы сохранить свой гомеостаз, необходимо не только постоянно реагировать на импульсы, исходящие из внешней среды, но и соответствующим образом к ним адаптироваться, т. е. функционировать в режиме вызова – ответа.
Различение эндогенных и экзогенных факторов, проведение демаркационной линии между тем, что относится к внутренней, а что – к внешней стороне социальной сферы, сопряжено с немалыми трудностями. Например, природные катастрофы, экологические бедствия, различные эпидемии вирусной природы, изменяющие поведение и привычный образ жизни людей, должны рассматриваться как исключительно экзогенные, внешние по отношению к социальной жизни факторы. Ведь изменение образа жизни людей, моделей их поведения является не чем иным, как ответной реакцией на усилившееся давление внешней среды. Однако по своему происхождению все эти неблагоприятные воздействия среды могут быть продуктом человеческой деятельности, неспособности людей просчитать все последствия своего преобразующего вмешательства в окружающий мир. При таком ракурсе анализа и шкале оценки экологические бедствия и катаклизмы, повлекшие трансформацию поведения людей и их образа жизни, должны уже квалифицироваться как эндогенные процессы, непреднамеренно вызванные стихийно-спонтанной деятельностью людей. Поэтому целый ряд социальных процессов вполне правомерно называть эндогенно-экзогенными. Разворачиваясь во времени, эти процессы могут привести к результатам, которые влияют не только на характер системы, внутри которой они протекают, но и на внешнюю среду. И наоборот, внешние факторы с течением времени могут превратиться во внутренние. Сказанное, таким образом, дает основания говорить о существовании наряду с эндогенными и экзогенными факторами эндогенно-экзогенных или (в зависимости от удельного веса и значения) экзогенно-эндогенных.
Причины, которые запускают механизм общественного развития в действие и определяют его специфические черты, направленность и характер, многообразны и выступают в сложном и противоречивом взаимодействии друг с другом. Поэтому мы не ошибемся, если помимо внутренних и внешних факторов общественного развития будем говорить о причинах порождающих и обусловливающих, постоянно действующих и переменных, всеобщих и частных и т. п.
Для большей ясности отметим, что к внешним факторам обычно относят природные факторы развития общества, которые выступают как постоянные (климат, почва, ландшафт и т. д.) и как переменные (эпидемии, наводнения, землетрясения, географические открытия, нашествия вредителей и т. д.). К внешним факторам следует отнести и окружающую социальную среду (соседей, характер контактов, коммуникации данного общества с другими обществами). Контакты могут быть весьма разнообразными: столкновения, войны, заимствования, торговля, смешение и разделение народов, обычаев, религии и т. д. Соседство может порождать различные формы соперничества и взаимодействия. Например, успех и активность одного из соседей – хороший стимул для созидательной деятельности других. Наряду с постоянными факторами – контактами близко расположенных народов могут иметь место и неожиданные (спорадические) контакты – переселение народов, набеги неизвестно откуда взявшихся кочевников и т. д. В результате изменения социальной среды одни общества гибли, другие возвеличивались, одни народы растворялись в других, ассимилировались другими, одни учреждения, социальные институты, обычаи и верования канули в Лету, другие, напротив, укреплялись и возвышались и т. д.
Переменные факторы общественного развития могут быть очень сильными, порой судьбоносными для того или иного народа (вспомним, как повлияли географические открытия европейцев на судьбу аборигенов Америки, Азии и Австралии, а также на судьбу самой Европы).
В эпоху же глобализации, которую сейчас переживает человечество, в принципе невозможно прогнозировать развитие той или иной страны без учета влияния мировой экономической, политической и информационной среды. Ибо именно она устанавливает развитию общества внешние, не зависимые от него требования и ограничения и создает тот «коридор возможностей», в которых это общество и будет действовать.
Теоретический анализ проблемы базовых факторов социальной эволюции предполагает их содержательное рассмотрение. Важнейшим и постоянно действующим фактором социальной динамики является демографический фактор – количество населения, его плотность, рост и убыль. Данный фактор в зависимости от точки отсчета и расстановки акцентов можно отнести как к внутренним, так и к внешним причинам социальной эволюции. Внешним, чисто биологическим фактором движения социума его можно считать только в том случае, если интерпретировать движущие силы общества исходя исключительно из специфики социального, собственно социального, социальное объяснять только через социальное. Если рассматривать жизнедеятельность общества как результат единства и переплетения социальных, природных и биологических начал, то демографический фактор общественных трансформаций вполне можно квалифицировать и как внутренний фактор.
В принципе, демографические процессы в обществе как зависят от природных и биологических факторов, так и находятся под влиянием экономической, политической и духовной (в частности, религиозной) сфер жизнедеятельности общества. Поэтому демографическую составляющую общественной жизни можно называть демосоциальной сферой. Демосоциальной она является потому, что включает наряду с чисто демографическими (численность, рост, смертность населения и т. п.) и социальные характеристики и процессы (семья, поселения, этносы, классы, страты и т. д.). Демосоциальная сфера, таким образом, не только выступает природной предпосылкой образования общества, но и сама является преобразованной общественным строем данного общества. В действительности внешние и внутренние факторы социальных процессов настолько, как уже отмечалось, тесно взаимосвязаны, что их разделение зачастую носит условный характер.
Следующий постоянно действующий фактор общественного развития – рост человеческих потребностей. В марксистской философии этот фактор получил название закона возвышения потребностей. Согласно этому закону потребности людей находятся в перманентном изменении – качественном (появление новых потребностей) и количественном (рост населения, требующий увеличения производства потребительских благ). Очевидно, что данный фактор тесно связан не только с демографическими процессами в обществе (увеличением плотности населения на определенной территории, например), но и с экономическими, политическими и духовными процессами. Это особенно важно иметь в виду потому, что человек – единственное, пожалуй, существо, не имеющее верхней границы своих потребностей. Потребности людей и их реальное удовлетворение зависят и от количества населения, и от уровня развития экономики, и от положения индивидов, занимаемого ими в социальной иерархии. Они также существенно зависят от характера общественного строя, цивилизационных особенностей, менталитета, духовного склада и подобного того или иного общества.
В современной социальной философии наметился отход от марксистской формулировки: «закон возвышения потребностей». Правильней говорить не о законе возвышения потребностей, а о законе развития потребностей и потребления. Это уточнение следует сделать потому, что с развитием общества происходит не только возвышение (прогресс) потребностей, но и их снижение (деградация). Одни потребности обновляются и растут, другие, наоборот, не удовлетворяются и количественно уменьшаются. Например, потребность в экологически чистых продуктах удовлетворяется все хуже и хуже из-за загрязнения окружающей среды. То же можно сказать и о потребностях в общении с живой природой, восприятии ее красоты, в тишине, в самостоятельной предметно-чувственной деятельности («своими руками»), обострившихся в наш техногенный век до предела. Заметим, что реально сужающаяся возможность удовлетворения этих потребностей оборачивается потерей здоровья, психологическими стрессами, различными формами «бегства от жизни» (наркомания, пьянство, мистика и т. д.).
Корректность формулировки «возвышение потребностей» вызывает сомнения и потому, что слово «возвышение» (как и все однокоренные с ним слова – «выше», «высокий» и т. п.) неизбежно несет в себе некоторую «позитивную» оценивающую окраску. Вследствие этого «закон возвышения потребностей» практически всегда квалифицируется как процесс бесконечного «улучшения», как движение исключительно по восходящей линии, как благо и движущая сила прогресса, а не просто как фактор социальной эволюции, содержащей на любой из развилок своих дорог и возможность нисходящих линий движения. Поэтому вполне резонно заменить формулировку «закон возвышения потребностей» на оценочно нейтральную формулировку – «механизм развертывания потребностей». Механизм развертывания потребностей далеко не всегда действует в сторону их возвышения, какие бы при этом мы ни использовали критерии «высоты – низости». В результате действия данного механизма могут развертываться и добрые, и злые, и этически нейтральные потребности. В практике жизни этот механизм оказывается одновременно фактором прогресса и регресса. Более того, в современных условиях механизм развертывания потребностей начинает выступать как источник повышенной опасности и риска в существовании человеческой цивилизации. Паразитарное потребительство как феномен современного общества потребления направляет траекторию развития цивилизации в русло, противоположное актуальным задачам свободного гармонического развития Человека в диалоге с Природой, коэволюции общества и его природной среды. Паразитарное потребительство вместе с милитаризмом, виртуальной экономикой, финансовыми спекуляциями и массовой культурой становится сегодня причиной роста и углубления глобальных проблем и конфликтов.
Обратимся к рассмотрению того фактора социокультурной эволюции, который довольно полно раскрыт в марксистской теории классовой борьбы и в современной конфликтологии – фактору конфликта интересов. Конфликт интересов с доисторических времен сопровождает человеческое общество. Он имеет место уже в развитых сообществах животных. Причем здесь данный конфликт связан не только с материальными (желудочными, организменными) потребностями, но и со стремлением отдельных особей достичь определенного ранга и места в сложившейся системе доминирования и стадной иерархии. Повышение ранга одной особи и понижение ранга другой обычно достигается через напряженную борьбу. В человеческом обществе конфликт интересов приобретает весьма сложный характер и разнообразные формы. Особенно значимым данный фактор становится в постпервобытных обществах.
Социальная дифференциация, возникновение различных групп, слоев, каст, сословий, классов неизбежно вело к неравномерному удовлетворению потребностей людей. Такое положение, наряду с тенденцией постепенного развертывания (возрастания) человеческих потребностей вообще, обычно оборачивалось острым общественным противоречием между потребностями людей и реальным потреблением, с одной стороны, и потребностями и потреблением разных социальных общностей – с другой. Данное противоречие находило свое выражение в социальной напряженности между различными общественными группами и классами, которая проявлялась в перманентных конфликтах между богатыми и бедными, в чувствах зависти, ненависти, агрессивности со стороны обделенных общественными благами слоев и высокомерием, презрением, опасениями со стороны групп и классов, монополизировавших в своих руках общественное богатство. На поверхности социальное неравенство, получившее развитие в обществе, конфликт интересов выливались в мощные социальные движения, всякого рода реформы, в различные типы революций и гражданских войн, изменяющие характер общественных отношений и приводящие к тем или иным сдвигам в развитии общества.
Следует выделить группу, или блок, факторов социальной эволюции, которые обобщенно можно определить как духовные факторы. Духовно-ценностная сфера общества – мораль, религия, искусство, политика, а также наука (исследовательская активность[89]) – выступает в качестве важнейшей детерминанты социальной динамики, различных общественных трансформаций и эволюционных сдвигов.
В заключение подчеркнем еще раз, что сравнительная значимость различных факторов социальной эволюции носит изменчивый характер в разные исторические эпохи. Поэтому не имеет смысла пытаться устанавливать какую-то жесткую иерархию источников и движущих сил общественного развития, давать их раз навсегда неизбежную и определенную ранжировку. Предпочтительным в данном случае является группировка всех выявленных и изученных к настоящему времени факторов социокультурной эволюции с учетом того, что их сравнительная значимость будет существенно варьироваться во времени и пространстве.
Многообразие факторов, так или иначе детерминирующих социально-исторический процесс, в целом движущие силы развития общества можно свести к трем группам, трем сферам реальности, трем мирам, не сводимым друг к другу. Во-первых – это природные факторы развития общества (биологические, географо-климатические, демографические основы жизнедеятельности общества, весь мир природы и вещей, подчиненных физико-химическим законам и объективно предзаданных человеку). Во-вторых – технико-экономические факторы общественного развития (мир общественного бытия людей, вещей и предметов, возникших в результате человеческой деятельности, прежде всего труда). Все то, что сегодня многие исследователи относят к экономическому и технологическому детерминизмам, которые, как нам представляется, несмотря на имевшие в свое время место жаркие дискуссии, можно рассматривать как комплиментарные и когерентные. В-третьих – это все то, что обычно относят к духовным факторам общественного развития (идеи, ценности, человеческая субъективность, которые относительно независимы от мира объективных процессов и обладают высокой степенью свободы).
Имеет смысл отдельно остановиться на рассмотрении роли природных факторов в жизнедеятельности общества. Дело в том, что природные факторы – это такие факторы, о которые, наряду с прочим, споткнулись многие реформаторы, стремящиеся форсированным образом вестернизировать некоторые незападные страны, в частности восточнославянские. Отсюда актуальность и остродискуссионный характер вопросов, связанных с природными основаниями социокультурной эволюции народов, расселившихся в различных географических регионах нашей планеты.
Раздел IV Природные факторы и власть пространства в жизнедеятельности общества
Глава 15 Природно-географическая среда как базовый фактор социальной эволюции
До недавнего времени в учебных пособиях по социальной философии природные факторы развития общества по преимуществу рассматривались как нечто сугубо внешнее, лежащее за пределами собственно социальной эволюции. Природное при таком подходе исключалось из круга имманентных взаимосвязей, присущих социальному процессу. А жизнь общества в этом случае вольно или невольно выступала границей (перегородкой), перейдя которую природное как бы теряло свое качество природного. Вследствие этого вопрос о природных факторах общественного бытия людей неизменно рассматривался в советской (да и в значительной степени и постсоветской) социально-философской мысли как второстепенный, анализировался весьма бегло и поверхностно, в соответствии с однажды найденной и утвердившейся схемой. Суть этой схемы – в придании доминирующего значения социально-экономическим и технико-технологическим факторам развития общества, которые якобы обеспечивают чуть ли не абсолютную независимость общества от различных вариаций природных условий.
Опасаясь умалить значение отношений собственности, советские обществоведы предпочитали рассматривать природу как несущественное обрамление или сопровождение внутренней диалектики социальных процессов, никак (в лучшем случае очень слабо) не влияющих на логику и закономерности их развертывания. От советских социальных философов эстафету умаления роли географического фактора в направленности и характере развития общества переняли современные экономические детерминисты – либерал-западники, которые тоже (лишь с обратным знаком) все свели к отношениям собственности.
Реалии XX в. (века преобразований), стремительное нарастание значимости экологических и демографических проблем для судеб человеческого сообщества, более глубокое уяснение идей философской классики по этим вопросам ведут нас, однако, к принципиальному изменению подхода к пониманию места и роли природных факторов в общественной жизни. Экологический императив, осознание экологических «пределов роста» и явной опасности экологической катастрофы буквально взламывают устоявшиеся представления о характере взаимосвязи природы и общества. Выяснилось, что природа – это не некая нейтральная среда, в пределах которой может гулять прометеев человек, стремясь подчинить ее своему произволу, а базовый фактор социальной эволюции, не сводимый к иным, более глубоким факторам. Господствовавшие ранее представления о «слабости», податливости природы, безграничных возможностях и мощи человека-преобразователя ныне весьма рельефно выявили свою несостоятельность. Природа, слабость которой, казалось, обеспечивала человеку безграничный простор для ее переделки, вдруг обнаружила способность к беспрецедентно жесткой мести существам, бросавшими ей вызов.
Если говорить в целом о естественной среде, то следует отметить, что она существует в двух видах: как внешние природные условия, с которыми так или иначе взаимодействуют люди, и как внутренние качества индивидов – генетический фонд популяции. Как мы уже говорили, к внешним природным условиям относятся климат, животные, растения, микроорганизмы, состав и строение земной коры; рельеф местности и т. д. Однако природа влияет на жизнь общества не только извне, но и изнутри – через биологические потенции и генетический багаж популяции. Многое из того, что происходит в жизни социума, зависит от здоровья, физической силы, выносливости, прирожденных талантов и умственных способностей каждого члена общества, а также от того, как и с какой периодичностью повторяются и распределяются эти биологические свойства между различными слоями и группами общества[90].
Как в форме внешнего, так и внутреннего влияния природа может выступать как фактор, способствующий успешному развитию (теплый, мягкий климат, плодородные почвы, богатые ресурсы и т. д.), или как фактор, препятствующий и ограничивающий (зона рискованного земледелия, ослабленный у населения иммунитет и т. д.) возможности прогрессивно-поступательных изменений.
Природное поле жизнедеятельности общества может быть, конечно, модифицировано благодаря человеческой практике. Оно может быть расширено за счет очеловеченной природы (второй природы), состоящей из продуктов деятельности и артефактов культуры, технологий и образцов цивилизации (дома, фабрики, заводы, дороги, мосты и т. д.). Внутренняя природная среда (наследуемые биологические или психологические задатки) также может расширяться благодаря человеческим усилиям (тренировки, закаливания, умственные упражнения и т. д.). Вместе с тем, надо отдавать себе отчет, что обратное воздействие человеческой практики на естественную среду далеко не всегда благотворно. Это воздействие может быть крайне неблагоприятным, и даже разрушительным как в отношении внешней природной среды (истощение ресурсов, экологические катастрофы, эрозия почвы и т. д.), так и в отношении внутренней природной среды (снижение выносливости, рост числа заболеваний, ослабление защитных сил организма и т. д.). Последнее наряду с прочим означает, что и наследственная организация (природа) индивидов также может деформироваться, подвергаться разрушительному воздействию в процессе роста и расширения масштабов человеческой деятельности.
Природное универсально и во всех направлениях пронизывает общественную жизнь. Поэтому не далек от истины российский исследователь В.С. Барулин, когда пишет, что «общество представляет собой не что иное, как определенное природное образование»[91], что оно в рамках бесконечной эволюции природного мира предстает как один из высших этапов, фаз эволюции природы. Другие авторы, подчеркивая значение природных начал в жизни общества или определяют последнее как природно-социальный организм[92], или квалифицируют историю человечества как социоестественную[93], или, пытаясь оттенить роль и значение природных факторов в развитии производительных сил общества, говорят о «природно-производственной основе»[94] и т. д.
Рассуждая о всеобъемлющем характере взаимосвязи природного и социального, о глубокой укорененности природного как в индивидуально-личностном, так и общественном бытии людей, следует различать понятия природы и географической среды общества. Природа — это все существующее, весь мир во всем многообразии его форм. Это понятие употребляется в одном ряду с понятиями «универсум», «вселенная». Географическая среда – это земная природа, включенная в сферу человеческой деятельности и составляющая необходимое условие существования общества, та часть природы, с которой общество непосредственно контактирует на данном историческом этапе. Географическая среда, таким образом, представляет единство природного и природно-общественного. Для обозначения этой сферы взаимодействия природы и общества применяются различные термины – антропосфера, социосфера, техносфера, ноосфера (разумная сфера). Если взять природу в целом, в ее постоянстве и практически малозаметной изменяемости в сравнении с «быстротекущей» общественной жизнью, то ее влияние на социальные процессы действительно может показаться как весьма ограниченное. Именно по причине достаточно медленного по человеческим меркам изменения природных факторов социального бытия ученые, которые занимались изучением общественной жизни, не очень интересовались людьми как естественной составляющей биосферы. В результате целый пласт важнейших проблем выпал из поля зрения общественных наук в целом, и в частности из поля зрения философов истории и социальных философов.
Но если посмотреть на природу как совокупность географических (природно-климатических) условий, в рамках которых функционирует и развивается общество, то тут открывается совершенно другая картина. Мы видим, что эти условия выступают таким фактором, который не только может ускорять или замедлять динамику социальных изменений (в недалеком прошлом к этому обычно и сводилась роль природных факторов), но и придавать специфическую, неповторимую направленность в развитии социальных организмов, определять типы их хозяйствования, уклад и образ жизни. Природная среда не просто воздействует на развитие общества, но и непосредственно влияет на материально-производственную, социально-политическую и другие сферы общественной жизни.
Можно определенно утверждать, что в становлении и развитии локальных цивилизаций, в формировании их неповторимого облика и специфических черт естественная среда обитания сыграла ничуть не меньшую роль, чем различного рода социокультурные факторы, в частности религия. Думается, что именно особенности естественной среды и тип религии, которую выбирали те или иные народы, в наибольшей степени обусловили цивилизационное многообразие человечества.
Вместе с тем, следует отметить, что ряд исследователей с удивительным упорством исключают природные факторы из числа движущих сил социальной эволюции. Все они, как представляется, исходят из ложной, методологически ошибочной предпосылки о том, что социальное можно объяснить только через социальное и никак иначе. Такой подход в первую очередь характерен для всей дюркгеймовской традиции и ортодоксальных марксистов. Стремление объяснить социальное только через социальное, исключая все естественное, природное, биологическое, чрезвычайно сужает и ограничивает возможности адекватной теоретической интерпретации жизнедеятельности общества, выступает причиной утверждения всевозможных односторонних и однобоких взглядов, точек зрения и концепций.
Часто говорят, что человек обладает творческими способностями, позволяющими ему преобразовывать природную среду в соответствии со своими потребностями, что развитие науки и техники ведет ко все большей независимости человеческих сообществ от непосредственных географических условий, что в сходных природно-климатических условиях у народов бывает разный общественный строй и, наоборот, одинаковый строй может иметь место при различных условиях. Акцентируется внимание на том, что без качественных революций в способах производства не может осуществиться переход к новой общественно-экономической формации, что смена этих формаций не может быть объяснена влиянием географической среды хотя бы потому, что она происходит гораздо быстрее, чем изменение в географической среде, и т. д.
Все эти аргументы не представляются убедительными. Если с ними согласиться, надо признать, что становление капиталистического способа производства (точнее сказать, индустриального общества) именно в Западной Европе является результатом каких-то специфических способностей населения этого географического региона, т. е. результатом особых расовых характеристик западноевропейцев. Кстати, многие исследователи так считали раньше и продолжают считать. Мы же полагаем, что исходная, базовая причина кроется здесь не в каких-то уникальных расовых характеристиках западноевропейских народов, а в особенностях географических (природно-климатических) условий того региона, который в свое время они заселили.
Если обратиться к древнейшей истории человечества, можно определенно утверждать, что неолитическая революция, положившая начало производящей экономике, осуществлялась прежде всего в силу климатических изменений, связанных с окончанием ледникового периода при переходе от плейстоцена к голоцену. Географическая среда в этом процессе имела исходное, формообразующее значение. Именно глобальные изменения климата явились важнейшими движущими причинами перехода человечества от присваивающего хозяйства к производящему. Спонтанные изменения естественной среды обитания (климат, уровень моря, тектоническая активность и т. д.) практически неизбежно вели, ведут и будут вести (разумеется, там, где они имеют место) к изменениям существенных социологических характеристик человеческих обществ. Быстрое исчезновение крупных млекопитающих – основы рациона питания верхнепалеолитического населения, вызвавшие мучительное вымирание большей части населения, могли стать мощным стимулом для вынужденного поиска альтернативных источников пищи. В ряде областей, примерно совпадающих с вавиловскими очагами доместикации[95] в качестве одного из альтернативных путей эволюции совершенствовалось собирательство злаков, были изобретены зернотерки, серпы и подобное, т. е. закладывались предпосылки для перехода к земледелию со всеми последующими социальными и культурными последствиями. И произойти все это (акцентируем внимание!) могло не везде, а только в определенных, наиболее благоприятных для данного перехода географических зонах.
Отметим, что причины размежевания земледельческо-животноводческих и животноводческо-земледельческих линий социокультурной эволюции также коренятся в географических (природно-климатических) условиях. Животноводческо-земледельческая линия развития, достигшая полноты своего раскрытия в кочевнических обществах скотоводов, утвердилась исключительно в определенных природных условиях, а именно в зоне Евразийских степей и полупустынь Афразии (Аравия, Сахара). Нет смысла больше приводить примеры подобного рода. Сейчас уже общепризнано, что в зависимости от различных географических (природно-климатических) зон возникали и развивались существенно различающиеся хозяйственные типы и уклады. Назовем основные из них: 1) самый архаичный тип представлен охотниками и собирателями тропических лесов; 2) охотники северной лесной зоны, уровень хозяйственной организации которых соответствует эпохе неолита, – патриархально-родовая организация; 3) морские охотники Арктики, находящиеся на стадии распада родового строя; 4) оленеводческий тип хозяйства, которому свойственны зачатки социальной классовой дифференциации; 5) степное кочевое скотоводство, характерное для степных регионов; 6) ручное палочно-мотыжное земледелие; 7) плужное земледелие, возникшее примерно между 15° и 40° северной широты в V–III тыс. до н. э.
В этой последней из перечисленных климатических зоне возникли древнейшие цивилизации (Месопотамия, Египет, Иран, Северная Индия, Китай). По своему климату, рельефу местности, свойствам почвы этот регион был на редкость благоприятен для земледелия. Развитию земледелия способствовало и их расположение в долинах мощных рек, разливы которых несут плодородный ил: в Месопотамии – Тигра и Евфрата, в Египте – Нила, в северной Индии – Инда и Ганга, в Китае – Хуанхэ и Янцзы. Причем недра данного региона отличались богатством полезных ископаемых, в частности металлами. Их добыче благоприятствовали и удобные естественные пути сообщения. Наконец, все эти древнейшие цивилизации являлись в большей или меньшей мере изолированными и защищенными природными условиями отдельных географических областей, естественные границы которых очерчивались морями, горными массивами, девственными лесами и безлюдными пустынями.
Зерновое земледелие (пшеница, рис, просо и т. д.) вывело человечество на цивилизационный уровень развития (саморазвития), основанного не на приспособлении к окружающей среде, а на ее преобразовании. Однако интересно то, что развитие земледельческой цивилизации пошло двумя, отличными друг от друга путями: восточным и западным. И вот здесь перед нами возникает вопрос фундаментальной важности: Почему?
Исследователи полагают, что различие в системе экономических отношений на Востоке и Западе связано прежде всего с ролью государства. Является государство субъектом собственности или не является, возникают или не возникают в обществе отношения «власть – собственность» – эти обстоятельства имеют основополагающее значение, выражают саму суть дела при объяснении причин типологического различия Востока и Запада. Почему, собственно, на Востоке (Шумер, Египет, Китай и т. д.) складывается социокультурная система, в пределах которой отдельный человек (семья, домохозяйство) лишаются автономии самообеспечения по отношению к отчуждаемой от общества власти, а ее носители выполняют не только административно-политические, но и собственнические (прежде всего по отношению к земле, воде и прочим природным ресурсам) и организационно-хозяйственные функции, а на Западе получают развитие автономия личности и гражданское общество? Почему, далее, в восточных странах верх берет коллективизм, а в западных странах – индивидуализм, два различных типа мировоззрения и человеческого поведения? Почему на Востоке стал культивироваться тип коллективности, ставящей интересы коллектива выше интересов индивида и, соответственно, появились в массовом количестве люди служивые, воины, пахари и властители, а на Западе возникли индивидуалистические общества, первым из которых стала античная Греция? В силу каких причин на Западе были созданы, не имеющие нигде более в мире аналогов, условия для формирования индивидуалистов, индивидуалистической психологии и индивидуалистической этики, а на Востоке это не произошло?
При ближайшем рассмотрении и в этом случае придется признать исходным природно-климатический фактор. Древнейшие восточные цивилизации (деспотии) возникли и получили свое развитие, как уже отмечалось, в долинах великих рек. Это обстоятельство обусловило необходимость коллективного труда больших, многотысячных масс людей для выполнения жизненно важных ирригационно-мелиоративных работ, террасирования горных склонов и т. д. Сама специфика организации труда не могла не вести к формированию жесткой централизованной власти, к государству, тоталитарно доминирующему над обществом, организующему и контролирующему все основные сферы его жизнедеятельности. Этим объясняется и то, что у восточных народов утвердилась не частная, а общественно-государственная собственность. Следует отметить, что речные цивилизации, или, как их иногда называют, гидроцивилизации, с азиатским способом производства (если прибегнуть к известному понятию Маркса) оказались чрезвычайно устойчивыми, способными в большинстве случаев преодолевать собственными силами периодически возникающие кризисные состояния. Благодаря хорошо организованной системе ирригации, кардинальная перестройка которой всегда была сопряжена с большим риском, более или менее стабильному характеру урожаев, а также множеству других причин социокультурного (прежде всего религиозного) характера, эти древнейшие цивилизации не имели жестких стимулов к улучшению приемов земледелия и, в целом, к модернизационной стратегии развития. Они оказались необычайно консервативными, оставаясь в течение длительного времени почти неизменными. Настоящей опасностью для них явился только вызов со стороны буржуазно-индустриального Запада.
Много больше труда и инициативы требовали от земледельца природные условия существования в древнейшей Европе, в частности на Балканском и Аппенинском полуостровах, где в дальнейшем сложилась культура Греции и Италии – основных стран античного мира, ставших новой ступенью в истории человечества. В отличие от неподвижного Востока, где люди по необходимости были жестко привязаны к плодородным речным долинам, требовавшим ежегодного повторения жизненных циклов, граждане маленьких независимых городов-полисов греческого Запада, как, впрочем, и их северные соседи-кельты, германцы и другие, вынуждены были находиться в непрерывном поиске, путешествовать, торговать, мигрировать, создавать или усваивать что-то новое.
В отличие от Востока, основой социокультурной системы Запада стала принципиальная (хотя и выступающая в разных исторических формах) автономия семейных хозяйств, обусловившая формирование социально-экономической самостоятельности хозяина-собственника. Взаимодействие этих самостоятельных в социально-экономическом отношении собственников, осуществляемое по преимуществу на уровне горизонтальных связей, и обусловило уникальность западноевропейского социокультурного типа. Причем главной особенностью, отличающей западноевропейскую цивилизацию от всех других, явилась надстроечная роль государства по отношению к хозяйствующим субъектам, обладающим полноправным гражданским статусом. Государство в этом случае было призвано работать на обеспечение интересов сообщества хозяев-собственников. В противоположность Востоку оно не стало, если, конечно, не считать отдельных исключений фактического установления диктатуры над обществом (Римская империя, фашистская Италия, нацистская Германия), стержнем и системообразующей основой жизнедеятельности западноевропейских социумов. Благодаря этому граждане западноевропейских обществ были более или менее гарантированы от прямого и непосредственного вмешательства государства в их частную жизнь.
Опять же, если мы поставим вопрос об исходных, базовых причинах формирования столь непохожего, можно сказать, абсолютно уникального типа общества, то и здесь придется в первую очередь указать на географические (природно-климатические) особенности западноевропейского полуострова. Исторически подобный тип общества мог сформироваться только там, «где еще на первобытном уровне было возможно ведение хозяйства силами отдельной семьи»[96]. Общество подобного типа могло получить развитие лишь в том регионе, где не было необходимости создания таких социокультурных систем, которые жестко подчинили бы домохозяйства надобщинным, в перспективе – раннегосударственным институтам. Оптимальные условия для реализации этой возможности были в древней Европе. Западное общество стало колыбелью индустриальной цивилизации благодаря прежде всего специфике условий, в которых шел распад родовой общины и первичное классообразование в Средиземноморье. Все дело в том, что в Греции, в ряде областей Передней Азии, в береговой части Италии и Адриатического бассейна ведение хозяйства не требовало серьезных скоординированных усилий. «Именно это обстоятельство «спасло» Европу от деспотической формы правления (в отличие от Востока, где необходимость ирригационального земледелия и отражения нападения кочевых племен требовала мобилизации огромных масс людей), именно благодаря ему у ее населения выработались те религиозные, ценностные и политические ориентации, которые через сотни лет в полной мере смогли реализоваться в постиндустриальных странах»[97].
Уникальная природная среда западноевропейского региона и предопределила в существенной степени судьбу населяющих его народов. Без этого нельзя объяснить, почему Запад стал Западом. Разумеется, были и другие причинные факторы, обусловившие специфику западноевропейского пути развития, но исходным выступил именно природно-климатический фактор.
Частнособственнический тип хозяйствования, получивший в силу природно-климатических причин успешное развитие, а также пробившие себе дорогу в жизнь еще в античной Греции принципы рационализма логически привели к утверждению в Западной Европе в период Нового времени фабричного производства, буржуазных отношений и парламентаризма, утилитаризма, меркантилизма и вообще всего, что отличает Запад от других цивилизаций.
Взглянув на карту мира, можно сделать вывод: для того чтобы народу стать процветающим и могущественным в Северном полушарии, необходимо было жить на прибрежных равнинах между 30 и 45 параллелями. Именно в этом поясе и возникли великие цивилизации прошлого в Европе и Африке, Азии и Америке.
Вообще, вопросы, связанные с исследованием природных факторов социальных изменений, напрямую касаются получившей в последнее десятилетие бурное развитие теории цивилизаций, в рамках которой многие исследователи стали рассматривать экологическую нишу, природную среду (климат, рельеф местности, полезные ископаемые, почвы, в том числе и трансформируемые антропогенным воздействием) в качестве системообразующего фактора цивилизационной идентичности. В целом ряде исследований стало обнаруживать себя принципиально новое восприятие положений цивилизационной концепции о значении природных начал, вмещающего пространства как детерминирующего фактора в развитии социокультурных (цивилизационных) систем.
Приведем весьма красноречивое высказывание на этот счет академика Н.Н. Моисеева: «Я смею это утверждать, ибо анализ истории Шумера, Древнего Египта, Китая и многочисленные другие исследования в этой области наглядно показывают прямую зависимость цивилизационных структур и их эволюцию от изменения природных факторов. Причины таких изменений могли быть очень разными. Многие из них были связаны с вариациями климата, как, например, в Египте. Другие были вызваны увеличением антропогенного давления на окружающую среду, как в Шумере или Китае. В одних случаях цивилизация оказалась не способной к ним адаптироваться и навсегда покидала историю, оставив после себя лишь смутные воспоминания, как это было в Древнем Шумере. В других эти трудности служили источником нового взлета, когда цивилизация смогла расширить свою экологическую нишу.
Подобная зависимость отчетливо проявлялась и в средние века, например в истории скандинавских стран и особенно Исландии. В современных же условиях зависимость человека от природных факторов многократно возросла, ибо экспоненциально растущее воздействие на природу меняет (тоже экспоненциально) саму природу, а значит, и условия жизни людей»[98].
Географическая среда порождала и другие различия в развитии цивилизации и народов. Тот, кто знаком с основами геополитики, знает, что в рамках этой науки была выдвинута концепция «земли и моря» – представление о двух фундаментально отличных типах народов: народах сухопутных (автохтонных) и народах морских (автотолассических). В данной концепции обосновывается мысль, что социально-психологические особенности населения, живущего у морского побережья, в существенной степени отличаются от особенностей того населения, которое живет в глубине континента. В первом случае над сознанием людей властвует архетип моря (океана), во втором – архетип земли.
Море, океан – это буйство стихии, несшей человеку как сухопутному существу постоянную угрозу, державшей его в постоянном напряжении. Каждый выход в море – это схватка, борьба с окружающей средой, причем борьба не на жизнь, а на смерть. Эта борьба придавала особое направление развитию сознания «людей моря», вырабатывала у них особый психотип – стремление к господству и покорению. Отсюда абсолютизация роли механических устройств, техники, предназначенных дать человеку силу в борьбе с окружающей средой. Все, что находится за бортом, может быть либо врагом, либо добычей, а на них законы и правила, организующие жизнь корабля, не распространяются. Таким образом, возникают двойные стандарты…
Со временем вышеуказанные духовно-психологические установки приобретают определенную универсальность в рамках культуры морских народов, впитываясь в их быт, нравы, жизненную философию. Постепенно представления о мире и человеке, возникшие на их основе, становятся незыблемыми и даже абсолютными, формируя социальную и политическую организацию. Государства, которые они создают, по своей глубинной сути, становятся огромными кораблями (над ними довлеет архетип корабля). «Социальная матрица групп, чья жизнь оказалась замкнутой в корпусе покинувшего землю судна, постепенно переносилась на «морские народы» в целом. Здесь присутствует та же четкость организации и управления, порядок, даже в самых мельчайших деталях, ярко выраженный корпоративный дух и единая целенаправленность общих усилий. Соответственно, все, что находится за бортом такого корабля-государства, воспринимается его командой либо в качестве угрозы (врага), либо качестве добычи, а сам корабль – надежным инструментом противостояния внешнему миру…»[99]. Не отсюда ли идея власти и силы, постоянно культивируемая и развиваемая в западноевропейском сознании, прежде всего в сознании англосаксов?
В сознании же сухопутных народов образ земли, ее гигантской мощи и силы не несет угрозы, а, напротив, обладает защитными свойствами (Мать-земля). Поэтому у народов суши доминирует ориентация не на борьбу, а на сотрудничество с окружающей средой, на гармоничное с нею сосуществование. Алгоритм гармоничного сосуществования человека с окружающей природой постепенно, в той или иной мере, распространяется и на социальную среду, на окружающих людей. Поэтому сухопутным народам, в отличие от морских, в большей степени свойствен коллективизм как специфическая форма мировоззрения и поведения человека. Индивидуализм, дух предпринимательства, склонность к техническому развитию им присущи в менее развитой форме. Неудивительно, что отношение между континентальными и морскими державами постоянно таили в себе конфликтообразующий потенциал.
Мы можем, конечно, допустить, что с увеличением доли очеловеченной природы, воздвигаемой человеком в ходе его адаптации к естественной среде обитания искусственным техническим миром, условия жизнедеятельности людей в различных географических регионах нашей планеты будут выравниваться. В жарких странах будут все интенсивнее внедряться кондиционеры, на севере – совершенствоваться система отопления. Пустыни будут превращены в оазисы с помощью систем орошения, болота благодаря осушению трансформируются в плодородные почвы и т. д. Мы может также уповать на то, что достижения научно-технического прогресса когда-то вообще нейтрализуют влияние природного фактора на жизнь людей, что когда-то возникнет единая для всего человечества культура и общая для всех народов цивилизация. Можно даже писать на эти сюжеты увлекательно-оптимистические романы, конструировать новейшие футурологические проекты и т. п. Но не будет ли все это иллюзорными упованиями?
Российский исследователь Ю.В. Олейников, на наш взгляд, обоснованно говорит по этому поводу следующее: «Может быть, когда-нибудь, когда «народы, распри позабыв, в единую семью соединятся», создадут по подобию бывшего СССР единую мировую энергетическую систему, с одинаковым для всех тарифом, которая осуществит идею полного равенства возможностей и удовлетворения потребностей людей, независимо от мест их обитания, природный фактор перестанет оказывать на экономическую деятельность и благосостояние людей существенное влияние. Такая тенденция теоретически просматривается. Однако есть и другая сторона дела. В настоящее время это только мечты. Практически человек не в состоянии полностью нивелировать природные различия на планете, да и в принципе этого никогда невозможно будет достигнуть. Природные различия останутся и будут, как и теперь, оказывать на жизнедеятельность людей постоянное и существенное влияние, и культура и цивилизация всегда будут средствами адаптации к этим разным условиям. Поэтому нельзя пересаживать на неблагоприятную почву России «тепличную» культуру и цивилизацию Запада, как нельзя осуществлять интродукцию – распространение животных за пределы ареала естественного их обитания. Последние или уничтожат естественные флору и фауну в новом месте обитания, или погибнут»[100].
Итак, мы можем констатировать, что географический фактор влияет самым существенным образом на характер развития народов и стран. Уже первое в истории человечества великое общественное разделение труда – отделение скотоводства от земледелия обусловлено географической средой. Необходимость учета этого обстоятельства актуальна и сегодня: размещение отраслей производства с учетом природно-климатических зон будет способствовать их эффективности и результативности. Главное здесь, однако, то, что географическая среда вообще самым непосредственным образом влияет на производительность труда. Так, при одинаковом уровне технологии производства и одинаковой степени квалификации работников себестоимость выпускаемой продукции будет различной в зависимости от погодно-климатических условий (продолжительность в году холодного зимнего времени, количество осадков, сила ветра и т. п.). На результативности труда сказываются специфика и характер транспортных коммуникаций между промышленными предприятиями (наличие или отсутствие дешевых водных артерий, хороших дорог, величина расстояния между городами, центром и периферией и т. д.). Сами темпы развития того или иного общества в значительной мере определяются его географическим положением и присутствием естественных средств производства. Так, раннее и быстрое развитие целого ряда западно-европейских стран было обусловлено наличием удобных морских путей. Вспомним, как повлияло на темпы развития Англии и Франции перемещение к их берегам основных транспортных коммуникаций в связи с открытием Америки и морского пути вокруг Африки. Или обратим внимание на то, как влияют на жизнедеятельность арабских стран, их историческую судьбу в целом богатые залежи углеводородного сырья.
Накладывает свой отпечаток географическая среда и на духовную жизнь людей, национальный характер и менталитет. Прав был Г.В.Ф. Гегель, начав излагать свою «Философию истории» (если не считать введения) разделом «Географическая основа всемирной истории». Дух народа, согласно ему, в своем развитии имеет почву, основу в географической среде[101].
Всем, например, известна аккуратность японцев, их склонность к культивированию различных микроформ, умение использовать каждый квадратный сантиметр сельскохозяйственных угодий или жилой площади. Объяснение этому одно – большая плотность и скученность населения в течение целого ряда столетий на ограниченном географическом пространстве[102]. Известная бережливость голландцев также формировалась как следствие чрезвычайно высокой плотности населения, ограниченной в пространстве и не очень богатой на природные ресурсы территории. И, напротив, кажущаяся безграничной в своем пространственном размахе территория нередко формирует дух расточительства и неумеренности.
Разумеется, степень влияния различных природных факторов на социальную динамику в различные исторические эпохи и в различных регионах мира неодинакова. Но как свидетельствуют факты, ослабление зависимости в одном отношении неизбежно сопровождается усилением зависимости общества от условий естественной среды в другом отношении.
Глава 16 Демографический фактор общественного развития
Возможность расширенного воспроизводства любой популяции, оказавшейся в благоприятных условиях, является универсальным свойством живого. Это в полной мере относится и к человеческим популяциям (сообществам). Однако большую часть времени существования человеческого общества проявление этого фактора определялось действием своеобразного экологического маятника: при росте числа населения сокращается несущая способность земли, возникают заболевания и подобное, что, в конечном счете, приводит к сравнительно быстрому сокращению популяции. Действие этого маятника практически определяло демографическую динамику всех донеолитических сообществ людей.
Переход от охоты и собирательства к производящему хозяйству (неолитическая революция) кардинально изменил роль и значение демографического фактора, поскольку на два-три порядка повысил несущую способность земли. А.В. Коротаев пишет, что, «по всей видимости, в течение нескольких тысячелетий неолитической революции и периода, непосредственно за ней следующего, именно демографический фактор выступал в качестве основной движущей силы социального развития»[103].
Репродуктивный рост, многочисленное потомство были на протяжении большей части существования человечества одним из важнейших показателей жизненного успеха людей (вспомним древнее пожелание: «Чтобы нивы ваши и жены ваши были плодородны»). Естественно, что качество и уровень жизни постоянно увеличивающегося числа населения в том или ином регионе планеты не могли возрастать без разного рода инноваций, повышающих производительность труда. И вот на этом, казалось бы прогрессивном, пути развития демографический фактор часто ставил людям коварные ловушки. Обычно получалось следующим образом: дополнительные ресурсы, полученные в результате успешной инновации или даже их целой серии, довольно быстро потреблялись (съедались) возросшей массой человеческой популяции. В результате качество и уровень жизни большинства населения возвращались к исходному уровню или даже становились ниже.
Возрастающая плотность населения рано или поздно приводит к ухудшению обеспеченности большинства народа землей. Людям приходится обрабатывать все менее и менее плодородные участки, сокращать срок перелога, вкладывать все большее количество труда в восстановление плодородия почвы, получая все меньшую отдачу от своих дополнительных затрат. Например, с середины XI до XIX в. валовый внутренний продукт Китая вырос в несколько раз, но еще в большей степени выросло население, вследствие чего доход на одного человека
сократился примерно на 25 %[104]. И это при том, что средняя продолжительность рабочего дня увеличилась. В итоге люди, работая больше, получали меньше жизненных благ, опускались на более низкий уровень жизни. Подобная ситуация типична практически для всех доиндустриальных обществ.
В целом, говоря о демографическом факторе, важно иметь в виду, что существует довольно устойчивая взаимосвязь демографии, экономики и форм власти. Демографический фактор определенно влияет на изменение структуры общества, его социальную стратификацию. А структурные изменения общества детерминируют иную логику его развития и тем самым весьма существенно влияют на исторический процесс в целом. В сущности, наряду с вмещающим пространством (характеристиками естественной среды обитания и их изменениями) динамика демографических процессов является исходной, ключевой в становлении и развитии цивилизаций как специфических социокультурных образований. Причем влияние демографического фактора касается как системы в целом, так и ее частей. Проявляется оно через неравномерность динамики внутри различных этнических и социальных подразделений. Кроме того, демографический фактор социальной эволюции практически всегда тесно был связан, коррелировался с уровнем и качеством жизни людей.
В течение длительного исторического времени демографический фактор выступал не просто одной из наиболее значимых движущих сил социокультурной эволюции вообще, но эволюции по восходящей линии как фактора социального развития, роста уровня организации социумов, их внутренней дифференциации, способности этносов к инновациям, к адекватным ответам на вызовы среды их жизненной энергии. Кроме того, демографический фактор оказывал определенное воздействие и на духовные процессы, выступал импульсом к формированию новых идеологий и мировоззренческих ориентиров.
Хорошо известно, что на наиболее приспособленных территориях для развертывания эффективной хозяйственной деятельности население увеличивалось быстрее, людям приходилось жить все теснее, возрастала взаимозависимость. Данное обстоятельство неизбежно вело к ускорению перемен, к появлению новых форм отношений между людьми и в целом к усложнению жизни. Там, где земля была плодороднее, а жизненное пространство меньше, процесс всевозможных новаций и изменений шел быстрее. Все это в свою очередь требовало новых норм и правил поведения и, соответственно, новых форм контроля за их соблюдением. Интересны в этом отношении различные метаморфозы и изменения в сфере религиозного сознания тех или иных народов в зависимости от плотности населения и усложнения форм жизни. Например, у тех христианских народов, у которых темпы хозяйственного развития и количественного роста населения были более высокие, искоренение языческого своеволия шло быстрее, чем у других христианских народов, где эти темпы были ниже.
Подобного рода зависимость обнаруживалась и на всех последующих этапах развития христианского мира. Так, согласно российскому исследователю О. Шахназарову, именно в силу неодинаковых темпов развития и плотности населения произошел в XI в. раздел христианской церкви на две – католическую и православную.
«…Получилось так, что те, кто демонстрировал более быстрые темпы развития (бурный рост городского населения, появление новых форм ремесла и т. д.) «назвали себя католиками, оставшиеся сохранили верность традиции и назвали себя православными. Суть раскола состояла в том, что православная церковь по-прежнему видела себя в роли пастыря общины, а католическая – более дробной ее части – семьи»[105]. Затем, считает Шахназаров, развитие производительных сил, связанных с природными ископаемыми, объективно вело к невиданному скоплению людей, росту преступности, упрощению нравов и другим общественным порокам, что опять порождало потребность в ведении новых форм регуляции общественной жизни. Ответом на эту потребность жизни и явилось формирование протестантизма. Таким образом, и второй религиозный раскол, имевший место уже в католической части христианского мира, был также вызван к жизни разностью скоростей в трансформации способов воспроизводства жизни.
Для большей убедительности высказанных положений О. Шахназаров приводит интересную таблицу сопоставления данных плотности населения в некоторых европейских странах в 1980-е гг. и господствующих там форм религий (табл. 16.1).
Таблица 16.1.
Сопоставление плотности населения и форм религий
С точки зрения автора таблицы, ее заполнение не имеет существенного значения, «так как соотношение плотности населения и доминирующие мировоззрения в границах соответствующих информационных полей не изменились»[106].
Конечно, религиозные расколы и тем более формирование новых типов религии – явление чрезвычайно сложное, многообразное и неоднозначное. Тем не менее, вряд ли будет правильным отрицать факт зависимости, устойчивой корреляции между плотностью населения и идеологией (в частности, религиозной идеологией), которая в данной среде зарождается.
В настоящее время демографический фактор продолжает оставаться существенной движущей силой социальной эволюции человечества, хотя при этом не всегда его роль бывает исключительно конструктивной. Причем давление демографических процессов на жизнь современных социумов принципиально различается в многочисленных государствах третьего мира и развитых странах Западной Европы, Японии и Северной Америки. В наиболее развитых странах этот фактор, начиная со второй половины XIX в., стал постепенно утрачивать свою значимость, уходить на периферию в сравнении с такими движущими силами социальной эволюции, как «механизм развертывания потребностей», «исследовательская активность»[107] и другие источники современного общественного развития.
Правда, необходимо иметь в виду, что процесс утери демографическим фактором своей значимости в современных развитых странах по прогнозам будет продолжаться до определенной критической точки, за которой он может стать (и уже становится) решающим для судьбы наиболее богатых и пока еще процветающих государств. Здесь прежде всего следует указать на практически необратимый процесс наплыва в Западную Европу и Северную Америку иммигрантов из стран третьего мира. В случае более быстрого демографического роста в иммигрантских группах населения (а это сейчас и происходит) в сравнении с титульными нациями (коренным населением) может произойти не только изменение самого субъекта социально-исторического процесса в результате возросшего числа людей, принадлежащих к иной культуре, но и трансформация всей традиционной для той или иной страны ценностно-нормативной системы общества. В тот момент, когда инкорпорированная этническая группа по численности превзойдет доминирующий этнос, станет возможной смена социокультурных детерминант страны в целом или ее конкретной территории, где эти процессы имеют ярко выраженный характер. Так, усиление афро-мусульманской или латиноамериканской цивилизационной доминанты может существенным образом изменить систему структурирования социума, приоритетов внутренней и внешней политики, повлиять на расклад сил межцивилизационного взаимодействия в глобальном масштабе, вызвать непредсказуемые социально-политические метаморфозы, привести в утере многими развитыми государствами собственной качественной определенности, своей идентичности. Все это, следует особо подчеркнуть, в полной мере касается и России. Здесь этнодемографические процессы, пожалуй, быстрей, чем где-либо, могут кардинально изменить ее облик. В Российской федерации мусульманские регионы, в отличие от территорий с преимущественно славянским (православным) населением, имеют иную динамику демографического роста, ибо ориентированы на традиционные религиозные ценности. Если иметь в виду обнаружившиеся в современной России тенденции (чеченская война и другие этнические конфликты и процессы), то можно сказать, что при отсутствии взвешенной и мудрой государственной политики только одни этнодемографические процессы (не говоря уже о других причинах и факторах) способны привести к самым негативным и деструктивным последствиям в отношении всего русского государственно-образующего этноса. Вспомним югославское Косово, где албанцы, для которых более характерны многодетные семьи, стали буквально за несколько десятилетий доминирующим этносом в крае, в результате чего коренным образом изменилась вся социокультурная ориентация региона. Чем это кончилось, мы хорошо знаем.
Таким образом, и современная действительность нам наглядно демонстрирует роль и место в социально-историческом процессе демографического фактора. Неслучайно подавляющее большинство современных исследователей рассматривают демографический фактор в качестве важнейшей движущей силы социокультурной эволюции. Единственное исключение здесь составляет, пожалуй, марксизм как в своей классической, так и догматической версии, где демографический фактор не был включен в число базовых факторов социальной эволюции. Отдельные высказывания о значимости демографического фактора можно найти в работах Ф. Энгельса[108]. Последнее, однако, не меняло общей картины. Даже в 1980-е гг. во многих советских социально-философских исследованиях (например, в работах Келле и Ковальзона) демографический фактор не рассматривался в числе основных движущих сил общественного развития.
Глава 17 Природно-географические детерминанты социокультурного и цивилизационного бытия восточнославянских народов
История восточнославянских народов, может быть, в большей степени, чем каких-либо иных, дает убедительные доказательства того, что экономический и культурный облик этносов в значительной мере предопределен их месторасположением на планете. «Все цивилизации являются в некоторой степени результатом географических факторов, – писал Г.В. Вернадский, – но история не дает более наглядного примера влияния географии на культуру, чем историческое развитие русского народа»[109].
Славяне, пришедшие на среднерусскую возвышенность, а затем дальше на Север, стали отличаться не только от западных народов, но и от тех славян, которым удалось задержаться в традиционных местах обитания. Предки современных восточнославянских народов, заселившие тысячи лет назад территории, которые по совокупности своих параметров были мало пригодны для эффективного земледелия, не могли быстро создать компактно проживающие большие сообщества из-за постоянной потребности перемещаться в поисках пищи. Мелким группам добытчиков, слишком далеко оторвавшимся от своего племени, не было смысла возвращаться назад. В итоге связь рвалась, появлялись новые стойбища. Природная среда, таким образом, не способствовала концентрации населения. «Не было городов – не зарождались ремесла. Не было ремесел – не появлялись новые орудия труда. Не было новых орудий труда – не появлялась возможность для того, чтобы на меньших территориях могло прокормиться большое число людей. В результате формировались устойчивые модели экономического поведения, сопутствующие идеологии»[110]. Вместе с тем восточнославянские этносы, осевшие
на территориях неустойчивого (рискованного) земледелия, не только не могли достичь высокой концентрации населения в больших городах, как это происходило в регионе Средиземноморья и в Западной Европе, они не могли существовать и малыми группами (семьей), потому что не обеспечивался достаточный баланс добывающей и потребляющей доли сообщества для ее выживания. А это означает, что не только города, но и фермерство развиваться не могло. «Сельская община в 100–200 человек – вот оптимальный размер русской само-воспроизводящейся единицы на протяжении тысячелетий, вплоть до совсем недавнего времени»[111].
В значительной степени данные процессы наблюдались и в Беларуси. В современной академической экономической науке вряд ли встретишь рассмотрение в качестве базового фактора экономического развития условия, вытекающие из особенностей и характера природно-климатической и географической среды. В частности, тот факт, что побережье Западной Европы омывается теплыми водами Гольфстрима, и обусловливает умеренный океанический климат (море в Норвегии не замерзает, населенная часть Швеции покрыта буковыми лесами, в столице Англии Лондоне растут пальмы и т. п.), а в восточнославянском регионе, в том числе в Беларуси, на Украине, климат, несмотря на все природные метаморфозы последних лет, остается континентальным, почти никем не учитывается при анализе процессов товарообмена и конкурентоспособности производимой продукции. В России, даже в Краснодарском крае, отопительный сезон длится шесть месяцев. Выход растительной биомассы в силу исключительно естественных причин (количество солнечных дней, температура, осадки) с 1 га в 2 раза ниже, чем в Западной Европе, и почти в 5 раз ниже, чем в США. В России период стойлового содержания скота 180–212 дней, а в Ирландии и Англии скот пасется практически круглый год. Из-за обширной континентальной территории и низкой плотности населения транспортные издержки в цене продукта в России составляют до 50 %, а во внешней торговле они почти в 6 раз выше, чем в США, и т. д.[112]
Северное расположение восточнославянских стран с неустойчивым, резко континентальным климатом оказало глубокое воздействие на все стороны жизнедеятельности людей, предопределило наряду с прочим принципиальное отличие их цивилизационного пути движения от народов западноевропейских стран.
Нигде на карте мира мы не найдем более или менее развитой страны, расположенной на территориях, соответствующих параметрам российского климата и географии. Те регионы мира, которые хоть как-то можно было сопоставить по основным природно-климатическим показателям с большей частью российской территории, характеризуются малочисленностью своего населения или вообще не заселены. Это касается не только Северной Канады, но и Норвегии (омываемой к тому же теплым течением Гольфстрима, смягчающим суровость ее климата), Финляндии, Аляски и других территорий. Только в России в северных широтах находятся такие крупные города, как Архангельск, Магадан, Норильск, Иркутск, Якутск, Воркута. Заметим попутно, что эти чудо-города не возникли и не могли возникнуть на чисто рыночной основе. Все они появились как результат экспансии мессианской идеи.
В науке до конца не решен вопрос, почему центром формирования русского народа стала такая неудобная для стабильного пропитания континентальная центральная полоса. Исследователи выдвигают разные гипотезы, спорят. В самом деле, «один из главных истоков государственности и цивилизации Руси город Ладога в устье Волхова (к тому же исток, как доказала современная историография, изначальный; Киев стал играть первостепенную роль позже) расположен именно на 60-й параллели северной широты»[113]. Нет в истории другого социума, который сумел не просто покорить и освоить столь обширные пространства с исключительно суровыми природными условиями для обитания людей, но и создать государство, культуру, цивилизацию и отстоять их.
В сельском хозяйстве восточно-славянскому крестьянину, для того чтобы получить такой же объем продукции, как в Западной Европе, необходимо обработать вдвое большую площадь и в необычайно сжатые сроки, поскольку вегетационный сезон намного короче, чем в западноевропейских странах. Сказанное в значительной мере, если не полностью, касается и сельского хозяйства Беларуси.
Особенно сильно влияет на урожайность, а следовательно, и на окупаемость произведенной сельскохозяйственной продукции, и на ее конкурентоспособность количество выпадаемых на той или иной территории осадков. Объясняя причины процветания США, Э. Хангтинтон в своей книге «Пружины цивилизации» подчеркивает, что большая часть территории США находится в зоне устойчивых осадков, равномерно распределяющихся в течение года. С его точки зрения, эта природная особенность является самой важной предпосылкой для обеспечения устойчивых урожаев. При этом Э. Хангтингтон установил, что такие благоприятные условия существуют лишь в отдельных регионах мира: в большинстве стран Западной и Центральной Европы, Японии, значительной части Австралии и Новой Зеландии, а также большей части США и Канады. Неудивительно, что именно в этих странах стали возможными «потребительская цивилизация» и «общество благоденствия».
В России из-за обширной континентальной территории и низкой плотности населения транспортные издержки в цене продукта составляют до 50 %, транспортные издержки во внешней торговле почти в 6 раз выше, чем в США, и т. д.[114]
С точки зрения возможностей экономического роста и социально-политической динамики особенно важно, что страны Запада окружены незамерзающими морями и пронизаны реками, которые покрываются льдом на короткое время, что способствовало развитию торговли и ремесел. Разумеется, и в восточнославянских странах водные пути имели и имеют большое значение, но здесь они используются только полгода.
Климатические пояса в Европе расположены парадоксальным образом: климат становится более холодным не с юга на север, а с запада на восток, а иногда даже наоборот, с севера на юг, а точнее – с побережий вглубь континента. Это значит, что по суровости зимнего климата практически одинаковы: обитаемая часть Норвегии, юг Швеции, Дания, Нидерланды, Бельгия, Западная Германия (у Восточной Германии уже другой климатический пояс, поэтому она всегда уступала в уровне экономического развития Западной Германии), Восточная и Центральная Франция, север Италии, Хорватия, Албания, Северная Греция, приморские районы Турции, южный берег Крыма и побережье Кавказа. Средняя температура января в перечисленных странах выше нуля. И это при том, что Норвегия на 3000 км севернее, чем Греция! Очевидно, что Западная Европа представляет собой не имеющий аналогов регион нашей планеты. Нигде на Земле нет места, расположенного так близко к полюсу и столь теплого[115].
В сущности, уникальность российского хозяйственно-экономического, социально-культурного и психолого-социального развития предопределена главным образом необычайной колебательностью природных процессов. Колебательность природных процессов в континентальной части Центральной России, где формировалось ядро русской нации, настолько велика, что трудовые усилия людей давали неслыханно большой разброс достигаемых результатов. Факты поразительны. Например, обследование, которое сделано в царской России по всем уездам 25 губерний (в основном Центральной России) в период между 1891–1915 гг., «показывают, что соотношение максимального и минимального урожая по годам в Самарской губернии 7,3 раза, Воронежской – 7,05, Казанской – 5,67, Симбирской – 6,2 раза»[116]. Нигде в мире нет такой амплитуды. В Европе природная колебательность максимум 1,5–2 раза. «Следовательно, – как справедливо подчеркивает российский исследователь Г.А. Гольц, – важнейший фактор, влияющий на формирование русского характера (и, естественно, характера и специфики экономического развития. – Авт.), непредсказуемость результатов труда. Сколько ни вкладывай – неизвестно, то ли будет урожай, то ли нет»[117]. Глубоко был прав Н.А. Бердяев, когда говорил о соответствии в России географии физической и географии душевной.
В целом, объем совокупного прибавочного продукта общества в Восточной Европе всегда значительно меньше, а условия для его создания значительно хуже, чем в Западной Европе.
Это объективная закономерность, отменить которую человечество не в силах.
При учете совокупности особенностей естественной среды обитания становится очевидно, насколько больше усилий восточные славяне должны были тратить для того, чтобы добиться подобия качества и уровня жизни Западной Европы.
Отрицательное воздействие природно-климатической и географической среды на издержки производства в восточнославянских странах всепроникающе и многоаспектно. Так, восточные славяне живут по сравнению с западноевропейскими народами в более дорогих и менее комфортабельных домах. Стоимость строительства жилых домов, гражданских и промышленных объектов в восточнославянских странах выше в 2–3 раза (в зависимости от вида строительства), чем в Европе. Соответственно выше и амортизационные выплаты, а здания менее долговечны. Чтобы, например, рабочий выжил при температуре воздуха ниже 10°, ему надо построить это самое жилье, с толстыми стенами и глубоким фундаментом, отапливать его от 6 до 8 месяцев; обеспечить себя теплой одеждой и хорошим питанием (в условиях холодного климата требуется больше калорий) и т. д. По сравнению с Западной Европой обеспечение жизнедеятельности одного человека обходится в целом в 3 раза дороже.
Обратимся к простой иллюстрации. Представим себе два одинаковых завода, с равным уровнем развития технологии и подготовки кадров в России, где-нибудь в районе Екатеринбурга (там, кстати, сосредоточено большое количество промышленных предприятий России) и на Западе, где-нибудь на берегу моря в Нидерландах или во Франции. С первого взгляда вполне можно допустить, что произведенная на этих предприятиях продукция должна обладать одинаковой себестоимостью. Но на практике это не так. Себестоимость продукции, произведенной в России, оказывается на мировом рынке в 1,5–1,7 раза выше, чем продукции, произведенной в Нидерландах или Франции, потому что ровно настолько больше в условиях российского климата и географии необходимо затратить средств на энергоресурсы, коммуникации, транспорт и т. д.
Следует вывод: в условиях открытого общества (мира без границ) коллапс восточнославянской неконкурентоспособной промышленности неизбежен. Предприниматели в этой ситуации, не желая работать в убыток, направят свою деловую активность и имеющиеся в их распоряжении свободные средства туда, где они еще могут приносить прибыль. Например, на вывоз древесины, редкоземельных металлов, нефти, газа и т. д. Что, собственно, и произошло в России. А это в свою очередь означает, что трансформация России в пропагандируемое идеологами нынешней модели глобализма открытое общество есть верный путь к ее гибели как сколь-нибудь значимого государственного образования на мировой арене, превращение ее, в лучшем случае, в сырьевой придаток.
Вообще, очень многое в судьбе России (в том числе и других восточнославянских странах) объясняется природными факторами. Так, Западную Европу в силу ее уникально благоприятных природно-климатических условий населяло к тому историческому моменту, когда англичане, французы и немцы стали создавать свои национальные государства, великое множество этносов: кельтских, иллирийских, балтских, славянских и т. д. Где они сейчас на территориях этих государств? Ведь их было не меньше (если не больше), чем на территории России. Они все полностью уничтожены или ассимилированы. На территории Англии несколько раз почти полностью коренное население заменялось другим. На территории Европы еще в эпоху Карла Великого и первых Каро-лингов (786–843) почти от самой Дании, по Эльбе и за Эльбой (первоначально эта река называлась славянским словом «Лаба»), через Эрфурт к Регенсбургу и по Дунаю жили славянские племена: ободриты, лютичи, липоны, Гавелы, геда-рии, укры, поморяне, сербы и др. Что от них осталось? Выдающийся русский философ И.А. Ильин пишет в связи с этим: «Они подвергались завоеванию, искоренению или полной денационализации со стороны германцев. Тактика завоевателя была такова: после военной победы в стан германцев вызывался ведущий слой побежденного народа; эта аристократия вырезалась на месте; затем обезглавленный народ подвергался принудительному крещению в католицизм, не согласные убивались тысячами; оставшиеся принудительно и бесповоротно германизировались»[118].
Процесс уничтожения нетитульных народов и народностей в Западной Европе был таков, что они либо вообще исчезли, либо превратились к настоящему времени в своего рода этнические реликты (шотландцы, валлийцы, бретонцы, гасконцы, лужичане и т. п.). Сегодня только два древних народа в Западной Европе – ирландцы (в британском Ольстере) и баски (в Испании и Франции) сохранили свою идентичность. Однако многолетние кровавые войны этих народов за элементарную национальную автономию так и не могут до сих пор увенчаться успехом[119].
А теперь посмотрим на судьбу народов в составе России. Все они выжили, развили культуру и чуть ли не по всей горизонтали России пытаются ныне создать свою государственность, которой у многих из них вообще никогда не было. Не будем спорить: Россия, наверное, была «тюрьмой народов». Где на земле не было такой тюрьмы? Но «кладбищем народов», подобно Англии, Франции, Германии, Испании, она никогда не была. Историческая правда заключается в том, что народы, соединившие свою судьбу в пределах российской государственности, имели вполне реальные возможности для своего развития, а русский народ в массе своей не выступал по отношению к ним в качестве угнетателя и никогда не ставил перед собой цели их уничтожения. Сам факт существования в России с древнейших времен по сегодняшний день полиэтнического состава правящего класса (и правительства) говорит о многом. Если бы не сложилась такая традиция, то в нынешних правящих структурах России этнический состав был бы наверняка совсем другой. По крайней мере, вряд ли занимал бы такое место в политическом руководстве России, как это мы наблюдаем сейчас, инонациональный компонент.
Почему так произошло? Наряду с прочим, это можно объяснить историческими условиями жизни русского народа, его географией и климатом. Широта пространств, малонаселенность превращали в совершенно неразумное занятие полное искоренение и денационализацию ассимилируемых Россией территорий. Напротив, для выживания в суровых российских условиях необходимой была кооперация усилий, сотрудничество. На Западе же было тесно. Там борьба за овладение нишами выживания шла не на жизнь, а на смерть. Все это и формировало архетипические качества и менталитет народов: у русских – открытость, всечеловечность, уникально терпимое и доброжелательное отношение к другим народам, а у западноевропейцев – агрессивно-экспансионистское, высокомерное и враждебное. В подтверждение этому достаточно сказать, что колониальная экспансия Запада погубила более 90 млн австралийских аборигенов и американских индейцев, а варварская торговля людьми унесла жизни более 20 млн африканцев[120].
Или взять другой аспект. Многие с горькой неудовлетворенностью говорят об абсолютном доминировании в истории России государственного, державного начала над личностным, индивидуальным, о сверх меры централизованной и жестокой государственной власти, о ее неподконтрольности и вседозволенности. Действительно, такой феномен в русской истории имел место. Но он тоже в значительной степени объясняется объективными условиями исторического бытия России. Огромные пространства, почти не имеющие естественных оградительных рубежей, природных границ, непрерывные угрозы и нашествия со стороны воинственных соседей, нахождение на перекрестке Великого шелкового пути и пути «из варяг в греки» требовали мощного объединительного и защитного механизма, сильного централизованного государства. Можно определенно утверждать, что если бы русский народ не смог проявить своего гения в государственном строительстве, в создании мощной централизованной государственной и военной машины, восточнославянские, да и некоторые другие народы едва ли существовали бы сегодня на Земле и вряд ли где-либо слышно было русскую речь. Так что вопрос об оценке характера российской государственности нельзя решать однозначно негативно. К тому же следует отметить, что не такой уж беспредельной тираничностью и жестокостью отличалась русская государственная власть. Если взять, например, статистику казней в России и Европе, начиная со времен Ивана Грозного и вплоть до XX в., то она свидетельствует отнюдь не в пользу Европы[121].
Необходимо отметить, вплоть до современной эпохи демократизации Россия вместе с близкородственными ей народами всякий раз оказывалась в состоянии дать ответы на вызовы, трудности и препятствия.
Всемирно известный английский историк А. Тойнби выделил три крупных вызова, на которые Россия успешно дала ответ. Первый вызов – вызов природы: суровая природная среда, не позволяющая осуществлять интенсивное земледелие – оно могло быть только экстенсивным. Русским ответом этому было расширение территории на Восток и коллективизм (община). Коллективизм в условиях России был наиболее адекватной формой ответа на вызов природы, способом выживания народа. Второй вызов – монгольское нашествие, которое грозило уничтожить Русь. Ответом стала духовная консолидация народа, укрепление восточно-православной христианской религиозности, а также переход к оседлому земледелию, которое было эффективнее по сравнению с кочевым скотоводством. Третий вызов (пожалуй, самый жесткий) – вызов Запада, который, начиная с Нового времени, стал превращать весь мир в арену своего интереса и действия. Для предотвращения угрозы со стороны Запада России нужно было срочно модернизироваться. И ей это удалось: Россия – единственная континентальная страна, которая не была колонизирована Западом. Она явила миру пример необычайной силы и способности противостояния Западу в его военном, экономическом и духовном подчинении себе всех стран и народов планеты. Россия отчаянно стремится сохранить себя; и даже сегодня (после 1991 г.) далеко еще не ясно, потеряла ли она свои уникальные потенции.
Именно в природно-климатических, географических и социокультурных особенностях восточнославянской цивилизации кроются причины многократных неудач либеральных реформ. Реформаторы различных мастей уже 300 лет пытаются вывести устойчивый маятник российского бытия на режим другого маятника – европейского или западного типа. По разным оценкам, за последние 300 лет было предпринято 14 таких попыток[122]. Хотя, по существу, нет никаких оснований утверждать, что западноевропейский маятник лучше или хуже восточнославянского, он просто другой, но этим обстоятельством наши реформаторы всегда пренебрегают.
Поэтому, например, чтобы полностью внедрить денежную психологию, необходимо иметь в России других людей. Это невозможно по определению. Учитывая все эти особенности российского бытия и культуры, следует, по крайней мере, идти на компромисс, не механически имитировать западную экономику, а создавать другую, свою психологию экономики. И только на основе осознания, освоения уникальности российского бытия «открываются возможности для выхода на поле реально действующих механизмов, которые можно использовать в конструктивном поле прогнозирования и управления»[123].
Все сказанное, однако, не означает, что в восточнославянских странах исключительно плохая природно-климатическая среда. В ряде отношений природа восточнославянских народов прекрасна и великолепна, таит в себе огромные, еще не раскрытые возможности. Речь шла лишь о том, что природа восточнославянского суперэтноса не способствовала успешному развертыванию частнопредпринимательской экономики, основанной на принципе получения максимальной прибыли, уступала в этом отношении западноевропейским территориям. Более того, опираясь на многочисленные факты и данные, можно утверждать, что природные основы бытия восточнославянских обществ не только не способствовали, но и препятствовали становлению капиталистической экономики западноевропейского типа. Плохо ли это, если иметь в виду дальнейшие перспективы развития общества? Думаем, что неплохо. Тот тип экономики, который получил возможность для своего становления и развития в западноевропейском регионе и который все еще преподносится в качестве модели – образца для развития всех остальных народов мира, к настоящему времени во многом себя исчерпал. Попытки утверждения западноевропейской модели развития общества, ориентированной на свободный рынок с интенсивным производством и расширенным потреблением, являются абсолютно несовместимыми с экологическим императивом современности. С этой точки зрения предпринимательская экономика, основанная на принципе получения максимальной прибыли, выступает как явно не эффективная и устаревшая[124].
А вот что касается природных богатств России, ее недр, сырьевых и энергетических ресурсов, то они в условиях современной глобализации могут обеспечить неисчислимые преимущества не только самой России, но и всему восточнославянскому миру.
Справедливости ради следует сказать, что и в прошлом именно российская география, ее природа и вмещающие пространства позволили русскому народу создать мощное государство и особую локальную цивилизацию. Заселяя новые необжитые или почти необжитые территории огромного евразийского континента, русские люди, несмотря на всю суровость климата, смогли там не только выжить, но и продемонстрировать необычайно быстрый рост населения и жизненную энергию. об этом писал белорусский и русский философ истории, писатель И.Л. Солоневич в книге «Народная монархия» (1952) и об этом красноречиво свидетельствует составленная им таблица роста числа населения в России и ряде стран Западной Европы (табл. 17.1)[125].
Таблица 17.1.
Сопоставление числа населения в России и ряде стран Западной Европы, млн чел.
Собственно, огромные территории и природные богатства России при сравнительно редком населении как раз и создавали возможность довольно быстрого количественного роста русского народа. Леса кишели зверьем, водоемы – рыбой, добывать их было легко. Ничего подобного не могло быть в Западной Европе, которая в силу своих благоприятных природно-климатических условий была с древних времен весьма густонаселенной. Там охота была привилегией господствующих классов, аристократии. В России же охотились и ловили рыбу все желающие, не говоря уже про сбор ягод и грибов.
Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что Русь всегда знала баню, а в Европе баня прочно вошла в быт людей только в XIX в. Возможно, поэтому многие эпидемии, выкашивавшие Западную Европу, в том числе и Великая чума, останавливались где-то на границе польских и русских земель[126].
Кроме того, И.Л. Солоневич подчеркивает, что «на протяжении тысячи лет Россия последовательно разгромила величайшие военные могущества, какие только появились на европейской территории: монголов, Польшу, Швецию, Францию и Германию. Параллельно с этим рядом ударов была ликвидирована Турецкая империя. В результате этого процесса Россия, которая к началу княжения Ивана III (1464), охватывала территорию 550 000 км[127], к концу царствования Николая II занимала 21 800 000 кб. км[128].
Эти аргументы, факты и цифры говорят о том, что восточнославянский народ является народом-гигантом, народ ом-богатырем.
Глава 18 «Власть пространства» в исторической судьбе России: взгляд русских мыслителей
Исключительная роль природного фактора в цивилизационной системе России издавна обращала на себя внимание выдающихся российских мыслителей. Многие из них говорили не просто о чрезвычайно важном, а о решающем влиянии особенностей географической среды России на ее историческую судьбу. Так, один из крупнейших историков С.М. Соловьев писал, сравнивая Западную Европу с Восточной: «На Западе земля разветвлена, острова и полуострова, на Западе горы, на Западе много отдельных народов и государств; на Востоке сплошная равнина и одно громадное государство. Первая мысль при этом, что две столь разнящиеся между собой половины Европы должны были иметь очень различную историю. Мы знаем, как выгодно для быстроты развития общественной жизни соседство моря, длинная береговая линия, умеренная величина резко ограниченной государственной области, удобство естественных внутренних сообщений, разнообразие форм, отсутствие громадных, подавляющих размеров во всем, благорастворение воздуха, без африканского зноя и азиатского мороза, эти выгоды отличают Европу перед другими частями света; на эти выгоды указывают как на причину блестящего развития европейских народов, их господства над народами других частей света. Но, указывая на эти выгоды, должно разуметь только Западную Европу, ибо Восточная их не имеет; природа для Западной Европы, для ее народов была мать; для Восточной, для народов, которым суждено было здесь действовать, – мачеха…»[129].
О детерминирующем воздействии природного окружения на характер русского народа и в целом на историческую судьбу России говорит и В.О. Ключевский. По его словам, природа России «часто смеется над самыми осторожными расчетами великоросса: своенравие климата и почвы обманывает скромные его ожидания, и, привыкнув к этим обманам, расчетливый великоросс любит, подчас, очертя голову, выбрать самое, что ни на есть безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить бытие, играть в удачу и есть великорусский авось… Короткое великорусское лето умеет еще укорачиваться безвременным нежданным ненастьем. Это заставляет великорусского крестьянина спешить, усиленно работать, чтобы сделать много в короткое время и в пору убраться с поля, а затем оставаться без дела осень и зиму… Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на короткое время, какое может развить великоросс; но и нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному постоянному труду, как в той же Великороссии»[130].
Мысль о фундаментальной роли природной составляющей в системе российской цивилизации разделял Н.А. Бердяев. Он писал: «Необъятность русской земли, отсутствие границ и пределов выразились в строении русской души. Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли, та же безграничность, бесформенность, устремленность в бесконечность, широта»[131].
В.О. Ключевский и особенно Н.А. Бердяев не оценивают столь однозначно отрицательно, как это делает Соловьев, воздействие природных условий на жизнь русских людей. Бердяев даже усматривает в некоторых аспектах их благотворность и возвеличивающее начало.
На редкость интересны размышления о воздействиях природных условий на духовный склад русских людей известного русского мыслителя В.Н. Ильина. Последний, хотя и придавал решающее значение духовно-религиозному фактору в интерпретации социальной динамики, тем не менее, настоятельно подчеркивал мысль о наличии прямой связи специфики духовного склада русских людей с особенностями окружающей их природной среды. Он, в частности, отмечал, что Россия только в силу своего климата и географии не может быть «страной нег и наслаждений». Там, где имеют место постоянные метели, вьюги, ни в искусстве, ни в душе не может утвердиться тип человека, ищущий того, что французы называют «plaisirs», douceur de vivre (наслаждение, радости жизни). Суть русской культуры, согласно В.Н. Ильину, «в отрицании как высшего идеала сладости жизни» и «счастливых концов» буржуазного американского как и вообще западного стиля[132]. В этом специфически русском, считает В.Н. Ильин, «духе отречения от радости жизни есть великая зазывающая сила», наиболее рельефно обнаружившая себя в феномене иночества, который интерпретируется им как основа русской культуры. И что интересно, Ильин носителей такого рода духовности называет «людьми лунного света» – образ, впервые использованный В.В. Розановым для характеристики монахов и аскетов вообще. Надо сказать, что в этом замечательном по своей глубине и красоте образе-символе, невольно вызывающем в памяти зимний лунный пейзаж, бескрайние заснеженные просторы русской равнины, схвачена глубинная связь природных реалий России с внутренним строем русской культуры, национальным характером русских.
В российской мысли понятие пространства явно приобретает ценностную нагрузку. В целом ряде работ известных авторов можно найти немало утверждений о том, что беспредельность, безмерность, сверхнормативность российского пространства формирует такой душевный склад человека, который постоянно обусловливает выход за границы меры и норм буквально во всем. Причем наличие подобного настроя души констатируется как теми, кто относится к российской географии и российскому национальному характеру крайне негативно, так и теми, кто в безграничности российских пространств восхищенно усматривает причину «безграничной широты» русского человека, его не имеющих аналогов среди других народов универсальности и многомерности.
Н.О. Лосский, Н.А. Бердяев, говоря о силе природной стихии как причине слабой способности русских к формотворчеству, внутренне присущего им стремления переходить во всем через грань меры, нерасположенности к методичному, последовательному и целенаправленному освоению окружающей действительности и подобному, усматривают во всем этом, несмотря на некоторые оговорки, определенную ущербность и недостаток русской жизни. В.О. Лосский пишет: «У русского народа нет строго выработанных, вошедших в плоть и кровь форм жизни»[133]. Он, кстати сказать, полагал, что одной из причин сохранения абсолютной монархии в России, иногда граничащей с деспотизмом, является то, что русским народом ввиду его склонности к анархизму весьма трудно управлять. «Такой народ предъявляет чрезмерные требования к государству»[134].
Н.А. Бердяев также отмечает, что русскому народу «нелегко давалось оформление», что «дар формы у русских людей невелик»[135]. Конкретным проявлением имманентно присущей русскому духу интенции преодоления границ меры и норм стала, по его словам, тяга русского человека к абсолютному во всем. В этой тяге к абсолютному Бердяев усмотрел определяющую черту русского национального духа. Согласно ему «тайна русского духа» в том, что он «устремлен к последнему и окончательному, к абсолютному во всем… Россия как бы всегда хотела лишь ангельского и зверского и недостаточно раскрывала в себе человеческое. Ангельская святость и звериная низость – вот вечные колебания русского народа, неведомые более средним западным народам. Русский человек упоен святостью, и он же упоен грехом, низостью»[136].
Крайне отрицательную оценку географического фактора русской жизни дает один из наиболее радикальных адептов западной цивилизации И. Бродский. Он чуть ли не с физически ощущаемой неприязнью говорит о пространстве России – Евразии. Последнее, согласно ему, наложило роковой отпечаток на судьбу России и его собственную личную судьбу. «Я… жертва географии. Не истории, заметьте, а географии»[137]. При этом, с точки зрения Бродского, «пространство вообще иерархически ниже времени, подчиненнее, несущественней: ставки на пространство – характеристика кочевника, завоевателя, разрушителя; на время – цивилизатора, философа, поэта»[138].
Вот еще весьма примечательное высказывание на этот счет: «На кого тут жаловаться? Тут никто не виноват. Тут просто исполняется вечный и непреложный закон природы, перед которым все одинаково должны преклонять голову. Никому нет привилегий. Попал под закон – ну так и неси последствия. Это – закон географической широты. Жалоба моя так же основательна, как если б какая-нибудь русская елка или березка, выросшая под архангельским небом, вздумала плакаться на то, зачем-де она не родилась пальмою или померанцевым деревом под небом Сицилии»[139].
Конечно, если быть во власти «религии прогресса», стоять исключительно на прогрессистской точке зрения, то преобладание пространства над временем в континууме культуры – признак исторической несостоятельности, отклонение от прогрессивно-поступательного движения цивилизации. Но если же усомниться в правомерности прогрессистского сознания (а для этого XX век, век преобразований, дал немало оснований), то к этому вопросу можно подойти совсем по-другому. Что и делают некоторые мыслители. Например, А.С. Панарин, говоря о цивилизационном пространстве и цивилизационном времени, отдает явное предпочтение цивилизации и пространству, в которых воплощается культурное многообразие мира. С его точки зрения, Западная цивилизация линейного времени ведет, в конечном счете, к подавлению жизненно необходимого культурного разнообразия человечества, к унификации и стандартизации мира, что таит в себе семена деградации и катастрофического исхода.
Заметим, кстати, что великий русский писатель Ф.М. Достоевский в неприятии русскими людьми методичности, размеренности, жесткой регламентированности и завершенной формы видел не недостаток, а огромное преимущество русского духа. Так, Ф.М. Достоевский в одном из писем (от 8.05.1867) с некоторым чувством гордости пишет о том, что «формы жестко не имею»[140]. По его мнению, такого рода особенность русского национального характера есть следствие переизбытка его достоинств. В своем романе «Игрок» он пишет: «Русские слишком богато и многосторонне одарены, чтоб скоро приискать себе приличную форму»[141]. Отсутствие чувства меры рассматривается Ф.М. Достоевским как истинно русская, в своей основе положительная черта. Жесткое же следование принципу меры, согласно ему, несовместимо с христианской братской любовью, которая по самой природе своей безгранична и безмерна. Отсюда у Достоевского резко отрицательное отношение к западным принципам жизнеустроения и мироощущения. В связи с этим русский мыслитель напоминает образ третьего всадника Апокалипсиса – «образ скаредной меры, отмеривающей ровно столько и не больше»[142].
Еще более радикально отрицательное отношение к форме, норме и мере, получившим наиболее полное воплощение в мироощущении западного человека, характерно для М.И. Цветаевой. Она даже на уровне ощущения в стремлении к размеренности бытия видит нечто ей лично враждебное: «Что же мне делать с этим безмерием в мире мер…» Цветаева прибегает к прямым издевкам над «Западом – Гаммельманом»: «мера и сантиметр… только не передать»[143].
В контексте анализируемых проблем чрезвычайно интересны положения и выводы наиболее известных представителей евразийского направления российской мысли (Н.С. Трубецкой, Г.В. Вернадский, П.Н. Савицкий, Л.П. Карсавин и др.). Представителями евразийства природный фактор бытия русского народа оценивается однозначно положительно. Причем все они отдавали явное предпочтение пространству над временем, видели в доминировании времени над пространством явление глубоко чуждое всей неевропейской части планеты, включая и Россию как шестую часть суши. Такой взгляд обусловлен прежде всего тем, что географическая среда России («местоположение», «месторазвитие») выступает, согласно им, главной предпосылкой возникновения особой евразийской цивилизации. Специфика же географической среды (пространства) России – это «государство-континент». Именно особое «ощущение континента» определяет основу духовного строя России – Евразии. Это обстоятельство принципиально отличает ее от Западной Европы, для которой характерно «ощущение моря»[144]. В целом, теоретики евразийства очень тонко ощущали обусловленность культуры народов конкретными географическими обстоятельствами.
Категория месторазвития позволяет показать единство социально-временного аспекта бытия народа с аспектом социально-пространственным, который характеризуется отношением социального субъекта к внешнему миру, к его «вмещающему ландшафту». Евразийцы впервые показали, что социальное время и социальное пространство в существовании и деятельности этноса различимы только в абстракции, так как в реальности они представляют собой диалектическое единство, которое мы по аналогии с теорией относительности рискнем назвать социальным пространственно-временным континуумом. Подобно тому как в квантовой механике нельзя отделить время от пространства и далее от вещества и поля, в социальной жизни нельзя отделить социум от социального пространства и времени. Таким образом, в теорию географической среды внесено существеннейшее дополнение: речь идет не только о влиянии последней на социум (Монтескье) и об обратном влиянии (Гер-дер), но и – это главное – о слиянии в единое целое социальноисторической среды и ее территории.
Категория месторазвития играет ключевую роль в евразийском понимании историософии России – Евразии, особого мира, особой культуры, особой судьбы евразийского социума. По убеждению евразийских теоретиков, месторазвитие евразийской культуры, значительно отличающееся от европейского и азиатского месторазвития соответствующих культур, предопределяет и культурно-исторический тип цивилизации, возникшей и совпадающей с территорией Российской империи и почти повторяющей ее территорией Советского Союза. Именно в этом месторазвитии существует евразийская цивилизация, отличная как от европейской, так и от азиатской, где, как в громадном горниле, сплавились судьбы этнически разных составляющих. Не этнические, не конфессиональные, не экономические принципы являются главенствующими в этом пространственно-временном социальном континууме, а синтетический принцип месторазвития «стяжает», объединяет различные социальные организации.
Методологическая роль категории месторазвития весьма значительна не только для периода 1920-х гг., когда она впервые была введена в научный обиход, но и сегодня. Именно эта категория, хотя и под другим названием, является центральной в современной геополитике, к основоположникам которой с полным правом можно причислить и евразийцев. Именно евразийцы первыми обратились к геополитике как к науке, именно они основали русскую школу геополитики. Евразийская доктрина, по мнению А. Дугина, – доктрина во многом геополитическая, а идеологи евразийцев достигли в этой области столь важных и высоких результатов, что их вполне можно поставить в один ряд с классиками геополитической науки Хэлфордом Макиндером (1861–1947), Альфредом Мэхэном (1840–1914), Видалем де ла Блашем (1845–1918), Карлом Шмиттом (1888–1985), Карлом Хаусхофером (1869–1946), Николасом Спикме-ном (1893–1943) и т. д. Здесь же заметим, что не с меньшим основанием евразийцев можно считать и основоположниками русской экологии, ибо именно они, рассматривая взаимодействие социального субъекта во взаимообусловленном существовании с социальным пространством, подчеркивали, что социальный субъект не только «усваивает» и делает социальное пространство «частью своего жизненного мира», но и тревожится о нем как о «своем внешнем теле».
Говоря о социальном пространстве, надо обратить внимание и на проблему территориально-культурной идентичности, которая в нем формируется. Территориально-культурная идентичность – это переживаемые и осознаваемые смыслы культурно-географической реальности (И.Я. Левяш). Они формируют «практическое чувство» и осознание «почвенной» сопричастности к определенной территориальной общности как специфическому жизненному пространству. Эта идентичность устанавливается как результат двух процессов – объединения и различения. Чтобы идентифицировать территориальную культурно-цивилизационную общность, ее необходимо для себя «определить» и одновременно тделить от других общностей. Поэтому истинное значение такой идентичности предполагает все сходства и различия, объединения и противопоставления общественной жизни.
Территориальная культурно-цивилизационная идентичность связана со специфическим пониманием территории, переживанием индивидом ее культурных и цивилизационных обстоятельств и черт. Они характеризуют данную территориальную общность как ментально «свою». В силу идеального «перевоплощения» себя в члена территориальной общности, обстоятельства ее существования и сама эта жизнь в совокупности различных аспектов приобретают личностный смысл.
В заключение следует отметить, что, хотя природно-климатический фактор фатально и не предопределяет характер и направленность развития экономики и дает широкий простор для исторического творчества, он, тем не менее, является таким наследством, от которого не может эмансипироваться ни один народ.
Кроме того, чрезвычайно важно подчеркнуть, что предлагаемая природная интерпретация целого ряда феноменов социального бытия, рассмотрение его в аспекте взаимоотношения природы и общества никак не противоречит другим ракурсам изучения человеческой истории. Ибо в реальности ни один подход к анализу общественной жизни, какой бы значимый и плодотворный он не был, не может выступать в качестве универсального. Глубоко прав был Н. Бор, когда говорил о том, что никакое сложное явление нельзя описать с помощью одного языка (т. е. на основе одной какой-либо концепции или парадигмы). Истинное понимание может дать только голограмма, т. е. рассмотрение явления в разных ракурсах, его описание с помощью различных интерпретаций.
Раздел V Общество как исторический процесс
Глава 19 Развитие общества как естественно-исторический процесс. Формационное членение истории
Формационный подход к пониманию истории был создан немецкими философами К. Марксом и Ф. Энгельсом. В дальнейшем над его развитием трудилось несколько поколений марксистов, стремящихся создать цельную теоретическую систему, лишенную внутренних противоречий и обладающую высокой объяснительной способностью.
Суть формационного подхода, или материалистического понимания истории, как его называл сам К. Маркс, можно сформулировать следующим образом: основой общественной жизни, или фундаментом общества, является способ производства материальной жизни, необходимый для удовлетворения материальных потребностей людей. Способ производства первичен по отношению к общественному сознанию и обусловливает «социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание»[145]. Но сам способ производства материальных благ носит развивающийся, конкретно-исторический характер, что приводит к изменению социальной системы в целом и ее движению от этапа к этапу. Так мы выходим к категории общественно-экономической формации, которая занимает в материалистическом понимании истории центральное место.
Понятие общественно-экономической формации обозначает у Маркса логически обобщенный тип (форму) организации социально-экономической жизни общества и складывающийся на основе выделения у различных конкретно-исторических обществ общих черт и признаков, прежде всего в способе производства. Иными словами, это исторически определенный тип общества, представляющий собой особую ступень в его развитии («общество, находящееся на определенной ступени исторического развития, общество со своеобразным отличительным характером»).
Под формацией, следовательно, нельзя понимать какое-то эмпирическое общество (английское, немецкое и т. д.) или какое-то совокупное геополитическое сообщество (Запад, Восток). Формация в этом смысле – высоко идеализированный, абстрактно-логический объект. Вместе с тем формация – это и реальность, выступающая как общее в социально-экономической организации жизни различных конкретных обществ.
Формулировка понятия «общественно-экономическая формация» – непростое дело. Введение в научный оборот данного понятия было мощным интеллектуальным прорывом. Сложность состояла в том, что всякое человеческое общество в целом состоит из множества более мелких, частных общностей (человечество, раса, нация, класс, производственный коллектив, семья, религиозная община и т. п.). Развитие человечества в целом, т. е. всемирная история, складывается из множества частных историй этих общностей. В истории человечества нельзя найти даже два полностью идентичных социальных организма. Каждое отдельное, частное общество имеет свои индивидуальные особенности.
Неповторимость, индивидуальность истории единичных общественных организмов всегда бросалась в глаза исследователям. Всемирная история представала как бесконечное и бессистемное нагромождение случайных событий, в которых нет никакого порядка и закономерности. Для того чтобы преодолеть хаос и произвол, господствовавшие во взглядах на историю, как-то систематизировать массу исторических событий, необходимо было прежде всего выделить и зафиксировать в научных понятиях элементы всеобщего, повторяющегося во всех явлениях и событиях мировой истории, другими словами, применить к анализу исторического процесса общенаучный критерий повторяемости, закономерности событий. Накопленный исторический материал, наглядно свидетельствовавший о разнообразии различных человеческих обществ и этапов их развития, нуждался в упорядочивании и систематизации. Предлагавшийся некоторыми историками принцип выделения в истории эпох Древней, Средневековой и Новой истории не отвечал этим требованиям, так как не давал возможности понять, чем одна эпоха принципиально отличается от другой и каковы причины их смены.
К. Маркс и Ф. Энгельс выделили из всего многообразия социальных связей таким, которые, возникая и существуя независимо от сознания и воли людей, устанавливают их взгляды, намерения, действия и тем самым определяют все прочие общественные отношения. Этими объективными, материальными связями были производственные, социально-экономические отношения. Выделение производственных отношений из массы всех социальных связей стало одновременно и выявлением существования нескольких основных типов этих отношений.
Надо признать, что в домарксистской философской и исторической мысли были сделаны интересные попытки создать понятие, в котором нашло бы отражение то общее, которое присуще всем социальным организмам без исключения. Однако, рассматривая общественную жизнь и историю людей, философы ставили на первое место сознание, мысли и чувства, в которых они видели основу сложившихся условий жизни и их изменений. Они считали, что не экономические причины, не бытие людей определяет их сознание, а, наоборот, сознание людей творит их бытие. Так, например, Гегель ставил формы общественной жизни в прямую зависимость от уровня развития самосознания. Он считал, что причина рабства не в экономических отношениях между людьми, а в уровне развития их сознания. «Самосознание, которое предпочитает жизнь свободе, – пишет Гегель, – вступает в отношения рабства». Но вследствие чего формируется самосознание, «предпочитающее жизнь свободе», и почему впоследствии оно изменяется – этот вопрос остается открытым.
В результате выделения производственных отношений как основы любого общества и выявления существования среди них качественных различий огромное множество социальных организмов удалось свести к нескольким основным типам, которые и получили название общественно-экономических формаций. Было установлено, что среди многих различных отношений ведущую роль играют производственно-экономические. Они и определяют не только форму общественного производства, но и форму общественной жизни в целом. Таким образом, общественно-экономическая формация – это совокупность всех общественных отношений, определяемых производственно-экономическими отношениями. Пока существуют определенные производственно-экономические отношения, до тех пор существует и данная формация.
Введение понятия общественно-экономической формации позволило впервые взглянуть на эволюцию общества как на естественно-исторический процесс, сделало возможным выявить не только общее между социальными организмами, но и повторяющееся в их развитии. Все социальные организмы, принадлежащие к одной и той же формации, имеющие в основе одну и ту же систему производственных отношений, однотипны и, следовательно, неизбежно должны развиваться по одним и тем же законам. Важнейшей задачей исторической науки становится раскрытие законов формирования, функционирования и развития общественно-экономических формаций, т. е. создание теории каждой такой формации.
Еще раз отметим, что общественно-экономическая формация в чистом виде существует только в теории. Реальная общественная жизнь значительно сложнее и богаче любой теории, в ней присутствует случайное и уникальное, которое, взаимодействуя с закономерным, создает сложную палитру социальных процессов и явлений. Теория, освобождаясь от исторических случайностей, приобретает относительно самостоятельное существование как идеальный образ социального организма данного типа. Примером такого идеального образа может служить «Капитал» Маркса, где рассматривается развитие капиталистического общества, но не какого-то определенного – английского, французского, немецкого и так далее, а капиталистического общества как такового. И развитие этого идеального капитализма представляет собой не что иное, как воспроизведение необходимого и повторяющегося в развитии каждого отдельного капиталистического общества. Таким образом, достоинством теории формации является то, что она дает возможность увидеть необходимое и повторяющееся в развитии каждого общества и на этой основе анализировать и прогнозировать результаты наших действий.
В структуре формации можно выделить несколько крупных уровней. Во-первых, постоянным, определяющим структурным уровнем общественно-экономической формации, как уже отмечалось, выступает способ производства, который представляет объективную основу каждой формации с присущим ей единством производительных сил и производственных отношений. Производственные отношения — это объективно складывающиеся отношения по поводу производства, распределения и потребления различных продуктов. Будучи важнейшими общественными отношениями, производственные отношения являются базисными, исходными для формирования всех других общественных отношений: юридических, политических, моральных. К производительным силам относятся все имеющиеся в распоряжении общества ресурсы и средства, обеспечивающие процесс производства: вовлеченные в производство естественные и человеческие ресурсы, средства производства, уровень науки и ее технологическое применение и т. д. Особенно важное место среди производительных сил развитых формаций К. Маркс, вслед за Сен-Симоном, отводил промышленности, утверждая, что страна промышленно более развитая показывает стране промышленно менее развитой картину ее собственного будущего.
Производительные силы как содержание процесса производства являются более динамичной стороной, чем производственные отношения как форма процесса производства. Система производственных отношений данной формации и есть повторяющееся, существенное, объективное, необходимое.
Во-вторых, существенно необходимой структурой общественно-экономической формации выступает социальная структура, или то, что К. Маркс называет общественным строем, – определенная организация классов, социальных групп, семьи, включающая бытовые стороны жизни. В общественном строе производственные отношения закрепляются в определенных социальных проявлениях. На данном уровне структуры общественной формации экономический фактор жизнедеятельности классов, общественных ячеек (семья, социальные институты) проявляется в отношениях социального антагонизма или товарищеского сотрудничества и взаимопомощи.
В-третьих, на основе экономической структуры и социального строя утверждается и функционирует определенная система организации и управления общественной жизнью. В классовом обществе она приобретает форму политической власти и организации, которая является официальным выражением общественного строя в бесклассовом обществе в виде общественного самоуправления.
И, наконец, любой тип общества немыслим без соответствующих ему форм духовного производства, совокупности определенных взглядов, идей, представлений, форм и стилей мышления, возвышающихся над реально практическими условиями жизни.
Источником социального развития является постоянно воспроизводящийся конфликт между производительными силами и производственными отношениями. Когда неустойчивое равновесие между двумя сторонами способа производства нарушается и производственные отношения из средств развития производительных сил превращаются в препятствие для него, они подвергаются революционному преобразованию и смене. Одновременно этот процесс выражается в разного рода коллизиях и конфликтах среди остальных компонентов социальной системы: в обострении классовой, политической, идейной борьбы и т. д. В результате происходит смена общественных формаций глобального масштаба, т. е. социальная революция. Но и после социальной революции элементы прежних формаций продолжают частично сохраняться в качестве постепенно отмирающих пережитков.
Более глубокое понимание источника развития общественно-экономической формации предполагает уяснение следующего обстоятельства. В реальном обществе противоречия всегда происходят между людьми и их группами. В общественной жизни только люди, обладающие потребностями и интересами, взаимодействуют, вступают в отношения сотрудничества или конфликта. Поэтому противоречие, на которое указывал К. Маркс, проявляется в форме классовой борьбы, где один класс воплощает в себе тенденции развития производительных сил, другой – производственных отношений. Именно классовая борьба в конечном счете, по Марксу, определяет развитие общества.
Какие же конкретно формации выделял Маркс? Широко известно пятичленное деление истории, состоящее из двух социальных триад. Первая, большая триада включает первобытно-общинный (коллективистский) строй без частной собственности, его антитезу – классово-антагонистический, частнособственнический строй и их синтез в бесклассовом неантагонистическом строе всеобщего благосостояния, или коммунизме. Эта большая триада включает малую триаду антагонистического строя: рабовладельческое общество, феодализм, или крепостническое общество, и, наконец, капитализм, или наемное рабство. Таким образом, из объективной диалектической логики последовательно вытекает периодизация всемирной истории на пять формаций: первобытный коммунизм (родовое общество), рабовладельческое общество, феодализм, капитализм и коммунизм, включающий как начальную фазу социализм, а иногда и отождествляемый с ним.
Рассмотрение общественно-экономической формации как этапа развития общества требует решения следующей проблемы: Каждый ли социальный организм прошел в своем развитии все пять стадий? Даже беглый взгляд на исторический процесс заставляет нас ответить на этот вопрос отрицательно. История не знает ни одного социального организма (народа), который, раз возникнув, «прошел» бы последовательно все формации. Последовательная смена общественно-экономических формаций характерна только для стран Европы, да и то начиная лишь с феодализма. Нам известны некоторые социальные организмы, в которых феодализм сменился капитализмом, а последний – социализмом. Но мы не найдем таких стран, в которых рабовладельческая формация сменилась бы феодальной. Рабовладельческие социальные организмы античной эпохи не превратились в своем развитии в феодальные, т. е. не перешли на более высокую ступень, а исчезли, погибли. Феодальными стали не они, а новые социальные организмы, которые возникли на их обломках. И дело здесь не только в античном обществе. Вообще вся мировая история вплоть до позднего феодализма предстает перед нами вовсе не в виде перехода от стадии к стадии определенного числа изначально существенных социальных организмов, а как процесс возникновения и гибели множества социальных организмов. Известно огромное множество социальных организмов, во внутреннем мире развития которых переход от одной формации к другой вообще не имел места. К числу таких относится большинство социальных организмов Древнего мира и раннего Средневековья.
Из этого следует, что общественно-экономические формации прежде всего являются стадиями развития человеческого общества в целом. История же каждого социального организма есть всего лишь незначительная часть, фрагмент истории всего человечества. И то, что относится к целому, совершенно не обязательно должно относиться к каждой из частей, из которых складывается целое. Развитие части социального организма не может не отличаться от развития целого – всего человеческого общества. Все общественно-экономические формации может пройти только человеческое общество в целом, но не отдельные социальные организмы. И если те или иные социальные организмы погибли, то это вовсе не означает, что в их развитии не нашел своего воплощения тот или иной этап развития человеческого общества в целом.
Завершая рассмотрение формационного подхода, необходимо выделить его сильные и слабые стороны. Сильной стороной этого подхода является способность к осмыслению всемирно-исторических инвариантов социальной эволюции, технологического и социального прогресса, необратимости изменений, соотношения уровней развития.
Бесспорной заслугой К. Маркса явился переход к системному рассмотрению общества. К. Маркс одним из первых увидел его как сверхсложную систему, организующуюся вокруг определенных принципов. Тем самым был положен конец тому подходу к истории, который выделял из ее потока отдельные направления эволюции – политические, бытовые, религиозные и подобные, но не охватывал общества в качестве самоорганизующегося, одновременно гомеостатического и развивающегося организма, все компоненты и стороны которого координированы и образуют диалектическое, т. е. внутренне противоречивое, единство.
В марксистской мысли немало сделано для того, чтобы пересмотреть идеалистические построения и наполнить картину истории социально-экономическим содержанием. В результате этих исследований были охарактеризованы несущие структуры самых разных форм человеческого общежития. Изучение закономерностей производства и распределения во многом обогатило понимание истории и глубинных причин ее движения.
Наряду с достоинствами формационный подход имеет и свои слабые стороны. Наиболее слабой стороной является европоцентрический характер предложенной К. Марксом модели истории. Известно, что материалистическое понимание истории было разработано им на материале Англии и затем перенесено на европейскую историю, где в целом подтвердилось. Попытки осмысления неевропейской истории в терминах и на основе формационного подхода столкнулись с серьезными трудностями. Оказалось, что исторический процесс в России и на Востоке не может быть вмещен в схему пяти формаций и имеет иные закономерности. Это почувствовал уже сам К. Маркс, выдвинувший проблему азиатского способа производства, но так и не решивший ее. Серьезной ошибкой К. Маркса было то, что он воспринял европейскую историю как типичную и универсальную, тогда как в современной исторической науке, культурологии и социальной философии показано, что развитие Европы наиболее специфично и уникально.
Еще одной слабой стороной формационного подхода является рассмотрение материального производства в качестве единственной детерминанты общественного развития. Согласно известной схеме «базис – надстройка» политические и идеологические процессы априорно рассматриваются как несамостоятельные элементы второго порядка, лишь «отражающие» структуру и изменения базиса. Это опасное положение. Если за духовной жизнью систематически не признавать самостоятельности и абсолютной ценности, то высокие мотивы и идеалы в культуре угасают, уступая место более прагматичным и приземленным мотивациям. Да и вообще, связь между материальным производством и духовной жизнью очень сложна, в ней определяющее и определяемое постоянно меняются местами. Достаточно вспомнить знаменитую работу М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», в которой он показал решающее значение религиозных установок протестантизма в формировании продуктивного капитализма в Европе.
Формационный анализ сводит государство к роли инструмента политического господства эксплуататорского класса, что далеко не исчерпывает его сути.
Совокупность неформационных функций государства (олицетворение народности, правосудия и справедливости, хранитель целостности общества, арбитр в споре между общими и частными интересами и т. д.) превращает его в огромной силы социально-творческий фактор, который в рамках формационного подхода не может быть адекватно осмыслен.
В целом формационная теория предписывает истории однолинейный и в значительной мере телеологический характер, строгую последовательность стадий развития, определенную заданность, смысл и финал этого развития – коммунизм как идеальное состояние общественной жизни. В этом отношении теория формаций является наследницей традиционно присущей христианской мысли хилиастической[146] эсхатологии[147].
Опираясь на эту критику, в начале 1990-х гг. некоторые исследователи поспешили списать марксизм в «архив истории». Считалось, что осмысленное прощание с Марксом станет залогом преодоления тоталитаризма и перехода постсоветских обществ к цивилизованному демократическому состоянию. Но реальность оказалась значительно более сложной и драматичной. Вместо единого европейского дома, общечеловеческой цивилизации и иных соблазнительных проектов стала вырисовываться куда более жесткая реальность. Здесь самое время вспомнить К. Маркса: «Накопление богатств на одном полюсе есть в то же самое время накопление нищеты, муки труда, рабства, невежества, огрубления и моральной деградации на противоположном полюсе»[148]. Все более и более отчетливо вырисовывается классово-антагонистическая сущность современного миропорядка. Только в отличие от классов К. Маркса, которые боролись друг с другом в национальных границах (французский буржуа – французский рабочий, немецкий буржуа – немецкий рабочий и т. д.), современное классовое деление происходит в глобальных масштабах. Страны золотого миллиарда в рамках классового подхода могут быть осмыслены как мировой буржуа, эксплуатирующий мирового пролетария, т. е. страны третьего и четвертого миров, куда активно загоняется все постсоветское пространство. В рамках же национальных государств классовый водораздел проходит между элитами, ориентирующимися на глобалистские структуры и институты, и народами, сохраняющими национальную привязку к культуре, языку, почве, традиционному укладу. Ведущаяся в мире война за обладание природными и иными ресурсами, важнейшими вехами которой стали Югославия, Афганистан, Ирак, является гражданской войной богатых против бедных, власть имущих против бесправных. Никакая религиозная и цивилизационная видимость не должна нас ввести в заблуждение по поводу подлинной сущности этой войны – социально-классовой по преимуществу. И до тех пор, пока не будут преодолены опаснейшие тенденции мировой социальной поляризации, классовый подход К. Маркса будет сохранять свою актуальность.
Сегодня полностью созрели предпосылки замены нынешней паразитарной цивилизации, основанной более на спекулятивном перераспределении благ, нежели на их производстве. Человечество стоит у «поворотного пункта», за которым просматриваются черты нового будущего. Многие исследователи предлагают свои варианты желаемого будущего: «православная цивилизация» (А. Панарин), «духовно-экологическая цивилизация» и т. д. Но здесь важно подчеркнуть, что это будущее мыслится не в парадигме плюрализма и конфликта цивилизаций, а в формационной парадигме, предлагающей человечеству новый исторический проект.
Глава 20 Концепции технологического детерминизма. Перспективы и противоречия развития информационного общества
Одной из наиболее модных и перспективных концепций современного обществоведения является концепция постиндустриального, или информационного, общества. Возникнув в работах Даниела Белла (1919–2011) («Грядущее постиндустриальное общество») и Олеина Тоффлера (р. 1928) («Столкновение с будущим», «Третья волна»), концепция постиндустриализма получила широкое распространение в западной социологии. Характерно, что процессы, ставшие источником данной концепции, были глубоко осмыслены и в советской общественной мысли в рамках теории научно-технической революции, изложение которой можно найти в любом учебнике исторического материализма.
Возникновение теории постиндустриального общества было бы немыслимо без трудов К. Маркса, Сен-Симона, А. Смита. Но подлинная ценность данной теории заключается не в самом по себе развитии теоретических усилий мыслителей прошлого. Наиболее проницательные исследователи в 1950—1960-х гг. обратили внимание на тенденцию: американский капитализм указанного периода все больше отличается от индустриального капитализма. Позднее эти тенденции охватили и другие индустриально развитые страны. Первоначально новое общество рассматривалось как воплощение линейного прогресса, экономического роста, дальнейшей технизации труда, вследствие чего сокращается необходимое рабочее время и увеличивается, соответственно, свободное, растет благополучие и т. д. В дальнейшем эти идеи были углублены, а в ряде случаев и переосмыслены.
Возникшее постиндустриальное, информационное, общество по многим параметрам существенно отличается от предшествующего индустриального общества. Если обобщить все критерии различий, предложенные разными авторами, можно выделить два основных: расширение сектора услуг по отношению к производящему хозяйству; центральную роль теоретического знания и информации в структуре общественного производства.
Расширение сектора услуг по отношению к производящему хозяйству означает, что произошел коренной сдвиг первичного сектора экономики (добывающая промышленность и сельское хозяйство), вторичного (обрабатывающие отрасли и строительство) и третичного (услуги). Последний занял ведущие позиции. Д. Белл отмечает, что опережающий рост сектора услуг – доминирующая тенденция эволюции общества.
Теоретическое знание и информация в структуре общественного производства предстает в двух формах: 1) в форме овеществленного в орудиях и средствах производства, а также в технологическом процессе, становящемся все более наукоемким; 2) в форме живого знания, носителем которого являются сами люди, производители, т. е. их навыки, опыт, профессиональные умения. Отсюда можно утверждать, что в постиндустриальном обществе произошел сдвиг эпохального значения: между наукой и производством установились совершенно новые отношения, они фактически поменялись местами. Раньше развитие науки определялось требованиями практики. Теперь же наука во все большей степени определяет производство, уже немыслимое без фундаментальной науки, которая превращается в непосредственную производительную силу. Основой современного социума является интеллектуальная технология, его главными ресурсами – знания и информация. Показательно, что, начиная с 1991 г., когда в США на приобретение промышленного оборудования было израсходовано меньше, чем на закупку информационной техники (107 млрд и 112 млрд соответственно), этот разрыв только увеличивался. На смену трудовой теории стоимости К. Маркса приходит информационная теория стоимости (Е. Масуда). В производстве товаров и услуг резко умаляется доля физического труда и увеличивается роль интеллектуального труда, знаний, информации. Главным становится не физический износ и амортизация промышленного оборудования, а его износ моральный.
Наряду с увеличением роли информации и знания происходит возрастание значения человека как носителя и творца этих знаний. В постиндустриальном обществе факторы производительности в минимальной степени локализуются на предприятии. Возрастает значение нематериальных оснований общественного богатства, относящихся в первую очередь к человеческому фактору. Один из представителей «чикагской школы» экономики Г. Беккер в работе «Человеческий капитал» теоретически доказал, что вложения в науку, образование, здравоохранение, систему комфорта и гигиены дают в несколько раз более высокую экономическую отдачу, чем привычные для классического капитализма инвестиции во внутрипроизводственные факторы.[149] Справедливости ради надо отметить, что подобные идеи задолго до Г. Беккера высказывал К. Маркс в «Экономических рукописях 1857–1858 гг.». Разрастание сферы «производства человека» приводит к далеко идущей трансформации самого типа совокупного производства. Собственно рыночные отношения в этой приоритетной сфере отходят на второй план, уступая место новым социокультурным факторам: интеллектуальному, творческому и социальному потенциалу личности. Происходит перераспределение расходов на материальное производство в пользу науки, образования, социального обеспечения, здравоохранения и рекреации. Ведущая роль в производстве все в большей степени принадлежит не производительным корпорациям и бизнесменам, а корпорациям исследования и развития, индустриальным и экспериментальным лабораториям, научным центрам и университетам.
Серьезные изменения происходят и в социальной структуре общества. Если в индустриальном обществе ведущими лицами считались предприниматели-бизнесмены, то в постиндустриальном на первые позиции выдвигаются специалисты (мери-тократы) и элита научных знаний (когнитариаты) – ученые, экономисты, инженеры, менеджеры, социологи и т. д. В их компетенции находится внедрение нововведений, инноваций, от которых полностью зависит рост производительности и конкурентоспособности. В постиндустриальном обществе складывается новая структура занятости, в которой доля лиц физического неквалифицированного труда резко сокращается. Но постиндустриальное общество несет в себе немало противоречий. Первое из них – демонтаж государства всеобщего благоденствия. Возникшее в результате либеральных реформ 1980– 1990-хх гг. государство утратило ряд важных функций в области социальной защиты, экономического развития, образования и культуры. Словом, речь идет о новом, ином государстве, которое уже не выполняет своих функций в прежнем объеме и на прежнем уровне, но именно здесь и кроется то самое противоречие. Инвестиции в человека, о которых шла речь выше, имеют две особенности: 1) долгосрочный характер (например, отдача от вложений в образование молодежи начинает поступать через 15–20 лет и более), частный бизнес не может ждать так долго – при прочих равных условиях он всегда предпочтет краткосрочные инвестиции, поэтому стихия рынка вымывает системы, связанные с долгосрочными инвестициями; 2) нельзя различить достоверно применительно к человеку, какие факторы окажутся непосредственно связанными с ростом производительности, а какие – нет. В обществе должна быть инстанция, которая будет терпеливо ждать отдачи и не требовать немедленных свидетельств ее собственно экономической оправданности. Такой инстанцией может быть только государство, выражающее волю нации в целом и преследующее не узкогрупповой, а общенациональный интерес. Поэтому все призывы к уходу государства из экономики, политики и подобного, идеи создания «государства-минимум» должны быть расценены как разрушительные.
Второе противоречие постиндустриализма находится в культурной сфере. Основанием капиталистического общества Запада, по свидетельству М. Вебера, является протестантская этика, впитавшая ценности трудолюбия, бережливости, аскезы, стремления к успеху. Однако в XX в. пуританская мораль подвергается дискредитации. Вклад в разрушение культурных основ буржуазного общества внесли художественный модернизм и массовая культура. Еще одним мощным инструментом разрушения протестантской морали стало создание системы кредита, обесценивающей многие традиционные добродетели – умение инвестировать в будущее и ограничивать себя в настоящем, трудолюбие, жертвенность.
Это не могло не сказаться на отношении к труду. В 1960– 1970-хх гг. в западной, особенно американской, литературе и общественной мысли стала проявляться озабоченность падением профессиональной и трудовой этики, ростом потребительства, культуры досуга в духе законченного индивидуалистического гедонизма. Прежние положения социологии досуга, предполагающие его ту или иную социальную эффективность – досуг как средство всестороннего развития личности, культурной активности и подобное, стали отвергаться гедонистическим индивидуализмом.
Эти выводы внешне противоречат тем положениям, которые были изложены выше. Но по мере развития постиндустриального общества оказалось, что творческий труд, приводящий к формированию многогранной развитой личности, – удел немногих, и большинству все больше приходится довольствоваться либо рутинным трудом, либо вынужденным досугом и расширенным потреблением. Тем самым можно утверждать, что постиндустриальное общество лишилось настоящего нравственного фундамента. По мнению Д. Белла, отсутствие прочно укорененной системы моральных устоев является культурным противоречием этого общества, самым сильным бросаемым ему вызовом. Он даже допускает, что развитие данного противоречия может поставить под вопрос существование постиндустриализма.
Подводя промежуточный итог, можно утверждать, что постиндустриальное общество не стало отрицанием индустриального общества в самых важных измерениях его бытия: оно не смогло стать посткапиталистическим. Более того, сегодня мы наблюдаем торжество капитализма в планетарном масштабе. Ему удалось подорвать или существенно ослабить внутренние протестные движения 1960—1970-х гг.: контркультуры (хиппи), новых левых, новых анархистов и т. д. Саморазрушение СССР и социалистического лагеря избавило Запад от мощной внешней альтернативы. О прочности капитализма свидетельствует тот факт, что в полной мере сохранились главные формообразующие элементы капиталистической экономики: труд и капитал. В такой же степени сохранилась сама сущность капитализма, поскольку в полную силу действует его основной закон – закон получения максимальной прибыли. Современный капитализм существует и функционирует ради прибыли и для частного присвоения прибыли. Рыночные отношения выходят далеко за пределы экономики и активно вторгаются в прежде нерыночные сферы и институты: семью, политику, образование, здравоохранение и т. п. Это дало основание некоторым исследователям назвать этот процесс рыночным вызовом цивилизации (А. Панарин).
Сегодня, оказавшись в зоне сильного воздействия евро-аме-риканской техногенно-потребительской цивилизации, восточнославянские народы также экономизированы. Болезнь экономизма (господство экономики в обществе) породила небывало примитивный тип человека: – homo economicus, для которого только деньги стали мерой жизненного успеха, единственной мотивацией жизненных ориентаций и поступков.
В нынешних, радикально изменившихся обстоятельствах господствующая роль институтов рынка в обществе вступает в противоречие с потребностями социокультурного развития человечества в долгосрочной перспективе. Ведь конкурентный рынок не принимает в расчет никаких других соображений, кроме коммерческой выгоды: он отдает товар только тому, кто может за него заплатить. Рыночные стимулы по своему определению не могут быть нацелены на инвестиции в будущее: в сбережение природных ресурсов и защиту окружающей среды, в духовно-нравственное и физическое здоровье людей, в воспитание и образование. Сам по себе рынок не способен гармонизировать нематериальные стороны жизни, в особенности человеческие отношения. Подлинная культура при нем становится нерентабельной. Показатели рыночного успеха не дают адекватного отражения многообразных измерений качества жизни. Навязывая обывателю бесконечную смену (выбор) потребительских товаров и погружая его в мир искусственных (надуманных) потребностей, капиталистическая рыночная экономика резко сужает спектр выбора естественных, чисто человеческих благ и потребностей, таких, как душевное спокойствие и равновесие, радость общения с нетронутой природой, возможность дышать чистым воздухом и т. п. Неудивительно поэтому, что бездумное потребительство (как и алкогольная или наркотическая зависимость) зачастую становится источником разочарований, недовольства, стрессов, ощущения бессмысленности жизни и т. д.
Таким образом, в последние десятилетия усилились тенденции, которые вообще ставят под сомнение весь позитив, накопленный западным обществом во второй половине XX в. в процессе перехода к постиндустриальному обществу. Доклады Римскому клубу, показавшие ограниченность мировых ресурсов, заставили страны Запада перейти от энерго– и материалоемкого производства к наукоемкому, значительно более экономичному и рентабельному. Но распад СССР породил соблазн прибрать к рукам несметные природные богатства постсоветского пространства, в основном России, и тем самым продлить свое безбедное потребительское существование на многие десятилетия и даже столетия.
На наших глазах произошел переворот эпохального масштаба: переход от продуктивного капитализма веберовского типа к новому спекулятивно-ростовщическому капитализму, связанному с постпродуктивными практиками валютных манипуляций, неэквивалентного обмена и получения всякого рода нетрудовых рент. Новый тип буржуа ориентируется на формы экономической деятельности, которые по психологическим ощущениям напоминают игру в рулетку и другие азартные игры досуга, а по ожидаемым результатам сродни экономическому чуду. Соответствующие поиски привели к воскрешению средневековых и ренессансных образов ростовщика, менялы, пирата, с одной стороны, и получателя феодальных рент – с другой.
О размахе нового спекулятивного капитализма говорят цифры: ежедневно в поисках спекулятивной прибыли государственные границы пересекает капитал в 1,5 трлн долларов. Рентабельность подобных манипуляций, в сотни и тысячи раз превышающая рентабельность законопослушных промышленных инвестиций, привела к невиданному валютному голоду промышленности и других отраслей производящей экономики. Буржуа-постмодернист, рассматривающий досуг как важнейшую сферу самовыражения, стал основным фактором деиндустриализации. Возникла новая версия информационной экономики, в корне отличная от того ее понимания, которое было связано с новой ролью человеческого капитала науки и образования. Сегодня под этим понимается не информация, которую личность мобилизовала для открытия и последующего производственного применения новых видов вещества и энергии, а информация, касающаяся разницы сегодняшнего и будущего курсов международных валют, а также информация, лежащая в основе так называемых интеллектуальных рент. Другими словами, если на заре возникновения постиндустриализма предполагалось, что центральным социальным институтом общества будет университет как источник творчества, то сегодня центром социума становится банк как сборщик дани с любой производительной активности. Напрашивается вывод: продуктивного постиндустриализма, порывающего с моралью потребительского общества и агрессивностью техногенной цивилизации, по закону «отрицания отрицания» выводящего социум на более высокую ступень развития, не получилось. В самом лучшем случае постиндустриализм стал новым витком научно-технической революции, продолжением техногенного типа развития на основе более рафинированных технологий. В худшем случае постиндустриализм грозит выродиться в со-циал-дарвинистские джунгли, где торжествует бездуховная сила, алчность, праздность.
Необходимо осмыслить перспективы постиндустриализма в совершенно ином ключе. Во-первых, потому что сложившиеся тенденции техногенной цивилизации ведут в тупик экологической, социальной, духовно-нравственной катастрофы. Следовательно, они должны быть в обозримом будущем остановлены и преобразованы. Грядущее общество не сможет оставаться техноцентричным, основанным на экологически беззаботном, индустриально-утилитарном принципе отношений с природой, оно должно стать экологобезопасным, духовно ориентированным, устремленным к гармонии человека и мира. Во-вторых, необходим поворот к новым, или, если быть более точным, по-новому прочитанным, традиционным духовно-нравственным горизонтам. Современный человек не менее чем в новых технологиях нуждается в воскрешении таких традиционных добродетелей, как долг, вина, аскеза, служение, жертвенность, творчество. Именно эти ценности должны лечь в основу подлинного постиндустриализма. Другими словами, требуется значительно больше, чем отказ от некоторых исчерпавших себя технологических практик, – новая духовная реформация. Главными, ведущими в переходе к постиндустриальному обществу должны стать не научно-технические достижения (новый виток НТР), а морально-религиозные решения, направленные не столько на внешний, предметный мир, сколько на мир внутренний, ценностный.
В научной литературе показано, что роль лидеров в постиндустриальном прорыве будут играть те страны и регионы, которые обладают наиболее мощным биосферным потенциалом, этнокультурным разнообразием и духовными ценностями, соответствующими задачам грядущей эпохи. У восточнославянских народов по совокупности этих параметров нет достойных конкурентов, а сами они – объективно не конкурент никому, поскольку необходимость их собственного возрождения не противоречит подлинным интересам ни одного народа Земли, наоборот, полностью совпадает с общемировой задачей предотвращения духовной и экологической катастрофы. Но более важное состоит в том, что кризис технократических установок западной цивилизации заставляет обратиться к духовно-ценностным основаниям исторического развития. Современность убедительно показывает, что в ситуации ослабления моральной воли и энергетики вся сложность машинной индустрии не только не дает нужного результата, но и оказывается экологически и культурно опасной. Другими словами, вне воодушевленности и ценностной ангажированности человека, задействованного в социальных процессах, невозможно мыслить и реализовывать идеалы прогресса. Но западная культура, начиная с эпохи Просвещения, пошла по пути «остужения» человека, снятия с него повышенных морально-этических обязательств. Считалось, что разумные эгоисты значительно легче найдут консенсус по поводу решения повседневных проблем, нежели страстные романтики и подвижники. В строго теоретической форме эту идею выразил И. Кант. Формализованная этика И. Канта – нравственность, свободная от привязанностей и ориентированная на психологический и культурно нейтральный категорический императив.
Восточнославянский же культурно-исторический тип исповедует совершенно иные принципы. Восточнославянский цивилизационный тип является этикоцентричным – не в смысле особого нравственного превосходства над другими, а в смысле неспособности проводить последовательное различие между повседневными рутинными обязанностями и высшим служением. Судя по многим признакам, именно эта способность ставить свою земную деятельность под знак идеала совершенно необходима в эпоху глобальных кризисов. Без этой способности открытие качественно нового будущего совершенно невозможно.
Особого внимания заслуживает еще одна особенность восточнославянской культуры: умение согласовывать и гармонизировать разнородные начала – этнические, культурные, социальные. Исторический опыт и Беларуси и России являет миру чудо сохранения множества этносов, которые не были подавлены, вытеснены этносом-гегемоном. Диалоговый принцип восточнославянской культуры, осмысленный Достоевским и Бахтиным, является величайшим цивилизационным достоянием, которое надлежит сберечь, развить в новых условиях. Парадокс Запада состоит в том, что сформированный им принцип плюрализма применяется исключительно для домашнего пользования, практически не распространяясь на отношения с другими культурами и цивилизациями. В России и Беларуси принцип плюрализма является основой межэтнического и межжультур-ного взаимодействия. В постиндустриальную эпоху диалоговый архетип восточнославянской культуры – ее вселенская отзывчивость, презумпция ценности другого, способность к кооперации с носителями иных типов опыта – приобретает судьбоносное значение. В частности, способность к согласованию разнородных начал может привести к формированию качественно нового способа ведения хозяйственной деятельности.
Есть все основания утверждать, что путь к постэкономической (постиндустриальной) цивилизации будет пролегать через смешанную, социально ориентированную экономику, через комбинацию рыночных и нерыночных факторов, конкуренцию и содружества, эффективность и справедливость, частные и общие интересы, индивидуальность и коллективность, самоорганизацию и организацию – эти, хотя и противоречащие друг другу, но не взаимоисключающие сущности. Их надо не абсолютизировать и противопоставлять, а, следуя принципу дополнительности, рассматривать вместе. Причем в каждом конкретном случае мера сочетания рыночных и нерыночных факторов должна сообразовываться с объективными природными условиями, традициями, ментальностью и историческим опытом того или иного народа.
Нужно отказаться от всяких попыток перевода на рыночную систему хозяйствования тех сфер производства и жизни общества, которые обеспечивают доступ к информации и знаниям, воспроизводству духовно-нравственного и образовательного потенциала народа. Необходимы также механизмы противодействия всевластию рынка в сельском хозяйстве, оборонной промышленности, в строительстве и распределении жилья, в сфере медицины и т. п. В собственности государства должны находиться прежде всего добывающая промышленность, электроэнергетика, транспорт, предприятия военно-промышленного комплекса, государство должно взять на себя создание экономической инфраструктуры.
В ходе реформирования своих социально-политических и экономических структур восточнославянские страны должны исходить из ведущих тенденций современного мирового развития. Одна из таких тенденций – регулирование и планирование, которые становятся важнейшим измерением современной цивилизации. Во всем мире по мере усиления интеграционных процессов роль планирования, программирования и регулирования возрастает. Данное обстоятельство ставит восточнославянские страны в стратегически выгодное положение. Ибо они, в отличие от стран Запада, накопили не только огромный и уникальный опыт планового регулирования и управления экономикой, но и небывалый, не имеющий аналогов в мире опыт интеграции. Этот опыт может явиться гарантией успешного преодоления возникших трудностей и способности дать адекватный ответ на объективный вызов современности.
В определенном смысле мировая культура держится на дуализме мужского и женского начал (Логос – Земля, Инь – Ян и т. п.). Техногенная цивилизация с ее образом общества как фабрики, культом Машины и Организации несомненно представляет апофеоз мужского начала. Этот явный перекос в сторону мужественности в культуре должен быть исправлен, и мы вправе ожидать реабилитации женственности в ее разнообразных формах (терпимости, жертвенности, бескорыстной любви). В формировании гуманистически ориентированного постиндустриального общества указанный архетип должен сыграть одну из ключевых ролей.
Таким образом, поиски субъекта постиндустриального сдвига привели нас в ареал восточнославянской культуры. И действительно, надо признать, что по многим признакам именно здесь может родиться большая идея, адресованная человечеству. У наших народов есть и неудовлетворенность настоящим, и культурный потенциал, соответствующий требованиям будущего. Именно восточнославянская православная культура может придать духовное измерение грядущему формационному сдвигу. Наша задача – отказаться от имитационного пути исторического движения, концепции догоняющего развития и предложить принципиально новую модель социокультурного развития. Сегодня может получиться так, что технически и экономически «неимущие» смогут утвердить себя в качестве духовно имущих – тех, кому есть что сказать миру, испытывающему настоятельную потребность в новом сознании и новых формах социального бытия. Вполне вероятно, что сложная духовная работа, ведущаяся в мире, увенчается успехом именно здесь, в нашей части огромного евразийского пространства.
Глава 21 Проблема направленности мировой истории: линейность, цикличность, волнообразность
С древнейших времен человек, обращаясь к прошлому, стремился проникнуть в суть минувших событий, понять, представить и объяснить исторический процесс. И каждый раз он строит свой образ прошлого, опираясь на сложившиеся интеллектуальные схемы и теоретические принципы, ориентируясь на привычные и понятные ему ценности и идеалы общественной жизни. Это неслучайно – постижение истории нужно человеку не само по себе, в ней он ищет ответы на вопросы, волнующие людей сегодня, в современности. Обращаясь к прошлому, историк вопрошает его о настоящем и будущем, ищет способы и формы наилучшего общественного устройства, определяет пути оптимального развития.
Именно поэтому концептуальные модели истории, предложенные теоретиками разных научных школ в разные исторические эпохи, так отличаются. В них сложнейшим образом переплетаются объективная истина и социальный миф, реально существующее и желаемое, взгляд в прошлое и устремленность в будущее. Каждая концептуальная модель – это базовая научная интуиция, интуиция истории как целого. Сравнивать эти модели можно и нужно, но при этом необходимо помнить, что отдельные видения истории – это как картины разных художников, представляющих мир в оригинальных творческих измерениях: у каждого своя логика, свой замысел, свои ценности и мотивы.
Во многом благодаря этим моделям история каждый раз являет нам торжество настоящего над прошлым, модели заново воскрешают, реконструируют прошлое для современности, открывая в нем неведомые грани. Они извлекают из забвения все новые и новые факты, когда-то непонятые равнодушными современниками, и создают неожиданные образы прошлого, заставляя их служить будущему. Вооружившись этими методологическими установками, перейдем к рассмотрению основных парадигм исторического знания.
Традиционно выделяют две крупные модели, или парадигмы, исторического процесса – линейно-стадиальную и циклическую. Каждая из них в качестве некоего архетипа, связанного с восприятием времени, сформировалась еще в древности. Линейно-стадиальная модель – в иранско-зороастрийской сре-де и ветхозаветном сознании (на этой базе сложилась христианская историософия). Циклическая модель – в древнеземледельческих цивилизациях, получив философскую интерпретацию в Древней Греции (Платон, стоики). И та, и другая модель получила свое дальнейшее развитие.
Линейно-стадиальная модель, возникнув, как уже отмечалось, на базе религиозного сознания, сформировалась в рамках новоевропейской культуры и связана с именами таких мыслителей, как Тюрго, Кондорсе, Сен-Симон, Гердер, Гегель. Сегодня данный подход дал жизнь двум основным направлениям: формационному и модернизационному. Общим для них является тождественное понимание пространства исторических изменений, единое и имеющее структуру слоеного пирога, причем в его центре находится западноевропейская история с правильным (образцовым) расположением слоев от нижнего к верхнему: от первобытности к коммунистическому обществу – по Марксу, или от первобытности к постиндустриальному обществу (с некоторыми вариациями наименований) – по У. Ростоу, Беллу, Тоффлеру и др. По краям пирога «тесто смялось», т. е. слои деформированы, хотя общая закономерность движения от нижних слоев к высшим сохраняется с поправками на «конкретно-историческую специфику». Другими словами, каждое общество должно пройти определенные стадии развития, являющиеся универсальными и неизбежными.
Линейные теории, утвердившиеся в науке еще в эпоху Просвещения, достигли своего апогея в творчестве К. Маркса, предложившего рассмотреть общественное развитие как естественно-исторический процесс смены общественно-экономических формаций и тем самым утверждавшего универсальный и закономерный характер прогресса социума. Взгляды К. Маркса рассмотрены в главе «Развитие общества как естественно-исторический процесс. Формационное членение истории», поэтому перейдем к анализу современных эволюционистских теорий, развивающих марксистские положения. В 1950—1960-е гг. получили широкое распространение теории линейного социального развития, обосновывающие тезис о первичности технико-технологического процесса по отношению ко всем остальным сторонам общественной жизни. Согласно этим теориям технологический уклад обусловливает изменение форм культуры, причем его совершенствование с необходимостью влечет социокультурную эволюцию любого общества в направлении запад-ного эталона. Западные общества выступают в качестве образца для технологически и экономически отсталых стран, культурные особенности которых рассматриваются как вторичные по отношению к универсальности технико-технологического и экономического прогресса.
В этом интеллектуальном и мировоззренческом контексте американским экономистом У. Ростоу (1916–2003) была разработана теория стадий роста. В ней проводится мысль, что любое общество проходит через пять стадий экономического и технологического развития, которые, как марксистские формации, сменяют друг друга. Все начинается с традиционного общества с присущей ему примитивной технологией, основанной на мускульной силе людей и животных. Этому типу технологии соответствует особая форма культуры, базирующаяся на межличностных связях между людьми. Затем идут этапы транзита, взлета и зрелости, и весь процесс заканчивается пятой стадией общества массового потребления, на которой структура экономики смещается в сторону производства товаров длительного пользования и сектора услуг. Как следствие, в культуре начинают доминировать ценности индивидуального успеха, расширенного потребления и гедонизма. У. Ростоу полагал, что этот путь пройден от начала до конца лишь США и западным миром, тогда как для остальных стран его завершение является более или менее далекой перспективой. У. Ростоу выдвигает тезис: незападные общества могут резко ускорить этот процесс путем заимствования образцов социально-экономического устройства у более развитых стран. Причем перенимать можно не только промышленные и управленческие технологии, но и социокультурные институты, нормы и ценности. Так западная культура выдвинула еще один аргумент в пользу необходимости ее доминирования в мире.
Философской базой этих идей является парадигма перехода от традиционного состояния к современному, представленная, в частности, в работах Т. Парсонса. Он полагал, что глубинной причиной успехов Запада является сквозная рационализация всех сторон общественной жизни. Именно эта причина, по его мнению, стала фактором перехода западных обществ к современному капиталистическому состоянию. В работах Т. Парсонса и других исследователей феномен рациональности приобрел такое значение, что начал рассматриваться в качестве универсальной ценности и цели развития. В предисловии к английскому переводу «Социологии религии» М. Вебера американский социолог пишет: «Едва ли можно сомневаться, что современное западное общество стало первичной моделью для всего мира». Формирующаяся рациональность зрелого капиталистического общества представляется им наивысшим, самым развитым типом рациональности, к которому постепенно должны прийти и другие культуры.
Свое дальнейшее развитие эта группа идей получила в рамках теории модернизации, созданной в 1950-е гг. и приобретшей популярность в 1970—1980-е гг. Под модернизацией понимается процесс перехода обществ от традиционного состояния к экономике и предпринимательству капиталистического типа, гражданскому обществу и правовому демократическому государству, формальным свободам, секуляризации и т. д. Модернизационные изменения, начавшиеся в Западной Европе на рубеже Возрождения и Нового времени, протекали на основе собственных эндогенных, экономических, социально-политических и социокультурных предпосылок и отвечали потребностям развития европейских обществ. Модернизация, реализуемая на собственной культурной основе, помогла продуктивно решить возникшие к тому времени проблемы и в то же время не нарушить органичность и преемственность развития. Такой тип изменений получил название органичной модернизации.
Правда, основания модернизационных изменений Запад заимствовал в культурных эпохах и ареалах, далеко отстоящих от него во времени и пространстве. Так, в качестве эталона были приняты многие смыслы античной культуры (рационализм, формальное право, демократия), а также ценности средневекового общества, особенно той его фазы, когда начался процесс перехода от аграрно-сословной цивилизации к городской. Больше того, модернизационные процессы Нового времени вдохновлялись этими далекими образцами и носили подчас откровенно подражательный характер.
Начиная с XIX в., модернизационные процессы стали выходить за пределы Западной Европы, охватили Восточную Европу, Азию, Латинскую Америку и составили важнейшее содержание процесса мирового исторического развития. Указывая на универсальное содержание модернизации, крупный специалист по этой проблеме, израильский ученый С. Эйзенштадт (р. 1923) дает ей следующее определение: «Модернизация – это процесс изменения тех типов социальности, экономических и политических систем, которые развивались в Западной Европе и Северной Америке в XVII–XIX вв. и затем распределились на другие европейские страны, а в XIX и XX вв. – на южноамериканский, азиатский и африканский континенты»[150].
Принципиально важно отметить, что за пределами англосаксонского ядра западной цивилизации процесс модернизации развивается по совершенно другим законам, имеет иные стимулы и культурные основания. В странах Восточной и Южной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, как правило, модернизационные изменения не имеют укорененности в культуре, протекают не на основе созревших эндогенных социально-экономических и духовных предпосылок, а в результате продиктованной извне необходимости. Причины выхода на путь модернизационного развития находятся в агрессивном влиянии Запада на неевропейские страны либо путем прямой экспансии, либо путем жесткого вызова, который он бросает своими притязаниями в экономической, геополитической, информационной и духовной сферах. Такой тип модернизации получил в научной литературе название вторичной, или догоняющей. Ее сущностной чертой является неорганичный характер, неукорененность движущих сил модернизации в структуре социальности, чуждость ее целей и идеалов системам ценностей незападных обществ, что приводит к нарушению их единства и преемственности развития.
Российский философ Н.Н. Зарубина справедливо отмечает, что важным фактором догоняющей модернизации является так называемый демонстрационный эффект – стремление к подражанию в образе, стиле, а главное – уровне и качестве жизни развитым странам. С одной стороны – это стремление характерно для всех слоев общества, но осуществить его удается, естественно, только наиболее материально обеспеченной верхушке, для которой демонстрационный эффект служит важнейшим стимулом предпринимательской активности. С другой – демонстрационный эффект, ориентируясь на заимствование образа и уровня жизни, на гедонистические ценности, не создает устойчивых производственных и предпринимательских ориентаций, которые подменяются авантюристическим стремлением к максимальной наживе при минимальной рациональности и примитивизме хозяйственных установок[151].
Вэкономике модернизация связана с внедрением наукоемких технологий, углублением разделения труда, формированием рынков товаров, капиталов и услуг, ростом независимости экономики от политической жизни. Всфере политики модернизация предполагает постепенное формирование политической системы современного западного образца – с единством политического пространства и политической культуры, разделением властей и установлением демократии, формированием у широких масс стремления участвовать в политической жизни. В социокультурной сфере модернизация – это развитие индивидуализма и безличных форм социального взаимодействия как базовых; секуляризация и растущее разнообразие форм духовной жизни; рационализация сознания на основе широкого распространения достижений научно-технического прогресса и специфических форм рыночного регулирования экономики и предпринимательства. Но главная цель социокультурной модернизации – формирование духовных и нравственных предпосылок для новых форм деятельности, в первую очередь стимулов хозяйственной и предпринимательской активности. Развитие социокультурных предпосылок модернизации может ее облегчить и ускорить, а отсутствие таковых, неприятие общественной нравственностью и культурой приводят к срывам модернизации и попятным тенденциям развития.
Очевидно, что вопрос реализации всех этих задач упирается в создание необходимой социальной среды, в которой могут быть использованы современные технологии и продуктивно функционировать политические и социокультурные институты. Если конкретизировать мысль, то модернизация означает формирование личности, могущей производить и воспроизводить формы социальности современного общества, поддерживать их в рабочем состоянии и согласованности. Мысль достаточно полно обоснована в социально-философской и историко-социологической литературе. В ней показано, что современное общество в основе своей создано такими и подобными социальными машинами – масштабными системами социализации человека и социальной коммуникации. В этом существенное отличие от средневекового общества, где производство человека как социального существа так же, как и товарное производство, происходило не промышленным, а кустарным способом (единственное исключение представляет, пожалуй, Церковь как институт сквозной и массовой социализации, во многом предвосхитивший школу, армию, бюрократию и даже нацию эпохи модерна). При переходе к современной модели социализации, точнее, по мере ее успешной экспансии в рамках модернизирующейся страны формируется нация как культурно однородное и солидарное сообщество. Соответственно, процесс модернизации общества может быть понят как процесс построения базовых систем социализации, представляющих собой инфраструктурный каркас современного общества.
В целом, идеалом модернизации является тип социальности, который получил в научной литературе название «модерн» или «модернити». Модернити – комплексная характеристика культуры развитого западного буржуазного общества, «приверженность европейскому рационализму и сциентизму, стремление к росту материального богатства и техническому прогрессу, отношение к природе как к объекту приложения своих сил и знаний. Это также идея социального равенства и личной свободы, индивидуализм, готовность человека к постоянным переменам в производстве, потреблении, образе жизни, в политических институтах, правовых нормах, моральных ценностях, как и желание быть инициатором таких перемен, желание «быть современным»[152]. В научной традиции модернизация связана с развитием и распространением модернити. Французский социолог А Турен (род. 1925) отмечал, что модернизация и есть модернити в действии.
Модерн как тип социокультурного устройства был провозглашен философами Просвещения, утверждавшими равенство людей в их стремлении приобщиться к культурному наследию, научным достижениям, развивать личность и интеллект, быть активно причастным к прогрессу общества. Переход к современному (модерному) обществу означает разрыв с традиционными формами социальности, среди которых особой критике подвергались сословные, кастовые и клановые привилегии, этническая и конфессиональная замкнутость и нетерпимость, социокультурное неравенство. Огромное символическое значение в обществе эпохи модерна приобрели два социальных института – свободный рынок, где каждый может реализовать свою инициативу в условиях конкуренции, и университет, где любой индивид может приобщиться к рациональному знанию и культуре.
В сфере международных отношений теория модернизации означает такое прочтение оппозиции «Запад – Восток», в котором Западу приписываются черты экономического, научно-технического и социокультурного превосходства и возможности определять пути мирового исторического развития, тогда как уделом Востока является усвоение более прогрессивного западного опыта. Сторонники модернизационной теории всерьез утверждали возможность помощи Западом Востоку в деле преодоления бедности и других социальных противоречий и достижения последним хотя бы относительного равенства с лидерами.
Тем самым ранние версии теории модернизации предполагали необходимость вестернизации всех сторон жизни незападных обществ. В реальной практике вестернизация означает, во-первых, массированное, ничем не ограниченное наступление западной культуры, интенсивное внедрение, обычно в пределах демонстрационного эффекта, западных ценностей и стереотипов поведения, стилей жизни; а во-вторых, возведение в ранг реформаторского курса дискредитации традиционных ценностей и норм, мировоззренческих установок. Однако сразу стала очевидной тупиковость вестернизаторских способов реформирования. Опыт больших и малых срывов модернизации, самым ярким, но далеко не единственным из которых является пример Ирака, свидетельствует о том, что несбалансированная вестернизация ведет к дезорганизации и хаосу, ставит под угрозу само осуществление модернизации.
Поэтому сегодня гораздо более распространены синтетические теории модернизации, авторы которых обосновывают мысль, что успех модернизации достижим лишь на пути органичного синтеза современных рационально-технологических ценностей и институтов с традиционными самобытными основами незападных обществ, а учет социокультурной специфики называют важнейшей исходной посылкой движения к более развитым формам социальности. При этом непременным условием такого движения должна быть опора на собственные силы. Мера сочетания традиционного и современного может быть разная. Многие авторы считают, что современные ценности и институты должны быть представлены в ряде секторов экономики и финансов, в некоторых сферах правового регулирования и управления, политической системы, науки и технологии. За традиционными сферами остаются регуляция межличностных отношений и неофициального общения, семья, обеспечение целостности и духовного единства общества, решение мировоззренческих и экзистенциальных проблем. Важной задачей является установление в составе социокультурного опыта модернизирующихся стран тех смыслов и ценностей, которые могут способствовать органичному переходу к современности. Различение традиционных и современных индустриально-капиталистических обществ должно рассматриваться не как жесткая антитеза, а как подвижное соотношение, обусловленное динамизмом традиционного начала, его способностью изменяться и приспосабливаться к современным условиям.
В завершение рассмотрения теории модернизации надо поставить вопрос: В какой мере эта теория может помочь в объяснении процессов трансформации восточнославянских обществ и можно ли ее использовать в практике преобразований нашего социального пространства? Для того чтобы на него ответить, необходимо определить качественную специфику нынешнего этапа развития постсоветских стран. Она состоит в том, что социальные преобразования последних десятилетий шли в направлении разрушения результатов модернизационно-го проекта советского периода (деиндустриализации, деградации образования, понижения качества человеческого потенциала, разрушения армии и эрозии государственной службы, мифологизации общественного и индивидуального сознания). Во всех странах СНГ, за исключением только Беларуси, многие достижения модернизационных усилий прежних эпох были пугающе легко утрачены. Далее трансформационные процессы новейшего этапа нашей истории осуществляются на уникальной социокультурной базе. Все прежние модернизации своей стартовой площадкой имели традиционное общество с его развитой трудовой этикой, низкими потребительскими запросами и преобладанием накопления над потреблением, неприхотливой и трудоспособной рабочей силой. К сожалению, преимуществ традиционного общества мы сегодня не имеем, так как оно в восточнославянском регионе было разрушено рядом незаконченных модернизаций – от петровской XVIII в. до советской XX в. Сегодня социокультурной базой модернизации является общество потребления позднесоветского и постсоветского ти-пов, у которого отсутствует исторически сложившаяся традиция реализации потребительских ценностей и явно доминирует тенденция «проедания» над тенденцией накопления и инвестирования. Тем самым сочетание демодернизации как деиндустриализации и постмодерна как потребительства создают ту конфигурацию социальной системы, в которой необходимо проводить социальные преобразования и которая создает серьезные препятствия их осуществлению.
Восточнославянские страны действительно нуждаются в модернизации, но не в вестернизации. Эта модернизация будет иметь успех только в том случае, если будет осуществляться в нравственном контексте, отвечающем идеалам равенства и справедливости, т. е. усилиями всего народа для пользы всех и каждого. Естественно, что она будет мобилизационной за счет внутренних ресурсов социума, а поэтому потребует определенных жертв со стороны населения. Издержки модернизации, ее бремя должны быть равными для всех, как равно все должны будут воспользоваться ее плодами[153]. Только такого рода модернизация может вдохновить восточнославянские народы. Причем не модернизация в духе инструментально-потребительской, техногенной цивилизации Запада, а модернизация в направлении движения к духовно-экологической цивилизации будущего. В этом смысле модернизация восточнославянских стран должна быть опережающей, т. е. модернизацией, не повторяющей путь, пройденный Западом. Она должна осуществляться на основе базовых факторов социоприродной и социокультурной эволюции восточнославянских обществ. Заметим, что несостоятельность и незавершенность большинства модернизационных реформ в России объясняется тем, что они осуществлялись в русле европеизации, с позиции европоцентризма.
Процесс техногенеза вовсе не является исключительно фатальным, как на этом настаивают некоторые исследователи, а выступает в некоторых пределах управляемым, поскольку в его основе лежит деятельность человека. Представляется, что однобокое безвариантное развитие техносферы может таить в себе даже определенного рода опасность. Если же, например, идти исключительно по американскому пути, то человечество все более будет попадать под власть могучего геологического процесса – техногенеза. Российский исследователь К.С. Пигров пишет в этой связи: «Если же актуализировать различные варианты хозяйственной деятельности, то техногенез станет более вариабельным. Пагубность одновариантности хозяйственной деятельности была выявлена уже в 70-е гг. XX в. в процессе анализа «зеленой революции». Выяснилось, что генетическая однородность новых высокопродуктивных сортов культивируемых растений приводит к большой подверженности их болезням и вредителям. Тревожный «первый звонок» получили США в 1970 г., когда от эпидемии погибло 20 % кукурузы. Случись такое в Индии, это было бы национальной катастрофой»[154].
Говоря далее о проблемах цивилизационного развития, исследователь подчеркивает, что российское производство, промышленность, техника, сельское хозяйство не должны быть копиями, слепками с западных образцов. Согласно ему нам нужно иное сельское хозяйство, не такое, как в США или Западной Европе, иные трактора, комбайны, автомобили, другие железные дороги и т. д. Ссылаясь на известных специалистов в области техногенеза, К.С. Пигров утверждает, что национальные особенности техники реально существуют и они должны сознательно культивироваться. «Речь не идет, конечно, о том, – пишет он, – чтобы во что бы то ни стало отличаться ради самих отличий. Речь идет только о глубоком, философском, духовном осмыслении сути своего материального производства, своей техники. Эта техника должна соответствовать нашей культуре, нашей истории, нашей земле, народам, населяющим землю этой общей для них империи. Такое требование может показаться чрезмерным, а то и невыполнимым. Однако если иметь в виду опасность тотальной унификации техносферы, то такой путь окажется единственно возможным. Вопрос в том, сознательно ли мы пойдем по этому пути или будем принуждены к нему, дорого заплатив за него. Постиндустриальная цивилизация вряд ли возможна на базе западного и американского индустриализма (сколько бы ни клялся современный Запад своим преодолением индустриализма, но это ему пока не удалось), а на базе других цивилизаций. Каких? Возможно, что и на базе российской культуры/ цивилизации / империи»[155].
Причем К.С. Пигров отмечает, что хотя требование конкурентоспособности нашей российской техники кажется чрезмерным с утилитарно-хозяйственной точки зрения (мол, дешевле купить у японцев), на политическом, символическом и духовном уровне такое требование, тем не менее, имеет смысл и представляется уже сейчас вполне естественным.
Если восточнославянские общества в качестве одной из целей своих реформ изберут построение общества модерна, органически сочетающее в себе ценности и институты современности с лучшими измерениями традиционного социума, то они с необходимостью должны будут выполнить следующие условия. Во-первых, социокультурные изменения обязаны идти впереди технических нововведений. Это означает, что технологические новации следует внедрять в подготовленную социальную среду, использовать личностно зрелые индивиды. Современные высокосложные технологии требуют образованного, ответственного, инициативного субъекта своего управления. Техногенные системы последних поколений предъявляют повышенные требования к обслуживающему персоналу и всем людям, профессионально с ними связанным. Невыполнение этих требований может привести к таким последствиям, по сравнению с которыми авария на Чернобыльской АЭС покажется небольшим происшествием. Кроме того, массированное внедрение современных технологий в неподготовленную среду приводит к необратимой деградации личности, ослаблению ее интеллектуальных возможностей и размыванию нравственных устоев. Так, духовно развитой личностью сеть интернета может использоваться как глобальная научная библиотека и средство профессионального роста. В случае же личностной незрелости то же виртуальное пространство будет использовано для развлечений. Таким образом, модернизирующиеся общества должны прежде всего создать систему социализации личности, представляющую собой инфраструктурный каркас современного общества.
Во-вторых, как уже говорилось, успехи модернизации могут быть утрачены. Данный вывод – следствие не только анализа опыта постсоветских стран. Сегодня Запад, который на протяжении столетий был эталоном общества модерна, явно демонстрирует провал в досовременное (постсовременное) состояние. Это проявляется в деиндустриализации многих отраслей экономики, мультикультурности и беспредельной толерантности, размывании среднего класса, вытеснении цивилизации труда цивилизацией досуга, кризисе образовательных моделей. Указанные процессы в своей совокупности красноречиво свидетельствуют о том, что модернизационные усилия должны быть перманентными и мы не можем надеяться на бесконечное самовоспроизводство однажды полученных результатов. Тем самым общество модерна должно сохранять постоянную готовность к пересмотру системы сложившихся отношений и изменению институтов. В противном случае его ждет застой и болезненное падение в архаичное состояние.
В-третьих, модернизация нуждается в элите соответствующего уровня и качества. Всем крупным модернизационным рывкам в мире предшествовал этап создания элиты, способной его осуществить. Это верно и для России XVIII в., и для Германии последней трети XIX в., и для Китая середины XX в. Элита должна представлять собой группу профессионалов-едино-мышленников, спаянных единой этикой и идеологией. Современная элита с необходимостью должна обладать определенными признаками – это внутренняя мобилизованность и готовность к тяжелому общественному служению, профессиональная компетентность в четко определенных видах деятельности, ориентация на производительные и общественно необходимые виды деятельности, жесткая кадровая ответственность на базе прозрачных и публичных критериев результативности работы (на всех уровнях власти), открытость для ротации снизу, поощрение вертикальной мобильности, лояльность нации и психологическое единство с ней, согласие с общественным контролем над объемом и источниками доходов.
В целом реализация стратегии модернизации для нас означает необходимость формирования очагов нового общества без революционного разрушения и зачистки старого. Достижение этой цели предполагает прохождение трех этапов: разработки детализированной концепции преобразований в соответствующих сферах; реализации концепции преобразований на социальных моделях (на локальных примерах); массированного внедрения (тиражирования успешных моделей) с постепенной заменой прежних систем. При этом движение к новому типу социальности обязательно должно сочетаться с поддержанием в рабочем состоянии прежних социальных институтов, ибо их преждевременная деградация и разрушение может необратимо отбросить общество к примитивным формам жизни и сделать невозможным любую модернизационную стратегию.
Концепция постиндустриального общества, авторами и представителями которой были Д. Белл, О. Тоффлер, А. Турен, Г. Кан и другие, мыслит ход истории как единый процесс поступательного, восходящего развития человечества, подчиняющегося общим законам и преодолевающего определенную последовательность стадий. Постиндустриалисты выделяют в истории человечества три стадии развития общества: стадию традиционного (аграрного) общества; стадию индустриального (промышленного) общества; стадию постиндустриального (сверхиндустриального, технотронного, сервисного, информационного и т. п.) общества. Возможности этой теории рассмотрены нами в главе «Концепции «технологического детерминизма». Перспективы и противоречия развития информационного общества».
Вторую группу идей мы определили выше как теории нелинейного развития. В состав этой группы входят концепции, стремящиеся понять историю как многовекторный либо циклический процесс, отрицающий субстанциональное единство мировой истории, а также общий для всех народов ее смысл и цель. Одной из теорий этой группы является модель флуктуации социокультурных суперсистем, предложенная русско-американским социологом П. Сорокиным в фундаментальном труде «Социальная и культурная динамика». Эта модель была разработана в ходе полемики с экономико-центричным видением истории, и поэтому Сорокин в качестве фундамента общества рассматривает систему ценностей. В их реальном многообразии выделяется два уровня: утилитарно-материалистические и духовные, причем характер конкретного общества определяется способом их сочетания. В чувственных социокультурных суперсистемах главенствуют ценности чувственного, эмпирического, материального характера, ориентации на полнокровное ощущение жизни, динамизм и бесконечный прогресс, овладение внешним миром и его изменение, стремление к власти, богатству, комфорту, физической красоте и силе. Характер и качество этих ценностей могут варьироваться от активно-чувственного с акцентом на творчество, деятельного преобразования мира до цинично-чувственного, где гедонизм и пассивное потребительство маскируются притворными, неподлинными духовными ориентациями. В идеациональных суперсистемах доминируют духовные, часто трансцендентные, вечные ценности и истины, нацеленность на самосовершенствование, внутреннюю жизнь, мистическое постижение первоначал бытия. В любом реальном обществе, как утверждает П. Сорокин, чувственные и идеациональные ценности переплетены и структурированы, и в процессе исторического развития происходит флуктуация – колебание характера культуры между этими двумя полюсами. Когда чувственные и идеациональные ценности оказываются гармонично уравновешены, формируется идеалистическая социокультурная суперсистема (например, конфуцианская культура Китая, античная культура VI–IV вв. до н. э., европейская христианская культура XIII в.). Кризис современного западного общества объясняется кризисом чувственной суперсистемы, которая достигла крайнего полюса флуктуации, когда чувственные ценности стали тормозить развитие общества. Теперь следует ожидать постепенного нарастания идеаци-онального начала и движения к новому равновесию идеалистической суперсистемы.
Важный вклад в развитие нелинейных теорий социального развития внес М. Вебер и его последователи. М. Вебер отрицал наличие единых законов исторического процесса и полагал, что познание социальной реальности может быть осуществлено с помощью «понимающего» метода, заключающегося в обнаружении смыслов поведения людей, т. е. нахождении рациональных мотивов их социальных действий. Согласно М. Веберу специфическая рациональность социального действия лежит в основе типа цивилизационного устройства. Так, в основе западного общества лежит рациональность протестантской этики, тогда как цивилизационная специфика восточных социокультурных систем объясняется особенностями рациональности, складывающейся в рамках соответствующих религиозных картин мира. Вообще, М. Вебер утверждал, что каждой из крупных цивилизаций присущ собственный тип рациональности, детерминирующий структуру и динамику развития картины мира и основных стратегий действия людей. Он писал: «Во всех культурах существовали самые различные рационализации в самых различных жизненных сферах. Характерным для их культурно-исторического развития является, какие культурные сферы рационализируются и в каком направлении»[156]. Западной культуре присуща всеохватная рационализация мирской деятельности, имеющая свои корни в протестантизме и обусловливающая возникновение и развитие системы капиталистических отношений. Индийская цивилизация дала миру самую глубокую и последовательную теоретическую рационализацию религиозного созерцания, а конфуцианская – практического повседневного поведения. Важно отметить, что сам М. Вебер не делает вывода о прогрессивности какого-либо из типов рациональности. Поэтому можно утверждать, что его теория своими средствами отстаивает идею многовекторности человеческой истории, где отдельные субъекты имеют самостоятельный путь развития.
Но, конечно, наиболее полно и бескомпромиссно идею плюрализма истории и множества очагов историчности вне всяких центристских тенденций отстаивает цивилизационная теория, выделяющая духовной регуляции. Учитывая принципиальную значимость этой концепции, мы развернуто рассмотрели ее в главе «Локальные цивилизации и проблема сохранения культурно-цивилизационной идентичности в современном мире».
В последние десятилетия активно развивается и приобретает научное признание теория волнообразности. Важнейшей предпосылкой ее утверждения в социальных науках стало неклассическое понимание общества как нелинейно детерминированной, открытой системы, что трансформировало и обогатило наши представления о характере соотношения поступательности и возврата, прогресса и регресса в развитии социума, о чередовании фаз и стадий в динамике общественной жизни, о пульсации истории. Эта концепция предлагает новый взгляд на движение социума, согласно которому развитие общества не только нелинейно, но и гиперциклично.
Концепция циклически-волнового характера развития социальных систем претендует на преодоление ограниченности как чисто прогрессистских, так и чисто циклических теорий общественной эволюции. Согласно ее сторонникам волнообразность включает, с одной стороны, определенную направленность развития социальной системы, например тенденции к ее усложнению, а с другой – наличие сменяющих друг друга волн изменений, которые соответствуют различным состояниям и уровням организации данной системы. Предполагается при этом, что волнообразность не является простой суммой, простым наложением поступательного и кругового циклического движения, а представляет собой новое, более сложное качество. В частности, она дает более сложный образ социального времени, которое выступает не как прямая линия и не как круг (замкнутый цикл), а является скорее синусоидальной линией или волной со своими отрезками сгущения и разряжения, со своими точками максимума и минимума интенсивности социальных процессов. Она также допускает существенно больше возможностей, альтернатив и вариантов развития, чем линейно-поступательный и чисто циклический подходы[157].
Чередование этапов движения социума не может быть приравнено к природным циклам, к некому маятнику, где постоянно, как в закрытой, равновесной системе, происходит возврат в исходную точку. Социум, пройдя определенный цикл развития, никогда не может вернуться в исходную точку. И даже если та или иная социальная система распадается, пройдя свой цикл развития, она настолько трансформирует окружающую природную и социальную среду, что мы в момент ее гибели имеем дело уже с совершенно другим социокультурным пространством, чем в период ее возникновения. При этом сходящие с исторической арены этносы и цивилизации оказывают огромное и многоплановое воздействие на процессы формирования новых этносов и цивилизаций. В результате исторический цикл оказывается незамкнутым, он не исключает поступательной составляющей в интегральном процессе развития (культурном, техническом, экономическом и т. д.) как человечества в целом, так и отдельных суперэтносов. Разомкнутость цикла обеспечивается феноменом бифуркации – непредсказуемости очередного поворота, хотя этот поворот и происходит в рамках очередного этапа, ограниченного присущим ему спектром накопленных возможностей.
Глава 22 Смысл истории
Размышляя о смысле истории, известный немецкий философ К. Ясперс (1883–1969) писал: «Мы стремимся понять историю как некое целое, чтобы тем самым понять и себя. История является для нас воспоминанием, о котором мы не только знаем, но в котором корни нашей жизни. История – основа, однажды заложенная, связь с которой мы сохраняем, если хотим не бесследно исчезнуть, а внести свой вклад в бытие человека. Историческое воззрение создает ту сферу, в которой пробуждается наше понимание природы человека».[158] Постижение истории в ее целостности и максимально доступной человеку глубине совершенно необходимо для обретения им своего человеческого достоинства, ибо, только увидев внутренним взором десятки и сотни предшествующих поколений, связанных друг с другом трудом, свершениями, подвигами, страстями, ошибками и подобным, можно по-настоящему понять современную эпоху, оценить ее и «занять свое место в строю» (Сократ). Подлинное знание истории, не сводящееся к перечислению отдельных фактов или конструированию исторических мифов, ставит перед нами зеркало, в котором мы, видя прошлое, лучше понимаем свою собственную природу: тут и пример для подражания, и мудрый совет, и укор совести, и призыв к покаянию, подвигу и святости. Другими словами, познавая историю, мы познаем самих себя, так как результаты мысли и дела наших предков стали составляющим моментом нашего собственного бытия.
Важнейшим аспектом задачи едино-цельного постижения исторического процесса является решение вопроса о смысле истории: его наличии или отсутствии, объективной данности в мире или привнесенности в него. Но прежде чем что-либо утверждать или отрицать об истории, необходимо разобраться с категориальным содержанием исходного понятия «смысл». Очевидно, что оно многозначно, причем некоторые его значения не вполне ясны. Но среди разнообразия трактовок выделим две наиболее употребительные: лингвистическую и телеологическую. В лингвистическом значении смысл – это то содержание, которое стоит за языковым выражением. В телеологическом значении смысл – это характеристика той деятельности, которая служит достижению поставленной цели. Имеет смысл всякое действие, способствующее продвижению к выдвинутой цели, и лишено смысла действие, не ведущее к этой цели и тем более препятствующее ее достижению. Цель может осознаваться субъектом деятельности (индивидом или коллективом), но может также оставаться неосознанной им. Например, смысл труда художника в том, чтобы создавать картины; если ни одно из начатых произведений художник не доводит до конца, то его деятельность не имеет смысла, во всяком случае, не имеет ясного смысла.
Телеологический смысл неразрывно связан с замыслом или целью. Рассуждения о смысле какой-то деятельности всегда должны содержать прямое или косвенное указание на ту цель, которая преследуется данной деятельностью и без которой последняя оказалась бы пустой или не имеющей смысла. «Ведь неслучайно слова «смысл» и «цель» или «смысл» и «намерение» в нашем словоупотреблении замещают друг друга, – пишет К. Левит. – Обычно намерение, объект какого-то устремления определяет значение смысла. Смысл всякой вещи, не неизменно существующей от природы, но сотворенной благоволением Бога или волей человека и потому могущей быть другой или не существовать вообще, определяется ее предназначением. Стол есть то, что отсылает к его назначению как обеденного и письменного стола, благодаря чему он и появляется как таковой»[159].
Когда говорят о «смысле истории», то имеют в виду именно телеологическое значение «смысла», ту цель, которая стоит перед человечеством и которую оно способно достичь благодаря своей постепенной эволюции. При этом не предполагается, что смысл истории известен человечеству или конкретному обществу. «Историческое событие, – говорит Левит, – тоже отсылает к чему-то вне самого себя, поскольку действие, его вызвавшее, нацелено на нечто, в чем смысл реализуется как цель. А поскольку история есть временное движение, замысел должен предстать как цель, лежащая в будущем. Отдельные события или последовательность событий, даже если они полны значения для человека, как таковые не наполнены ни смыслом, ни целесообразностью. Наполнение смыслом – дело осуществления, которое предстает в будущем»[160]. К. Левит указывает, что суждение о конечном смысле исторических деяний возможно лишь в том случае, когда обозначена их будущая цель. Если определились направление и радиус действия исторического движения, то смысл его, взятого как целое, определяется исходя из его конца. Смысл целого существует, поскольку оно имеет определенный исходный и отчетливый конечный пункт. «Допущение о том, что история в общем и целом имеет конечный смысл, означает предвосхищение конечного замысла как конечной цели. Временным измерением конечной цели становится эсхатологическое грядущее, а будущее есть для нас лишь постольку, поскольку мы чего-то ожидаем, но чего еще не существует. Оно дано нам лишь в образе верующего упования»[161].
История имеет смысл, если у нее есть цель. Если эта цель отсутствует, эволюция человечества лишена смысла. Цель не только истории, но и любой деятельности представляет собой одну из разновидностей ценностей. Можно поэтому сказать, что смысл истории означает направленность ее на какие-то ценности.
Содержательное рассмотрение смысла истории следует начинать с постановки вопроса его наличия в бытии. Некоторые мыслители весьма скептически оценивают перспективы решения этой проблемы, полагая, что смысла у истории самой по себе либо нет, либо он человеку неведом. Так, например, К. Поппер однозначно пишет: «История смысла не имеет»[162]. Единственное, что доступно человеку – это привнести в историю свой субъективный смысл, упорядочить хаос исторических событий силой своего рассудка. Мы полагаем, что такое решение проблемы равносильно признанию бессмыслицы общественной жизни людей, так как «смыслов» может быть ровно столько, сколько имеется познающих субъектов (как индивидуальных, так и коллективных). Тем самым смысл истории как нечто по определению общезначимое радикальным образом устраняется. Нам значительно более близка позиция русского мыслителя С.Л. Франка, который полагал, что утверждение бессмысленности человеческой истории оборачивается бессмысленностью жизни отдельной личности, а значит, ее отрицанием. Признавая отсутствие смысла у истории, он писал: «Личная жизнь каждого из нас теряла бы всякий смысл: ибо эта жизнь, будучи неразрывно вплетена в жизнь общечеловеческую, неизбежно должна была бы разделять бессмысленность последней. Если достижения жизни каждого из нас не суть отправные или опорные точки для дальнейших достижений наших детей и будущих поколений, если все достигнутое нами может исчезать бесследно, никому не пригодившись, то не имеет смысла хлопотать и заботиться о чем бы то ни было; и нам оставалось бы только предаться той мудрости отчаяния, которая выражена в циническом лозунге «сагре diem» (лат. – «Лови момент»)[163].
Если окинуть мысленным взором многообразие идей, касающихся смысла истории, можно выделить две большие группы: религиозно-философские идеи и идеи рационально-научного способа постижения смысла истории. Хронологически первой была религиозная парадигма решения вопроса об осмысленности исторического процесса. Христианство радикально переосмыслило античные представления о сущности истории. Античному миру идея устремленности к некой трансцендентной цели была явно чужда. Характеризуя историю как циклическое движение общества, мыслители той эпохи не задумывались ни о каких мистических силах истории, рассматривая общество и мир в целом так, как он представляется в непосредственном созерцании. Для них как язычников, воспринимавших мир во всем конкретном многообразии его явлений, событий и процессов, мысли о высших и таинственных целях истории были совершенно чужды и неприемлемы. Согласно христианству история имеет не только иную (линейную) направленность, но и высший сверхрациональный смысл. Наличие этого смысла обусловлено самой логикой христианского мировоззрения, предполагающей определенную степень единства Бога и мира и необходимость для человека постоянно ее увеличивать. По этому поводу С.Л. Франк писал: «Мы имеем право, во-первых, утверждать действенное соучастие высших божественных сил в ходе человеческой и мировой жизни и, во-вторых, веровать в тайный, недоступный нашему разумению смысл жизни, определяемый господством над всем бытием Промысла Божия. Религиозный человек так же мало может сомневаться в том, что мировая история имеет какой-то, хотя и недоступный ему, высший смысл, т. е. идет по какому-то определенному направлению, руководима каким-то назначением, как мало он может усомниться, что его личная жизнь есть не сцепление бессмысленных случайностей, а к чему-то предназначена, руководима волей Отца нашего Небесного».[164]
Религиозное истолкование направленности и смысла человеческой истории впервые было предложено в V в. одним из Отцов Церкви и видным мыслителем Августином Аврелием. Он предложил весьма интересную периодизацию мировой истории, выделяя этапы не по сменяющимся монархиям, как это было принято в его время, а в соответствии с крупными духовными сдвигами, описанными в Ветхом и Новом Заветах. Мыслитель выделяет шесть крупных эпох, сопоставляя их с шестью днями творения. Шестой эпохой является время возникновения и распространения христианства, которое и обеспечивает осмысленность истории. Другими словами, согласно Августину, утверждение христианства и превращение его в действенную историческую силу, преображение мира в направлении его христианизации и есть смысл мировой истории.
Христианское истолкование истории, предложенное не только блаженным Августином, но и восточными Отцами Церкви (Василием Великим, Григорием Нисским, Григорием Богословом и др.), заложившими основы Православия, получило широкое распространение в культуре и стало основой мощной философской традиции. В ее рамках общая идея смысла истории как христианизации мира углублялась и расширялась, выделялись и продумывались отдельные аспекты. В концентрированном виде она была представлена в русской религиозно-идеалистической философии, некоторые идеи которой мы рассмотрим.
Смысл истории русский мыслитель В.С. Соловьев усматривал в постепенном одухотворении природной стихии божественным логосом. Опираясь на «логику триады» Гегеля и его «Философию истории», Соловьев разрабатывает учение о трех коренных силах, управляющих историей, человеческим развитием. Первая сила стремится подчинить человечество во всех сферах и на всех ступенях его жизни одному верховному началу и устранить все многообразие частных форм, подавить самостоятельность индивида, свободу личной жизни. Если бы она получила преобладание, то человечество окаменело бы в мертвом однообразии и неподвижности. Но вместе с этой силой действует другая, прямо противоположная ей; она стремится разбить твердыню мертвого единства, дать везде свободу частным формам жизни, свободу индивиду и его деятельности; под ее влиянием отдельные элементы человечества становятся исходными точками жизни, действуют исключительно из себя и для себя, вследствие этого общее теряет значение реально существующего бытия, превращается во что-то отвлеченное, пустое, в формальный закон, т. е. лишается всякого смысла.
Современное человечество, по В.С. Соловьеву, представлено тремя резко различными культурами: мусульманским востоком, западной цивилизацией и славянским миром. Мусульманский восток находится под преобладающим влиянием первой силы – силы единства. Все там подчинено единому началу – религии, а эта религия отрицает множественность форм, индивидуальную свободу. Абсолютному могуществу в Боге соответствует абсолютное бессилие в человеке. Западная цивилизация подвержена господствующему воздействию второй силы. Каждая сфера деятельности, каждая форма жизни, обособившись и отделившись от всех других, стремится получить абсолютное значение, исключить все остальные, стать надо всем, но, захватив чужую область, теряет силу в собственной. Если мусульманский Восток совершенно уничтожает человека и утверждает только бесчеловечного Бога, то западная цивилизация, напротив, стремится к утверждению безбожного человека. Третья сила, долженствующая дать человеческому развитию его безусловное содержание, может быть только откровением высшего Божественного мира. От народа – носителя третьей Божественной силы – требуется свобода от всякой ограниченности и односторонности, возвышение над узкими, специальными интересами, вера в действительность высшего, Божественного мира и покорное отношение к Богу. Эти свойства в наибольшей степени присущи национальному характеру русского народа, который может стать историческим проводником третьей силы и предотвратить наступление «конца истории», так как две первые силы привели народы, им подвластные, к духовной смерти. Свойственный русскому человеку внешний образ раба, жалкое положение царской России в экономическом и других отношениях не только не служат против признания ее народа единственным носителем третьей силы, но скорее подтверждают его. Ибо та высшая сила, которую русский народ должен провести в человечество, есть сила не от мира сего[165].
Будущее человечества и его историю В.С. Соловьев связывает с развитием одной из прирожденных черт народа России – способности к самоотречению, самопожертвованию, которая у других народов столь явно не выражена. Свободное стремление славян, в особенности российского народа, к высшему, Божественному началу определяет смысл человеческой жизни и, соответственно, истории. Соловьев считает, что человечество, «живущее “по-божьи”», есть идеал, ибо свойственные такой жизни справедливость и нравственная солидарность хороши сами по себе и представляют нечто безусловно достойное и желанное для всех. Именно в этом качестве идеал и должен утверждаться как цель исторического процесса и как руководящий принцип человеческой деятельности.
Таким образом, смыслом человеческого существования и, соответственно, смыслом истории становится «всечеловечески-космическое обожение», или «макрообожение» челоеечестеа.
B. С. Соловьев стремится укрепить фундамент религии в особенности тем, что объявлял образ Христа не вымышленным, а его воскресение – фактом безусловно необходимым в общем ходе вещей. «Я лично, с тех пор как признаю, что история мира и человечества имеет смысл, не имею ни малейшего сомнения в воскресении Христа, которое есть, конечно, чудо совершенно такое же, как появление первой органической клеточки среди неорганического мира, или появление животного среди первобытной растительности, или первого человека среди орангутангов. В этих чудесах не сомневается наука, так же несомненно и чудо воскресения для истории человечества»[166].
Свою целостную философию времени и смысла истории предложил и Н.А. Бердяев. Для него основным вопросом всякой философии истории является вопрос о значении времени, потому что история есть процесс во времени, отношение времени к вечности. Смысл истории состоит в избавлении от объективизации, подчиняющей ее обществу и тем самым не работающей на нее. Примат личного над родовым, коллективным ведет к внутренне присущей ей свободной социальности, которой противостоит принудительная социальность – неизбежная включенность личности в социальное образование: классы, нации, партии, церковь. Он растворяет социальное в индивидуальном сознании и переживании, стремится восстановить религиозный смысл жизни, свободное воссоединение всех с Богом. Согласно Н.А. Бердяеву идея социального прогресса допускает лишь одно поколение счастливцев, а христианство – все поколения. Суть христианской идеи в том, что история окончится исходом из исторической трагедии и в нем примут участие все поколения. Все когда-либо жившие будут воскрешены для вечной жизни. История потому и имеет смысл, что она конечна. Если бы история была бесконечной, она не имела бы смысла, ибо не было бы возможным свободное воссоединение человечества с Богом, или, говоря словами Соловьева, «одухотворение природной стихии божественным логосом».
Русский мыслитель А.Ф. Лосев в книге «Очерки античного символизма и мифологии» пытается выявить собственно православное понимание истории и ее смысла. Лосев считает, что понимание социально-исторического бытия, начиная с Августина, пронизано католицизмом, в то время как социально-историческое содержание православия до сих пор еще не осознано. Между тем, социальное бытие не есть ни прямое отражение чисто Божественной сферы (отображение догмата о Троице, по Соловьеву), ни материальное, экономическое бытие; оно представляет собой их единство (соединение), которому свойственны собственные закономерности. Если в Средневековье личность искала свое утверждение исключительно в вечности, полностью игнорируя земное бытие, в силу чего история оказывалась историей личного спасения, то в Новое время она ищет свое утверждение уже исключительно в мирской жизни, в истории как земном бытии. С позиций православия же в личности всегда совмещены два стремления: к вечному и земному. Поэтому и в социально-историческом бытии должны быть слиты два процесса самоутверждения личности: в вечности и во времени. Согласно православию историю упорядочивают и движут во времени не религиозные (церковные) и не светские власти, а самоутверждающие, сознательные усилия личности, направленные на овладение мифологическими силами, изначально управляющие историей. Эти силы не хаотичны, не возникают неизвестно откуда и не исчезают внезапно: распознать закономерное появление их на сцене истории, увидеть скрытую в них предопределенность – значит проникнуть в тайну истории, которая есть не что иное, как дар мифологии нашему сознанию, т. е. миф. Цель философии истории и состоит, поэтому, в выявлении закономерностей мифологического бытия, имеющего трансцендентное начало. История, ее этапы, чреда побед и поражений во многом зависят также и от людей, но лишь тогда, когда они сознательно овладели мифологическими силами. Однако окончательный исход истории всегда предопределен: конец мифологии и будет концом истории вообще.
Значительный вклад в разработку проблемы смысла истории внес К. Ясперс. Анализ смысла исторического процесса, по его мнению, предполагает понимание истории как единого целого, а это в свою очередь требует ответа на вопросы: Что есть история? В чем заключается ее единство? История не есть природа, которая себя не осознает. Поэтому нельзя ее рассматривать как природный процесс. История – это история людей, наделенных сознанием. Они должны хранить и умножать веками сложившиеся традиции, ибо без них нет истории. «Исторический процесс может прерваться, если мы забудем о том, чего мы достигли, или если достигнутое нами на протяжении жизни исчезнет из нашей жизни. Даже почти бессознательная стабильность образа жизни и мышления, сложившаяся в силу привычки и само собой разумеющейся веры, стабильность, которая повседневно формируется всей совокупностью общественных условий и как будто коренится в самых глубинах нашего существования, начинает колебаться, как только меняются общественные условия. Тогда повседневность порывает с традицией, утрачивается исторически сложившийся этос, привычные формы жизни распадаются и воцаряется полнейшая неуверенность»[167].
Ясперс считает, что единство есть цель и смысл истории. Оно возникает из того, что люди в состоянии понять друг друга в мире духа. «Единство вырастает из смысла, к которому движется история, смысла, который придает значение тому, что без него было бы в своей разбросанности ничтожным»[168]. Цель же, продолжает Ясперс, может выступать как скрытый смысл. Он выделяет следующие цели:
• цивилизацию и гуманизацию человека, для чего необходимо упорядоченное существование, т. е. такое устройство мира, в котором право играет доминирующую роль (подлинное единство истории возможно на базе универсального права, что в свою очередь позволило бы человеку раскрыть свои творческие способности);
• свободу и сознание свободы;
• величие человека, проявление его творческих способностей;
• открытие бытия в человеке.
Еще одним крупным направлением в исследовании проблемы был рационально-научный способ познания смысла истории.
Этот подход является менее разработанным по сравнению с религиозным, так как его представители, с недоверием относившиеся к исследовательскому потенциалу христианства, видели в самом понятии «смысл истории» что-то мистическое и недостаточно научное. Однако в рамках этого направления в отечественной философии были получены определенные результаты. Так, российский исследователь В.С. Барулин полагает, что смысл истории заключается в том, что от эпохи к эпохе, от одного общественного устройства к другому, более высокому, растет и развивается человек – это действительное богатство общества. Сходную мысль выражал видный советский философ Г.С. Батищев: «Общественная история не имеет в конечном итоге иного смысла, кроме развития субъекта, т. е. кроме развития «сущностных сил» самих человеческих индивидов»[169].
Советские философы выдвинули важный методологический тезис о том, что смысл истории нельзя отрывать от ее объективных законов, именно наличие этих законов, тот факт, что история представляет собой естественно-исторический процесс, и выступает объективной основой смысла истории. Не будь история объективным естественно-историческим процессом, она вообще не могла бы оцениваться с позиций какого бы то ни было смысла.
Но спрашивается: Почему объективно-исторический процесс, который ни от кого и ни от чего не зависит, обретает такую направленность, что служит именно развитию человека? Почему он не может развернуться в каком-то другом направлении и стать базой совсем для другого смысла истории? Дело в том, что история – это деяния человека, это его судьба, его жизнь. Поэтому она не может не развиваться так, чтобы все больше служить человеку, чтобы именно его превращать в самоцель общественной жизни. «Не только люди делают историю, – писали В. Келле и М. Ковальзон, – а история делает людей. Более того, история приобретает смысл, если она раскрывается как история собственного развития человека»[170]. Так что развитие человека как глубочайший смысл истории имманентно самой истории, ее механизмам развития.
Следует подчеркнуть, что с научной точки зрения развитие человека – это всеобщеисторическая, общесоциологическая закономерность. Она проявляется как преобладающая тенденция всемирной истории, как общесоциологический итог действия множества сил, равнодействующая судеб всех стран и народов. Исторический же процесс – это не только общая тенденция, он и бесконечно конкретен. Оценивая смысл истории, нужно учитывать эту разномасштабность исторического процесса и вносить определенные поправки. А это значит, что далеко не всякие конкретные события в истории могут быть истолкованы как выражение смысла истории. Иначе и зверства рабовладельцев, и фашизм в Германии, и ужасы Хиросимы – все это мы наречем высоким словом «выражение смысла истории». Смысл истории реализуется, в частности, и в том, что он позволяет выделить в истории бессмыслицу, тупость, то, что иначе как антисмыслом не назовешь.
Глава 23 Общественный прогресс и его критерии
В ряду фундаментальных проблем философии и культуры особое место занимает идея прогресса. Ее исключительное значение обусловлено тем обстоятельством, что ответ на вопрос о характере и направленности истории призван не просто удовлетворить человеческую любознательность, но и дать надежные основания жизнедеятельности личности и общества. Фундаментальной закономерностью человеческого бытия в мире является необходимость стремления к высшей разумной цели, к идеалу блага, искупающего все жертвы и страдания. Вне такого стремления у человечества нет ни достойного будущего, ни достойного настоящего. Поэтому вопрос о прогрессе – это не простой вопрос умозрения, а жизненный вопрос о судьбе человека и всего человечества, а в еще более широком плане – и всего мирового бытия.
При решении этой проблемы в истории философской мысли сложилось два основных подхода: пессимистический и оптимистический. Представители пессимистического подхода отрицают идею поступательного восходящего развития человечества. С их точки зрения, движение социума связано с постоянным ухудшением, деградацией, распадом. Впервые такое воззрение на историю было предложено Гесиодом в поэме «Труды и дни», в которой он писал, что человечество пережило пять стадий, всякий раз опускаясь по лестнице истории на ступеньку вниз. Начальным состоянием был «золотой век», эпоха счастья и благополучия. Затем наступили «серебряный век» и иные. Итогом всего стал «железный век», где люди все время проводят в трудах, заботах и печалях. Здесь царит зло, насилие и несправедливость. В дальнейшем основные положения исторического пессимизма были представлены в римской философии и наиболее полно выражены в творчестве Секста Эмпирика. Идеи регрессивного развития представлены и во многих мировых религиях. Так, христианство весьма сдержанно относится к идее «земного рая», полагая, что совершенное общественное состояние на земле невозможно.
Идеи трагичности и даже катастрофичности истории активно обсуждаются и в современной философской мысли. Наиболее ярко проблему глубокого кризиса поставил немецкий философ Ф. Ницше: «Вся наша европейская культура уже с давних пор движется в какой-то пытке напряжения, растущей от десятилетия к десятилетию, как бы направляясь к катастрофе: беспокойно, насильственно, порывисто, подобно потоку, стремящемуся к своему исходу, но, не задумываясь, боясь задуматься»[171].
Внушительную картину деградации западноевропейской культуры нарисовал О. Шпенглер в книге «Закат Европы». Сравнивая ее с исчезнувшей древнегреческой культурой, автор предсказывает ее гибель в результате наступления цивилизации, которая, по его мнению, иссушит творческий порыв.
Критически настроен по отношению к прогрессу и социолог Ю. Бохеньский, представитель неотомизма. Он пишет: «Какой-то прогресс происходит – и на уровне отдельной личности и на уровне целого народа, и к нему необходимо стремиться»[172]. Однако, по его мнению, «вера в постоянный прогресс человечества, идущего ко все более высокому, совершенному состоянию, к раю на земле, к «свету» и тому подобному – одно из самых вредных заблуждений, унаследованных от XIX в.»[173].
Таким образом, подводя промежуточный итог, можно утверждать, что представители пессимистического взгляда на историю не признают онтологическую укорененность прогресса в историческом бытии людей.
Представители оптимистического варианта оценки исторического процесса исходят из того, что в истории господствует прогресе, т. е. такой тип развития, который означает переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному состоянию. Идея прогресса впервые заявила о себе в эпоху Возрождения. Ее основой стало христианское линейно-провиденциальное видение истории, согласно которому исторический процесс проходит через уникальные, принципиально невоспроизводимые этапы. Однако в период Ренессанса историософская проблематика сильно секуляризировалась – источники прогресса стали искать в посюстороннем мире (развитии ремесел, наук, искусств). Наиболее полно идея прогресса была продумана в новоевропейской философии. В научный оборот термин «прогресс» ввел французский философ-просветитель Ж.А. Кондорсе (1746–1794). В своей книге «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума», которую Ж.А. Кондорсе писал, ожидая смертного приговора, он разделил историю на десять эпох, сменяющих друг друга на основе совершенствования разума. Он верил, что наступит время подлинной свободы, когда восторжествует разум, а рабы и тираны будут существовать лишь на театральных подмостках. Согласно Ж.А. Кондорсе движение истории имеет поступательный характер – от некоторого несовершенного начала ко все более совершенным состояниям. Критерием совершенного состояния является разум, проникающий во все сферы бытия человеческого общества и побуждающий их к применению. И, напротив, удаленность от разума порождает несовершенство истории. Экспансия разума в жизнь приводит ко все более полной ее унификации, ибо люди оказываются равными друг другу именно как разумные существа. Отсюда светлое будущее человечества предполагает его объединение – одна нация, одно государство, одно правительство, наконец, один язык. История в таком случае оказывается тотально управляемой.
Поиск оснований прогресса в разуме продолжил Г. Гегель. Поскольку целью истории, по Гегелю, является максимально полное осуществление свободы, постольку «всемирная история есть прогресс в сознании свободы – прогресс, который мы должны познать в его необходимости».
Идеалистический характер гегелевской философии был подвергнут критике К. Марксом. Источником исторического развития Маркс считает не оторванный от отдельного человека мировой разум, но вполне конкретные материальные потребности людей. Создавая материальные блага для удовлетворения своих потребностей, люди развивают и самих себя, и общество в целом, тем самым являясь источником исторического прогресса.
В современной науке существует два подхода к пониманию общественного прогресса: суммативный и субстанциональный.
Сумматиеный подход рассматривает прогресс как простую совокупность (конгломерат) несводимых друг к другу изменений в различных сферах общества. При этом считается, что нет общей меры социального прогресса, поскольку в каждой сфере общественной жизни существует своя система ценностей и свое мерило их оценки. Соответственно здесь и разные критерии прогрессивности: для экономического развития общества – это уровень производительности труда и уровень развития производительных сил; для политического развития общества – степень его демократизации и т. п.
Субстанциональный подход, напротив, рассматривает прогресс как поступательное восходящее развитие общества в целом, имеющее внутреннюю логику и единый источник. При таком подходе становится возможным определение движущих сил социального прогресса и его критериев. Именно в рамках данного теоретического подхода можно конструктивно решать проблему прогресса.
Чтобы точнее выразить сущность общественного прогресса, необходимо строго разделить понятия «изменение», «развитие» и «прогресс». Вне изменения не существует ни один природный или социальный предмет, процесс или явление, изменение носит универсальный характер. Но не всякое изменение приводит к развитию и тем более к прогрессу. Прогрессом является такой тип развития социальной системы, в ходе которого происходит переход от менее совершенных форм организации человеческой деятельности к более совершенным, усложнение и гармонизация социальных отношений, формирование условий для всестороннего развития человека.
Следует особо подчеркнуть, что в Западной Европе Нового времени или, как принято сейчас говорить, в эпоху модерна, идея прогресса обрела черты могущественной и всеобъемлющей сверхтеории. Суть этой теории заключается в том, что все человеческие общества, хотя и с некоторыми временными отклонениями, закономерно и естественно движутся путем стадиального усложнения и поступательного развития от варварства, деспотизма, нищеты и невежества к цивилизации, демократии и просвещению, к торжеству разума, разумного мироустройства, а стало быть, к миру унифицированному на основе единой и наиболее разумной организации. Будучи одной из наиболее проработанных и изящных теоретических конструкций, идея прогресса несла в себе мощный ценностный заряд, фундаментальный оптимизм и реформаторское рвение. Среди приверженцев прогрессистского мироощущения, невзирая на их весьма частые дискуссии и глубокие разногласия относительно того, что является главной движущей силой общественного прогресса (развивающийся ли разум, рост ли производительных сил или еще что-нибудь), а также несмотря на то что реальная действительность отнюдь не редко вступала в конфликт с данным мироощущением, сама идея прогресса оставалась непоколебимой, обнаруживала невероятную живучесть. Менялась лишь мода на слова: «прогресс», «модернизация», «трансформация», «экономический рост», «экономическая эффективность», «цивилизаторская миссия» и т. д. Но вне споров оставалось то положение, что человечество, двигаясь вперед (вверх), проходит универсальные стадии в своем развитии, и вся история социума может быть представлена как иерархия высших и низших ступеней.
Идея прогресса получила необычайно широкое распространение, стала достоянием массового сознания, проникла во все слои общества, в школьные классы и студенческие аудитории, вошла в общепринятый обиход мышления и языка. В западноевропейской культуре вера в прогресс («прогрессистское сознание», «прогрессизм») стала занимать вакантное место идеи Бога, утратившей к тому времени свою силу и власть над людьми.
В своей эволюции прогрессизм, скрестившись с идеологией, превратился в своего рода религиозный тип сознания (религию прогресса). Так, например, имевший до недавнего времени широкое распространение в советской обществоведческой литературе взгляд на историю как процесс закономерной смены общественно-экономических формаций, где каждая новая выше предшествующей, нес в себе значительный элемент фатализма и исторического телеологизма[174]. В подобного рода взглядах и концепциях явно или подспудно присутствовала мысль о неизбежности наступления коммунистического общества, об автоматизме действия социальных законов, особенно законов социализма, о неумолимой логике истории, с непреложностью ведущей от одной общественно-экономической формации к другой, все более высокой и совершенной. История, таким образом, оказывалась погруженной в перспективу будущего, начинала рассматриваться как последовательная смена стадий, неизбежно завершающаяся утопией светлого будущего, царством социальной гармонии, действовала как бы от имени будущего, его целесообразности, планомерности и планосообразности. Отсюда мобилизующая сила идеи прогресса, ее способность выступить в качестве мощного стимула социально-политического действия, аккумулировать энергию и готовность ее сторонников бороться за скорейшее наступление будущего состояния земного рая для всего человечества.
В общетеоретическом плане идея прогресса основывалась на представлении о том, что социальный процесс может быть понят, описан, математизирован и смоделирован специалистами и учеными, что давало прямую санкцию таким сферам общественной деятельности, как социальное планирование и социальная инженерия.
Идея прогресса, возводя в ранг закона однолинейность развития социума, обернулась в западноевропейском сознании определенным ранжированием истории человечества: одни общества – передовые, более продвинутые и развитые, а другие – отставшие и неразвитые, а поэтому нуждающиеся в опеке и помощи со стороны «развитых». При этом «развитые» страны выступают идеалом – образцом для «неразвитых», представляют собой картину их будущего состояния.
На практике такой взгляд позволял западноевропейским народам видеть в себе полное воплощение понятия прогресса и, соответственно, рассматривать свои общества в качестве естественных мировых лидеров, имеющих безусловное право проектировать и моделировать (само собой понятно, на основе научной теории прогресса) будущее всего человечества.
Всепоглощающая идея прогресса оказалась весьма удобным и эффективным оружием в политико-идеологической борьбе. Ее старались приватизировать не только отдельные страны и народы, но и все политические партии. От ее имени политические деятели обвиняли и обвиняют по сей день друг друга в ретроградстве, махровом консерватизме, пещерном мышлении и т. д. Кажется, и на сегодняшней политической арене не слышно высказываний о том, является ли в принципе верной сама постановка вопроса о бесконечном прогрессивно-поступательном развитии человечества. По-прежнему спор идет лишь о том, чья программа или проект являются наиболее высшим воплощением идеи прогресса и идеалом-образом для всех остальных, т. е. по сути спор идет о том, чья утопия в данный момент является самой привлекательной. Бесконечные заклинания, слова и фразы о служении прогрессу стали удобным способом или приемом в подавлении всех иных точек зрения на социальные процессы. Бесчисленное количество экспертов и аналитиков, говоря и действуя от имени теории прогресса, считают себя вправе бесцеремонно игнорировать все те мнения и взгляды, которые так или иначе не вкладываются в прокрустово ложе этой объяснительной парадигмы. Более того, для данных экспертов и аналитиков теория прогресса, возведенная в ранг догмы абсолютной истины для всего человечества, являлась особого рода санкцией, легитимирующей самые чудовищные социальные эксперименты, превращающие огромные массы людей (разумеется, во имя их же блага) в объект беззастенчивой манипуляции. Они напористо, безапелляционно и с неслыханным безразличием по отношению к отдельным человеческим судьбам и судьбам целых народов пытались и пытаются навязать себя в качестве единственных представителей общечеловеческих интересов и тем самым получить монопольное право управлять людьми, распределять привилегии и осуществлять выбор дальнейшего развития человечества. Так, во имя прогресса и в интересах научного планирования и проектирования (точнее сказать, в интересах грубой социальной инженерии) большинство не только отдельных граждан, но и стран лишаются права на собственный выбор и собственное историческое творчество и развитие.
Все это позволило многим исследователям говорить даже о тирании прогресса, о его антигуманности и жестокости. «В конечном итоге, – пишет Т. Шанин, – идея прогресса превратилась в могущественную идеологию порабощения. Во имя ее вершились и вершатся акты поразительной жестокости, оправдываемые «великим будущим», а поэтому допустимые, более того, мыслящиеся, как прямые обязанности элит»[175].
Однако уже ко второй половине XIX в. появились сомнения в продуктивности и благости прогрессистских воззрений. Наиболее обоснованное и ярко выраженное философское предостережение об опасности новой секулярной религии эпохи модерна – теории прогресса, имманентно содержащей импульс к утверждению социально-революционных тоталитарных идеологий, – представлено в знаменитом манифесте русского христианского историзма, сборнике «Вехи» (1909), а затем и в ряде других произведений русских философов периода религиозно-философского Ренессанса в России. Русские философы обосновали положение о тоталитарно-утопической природе главного детища западноевропейской философии просветительского рационализма, всей эпохи модерна – теории общественного прогресса; об эгоистически-потребительской направленности западноевропейской цивилизации, логический конец которой – тупики саморазрушения. Русские мыслители подчеркивали, что идея прогресса практически всегда воплощается в системе деспотизма, исходящего из права неограниченного господства и обязанности слепого повиновения ради грядущего совершенства. Такие мыслители, как П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков и другие, оценивали стремление прогрессистов к рационализации общественной жизни как опасную идею опеки, как принудительное управление и руководство людьми во имя эффективного будущего. И в самом деле, носители прогрессистского сознания, убежденные в достоинствах своего проекта, готовы платить любую цену за его реализацию. Из любви к человеку они будут строить концлагеря, во имя нового мирового порядка вести бесконечные войны и т. д. Достаточно вспомнить, с какой необыкновенной фанатической устремленностью, невзирая ни на какие жертвы в послереволюционные годы, во Франции, в России и в ряде других стран внедрялась в жизнь идея убыстрения прогресса.
Сегодня не только теоретическая несостоятельность, уязвимость и неуниверсальность, но и в целом ряде аспектов практический вред идеи прогресса становятся все более очевидными. Обнаруживается, что представление о неограниченном линейном прогрессе является серьезным препятствием к рассмотрению социального мира во всей его сложности и противоречивости, мешает увидеть в нем многообразие форм, которые параллельно сосуществуют, не отмирая, не выступая этапами или ступеньками в каком-то цельном, едином и однонаправленном процессе, что огромное количество фактов и явлений никоим образом не вписывается в прогрессистские модели. В целом XX в. выявил множество симптомов, которые однозначно указывают на необходимость переосмысления как отечественного, так и зарубежного типа прогресса. Такое переосмысление должно вестись прежде всего исходя из экологических императивов, концепции коэволюции человека и природы, требований сохранения экологического равновесия.
Ахиллесова пята, основной порок религии прогресса заключается в том, что она обожествляет будущее, поклоняется этому будущему, приносит ему в жертву настоящее и прошлое. Но кто может доказать, что в каком-то отдаленном будущем какое-то поколение людей в большей степени достойно даров прогресса, чем все ему предшествующие поколения? Почему ради счастья и процветания одного какого-то поколения в неизвестно сколь отдаленном будущем должны трудиться, приносить себя в жертву все другие, бесконечно сменяющие друг друга поколения? Почему только какому-то будущему поколению должно посчастливиться взобраться на вершину прогресса и пировать на этой вершине? Нравственным ли будет такого рода пир? На этот последний вопрос дал весьма категоричный и жесткий ответ Н.А. Бердяев: «Идея прогресса… допускает на этот… пир лишь неведомое поколение счастливцев, которое является вампиром по отношению ко всем предшествующим поколениям. Тот пир, который эти грядущие счастливцы устроят на могилах предков, забыв об их трагической судьбе, вряд ли может вызвать с нашей стороны энтузиазм к религии прогресса – энтузиазм этот был бы низменным»[176].
Развернутый анализ проблемы предполагает два типа (две версии) общественного прогресса. Во-первых, прогресс, который понимается как саморазвивающийся, автоматический, естественный, неизбежный, самореализующийся. Он имманентен истории, сам себе выдает векселя и гарантии относительно непреложного торжества светлого будущего, т. е. выступает как гарантированный. И тут уже не столь существенно, обнаруживает ли он себя в форме собственно религиозного провиденциализма, действует ли он от имени Бога или от имени объективной истории, находит свои источники в естественной области, в сфере проявления железных законов истории. Главное здесь то, что в любом случае обеспечивается конечный успех – торжество будущей социальной гармонии. Во-вторых, прогресс как результат целенаправленной человеческой активности. Здесь решающая роль отводится субъективному фактору, человеку (отдельному индивиду или коллективу), призванному творить, конструировать исторический прогресс. В этой своей ипостаси прогресс понимается как нечто, что может и должно быть достигнуто, сконструировано, утверждено, т. е. в данном случае прогресс уже не гарантируется самим по себе ходом истории, а ставится в зависимость от творческих усилий, поиска и борьбы социальных субъектов. Тут уже прогресс требует не пассивного ожидания (поживем, увидим), а активного действия, творческой конструктивной работы.
На первый взгляд вполне можно допустить, что эти чисто теоретические конструкции имеют весьма отдаленное отношение к реалиям практического бытия людей. Но это только на первый взгляд. При ближайшем рассмотрении данного вопроса выясняется, что обе эти интерпретации движущих сил прогресса очень часто ставят человечеству опасные ловушки, западни. В практике реальной жизни идея автоматического триумфа прогресса, гарантированного конечного успеха (первая версия) обезоруживает людей перед теми реальными фактами и событиями, которые не вкладываются в прогрессистскую схему развития, расслабляет их волю в противостоянии актуальному злу (дескать, все само собой образуется). Возможность такого рода поворота событий, пожалуй, в наиболее красноречивой форме зафиксировал испанский философ X. Ортега-и-Гассет. «Поскольку люди позволили этой идее затмить им рассудок, они выпустили из рук поводья истории, утеряли бдительность и сноровку, и жизнь выскользнула у них из рук, перестала им покоряться. И вот она бродит сейчас, свободная, не зная, по какой дороге пойти. Под маской благородного провидца будущего сторонник прогресса не думает о будущем, он убежден, что от будущего нельзя ожидать ни секретов, ни сюрпризов, ни существенно нового, ни каких-либо резких поворотов судьбы»[177].
На деле получается, что вера в прогресс снимает всякую ответственность за будущее состояние социального бытия. Нет никакой необходимости бороться за более совершенные формы человеческого общежития, быть всегда начеку, в состоянии беспокойства, активно противостоять различного рода антигуманности и деструктивным явлениям, если история сама по себе устроит все самым наилучшим образом. Отсюда даже в наше время, чреватое угрозами различного рода глобальных катастроф, легковесный оптимизм, беспечность, отсутствие желания и способности к ответам на жесткие вызовы современности.
Кроме того, вера в то, что будущее заведомо лучше и ценнее настоящего и прошлого, независимо от желания ее носителей провоцирует рознь между поколениями[178]. В самом деле, теория гарантированного прогресса позволяет каждому новому поколению считать себя лучше всех предшествующих уже только потому, что оно родилось в более позднюю эпоху. Преодолеть цепь конфликтов поколений можно, только развенчав прогрессистское сознание, показав самоценность жизни всех поколений и отсутствие действительного превосходства будущего над настоящим.
Вообще мысль о том, что будущее непременно обладает каким-то превосходством над предшествующими стадиями в жизни общества, что развитие обязательно представляет собой движение вперед и вверх, ведет ко все большему совершенству, ко все новым и новым вершинам истории, явно сужает горизонты человеческого бытия, упрощает реальную, сложную и противоречивую динамику социальных изменений. А в наши дни, когда технократическая модель развития, с которой, собственно, и ассоциируется триумф идеи прогресса, эра прогресса и которая завела современное общество в тупик, мысль о вершинно-сти в истории, методологические установки прямо или косвенно, явно или неявно оценивать всю предшествующую жизнь как прелюдию к грядущему совершенству, как предысторию становятся чрезвычайно опасными, мешают пониманию глубинной сути того общества, в котором мы живем, дезориентируют людей, направляют их усилия на ложные перспективы и тупиковые пути развития.
Вторая версия прогресса таит в себе не меньшие опасности. Интерпретация прогресса как исключительно результата активности того или иного социального субъекта в реальной социально-политической практике сплошь и рядом оборачивается волюнтаризмом, деструктивностью и утопизмом. Послед-ний как выражение идеализированных образов желаемого будущего практически всегда тесно связан, сопутствует и переплетается с идеей прогресса.
В реальном общественном развитии сосуществуют, обусловливая друг друга, такие типы развития, как прогресс, антипрогресс и регресс. Под антипрогрессом мы будем понимать такое развитие, в ходе которого возникают принципиально новые формы общественного бытия и сознания, но имеющие явно деструктивный характер, приводящие к разрушению личности и социума. Например, феномен тоталитаризма, будучи детищем XX в. с его технизацией и плановостью, не имеет аналогов в мировой истории и при этом отличается крайней степенью враждебности к культурным, природным и человеческим проявлениям жизни. Под регрессом следует понимать попятное движение, возвращение к ранним этапам социальной эволюции, которые вовсе не обязательно были хуже современных. Важно отметить, что антипрогресс зачастую выступает в форме небывалых достижений современности, передовых учений и модных проектов, т. е. надевает на себя маску прогресса.
Поэтому, если оставить в стороне прежние эпохи, где развитие общества носило почти исключительно естественно-исторический характер, и иметь в виду современную эпоху с ее расширившимися возможностями целенаправленного воздействия на природную и социальную среду, то свое будущее в любом случае люди должны выбирать в системе гуманистической координации, обеспечивающей выживаемость человека как биосоциокультурного существа.
Как бы там ни было, однако социально-антропологический опыт XX в. дает более чем достаточные основания серьезно усомниться в благости теории прогресса, отказаться от легковесной веры в возможность достижения вершин истории. Этот опыт свидетельствует, что, несмотря на все глубокие изменения в бытии народов, происшедшие в XX в., мы не имеем права утверждать, что этот век поднял жизнь человечества к вершинам прогресса более чем какой-либо другой век. Ибо все победы и достижения этого века оплачены непосильно высокой ценой, связаны с новыми проблемными ситуациями, новыми сложностями и противоречиями. Да и кто сегодня возьмет на себя смелость утверждать, что человек XX в. стал лучше, чем был, скажем, гражданин Афин периода Перикла или гражданин Великого Новгорода времен Александра Невского? Явно не найдет достаточных аргументов и тот, кто попытается определить, где находится золотой век человечества – в глубокой древности, отдаленном будущем или в сегодняшнем дне. Думается, что ни одно поколение не имеет каких-то особых преимуществ перед другими. В интегральном процессе движения социума каждое поколение самоценно и непреходяще значимо. Люди, стремясь к совершенству, должны избегать утопического самообмана относительно возможности достижения каким-либо определенным поколением будущего земного рая. Рая не будет. А будет жизнь в ее бесконечном переплетении достижений и провалов, радости и горя, отчаяния и нужды. Всего этого и много другого не избежать ни одному обществу на земле. Неудивительно, что английский ученый Э.О. Салливан, подвергая критике современный технологический фетишизм, пишет: «Великому богу, имя которому Прогресс, уже пишется некролог»[179].
Подвергая критическому анализу прогрессистское сознание, слепую веру в прогресс, мы, тем не менее, должны иметь в виду, что это сознание и эта вера отнюдь неслучайны. В сущности, вера в прогресс базируется на фундаментальных характеристиках человеческого бытия с его извечным разрывом между реальностью и желаниями, действительностью и мечтой, между тем, что люди имеют и к чему они стремятся, между тем, кто они есть на самом деле и кем хотели бы быть. Теоретические попытки преодоления реальной разобщенности социального мира, достижение его целостности и единства, жажда хотя бы духовного овладения ситуацией осмысления, оправдания или осуждения с тех или иных позиций наличного бытия являются важнейшими компонентами общественного сознания всех народов и эпох. В данных попытках отражалась органически свойственная человеку как общественному существу потребность в поисках смысла жизни, в самопознании и самоосуще-ствлении. Именно в рамках этих поисков новых непротиворечивых форм социального бытия и лежат истоки теории прогресса. Теория прогресса призвана смягчить экзистенциальное напряжение между действительным, желаемым и возможным, дать надежду на лучшую жизнь в будущем, убедить людей, что достижение этой будущей прекрасной жизни гарантировано или, по крайней мере, возможно. Следовательно, идея прогресса призвана так или иначе удовлетворить извечную потребность человека в совершенстве и гармонии, и поэтому, несмотря на все вполне обоснованные сомнения и скептицизм, она будет в той или иной мере воспроизводиться каждым новым поколением.
Соответственно, критика прогресса должна быть не огульной и тотальной, а скоррелированной с реальными тенденциями развития общества, с опасностями и угрозами, которые его подстерегают сегодня. Необходимо развивать рефлективное отношение к доминирующему ныне в мире типу прогресса, основанному на идеологии технократизма. Прогресс сегодня заключается вовсе не в продолжении развития инструментальнотехнической, техническо-потребительской цивилизации (к чему пока еще усиленно стремятся не только многие отдельные индивиды, но и целые народы и государства), а в сохранении биосферных условий выживания человека, человеческого рода, в переориентации научно-технического прогресса с задачи повышения экономической эффективности на задачу спасения биосферы. Нужно стремиться к тому, чтобы человеческая надежда (без которой людям жить почти невозможно) базировалась не на перспективе абстрактного будущего, питалась не слепой верой в будущее, которое заведомо лучше настоящего, а основывалась на перспективе вечности, исходила из надвременных ценностей универсального, непреходящего характера – чести, совести, долга и т. д. Не в бесконечной погоне за максимальной прибылью, богатством и безудержно-иррациональным потребительством, а в стремлении к правильной жизни, жизни не во лжи, а жизни в гармонии с миром состоит сегодня подлинный прогресс человечества. Иначе говоря, всякий прогресс оправдан в той мере, в какой он обеспечивает воспроизводство здорового, полноценного человека и способствует росту его духовных потребностей и духовного уровня.
Мы должны найти надежный критерий прогресса. Таким в первую очередь должен быть гуманистический критерий, по отношению к которому все остальные измерения общественной жизни являются условиями и предпосылками. Если в процессе развития общества человек формируется как целостное теле-сно-душевно-духовное существо, если получает возможность в полной мере развить свой личностный потенциал, то мы можем утверждать, что общество прогрессирует. В качестве зримых, эмпирически фиксируемых сторон гуманистического измерения истории выступают следующие показатели: средняя продолжительность жизни, минимизация детской и материнской смертности, преодоление голода, нищеты и отчаяния во многих регионах мира, возможность полного удовлетворения не только физических, но и духовных потребностей в обретении смысла жизни и деятельности, творчестве, созидании.
Этот критерий тем более важен, что сегодня сама теория прогресса в некоторых новейших версиях стала буквально на глазах растрачивать многие присущие ей ранее элементы гуманистического содержания и все в большей степени приобретать черты специфической формы социокультурного или цивилизационного расизма. Классическая теория прогресса, что бы о ней ни говорили, несла в себе универсалистские черты и содержала идеи общечеловеческого, общегуманитарного порядка, согласно которым все народы мира, в том числе и самые отсталые (концепция догоняющего развития), способны двигаться по пути самосовершенствования и развития и достичь вершин социальной эволюции. Теперь ситуация изменилась.
Как только были осознаны пределы роста, связанные с экологическими ограничениями, классическая теория прогресса, постулирующая перспективы единого (разумеется, прекрасного) общечеловеческого будущего, оказалось отброшенной, стала стремительно терять свою универсальность и всечеловечность. По мере того как становилось все более очевидным, что щедрот прогресса на всех не хватит и что за них не только в отдаленном, но и ближайшем будущем предстоит тяжелая борьба, в странах Запада все настойчивее заговорили о формировании сепаратного, отгороженного будущего для избранного меньшинства (золотого миллиарда), способного, в отличие от периферийного большинства, и дальше идти по пути прогресса. Так, в настоящее время шаг за шагом стала утверждаться теория пространственно-ограниченного прогресса, теория, признающая право на благосостояние и развитие только за отдельными регионами мира, только за теми народами, которые добились лидерства в сфере экономики и современных технологий. На практике это ведет к новым разделительным линиям, к становлению и развитию своеобразного технико-экономического агрессивного глобализма (планетарного тоталитаризма), связывающего неполноценность народов уже не с теми или иными натуралистически-биологическими факторами, как это было характерно для традиционного расизма, а с критериями продвинутости народов по пути формирования индустриального (постиндустриального) общества западного образца, т. е. по сути с критериями социокультурной идентичности, фиксирующей качественные различия людей в сфере духа, архетипов народного сознания, в том числе коллективного бессознательного, в сфере обычаев, традиций, поведенческих стереотипов и предпочтений.
Поэтому следующим критерием прогресса должен стать принцип всеобщего выживания человечества. Угроза глобальной катастрофы не может быть преодолена путем отгораживания Запада от остального мира и выстраивания оазиса благополучия в бедствующем окружении. Необходимо искать формы межкультурного и межцивилизационного сотрудничества с целью обеспечения выхода человечества из тупика техногенно-потребительского отношения к миру.
Раздел VI Общество как цивилизационный процесс
Глава 24 Локальные цивилизации и проблема сохранения культурно-цивилизационной идентичности в современном мире
Категория «цивилизация» является одной из наиболее популярных и востребованных в современных социальных науках. Ее объяснительные возможности настолько велики, а описываемая ею реальность настолько сложна, что на сегодняшний день сложились десятки подходов к пониманию сущности концепта «цивилизация». Мы выделим несколько основных.
Согласно первому подходу определения сущности цивилизации она рассматривается как этап развития человеческого общества, следующий за дикостью и варварством и обозначающий собственно социальную форму бытия человека. Данная трактовка понятия «цивилизация» была представлена в работах Л. Моргана и Ф. Энгельса. Сегодня в таком значении понятие цивилизации широко применяется для осмысления прогресса человеческого общества, системного усложнения и расширения второй природы – мира созданных человеком предметов и процессов.
Второе подход к понятию цивилизации связан с выделением уровня, специфики и этапов развития отдельных регионов мира или суперэтносов. В рамках этого подхода цивилизация воспринимается как особый социальный организм, характеризующийся спецификой его взаимодействия с природой, особенностями социальных связей и культурных традиций. В таком значении говорил о «локальных цивилизациях» А. Тойнби, о «культурно-исторических типах» – Н. Данилевский.
Третий подход связан с жестким противопоставлением понятий культуры и цивилизации. Такое видение цивилизации предложили О. Шпенглер и Н. Бердяев. Философы считают, что прогресс в технике и технологии не только не приводит к моральному прогрессу, но зачастую связан с моральным регрессом. Поэтому культура и цивилизация рассматриваются ими как разные аспекты социальной истории.
Термин «цивилизация» появился в исторических исследованиях относительно недавно, но быстро утвердился в науках об обществе и даже проделал значительную эволюцию. Принято считать, что впервые это слово употребил маркиз де Мирабо (1715–1789) в известном трактате «Друг законов». В дальнейшем его подхватили другие философы-просветители, понимая под цивилизацией триумф и распространение разума не только в политической, но и в моральной, и религиозной областях, просвещенное общество в противовес дикости и варварству, прогресс науки, искусства, свободы и справедливости, устранение войны, рабства и нищеты. В цивилизации, с точки зрения просветителей, заключается гуманитарное начало и живая душа общества, т. е. тот механизм, который оберегает общество от распада и ожесточения. Цивилизация стала обозначать абсолютную рациональную ценность для всех времен и народов, единственный способ существования, к которому с необходимостью должны присоединиться все народы нашей планеты. Таким образом, в момент своего возникновения понятие «цивилизация» имело нормативный характер, представляя собой определенный идеал, что в значительной степени сохранилось в обществоведении и до настоящего времени.
На первом этапе эволюции описанный идеал просветители отождествили с реальным способом социальной организации и ценностной структуры государства Западной Европы XVIII в. Другими словами, в данной концепции Европа смешала свою цивилизацию, приняв ее за меру, с цивилизацией вообще. Такое понимание цивилизации способствовало формированию цивилизаторской миссии, с которой приходят европейцы в остальные страны мира. Понятие цивилизации приобретало особую нагрузку в идейных обоснованиях колониального режима, в самооценке западных культуртрегеров, возлагавших на себя бремя белого человека, чтобы нести новые порядки полудиким, угрюмым племенам, как выражался Р. Киплинг. Хотя эта миссия исчерпала себя с распадом колониальных империй, прежнее значение термина вновь встречается в идеологических построениях западников и прозападной политической элиты.
Второй этап эволюции концепта «цивилизация» (вторая половина XIX в.) связан с критикой порядков, которые называются цивилизованными, но означают кризисное состояние общества, отказывающего значительному большинству населения в социальной справедливости. Одним из наиболее ранних критических выступлений был трактат Ж.-Ж. Руссо «О влиянии наук на нравы», в котором он писал о пагубном влиянии на человека цивилизации неравенства с ее чисто внешними и лицемерными принципами. Эта линия критики сословного, или буржуазного, общества породила различные протестные течения и привела к возникновению марксизма как наиболее последовательного учения, раскрывающего формационные противоречия различных типов общественного устроения. Признавая значительность достижений западного буржуазного общества, марксисты, вместе с тем, многое сделали для выявления пагубных последствий развития капитализма как в Европе, так и в других регионах. Тем самым заметно уменьшается исторический оптимизм и ставится под сомнение идея прогресса. В результате цивилизация потеряла предикат абсолютности, статичную сущность идеального состояния; начинают развиваться представления о множестве локальных цивилизаций.
На третьем этапе (XX в.) стали доминировать представления об истории как совокупности локальных цивилизаций – социокультурных систем, порожденных конкретными условиями деятельности, особенностями людей, населяющих данный регион и определенным образом взаимодействующих в масштабах мировой истории. Причиной употребления понятия «цивилизация» во множественном числе стали масштабные общественно-политические изменения в Европе, бурное развитие исторического знания, этнографии, культурной антропологии, археологии, которые расширили представление о количестве и сущности настоящих и древних цивилизаций. Этнографические экспедиции рубежа XIX–XX вв. позволили выявить устойчивые – глубинные и поверхностные – характеристики незападных народов, отличные от общепринятых европейских. Таким образом, монистическая концепция истории окончательно сменяется плюралистической.
Одним из первых теоретиков, выдвинувших идею множественности цивилизаций, был русский ученый Н.Я. Данилевский. В своей знаменитой книге «Россия и Европа» Н.Я. Данилевский подверг жесткой критике европоцентризм, доминировавший в историографии второй половины XIX в., и в частности общепринятую схему деления мировой истории на периоды древней, средней и новой истории. Русский мыслитель считал подобное деление крайне абстрактным, имеющим лишь условное значение и совершенно неоправданно выполняющим роль регулятивного принципа, привязывающего к этапам европейской истории явления совсем другого рода.
Отрицая европоцентристскую схему, Н.Я. Данилевский предлагает новую формулу построения истории: история не есть прогресс некоего общего разума, некоей общей цивилизации, ибо таковой просто нет, а есть развитие отдельных культурно-исторических типов. В концепции Данилевского история человечества предстала как развитие отдельных, замкнутых культурно-исторических типов, носителями которых являются естественные, т. е. исторически сложившиеся, группы людей. Понятие «культурно-исторический тип» – центральное в учении Н.Я. Данилевского. Согласно его собственному определению самобытный культурно-исторический тип образует всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком или группой языков, довольно близких между собой, если оно вообще по своим духовным задаткам способно к историческому развитию и вышло уже из младенчества.
Однако за многовековую историю человеческой культуры лишь немногие народы смогли создать великие цивилизации. Вопрос о том, сколько таких цивилизаций было в истории и какие это были цивилизации, всегда вызывал нескончаемые споры среди теоретиков культурно-исторической школы. Данилевский выделял в качестве основных культурно-исторических типов, уже реализовавших себя в истории, египетский, китайский, ассиро-вавилоно-финикийский, индийский, иранский, еврейский, греческий, аравийский и романо-германский (европейский). Эту схему он дополнял также двумя культурно-историческими типами – американским и перуанским, – «погибшими насильственною смертью и не успевшими совершить своего развития». Уже в ближайшем будущем, считал мыслитель, огромную роль в истории предстоит сыграть новой культурно-исторической общности народов – России и славянскому миру.
Каждый культурно-исторический тип проходит определенные ступени, или фазисы, эволюции. Н.Я. Данилевский, будучи ботаником по образованию, проводит сравнение с жизненным циклом растений. По его мнению, все культурно-исторические типы и народы, их составляющие, «нарождаются, достигают различных степеней развития, стареют, дряхлеют и умирают»[180].
При этом Н.Я. Данилевский не отказывался от понятия исторического прогресса как фиксирующего момент единства истории, но утверждал, что смысл прогресса состоит как раз в принципиальной многосторонности, многоплановости развития человеческой культуры. Он писал, что для человечества как целого «нет другого назначения, другой задачи, кроме разновременного и разноместного… выражения разнообразных сторон и направлений жизненной деятельности, лежащих в его идее и часто несовместимых как в одном человеке, так и в одном культурно-историческом типе развития». Н.Я. Данилевский выделял четыре основных направления исторической жизнедеятельности народов: религиозное, культурное, политическое и социально-экономическое. Они присущи каждому культурно-историческому типу, но развиты не в равной мере. И он надеялся, что культурная односторонность может быть в будущем преодолена именно Россией и славянством и возникнет «четырехосновной» культурно-исторический тип.
Размышляя над способом отношений между отдельными культурно-историческими типами, Н.Я. Данилевский далек от благодушия. Каждая цивилизация утверждает свое право на жизнь в жесткой борьбе, соперничестве и вытеснении. «Око за око, зуб за зуб, строгое правило, бентамовский принцип утилитарности, т. е. здраво понятой пользы, – вот закон внешней политики, закон отношений государства к государству. Тут нет места закону любви и самопожертвования»[181].
Общетеоретические положения стали у Н.Я. Данилевского основой видения и понимания реальных политических процессов. Более того, само построение новой модели истории предопределялось у теоретика настоятельной потребностью осмыслить сложные и зачастую трагические отношения между Россией и Западом. И здесь Н.Я. Данилевский выделяется своим последовательным и бескомпромиссным антизападничеством. Европа и Россия, утверждал русский ученый, принадлежат к совершенно различным культурно-историческим типам, и уже поэтому любые надежды на возможность подлинной гармонии в отношениях с Западом – не более чем утопия. «В продолжение этой книги, – писал автор «России и Европы», – мы постоянно приводим мысль, что Европа не только нечто нам чуждое, но даже и враждебное… Из этого, однако, еще не следует, чтобы мы могли или должны были прервать всякие сношения с Европой, оградить себя от нее Китайской стеной: это не только невозможно, но было бы даже вредно, если и было возможно… Но если невозможно и вредно устранить себя от европейских дел, то… необходимо смотреть на эти дела всегда и постоянно с нашей особой, русской точки зрения»[182].
Многие идеи Данилевского в начале XX в. воспринял немецкий философ О. Шпенглер, автор двухтомной работы «Закат Европы». Книга принесла автору мгновенную и весьма широкую популярность. Успеху книги способствовал тот факт, что она вышла непосредственно после Первой мировой войны, повергшей Европу в руины и вызвавшей рост двух новых «заокеанских» держав – США и Японии. В самой Германии «Закат Европы» стал философским шлягером потому, что сформулированная в нем идея гибели западной культуры парадоксальным образом утешила и объединила солдат, возвращающихся с фронта, интеллигенцию, мелкую и среднюю буржуазию, не воевавшую молодежь и т. п.
Подобно Н.Я. Данилевскому, О. Шпенглер видит безосновательность деления истории на Древний мир, Средние века, Новое и Новейшее время. Анализируя историю Древнего Рима, Шпенглер пишет о том, что в его истории было и свое средневековье, и новое время, свой феодализм и свой капитализм. Рим начала нашей эры был крупным мегаполисом со своей инфраструктурой, многоэтажными домами и газетами. (О. Шпенглер приводит любопытный факт: некий царек из Северной Африки дал объявление в одну из римских газет о том, что он желает снять квартиру на 4—5-м этаже в центре Рима.) Это типичный Нью-Йорк XX в., только со своим национальным колоритом и уровнем развития техники. Поэтому птолемеевская модель истории, согласно которой все культуры вращаются вокруг неподвижного центра – Европы, должна быть заменена коперниковской, предполагающей равноценность и самодостаточность отдельных культур.
История, по О. Шпенглеру, – процесс случайного зарождения, расцвета и умирания культур. Немецкий мыслитель насчитывал восемь великих культур: египетскую, вавилонскую, индийскую, китайскую, аполлоновскую (греко-римскую), арабскую (магическую), мексиканскую, западную (фаустовскую), а также предвосхищал расцвет русской культуры. Критерием, по которому О. Шпенглер выделял культуры, был способ восприятия каждой культурой пространства. Это восприятие определяет все остальные феномены в рамках одной культуры, начиная от парковой архитектуры до математических открытий и техники масляной живописи. Например, аполлоновская культура не знала понятия «дали», поэтому в ней отсутствовали интерес к истории, голубой цвет, сумерки, образ старости, иррациональное число, хроники. Совершенно противоположна ей фаустовская культура, в которой бурно развивается археология, присутствуют полутона, бесконечные сумерки, иррациональные и бесконечно малые числа, музыкальный и поэтический контрапункт, исторические хроники и искусственные парковые развалины.
Возникновение новой культуры – это всегда тайна. Она не может быть просчитана рационально, ибо ее развитие предопределяется не рациональной причинностью, но судьбой. Рождение культуры – это пробуждение великой души. Она расцветает на почве строго ограниченной местности, к которой она привязана, наподобие растения. Срок жизни каждой культуры 1000–1200 лет, и когда огонь великой души затухает и она исчерпывает все свои силы, культура превращается в цивилизацию. По аналогии с живым организмом цивилизация – это этап старости, дряхлости и приближающейся смерти. Культура – это рожденный почвой организм, а цивилизация – образовавшийся из организма при его застывании механизм. Признаками цивилизации является появление городов-мегаполисов, внутри них – городской массы, обезличенной и аморфной, научный атеизм или мертвая метафизика вместо истинной религии. О. Шпенглер называл это переходом от творчества к спорту, от литературы к варьете и от героев к инженерам, словом, механизацией живого. Но основным критерием цивилизации является резкое снижение рождаемости. Например, в Древнем Риме издавались даже императорские указы, которые разрешали брать бесплатно пустующие земли, заводить там хозяйство, создавать семью и растить детей. Но это не помогло: ко второму захвату Римской империи ее население сократилось настолько, что могло все вместиться в город Рим. Культура, исчерпав свои силы, не имеет возможности продолжать себя даже биологически. Многие тенденции из описанных Шпенглером проявляются и в культурной динамике современной Европы. В Европе с начала XX в. наблюдается неуклонное падение рождаемости, причем именно в высокоразвитых странах. Люди не хотят иметь детей не потому, что они бедные и трудно прокормить ребенка, но потому, что подсознательно ими владеют, по Шпенглеру, усталость, душевный надлом и безотчетный страх перед будущим.
Технизация жизни, формализация отношений, бессмысленность жизни и деятельности, утрата духовных оснований – все это позволяет говорить многим исследователям о том, что название основного труда О. Шпенглера было пророческим.
Важным положением культурфилософии немецкого мыслителя являлась идея об абсолютной герметичности, замкнутости великих культур. С присущей ему экспрессией О. Шпенглер писал о том, что каждой из великих культур присущ «тайный язык мирочувствования», вполне понятный только тому, чья душа принадлежит этой культуре. Даже отдельные сосуществующие во времени или сменяющие друг друга культуры герметически изолированы друг от друга, ибо в их основании лежат различные, чуждые друг другу представления о мире, красоте, призвании человека и т. д. Философ предсказывал, что людям будущих культур западный мир станет казаться таким же далеким, диковинным и мимолетным, каким сегодня нам представляется вавилонский мир.
Наиболее целостная и теоретически строгая концепция цивилизаций принадлежит английскому историку А.Дж. Тойнби (1889–1975). Его идеи вышли далеко за пределы академической среды и оказали значительное влияние на общественное сознание стран Запада и третьего мира. Анализ цивилизаций Тойнби проводит как рационально мыслящий культуролог, выделяя в их истории четко определенные этапы: возникновение – рост – надлом – распад. Ни одна из перечисленных стадий не является обязательной; А. Тойнби допускает, что в принципе любая цивилизация в какой-то момент способна сойти с циклической дистанции истории.
В своей знаменитой 12-томной работе «Постижение истории» Тойнби насчитал 37 цивилизаций, когда-либо существовавших на Земле. Двадцать одну он тщательно изучил и описал, что позволило ему найти универсальный механизм развития цивилизации. Им является сложная диалектика вызова-и-ответа. Каждая цивилизация начинается с ответа на вызов – сначала природной, а потом и человеческой среды. Вызовом может быть изменение природных условий, нашествие иноплеменных захватчиков, внутренний духовный или политический кризис и т. д. Ответ дает элита, «творческое меньшинство», и до тех пор, пока она способна генерировать яркие творческие решения, цивилизация укрепляется и процветает. Воплощение ответа в жизнь проводит нетворческое инертное большинство, на которое элита воздействует с помощью механизма мимесиса (подражания). Но в механизме мимесиса сокрыт роковой изъян (первая опасность). Масса, стремясь подражать творческой элите, на самом деле уходит от нее. Творчество всегда оригинально и неподражаемо, инициативно и самоопределяемо. Подражание, напротив, есть бездумное копирование, повторение, тиражирование однажды кем-то созданного или изобретенного. Поэтому импульсы творчества зачастую затухают в косной инертной среде массы. Вторая опасность мимесиса заключается в том, что элита может начать подражать сама себе: однажды найденный ответ дается на новые оригинальные вызовы. Творчество, как писал К. Маркс, это «адски тяжелое дело», и поэтому меньшинство может уклониться от генерирования новых идей. Так произошло в Советском Союзе, когда на вызов Запада, связанный с научно-техническим развитием и переходом к постиндустриализму, советская престарелая элита ответила риторикой о «решающих преимуществах социалистического строя», «абсолютном и относительном ухудшении положения рабочего класса при капитализме» и т. п. Так происходит надлом – творческое меньшинство превращается в господствующее меньшинство, используя силу и принуждение, а масса – во внутренний пролетариат. Под пролетариатом А.Дж. Тойнби понимает бесправную обездоленную массу людей, оторванных от своих социальных корней и поэтому постоянно испытывающих чувство неудовлетворенности. Внутренний пролетариат в союзе с внешним пролетариатом (варварами) ввергает цивилизацию в упадок и гибель. Цивилизация при этом не исчезает бесследно; сопротивляясь упадку, она порождает универсальное государство и универсальную церковь. Первое исчезает с гибелью цивилизации, тогда как вторая становится своеобразной куколкой – наследницей, способствующей появлению новой цивилизации.
Говоря о современной истории, А.Дж. Тойнби выделяет в ней пять живых цивилизаций:
• западное общество, объединенное западным христианством;
• православно-христианское или византийское общество, расположенное в Юго-Восточной Европе и России;
• исламское общество – от Северной Африки и Среднего Востока до Великой Китайской стены;
• индуистское общество в тропической субконтинентальной Индии;
• дальневосточное общество в субтропическом и умеренном районах Юго-Восточной Азии.
В этой классификации уже просматриваются основные критерии, по которым Тойнби выделял цивилизации: это религия, язык, обычаи и культура. Особое значение Тойнби отводит религии, которую он считает «цельной и единонаправленной в сравнении с многовариантной и повторяющейся историей цивилизации»[183].
На основе изучения отдельных теорий можно выделить сущностные характеристики цивилизации. Во-первых, цивилизация представляет собой некую целостность, отличную от ее частей. Для цивилизации характерно имманентное определение своей жизненной судьбы. Внешние силы могут способствовать или препятствовать развитию цивилизации, могут даже привести к ее разрушению, но превратить ее в нечто качественно иное они не в силах. Индивидуальность, самость цивилизации сохраняется, несмотря на изменение ее частей или давление внешних обстоятельств.
Во-вторых, каждая цивилизация обладает уникальным культурным опытом, который не может быть в полной мере воспринят другой цивилизацией. Н. Данилевский и О. Шпенглер вообще выдвигали радикальный тезис о герметичности, непроницаемости культур, неспособности их воспринять содержание иной культуры. Современная цивилизациология более сдержанно подходит к этой проблеме, но нельзя не признать, что межкультурный и межцивилизационный диалог имеет свои внутренние пределы. Дело в том, что культуры активно обмениваются информацией, заложенной в их верхних пластах; более глубинные пласты относятся к той сфере коллективного подсознания, которая не вербализуется, не являет себя в прямых непревращенных формах. Отсюда становится понятно, что все, касающееся предпосылок богатства и процветания, остается скрытым от взора реципиента, которому открывается один только внешний результат. И тем самым создается дезориентирующий миф: доверчивые западники твердят о необходимости перенести на туземную почву все, что относится к результатам цивилизационного развития Запада, нимало не задумываясь ни о реальных путях, ведущих к этому результату, ни о том, возможно ли его повторить в иных исторических и географических условиях.
В-третьих, каждая цивилизация представляет собой сложный синтез разнородных начал – конфессиональных, этнических, социокультурных. Это особенно важно понять нашим современникам, на глазах которых начинает воплощаться в жизнь миф столкновения цивилизаций. Этот миф предложен американским исследователем С. Хантингтоном (1927–2008) в известной статье «Столкновение цивилизаций»[184]. Согласно Хантингтону современные цивилизации – это гомогенные образования, разделяющие единые исконные культурные ценности. И потому общества, которые объединились в силу исторических или идеологических причин, но разделены цивилизацион-но, либо распадаются, как это произошло с Советским Союзом, Югославией, Боснией-Герцеговиной и Эфиопией, либо испытывают огромное напряжение. По сути, Хантингтон сводит цивилизацию к ареалу одной конфессии или даже одного этноса. Но непредвзятый анализ показывает, что большинство цивилизаций являются поликонфессиональными, их питает напряженная энергетика разных религиозных полюсов: католического и протестантского (Запад), православного и мусульманского (Россия), буддистского и конфуцианского (Тихоокеанский регион). Столь же многообразны все цивилизации и в этническом отношении, и именно это внутреннее разнообразие является залогом повышенной жизнестойкости и адаптационности – способности приспосабливаться к изменениям среды.
Конечно, сочетание гетерогенных этнических и конфессиональных начал таит в себе немалые опасности. Цивилизационные синтезы не являются изначальной данностью, но результатом исторического творчества, продуктом деятельности многих поколений людей, требующим недюжинной духовной энергии. По мере развития цивилизации эти синтезы должны обновляться, трансформироваться с учетом меняющихся реалий социальной и духовной жизни. Каждое поколение сталкивается с необходимостью обновления надэтнических и надконфессиональных скреп, что предполагает волю к созиданию и
развитию. Но при этом всегда существует соблазн упрощения. Слабые характеры и примитивные умы, не способные осилить напряженную энергетику интеллектуальных синтезов, тяготеют к процедурам линейного упрощения и выравнивания. Иногда им вторят взыскующие экзотики примитивизма интеллектуалы. Так рождаются опасные мифы, претендующие на новые цивилизационные прозрения.
В целом концепция С. Хантингтона предлагает странам не-Запада антицивилизационный проект, который призван ослабить волю к суперэтническим синтезам, утвердив фатальный характер новейшего раскола народов по этническим и конфессиональным признакам. В то же время идея столкновения цивилизаций должна дать Западу источник энергии и устремленности в будущее. «Запад против остального мира» – этот красноречивый заголовок одного из разделов статьи С. Хантингтона весьма подходит для названия всей работы в целом. Идеологический подтекст автора очевиден: сплотить западный мир, дать ему новую консолидирующую идею.
Подводя итог, дадим общее определение цивилизации и выделим главные положения цивилизационного подхода. Цивилизации – это большие, длительно существующие самодостаточные сообщества стран и народов, выделенных по социокультурному основанию и сохраняющих своеобразие и уникальность на длительных отрезках исторического времени, несмотря на все изменения и влияния, которым они подвергаются. Эти сообщества в процессе своей эволюции проходят (тут можно согласиться с А. Тойнби) стадии возникновения, становления, расцвета, надлома и разложения (гибели). Единство мировой истории выступает как сосуществование этих сообществ в пространстве и во времени, их взаимодействие и взаимосвязь.
В самом общем виде цивилизационный подход базируется на следующих принципах:
1) из множества социокультурных явлений цивилизации выделяют как крупные системы, реально функционирующие, со своими собственными закономерностями, не сводящимися к тем, что присущи государствам, нациям или социальным группам;
2) цивилизации имеют свою социальную и духовную структуру, в которой находятся в определенном соотношении ценностно-смысловые и институциональные компоненты;
3) каждая цивилизация существует отдельно и имеет самобытный характер. Своеобразие цивилизаций проявляется в различии содержания духовной жизни, структур и исторических судеб;
4) число цивилизаций, выделяемых разными авторами, не совпадает и оно невелико: перечень Данилевского – Шпенглера – Тойнби не превышает 30, включая погибшие и «сателлитные». Еще меньше число универсальных цивилизаций, сохраняющих жизнеспособность в новой и современной истории;
5) каждая из культурных суперсистем зиждется на какой-то исходной духовной предпосылке, большой идее, первичном символе или конечной сакральной ценности, вокруг которых в ходе формирования цивилизации складываются сложные духовные системы, придающие смысл, эстетическую или стилевую согласованность и единство остальным компонентам и элементам;
6) цивилизациям присуща своя динамика, охватывающая длительные исторические периоды, в течение этих периодов цивилизации проходят через различные циклы, флуктуации, фазы генезиса – роста – созревания – увядания – упадка – распада. При всех изменениях цивилизация сохраняет самобытность, хотя содержание ее элементов может радикально меняться. Динамика определяется внутренними закономерностями, присущими каждой цивилизации;
7) взаимодействие цивилизаций основано на принципе самоопределения, хотя оно может ускорить или замедлить, облегчить или затруднить развитие, обогатить или обеднить «принимающую» сторону. В ходе взаимодействия каждая цивилизация выборочно воспринимает подходящие для нее элементы, не разрушающие ее самобытности.
Глава 25 Типы цивилизаций в истории общества. Тупики и противоречия техногенной цивилизации
Рассмотрение исторического процесса с использованием методологии цивилизационного подхода предполагает осмысление типа цивилизационного развития, который понимается как совокупность общих черт, присущих разным локальным цивилизациям. Другими словами, всю совокупность локальных цивилизаций можно разделить на две большие группы в зависимости от преобладающих в них технологий производства и управления, систем отношений и механизмов регулирования человеческой деятельности, гарантирующих функциональную стабильность общества или сообществ. В.С. Степин выделяет в истории два типа цивилизационного развития – традиционный и техногенный[185]. Исторически первым возник традиционный тип развития и вплоть до эпохи буржуазных революций был, по существу, единственным. Древняя Индия и Китай, Древний Египет, государства майя, славянский и арабский мир в средние века и подобное – это все образцы традиционных обществ. Конечно, каждая из этих цивилизаций имела свои специфические особенности, но, тем не менее, все они несут в себе инвариантные черты, позволяющие отнести их к традиционному обществу. В XV–XVII вв. в Западной Европе сложился новый тип цивилизационного развития, который можно определить как техногенный, поскольку для цивилизаций этого типа огромную роль играют постоянный поиск и применение новых технологий, причем не только производственных, но и технологий социального управления и социальных коммуникаций. Некоторые исследователи называют эту цивилизацию западной, но, учитывая, что ее ценности и способы жизнеустройства широко распространились по миру, более верно будет называть ее техногенной.
Традиционный и техногенный пути развития радикально отличаются друг от друга. Для традиционных обществ характерны замедленные темпы социальных изменений. Инновации как в сфере производства, так и в сфере регуляции социальных отношений допускаются только в рамках апробированных традиций. Скорость исторического времени настолько мала, что возникает иллюзия статичности общества, его тождественности самому себе. Виды деятельности, средства и цели иногда столетиями не меняются в этом типе цивилизаций. Соответственно, в культуре приоритет отдается традициям, канонизированным стилям мышления, образцам и нормам, аккумулирующим опыт предков.
Для традиционного общества характерен тип социальности, базирующийся на коммунократических, солидаристских отношениях. Как показал еще К. Маркс, в социальных системах, не преобразованных товарным обменом, общественные связи проявляются для людей «как их собственные отношения, а не облачаются в костюм общественных отношений вещей, продуктов труда»[186]. Анализ традиционного типа социальности показывает, что в нем огромное значение имеет система распределения, связанная с межличностными отношениями. Обмен продуктами в доиндустриальных социальных структурах нередко обставляется как обмен разного рода услугами, хотя бы и сугубо неравноценными. Продукт не столько продается, сколько перераспределяется, в том числе меняется на отношение. В отличие от буржуазного общества прибавочный продукт не используется для увеличения объема производства и получения большей прибыли, а идет на поддержание социальных отношений – через различного рода ритуалы, празднества, пиры, подарки. Огромные траты на эти цели, представляющиеся нерациональными для европейского менталитета, оправданы с точки зрения представителей традиционного общества, поскольку эти траты укрепляют солидаристские отношения – главное богатство этих людей. По некоторым подсчетам, до половины прибавочного продукта в развитых доиндустриальных обществах уходило на поддержание религиозного культа и народной культуры, другая половина могла уходить на поддержание межличностных отношений и превращаться в дары, сокровища, предметы престижного потребления и т. д.[187]
Для традиционного общества весьма характерным является наследственный профессионализм. Каждый индивид принудительно включается в уже сформировавшуюся производственную ячейку с предопределенным видом занятий, нормами поведения и продолжает дело отцов и прадедов. Зачастую профессия была связана с этнической принадлежностью. Ярким проявлением такой прочной привязанности индивида к наследственной профессии может служить индийская кастовая система, в которой именно профессиональный фактор привязывает индивида к линии своего рождения.
Наряду с солидаристскими связями в традиционном обществе ярко проявляется конфликтность, присущая отношениям между группами. Солидарность, как правило, распространяется на своих – род, общину, касту, единоверцев, но совершенно отсутствует в отношении чужих. Но и среди своих существуют многочисленные градации на высших и низших: старожилы и пришлые, мужчины и женщины, земельные и безземельные и т. д. Это положение хорошо иллюстрирует арабская поговорка: «Я против моего брата, я и мой брат против двоюродного брата, мы с братом и двоюродным братом против чужаков».
Выделение сущностных черт, присущих традиционному типу социальности, позволяет утверждать, что в нем понижена роль индивидуального начала. Индивид так или иначе соотносит себя с коллективами разного типа и уровня: родом, семьей, племенем, кастой, сословием, сектой, кланом, религиозной общностью, этносом и т. д. Человек включен в ту структуру, от которой зависит его существование и продолжение рода. Это не обязательно приводит к конфликту в поведении, мышлении и образе жизни. Но соблюдение верности коллективу – обязательное условие сохранения своей человеческой идентичности.
Свою специфику имеет и духовная культура традиционного общества. Во-первых, необходимо выделить устойчивую мифологизацию общественного и индивидуального сознания. Оно уподобляет природные и социальные процессы тому, что происходит в человеке, его внутреннем мире. Мифологическое мышление традиционного человека устанавливает зависимость между характером социальных связей (например, раздорами между родичами) и состоянием природной среды, которая может соответствующим образом на них реагировать. Власть же над природной средой зависит от морального усовершенствования и гармонии отношений в коллективе в целом. Во-вторых, в культуре традиционного общества центральное место занимают этические принципы вины и стыда. Их предельная значимость обусловлена необходимостью подчинения индивидуального поведения и сознания интересам коллективного целого. Поэтому большее значение приобрела ценность стыда – озабоченности личности тем, как будут оценены ее достоинства другими, что рождает стремление избежать огласки неудачи, слабости, зависти и т. д. Ценность стыда наиболее полно представлена в конфуцианстве. Но культивировалось не только чувство стыда, но и чувство вины – ориентации на ответственность индивида за свои поступки и душевное состояние. В-третьих, традиционная культура характеризуется сложным взаимодействием принципов эгалитаризма (уравнительности) и иерархизма. Эгалитаризм был порожден потребностью справедливого распределения средств существования, которая защищалась, в основном, низовыми слоями социума.
В то же время стремление к уравнительности сосуществовало с ценностью иерархизма, что выработало у людей не только повиновение, но и преклонение и даже раболепие и льстивость по отношению к вышестоящим и установки на доминирование и презрение по отношению к нижестоящим. Господство и подчинение воспринимаются как составные части солидаризма своих, в рамках которого большой человек оказывает обязательно покровительство, а малый человек отплачивает ему повиновением.
Переход к новому типу цивилизационного развития, получившему название техногенного, произошел, как уже отмечалось выше, в XV–XVII вв. и был связан с рядом мутаций традиционных культур. Первая мутация была обусловлена возникновением и развитием античного полиса, который, хотя и относился к традиционному обществу, содержал возможность развития по модели техногенного типа. Важнейшими предпосылками становления техногенной цивилизации на этом этапе стало формирование теоретической науки и опыта демократической регуляции социальных отношений. Вторая мутация произошла с возникновением христианской традиции, согласно которой человек является образом и подобием Бога, обладающим разумом, способным понять замысел Божественного творения. Надприродный статус человека выделяет его из сотворенного мира и дает возможность активного действия в нем. И, наконец, третьей мутацией стало формирование ренессансной культуры с ее антропоцентризмом и гуманизмом, ценностями свободы и творчества, а также резким понижением значения моральной регуляции общественной жизни.
В техногенной цивилизации темпы социального развития резко ускоряются, экстенсивное развитие сменяется интенсивным. В культуре высшей ценностью являются инновации, творчество, формирующее новые оригинальные идеи, образцы деятельности, целевые и ценностные установки. Традиция должна не просто воспроизводиться, а постоянно модифицироваться. Надо отметить, что эти фундаментальные ценности и мировоззренческие ориентиры могут в отдельных национальных культурах приобретать свою специфику, но, тем не менее, сохраняется ряд общих признаков для соответствующего типа цивилизационного развития.
1. Особое понимание человека как активного существа, находящегося в деятельном отношении к миру. Причем деятельность должна быть направлена не вовнутрь, на гармонизацию внутреннего мира человека, а вовне, на преобразование и переделку внешнего мира, особенно природы. Понимание этого принципа техногенной цивилизации можно углубить через сопоставление двух стратегий жизнеустройства: вей (деяния) и у-вей (недеяния). Традиционная культура провозглашала идеал минимального действия (у-вей), основанного на чувстве резонанса ритмов мира. Мудрец на Востоке не преобразует мир, но прислушивается к его гармониям и следует им. Техногенная цивилизация Запада все превращает в объект своей воли, желает управлять и ставить себе на службу.
2. Сама природа понимается как закономерно устроенный механизм, познав законы которого можно использовать их в своих целях. При этом неявно предполагается, что кладовые природы безграничны и черпать из них можно сколь угодно долго и в любых количествах. Для человека техногенной цивилизации это самоочевидно. Для традиционного общества такое воззрение было бы невозможно в принципе. Человек традиционного общества чувствовал свою единосущность с протекающими в мире процессами и не противопоставлял себя им как субъект объекту. Мир – живой организм, великая естественность, в которой нет ни причин, ни следствий, но все связано со всем. Поэтому прометеевская личность на Востоке была бы воспринята без всякой гуманистической патетики. В ней человек традиционного общества увидел бы самонадеянного и неумного бахвала, которому недоступно истинное величие мироздания.
3. Техногенная цивилизация формирует идеал автономии личности. Если в традиционных культурах личность определена прежде всего через ее включенность в строго определенные (и часто от рождения заданные) семейно-клановые, кастовые и сословные отношения, то в техногенной цивилизации утверждается в качестве ценностного приоритета идеал свободной индивидуальности, автономной личности, которая может включаться в различные социальные общности и обладает равными правами с другими. С этим пониманием связаны приоритеты индивидуальных свобод и прав человека, которых не знали традиционные культуры.
4. Культура техногенного общества формирует особое понимание власти, силы и господства над природными и социальными обстоятельствами. Конечно, отношения властвования играли огромную роль и в традиционных обществах, но там они преимущественно выступали в форме отношений личной зависимости. В техногенном мире отношения властвования становятся все более опосредованными, а на смену отношениям личной зависимости приходят отношения вещной зависимости. Власть и господство в этой системе отношений предполагают владение и присвоение товаров (вещей, человеческих способностей, информации и т. д.). Такого рода власть привела к формированию в ряде обществ техногенного типа тоталитарных политических режимов. Дело в том, что отношения личной зависимости имманентно содержат некий предел властвования, через который властитель не может переступить. Отношения же вещной зависимости делают возможности управления людьми практически безграничными как в количественном, так и в качественном измерении. Например, современные СМИ, которые имеют возможность вещать на миллионные аудитории, с помощью информации, тонко работающей с сознанием и бессознательным, ставят под контроль все сферы жизни человека и общества – досуг, быт, работу, политические симпатии, экономические практики и т. д. Они врываются в самые сокровенные уголки человеческой души, навязывая всем свои вкусы и ценности, установки и идеалы. Средства массовой информации делают предсказуемым и просчитанным поведение миллионов людей, а это и есть подлинный тоталитаризм. Таким образом, отношения вещного господства, важным инструментом которого является владение информацией, ставят под сомнение центральный принцип техногенной цивилизации – идеал автономности и суверенности личности.
Еще одной значимой чертой техногенной цивилизации является резкое повышение социокультурного статуса временного фактора. Если в большинстве традиционных обществ время понималось и переживалось как циклическое, а золотой век относился не к будущему, а к прошлому, в котором жили герои и мудрецы, положившие начало традиции, то в техногенном обществе время начинает переживаться как необратимое движение от прошлого через настоящее в будущее. Неслучайно первые механические часы, созданные еще в XIII в., устанавливаются на башнях итальянских городов в последующих веках. Они били каждый час. В конце XV в. изобрели часы переносного типа. В новых условиях время стало восприниматься дифференцированно, приобретая все большую ценность. Новое отношение ко времени не только стало одним из важнейших показателей возрастания личностного начала в жизни европейских городов, начиная с XV–XVI вв., но и ознаменовало собой формирование и распространение в сознании широкого круга людей идеи необратимого прогресса, движения вперед, прогрессивно-поступательного развития во всех сферах жизнедеятельности людей. Напомним, что эта идея никогда не была доминирующей в традиционных культурах.
И, наконец, огромное значение в культуре техногенного общества играет ценность научной рациональности. Наука, открывая законы природы и общества, делает возможным использование их на практике. В этом типе культуры научная рациональность выступает доминантой в системе человеческого знания, оказывает активное воздействие на все другие его формы.
Европейская культура, вступив на путь техногенного развития, добилась многих успехов. Научно-технический прогресс позволил решить многие проблемы в области медицины, доступа к материальным благам для широких слоев населения, качества и продолжительности жизни. Еще полстолетия назад мало кто сомневался, что перспективы прогресса связаны с наращиванием технико-экономической мощи и будущее откроет для человечества новые горизонты. Однако формирующаяся социальная реальность все более отчетливо свидетельствует о том, что будущее не только не становится лучше прошлого, но что его может не быть вообще.
Техногенно-потребительская цивилизация, победно шествовавшая по миру в течение последних четырех столетий, обнаружила свою историческую несостоятельность, породив ряд глобальных кризисов и обнажив пределы роста. Экологическая, демографическая, термоядерная и другие проблемы являются уже не только предметом изучения специалистов, а реалиями повседневной жизни и угрожают самому факту существования человеческого рода.
Сегодня можно уверенно констатировать, что глубинной причиной исторического крушения техногенной цивилизации и порожденного ею общества потребления стала утрата духовного измерения бытия. Начиная с эпохи Ренессанса, не высшие идеалы и ценности человека (Бог, нравственные святыни и т. д.) определяют и упорядочивают низшие формы его жизнедеятельности, а, наоборот, низшие страсти и материальные интересы подчиняют себе высшие. Апология его безграничной творческой и социальной свободы оборачивается антрополат-рией – обожествлением земного и телесного индивида, претендующего на роль единственного и бесконтрольного хозяина земли и небес. Космос лишается духовного, качественного измерения и превращается в безжизненную физическую пустыню, которую следует технически завоевывать и окультуривать. Но наиболее впечатляющие трансформации претерпевает образ самого человека. Из духовного и бесконечного существа – Божественного микрокосма – он превращается в конечное и смертное невротическое существо, смысл личного бытия которого сводится к достижению телесного комфорта и душевного уюта, чувственно-эмоционального удовольствия и социального признания. Европейский человек постепенно становится рабом своих материальных потребностей, чем дальше – тем больше приобретающих иррациональный и неорганический характер.
Кроме того, техническая среда обладает способностью к саморазвитию и сегодня уже превращается в самодостаточный мир – техносферу, пронизывающую собой общество в целом. Техносфера активно вытесняет внетехнологические способы регуляции общественных отношений, отбрасывает традиции и духовные авторитеты как препятствие для своего успешного функционирования. В техносфере торжествует принцип пользы, расчета, автоматической обязанности. Способы решения социальных проблем путем апелляции к сфере ценностей – греху, воздаянию, добру, чести, совести и подобному заменяются целерациональными, инструментальными социотехническими способами: электронным контролем, психопрограммированием, биологическим искусственным отбором. Таким образом, по мере роста возможностей технологического манипулирования людьми духовность как механизм поддержания их социальности устаревает, становится ненужной. Отмирает и личность, на смену которой идет человеческий фактор, являющийся лишь придатком и винтиком техносферы.
Техногенная цивилизация обнаруживает свою враждебность не только по отношению к человеку, но и к природе. Сущность экологического кризиса, грозящего перерасти в экологическую катастрофу, заключается в поражении естественного и его отступлении под напором искусственно сконструированной реальности, замещении органических, живых форм бытия, в том числе и человека как телесного существа, мертвыми техническими системами. Техногенная цивилизация предложила проект замены естественных природных систем (биоценозов, биогеоценозов) огромными техническими мегамашинами. Такая замена привела к разрушению веками складывавшихся экосистем. Но трагический парадокс эпохи заключается в том, что техническое проектирование не способно в принципе создать тот уровень гармонии и совершенства, который несли в себе природные объекты. Современная экологическая наука свидетельствует, что природные процессы настолько глубоки и разнообразны, что никакой разум не способен их априорно установить и исчислить. Поэтому сегодня с полным правом можно утверждать, что именно природа являет собой гармоничную систему, а неравномерно развивающаяся техническая среда, несмотря на все усилия технократических организаторов, остается несбалансированным конгломератом.
Общий вывод состоит в том, что идеология и практика техногенно-потребительской стратегии развития, основанная на безграничном росте материальных потребностей, безудержной технико-экономической экспансии и социальной конкуренции, привела в конце концов все человечество на грань глобальной катастрофы. Она абсолютно исчерпала себя к концу XX в. Иррационально высокие стандарты жизни стран золотого миллиарда поддерживаются сегодня за счет низкого уровня жизни остального мира. Эгоистическое потребительство техногенной цивилизации пришло в неразрешимое противоречие с возобновляемыми и невозобновляемыми ресурсами биосферы, а механизмы природного самовосстановления не справляются с потоками отходов человеческой жизнедеятельности.
Таким образом, необходимо реабилитировать те культурные ценности и практики, которые были реализованы традиционным обществом. Конечно, прямой возврат к традиционному типу развития невозможен хотя бы по той причине, что нынешнее количество народонаселения требует современных технологий для элементарного жизнеобеспечения. Поэтому необходим равноправный диалог принципов и идеалов традиционного общества и техногенной цивилизации, их продуктивный синтез. И в этом диалоге роль восточнославянской культуры может оказаться решающей. Наши народы, издавна находясь на границе Запада и Востока, сформировали удивительную способность творчески синтезировать инокультурный опыт, создавать жизнеспособные формы общественного бытия и сознания, избегая крайностей. Кроме того, народы России и Беларуси в значительной степени испытали на себе издержки техногенного развития, свойственные Советскому Союзу, и поэтому эта проблема имеет для них актуальный характер.
Что же может предложить восточнославянская культура в деле преодоления тупиков техноцентризма и потребительства?
Во-первых, устойчивое стремление к духовно-ценностному отношению к реальности. Сама этимология слова «человек» в русском языке (чело-век) указывает на необходимость постоянного устремления вверх, к вечности, Абсолюту. Стремление к идеалу, правде, которые, с точки зрения восточного славянина, онтологически реальны, предопределяет и повседневные практики и жизненную стратегию. «Говоря языком современной науки, – справедливо пишет И. Василенко, – православно-христианская идентичность формирует особый тип личности с постматериалистической структурой потребностей, феномен очарованного странника (Н. Лесков), взыскующего не материальных ценностей, не жизненного успеха, а правды, справедливости и смысла жизни»[188]. «Очарованный странник» с его способностью жить социально значимой идеей, противостоит экономическому человеку, идеал которого – потребительское общество, разрушающее все «высокие» культурные мотивации. Поэтому только люди, взыскующие смысла, воодушевленные идеей духовного преобразования мира, окажутся способными решать глобальные проблемы современности.
Во-вторых, натурфилософский органицизм – принцип жизнестроения восточнославянской культуры, – удивительно созвучный экологическому императиву современности. Западноевропейская культура мыслит мир в аналитических омертвляющих категориях, и потому он предстает в образе механической конструкции, ни к чему человека не обязывающей. Его кажущаяся простота подстегивает рационалистическую гордыню преобразования и покорения, заканчивающуюся тотальным распадом. Совсем другое дело русская культура: в лице своих наиболее видных представителей она сформировала одушевленный, даже одухотворенный образ мира, побуждающий человека к соучастию и равноправному взаимодействию. Так, русская натурфилософская школа (В.В. Докучаев, А.Л. Чижевский, В.Н. Сукачев) выдвинула идею о всеобщей одушевленности мира, возродив Гераклитов образ живого огня. Современная наука подтверждает эту гипотезу, указывая на способность
Вселенной к самоорганизации и даже к целеполаганию, что, несомненно, является свойством живого. Свой вклад в осмысление этой проблемы внесла и русская философия серебряного века. Вл. Соловьев, выделив три возможных типа отношения к природе – «страдательное подчинение ей», отрицательно-деятельностное отношение, выражающееся в активной борьбе с ней, и положительно-деятельностное, для которого характерно утверждение ее идеального состояния, – в последнем случае предвосхитил современный «постнеклассический» этап развития науки, важнейшей чертой которого является ценностное отношение к познаваемой действительности. Это значит, что наука сама должна подчиняться ценностному императиву: реализуемые его практики должны быть соразмерными, сопричастными природе как ценности, сберегаемой человеком. Поэтому подлинным объектом науки являются не отдельные предметы и процессы, на которые можно нажимать, как на рычаги, получая нужный результат, но «общая природа всех вещей, и если предмет истинного познания есть внешний, реальный мир, то не как простая совокупность вещей, а как природа вещей»[189]. Так, в русской философии наметился синтез теоретического и практического (нравственного) разума, которого самому Канту достигнуть не удалось.
Каковы же истоки этого органицистского космоцентрического мировоззрения, в каких духовных глубинах оно укоренено? После классических исследований М. Вебера в области сравнительного религиоведения, показавшего детерминированность хозяйственного, политического и социального мира каждой цивилизации соответствующей ей религией, ответ надо искать в сфере религиозной традиции и формируемых ей мотиваций. Если говорить о восточнославянской традиции, то хорошо известен ее космоцентризм, отличный от социоцентризма европейской, в особенности протестантской, традиции, противопоставляющей человека природному миру.
Сравним два мировоззрения, две картины мира: восточно-христианскую и западноевропейскую. Западноевропейское христианство (католицизм и в еще большей степени протестантизм) исходят из презумпции греховности материи, ее предельно низкого статуса в системе бытия. Такое принижение означает омертвление природы, возникновение пафоса ее преобразования и переустройства. Непонимание реальной сложности и одухотворенности материального мира ведет к технократическому нигилизму и экологическому кризису. Восточно-христианское мировоззрение придает материи совершенно иной статус: она выступает как светлое жизненное начало, в котором сокрыта необыкновенная глубина и гармония. Задача человека, как его видит православное христианство, заключается не в борьбе с материей, не в третировании ее как греховного и низкого начала, влекущего человека ко злу, но просветлении и творческом преображении природы, выведении ее на качественно иной уровень. Задача личности заключается в том, чтобы в каждой вещи увидеть замысел Творца, развеществить его и реализовать в практике. Тем самым вектор деятельности направлен не вниз – к редукции и тиражированию, но вверх – от земного, падшего бытия в горние высоты.
Православное христианство утверждает идею нераздельности, но и «неслиянности» земного и Божественного миров, их актуального присутствия в человеческой жизни. Идея синергии, т. е. органичного согласования разнородных начал, выработанная православной патристикой, на несколько веков определила коэволюционные стратегии и прямо соответствует требованиям современной экологической науки.
К большому сожалению, мы говорим сегодня о глубинном экологизме восточнославянской культуры как об идеале. История XX в. во многом стала временем отказа от своей самобытной культуры, ее ценностей и принципов. Западнические модели общественного развития привели к формированию социальной системы, воспроизводящей худшие стороны техногенной цивилизации, – хищнически-эксплуатативный характер отношения к природе, энерго– и материалоемкость производства, бездумное потребительство. Поэтому сегодня совершенно необходимо возрождать собственные культурные основания, творчески осмысливая и переосмысливая их.
Глава 26 На границе двух миров: модус переходности как неизменный спутник восточнославянской судьбы
В силу ряда исторических обстоятельств славянские народы заняли географическое положение между Западом и Востоком, Европой и Азией. Эта географическая специфика славянского мира во многом предопределяет стратегические линии его развития. Промежуточный статус славянства, его местоположение и месторазвитие на границах двух миров породили феномен пограничной, переходной личности и культуры. Славянство практически в течение всей своей истории оказывается неразрывно связанным с цивилизационными полюсами мира – отсюда все изгибы и зигзаги его истории, особый драматизм его судьбы. Воспроизводящийся модус переходности – это внутренняя логика развития славянского культурно-исторического типа. Ни Восток, ни Запад никогда не исчезают из исторического горизонта славянства, и всякая натурализация славянства, особенно восточнославянских народов, то ли на Востоке, то ли на Западе всегда оставляет впечатление неполноты, незаконченности и несовершенства. Переменчивость и амбивалентность, бремя неокончательных решений – неизменные спутники славянской судьбы. Наиболее сильное воздействие переходный характер месторазвития славянства оказывает на мироощущение его элиты. Она все время в пути, в поиске своей идентичности, в постоянной борьбе разнородных культурно-цивилизационных начал. Ирония истории заключается в том, что в тот момент, когда, кажется, принято окончательное историческое решение, когда возникает уверенность в полной победе того или иного строя, «окончательности» исторического выбора, законы циклической динамики рождают инверсию: западническая фаза сменяется восточной или наоборот.
В восточнославянской части ойкумены, отличающейся от западноевропейской более трудными условиями жизни людей, постоянно воспроизводился тип личности, оценивающей свое существование под знаком иначе возможного, в горизонте сравнительного видения, для которого западноевропейский опыт выступает как эталонный, имеющий нормативное значение, а свой собственный, национальный – как полулегитимный, подлежащий исправлению в процессе «модернизации» и «европеизации». Именно близкое соседство восточнославянских народов с более эффективным в экономическом отношении Западом порождало раскол сознания. Объективно восточнославянская общность несла на себе тяготы и риски, которые представлены сочетанием природной (физической) географии и геополитики. Южная часть региона издавна несла груз геополитических рисков, связанных с нападением степных кочевников. Северную обрамляли риски, вытекающие из сурового климата. Однако опыт знакомства с образом и условиями жизни западных народов порождал желание сбросить трудности и невзгоды своего исторического существования и следовать принципу удовольствия. Это породило коллизию объективного и субъективного: объективные условия человеческого существования в славянском ареале таковы, что отнюдь не каждый культурно-психологический тип личности субъективно способен принимать и выносить их. В Азии условия жизни могут быть и заведомо худшими, но там мы имеем дело с человеческими типами, как правило, не знакомыми ни с чем другим и оценивающими тяготы своего существования как привычно безальтернативные.
Таким образом формировался геоцивилизационный парадокс, суть которого состоит в следующем. По мере расширения и укрепления международных связей, развития межкультурной и межцивилизационной коммуникации восточнославянские народы по ряду признаков внешнего характера становились все ближе и ближе к Западу. Постепенно, особенно в сфере науки, техники, административной деятельности и даже быта, многое у него заимствовалось. Соответственно этому формировалось и упрочивалось иллюзорное представление о том, что все наши несоответствия Западу легко преодолимы. Казалось, что дистанция, отделяющая нас от Запада, незначительна, что ее можно быстро одолеть. При таком восприятии глубинных цивилизационных различий болезненные разочарования, крушение идеалов и фрустрация сознания просто неизбежны. Ибо в действительности цивилизационное расстояние между Западом и восточнославянскими странами не просто большое, но принципиально непреодолимое в силу различия базовых (природно-климатических, геополитических, исторических, ментальных и др.) факторов социальной эволюции, характерных для различных регионов нашей планеты.
На практике навязывание российскому и близкородственным ему социумам западной модели развития неизменно оборачивалось тяжелейшими утратами и разрушением. Все социальные эксперименты, ориентированные на утверждение западноевропейских ценностей и образа жизни в российском обществе, заканчивались трагически. Западничество, привнесенное поляками в лице ЛжеДмитрия (Смутное время), унесло жизни почти трети населения России, прежде чем русский народ смог его окончательно отвергнуть. Петровская реформа, не превратив Россию в Голландию, убавила ее податное население на 20 %. Революции 1917 г. (февральская – белокомпрадорская и большевистская – краснокомпрадорская), инспирировавшие одну из страшнейших в истории человечества гражданских войн, привели к потере более 15 млн наиболее биологически и социально активных представителей русского народа. Последняя (нынешняя) реформа российского общества по западным образцам уносит почти по миллиону жизней российских граждан в год.
Все эти внутренние колонизации России, и в первую очередь большевистская и современная либерал-демократическая, привели к тяжелейшим мутациям во всех сферах русской жизни, подорвали цивилизационное ядро, культурный генетический код русского и близкородственных ему народов. Причем если большевистскую внутреннюю колонизацию русскому народу удалось, в конечном счете, все же адаптировать к своим глубинным интенциям и менталитету, существенно трансформировать ее (на деле произошел процесс соединения и притирки марксистского идеала построения социалистического общества со славянофильской идеей спасения мира, что, на наш взгляд, и позволило большевикам не только удержаться у власти, но и вызвать небывалый энтузиазм масс, открывший возможность в рекордно короткие сроки осуществить собственными силами индустриализацию, превратить Россию в огромную индустриальную державу), то нынешнюю либерал-демократическую внутреннюю колонизацию российский народ пока не смог переварить и перемолоть, и неизвестно, сможет ли он когда-либо вообще это осуществить. Судьба России и в целом восточнославянской цивилизации сегодня в полном смысле находится на весах истории.
Можно определенно утверждать, что причина всех провалов и поражений России в постперестроечный период, небывалое падение ее международного престижа и авторитета состоит не столько в ослаблении ее военной мощи и экономического потенциала, сколько в том, что у руля государства стали люди, бесконечно далекие от родной почвы, беспрецедентно эпигонствующие и подражательные. Они оказались не способными понять, ни какая страна досталась им в управление, ни какие у нее сильные и слабые стороны. Им также оказалось неведомо (они, собственно, и не интересуются), на каких традиционных опорах держалась и может держаться русская жизнь, какие ценности и ориентиры для русского народа являются базовыми, инвариантными, т. е. ни при каких обстоятельствах не подлежащими пересмотру.
Реформаторы-западники, нисколько не принимая в расчет специфику социоприродного и социокультурного бытия восточнославянских народов и не учитывая то, что в реальности социум перенимает лишь те достижения культур и цивилизаций, которые соответствуют потребностям его выживания, а другие рано или поздно все равно отвергает, с фанатичным упорством не перестают пытаться сделать восточнославянские страны Западом.
Следует особо подчеркнуть, что именно в ходе современных реформ, осуществляемых на основе идеологии неолиберального фундаментализма (который, кстати сказать, ничуть не лучше исламского фундаментализма), оторванность верхов (элиты) от народа беспрецедентно усилилась. С началом всеобщего распространения новейших информационных технологий (формированием информационного общества), давших старт глобализации, в этом процессе обнаружились принципиально новые измерения. Возникшие глобальные информационные поля оказались способными действовать на сознание людей поверх государственных границ, создавать возможность манипуляции сознанием в планетарном масштабе. Первыми жертвами этих открывшихся новых информационных возможностей явились элиты народов, отставших в своем развитии от стран гегемонов – лидеров глобализации. Современным глобалистским структурам нет нужды воздействовать на сознание всего населения той или иной страны с целью формирования у него нужных для этих структур установок и ориентиров. Достаточным оказывается значительно более простой и менее затратный вариант: добиться желаемого поведения общества воздействием не на все его слои, но лишь на сознание его элиты. На практике посредством данного воздействия транснациональные структуры и институты, концентрирующие в своих руках колоссальные ресурсы, международные финансовые и, что очень важно, коммуникативные сети, получили возможность с очевидно растущей легкостью подчинять себе национальные правительства, которые в силу этого перестают быть, по сути, национальными, что хорошо сегодня видно на примере некоторых государств Латинской Америки и стран СНГ, особенно России. Подвергшись форсированной обработке сознания (формы здесь могут быть самые разные), элита начинает по-другому, чем возглавляемое ею общество, мыслить, исповедовать другие мировоззренческие ценности, иначе воспринимать окружающий мир и реагировать на него. Оторвавшаяся от общества элита утрачивает не только свою эффективность, но и свою общественно полезную функцию. Причем такая ситуация, возникшая в обществе, уничтожает сам смысл демократии, поскольку исходящие от общества импульсы, представления и идеи просто не воспринимаются элитой (она живет в другом мире). Соответственно, народ до очередного социального катаклизма перестает влиять на осуществляемый выбор направления развития и принятие решений.
Теоретико-мировоззренческой причиной глубокой деструктивности социальных преобразований, осуществляемых западническими элитами, является то, что они отказывают восточно-славянским народам в цивилизационной идентичности. Нашу специфику пытаются подать в сугубо отрицательных характеристиках – архаичный коллективизм, агрессивный традиционализм, цивилизационная отсталость и т. д. И это несмотря на то что наука уже давно отвергла европоцентризм и однозначно доказала, что цивилизованность совершенно неправомерно отождествлялась с одним только Западом. Наряду с западноевропейской цивилизацией существуют и другие вполне самодостаточные цивилизации. Сегодня никто не решится утверждать, что, поскольку Китай и Индия отличаются от Запада, они варварские страны. Отказывая восточнославянским народам в специфической цивилизационной идентичности, свои западники применяют западный эталон и, находя несоответствие этому эталону, обвиняют свои народы в отсталости и культурной несостоятельности. При таком подходе они обречены ненавидеть свои народы. Им и в голову не приходит, что народы имеют право быть не похожими на народы Западной Европы, иметь собственную традицию, свою судьбу и призвание в истории. Вот почему в условиях современности вопрос о цивилизационной идентичности (самоидентичности), о нашем праве быть самими собой превратился в вопрос о нашем праве на существование вообще, о нашем культурно-национальном бытии как таковом.
Перенимая, ввиду отсутствия внутренних смыслов, лишь внешнюю форму, мы можем потерять свое, получив взамен экзистенциальную пустоту, ощущение изгойства, комплекс неполноценности и уязвленное историческое самосознание. Потеряв себя, мы будем обречены поклоняться чужим идолам, бесконечно следовать чужим модам, подменяя тем самым свою собственную, подлинную жизнь.
Проблемы, с которыми столкнулись восточнославянские страны, настолько уникальны, настолько своеобразны и оригинальны, что никакой внешний опыт не может нам помочь их решить. Никогда и нигде, ни на Западе, ни на Востоке, никто не сталкивался с подобного рода проблемами. Вот почему у наших народов есть только один путь, одна задача: найти свой ответ на вызов среды, свое цивилизационное измерение, выдвинуть и воплотить в жизнь свой социальный проект. И только те лидеры, которые окажутся способными, опираясь на менталитет, исторический опыт и традиции своих народов, предложить какой-то новый, отвечающий требованиям сегодняшнего дня комплекс идей и моральных, нравственных императивов, будут соответствовать высоте своего положения и заслужат память потомков. Ибо только на собственной культурной матрице возможна всякая успешная модернизация, как это было, например, в Японии в XIX–XX вв., в Китае в XX в.
Обустраивая нашу жизнь, необходимо отталкиваться от нашей действительности, выявляя и развивая в ней все то, что жизнеспособно и перспективно, что возвышает и облагораживает нас, и вместе с тем искореняя все в ней негативное и уродливое. На этом пути самосовершенствования мы можем и должны заимствовать у других народов (сохраняя при этом глубинные основы и смыслы своего бытия) все то, что способно помочь нам, восточным славянам, реализовать свое предназначение в мире, дать человечеству то, что кроме нас никто не может. Здесь важно иметь в виду то обстоятельство, что только тот народ способен преодолеть все преграды, найти свое место, самоопределиться и утвердиться в мире, который не потерял веру в себя, который ощущает и осознает свое призвание и свою миссию в истории, имеет перед собой высокую цель. Народ, утративший свои жизненные ориентиры, оторвавшийся от своих духовных корней и лишившийся своего духовного содержания, даже при условии материального богатства и экономического процветания становится легко уязвимым, неспособным отстоять себя в этом сложном и конкурентном мире.
Совершенно неверно при этом ориентироваться только на западноевропейский опыт, рассматривать его как общечеловеческий, отождествлять общечеловеческое с европейским. Целая плеяда выдающихся русских и зарубежных исследователей с абсолютной доказательностью обосновала данный тезис. На эти темы с поразительной убедительностью и глубиной высказывались такие мыслители, как Н.Я. Данилевский, И.А. Ильин, К.Д. Кавелин, Н.С. Трубецкой, А. Тойнби, Р. Инглегард и др. П.Я. Чаадаев писал об ошибочности механического перенесения на русскую почву исторического опыта и культуры Запада.
Он прямо говорил, что у России «другое начало цивилизации», что она не Запад. России, согласно ему, надо не бежать за другими, а откровенно оценить и понять себя, чтобы идти вперед. Кстати, то же самое говорил и А.С. Пушкин. С точки зрения последнего, история России «требует другой мысли, другой формулы». Эту же мысль особенно определенно и последовательно выражал Шпенглер. Он в весьма категоричной форме утверждал, что русскому мышлению совершенно чужды категории западного мышления, что типы русской и западной души резко отличаются друг от друга.
Восточнославянские народы, несмотря на все риски и сложности своего серединного положения между Востоком и Западом с их крайне противоположными формами социально-культурных традиций, смогли не только пережить столкновение данных традиций, но и синтезировать их. Это был сложный и болезненный процесс, в результате которого, тем не менее, возникло живое, органическое образование. Плодотворность и жизненность сформировавшегося таким путем социально-политического организма была подтверждена как материально (успешные войны, расширение империи, постоянно убыстряющееся экономическое развитие), так и духовно (становление и упрочение собственной духовной культуры). По мнению И.Р. Шафаревича, в развитии восточнославянских народов совместилось глубоко концептуальное мировоззрение Средневековья, включающее повышенный интерес к основным вопросам о смысле жизни и истории, и постренессансная культура Запада, обладающая необычайной яркостью и индивидуальностью. Россия стала наследницей этих взаимодополняюще-взаимоисключающих традиций, она пережила их столкновение, она дала их синтез. Отсюда «универсализм» Пушкина и Гоголя, Достоевского и Толстого. «Можно сказать, – пишет И.Р. Шафаревич, – что в русской цивилизации слились три линии развития человечества: открытая космосу древнеземледельческая религия, христианство (в его православном аспекте) и западная постренессансная культура…»[190].
Только путем творческого синтеза импульсов Запада и Востока, Юга и Севера, а не механического заимствования ценностей лишь одного западноевропейского цивилизационного типа восточнославянским странам как контактной зоне Восток – Запад можно будет органично и в полной мере самоопределиться в мире. Возможно, именно судьба «цивилизационного контактера», каким в силу своего географического положения и специфики истории выступает восточнославянский регион, позволит ему на новом витке социокультурного развития человечества осуществить синтез противоположных начал, сыграть ведущую роль посредника между различными цивилизационными типами, преодолеть их односторонность и, тем самым, проторить дорогу в посттехногенное (экологобезопасное) общество.
Раздел VII Горизонты будущего. предвидение как проблема современности
Глава 27 Проблема будущего в духовном опыте человечества
В ряду вечных проблем человеческой культуры особое место занимает проблема будущего. Будущее властно притягивает к себе взоры человека, манит перспективами и пугает опасностями. Люди всегда хотели проникнуть в тайны будущего с тем, чтобы сделать свою жизнь в настоящем более предсказуемой и защищенной. Но в наше время актуальность исследования будущего многократно возросла. Дело в том, что в современном мире как никогда раскрутилось колесо истории, убыстрились темпы общественного развития. Чтобы понять это, давайте представим себе развитие человечества в виде бега на дистанцию 60 км, условно приравняв каждые 10 тыс. лет его истории к 1 км. Большая часть этой дистанции окажется за пределами цивилизации. Лишь на 58-м км появятся первые орудия труда и пещерные рисунки – зачатки культуры. Лишь на 60-м км обнаружим признаки земледелия, а за 200 м до финиша – римскую дорогу, покрытую каменными плитами. Последние 10 м начинаются при скудном освещении керосиновых ламп, а на финишном броске, на самых последних метрах произойдет ошеломляющее чудо: электрический свет заливает города, мчатся автомобили, в небо взмывают реактивные лайнеры, и пораженного бегуна ослепляют вспышки блицев и юпитеров фото– и телекорреспондентов. Такую впечатляющую картину возрастания темпов поступательного хода истории, или, как сейчас часто говорят, ускорения ритмов истории, нарисовал швейцарский инженер и философ Г. Эйхельберг в книге «Человек и техника».
Были предложены и другие масштабы (или варианты) измерения ускоряющегося бега истории. Так, американский футуролог, лауреат Нобелевской премии О. Тоффлер в своей книге «Столкновение с будущим» предложил измерить 50 тысяч лет человеческой истории числом поколений, сменивших друг друга, приравняв каждое из них к 62 годам средней продолжительности жизни человека в XX в. И в этой иллюстрации
О. Тоффлера умещается 800 поколений, а подавляющая масса всех материальных продуктов, которыми мы сегодня пользуемся в повседневной жизни, впервые появилась на протяжении последнего, 800-го поколения. Именно это поколение, согласно ему, демонстрирует нам резкий разрыв со всем предшествующим опытом человечества.
О. Тоффлер подчеркивал, что к началу XXI в. миллионы обычных, психически вполне нормальных людей придут в резкое столкновение с будущим. Многие и многие жители самых богатых и технически развитых стран мира обнаружат, что характерный для нашей эпохи нескончаемый поток перемен предъявляет к ним все более высокие требования, что им мучительно трудно угнаться за своим временем. Будущее наступает для них слишком рано. Шквал перемен, по мнению Тоффлера, не только не стихает, но, похоже, только теперь набирает силу. По высокоразвитым индустриальным странам с небывалой дотоле скоростью прокатываются мощные валы перемен, вызывая к жизни диковинную социальную флору, начиная с экзотических церквей и «свободных университетов» и заканчивая научными городками в Арктике и клубами по обмену женами в Калифорнии[191].
Многое из того, что поражает нас своей кажущейся непостижимостью, станет куда яснее, если вдуматься в смысл бешеного темпа перемен. Мало того, что ускорение темпа перемен преобразует целые отрасли промышленности или страны. Оно являет собой конкретную силу, которая вторгается в нашу личную жизнь, проникая в сокровенные ее глубины, заставляет играть новые роли и угрожает сделать нас жертвами некой новой опасной психологической болезни, серьезно нарушает душевное равновесие человека. Эту новую болезнь можно было бы назвать шоком от столкновения с будущим. Знание ее причин и симптомов поможет осмыслить многое из того, что не поддается никакому другому разумному объяснению. Шок будущего – это вызывающая головокружение дезориентация, являющаяся следствием преждевременного прихода будущего. Он вполне может оказаться самой серьезной болезнью завтрашнего дня[192].
В XX в. эти тенденции нарастают. Современный мир, несмотря на усиление общемировых связей в технологической и экономической областях, вступил в полосу глобального беспорядка, в ситуацию нарастающих рисков и новой хаотизации. Ввиду того что глобализация неолиберального капитализма несет с собой подчинение большинства меньшинству, она ведет тем самым к неизбежным конфликтам – локальным, региональным и даже планетарным, привносит в международные отношения потенциальное структурное насилие (И. Галтунг). Можно даже сказать, что новый мировой порядок, который сегодня все чаще называют новым мировым беспорядком, становится причиной хаотизации мира, глобализации страха и насилия. Поэтому понятными становятся такие определения современности, как «общество риска» (У. Бек) или «стратегическая нестабильность» (А. Панарин).
Люди в этой ситуации все чаще и чаще стали задавать себе вопросы: К каким социальным последствиям приведут совершающиеся на их глазах процессы? Куда идет человечество? Почему колоссальные силы, созданные и приведенные в движение людьми, нередко оборачиваются против самих же людей? Отсюда «бум прогнозов», бесконечные попытки осмыслить перспективы развития общества – различные сценарии, модели, проекты будущего. Высокие темпы социальных изменений, практическое отсутствие возможности у человека и общества обстоятельно и неспешно осмыслить ход и направленность исторического развития порождают у целого ряда субъектов попытки с помощью особых образов будущего направить исторический процесс или некоторые его тенденции в выгодное для них русло.
Наряду с социальной обусловленностью существует и экзистенциальная потребность в осмыслении будущего. Своими корнями эта потребность уходит в неизбывное стремление людей открыть иной, более совершенный мир, обеспечить светлое будущее не только для себя, но и для следующих поколений. Устремленность в будущее, попытки духовно или практически его освоить придают жизни особый человеческий смысл. В сущности, смысл жизни – это наиболее общее, идеализированное представление о желаемом будущем, спроецированное в настоящее и выступающее мощным стимулом индивидуальных поступков и массовых социальных действий людей.
В поисках смысла жизни и счастья своего бытия человек нередко прибегает к мечте. С ее помощью он стремится снять наиболее значимые противоречия жизни. Он мечтает о будущей социальной гармонии и справедливости, о достатке и благоденствии, т. е. всем том, чего так не хватает в реальной жизни. При этом желаемое будущее представляется человеку чаще всего в облике надежды. В контексте темы будущего категория надежды является важнейшей. Поэтому остановимся на кратком анализе ее значения для восприятия и отношения к будущему. Надежда – это ожидание чего-либо желаемого, соединенное с уверенностью в возможности его осуществления. Без надежды жить почти невозможно. Мы не боимся прошлого, поскольку оно уже миновало, и часто хвалим его, хотя не исключено, что оно было плохим. «Или настоящее нас тревожит, или будущее», – так писал Сенека, сбрасывая прошлое со счетов счастья. А настоящее? Ведь оно опять-таки лишь мгновение, а мгновения, даже самые горькие, можно пережить. Лишь бы знать, что будет лучше. Так считают многие люди. Сознательно или нет, они связывают свое счастье исключительно с будущим, измеряют его тем, чего еще нет и, может, никогда не будет. Но они это будущее уже переживают заранее и видят его хорошим или плохим и воспринимают его как хорошее или плохое. Конечно, не на всех людей это распределяется одинаково. Вероятно, обостренность восприятия будущего зависит и от характера человека: одни живут минутой или живут прошлым, ретроспективно, а другие живут будущим, проспективно. Их счастье определяет надежда на будущее, хотя бы и обманчивая, а несчастье – неверие в него, хотя бы и обоснованное. Польский философ В. Татаркевич отмечает, что будущее всей своей тяжестью давит на наше сознание. Ожидание зла и добра значит для счастья больше, чем воспоминание о них и даже их переживание. «Перспектива на будущее важнее прошлого и настоящего. Обладание означает меньше, чем надежда»[193].
Гносеологической основой предвидения является целесообразная деятельность людей, носящая сознательно-волевой и проективный характер. Человеческая активность с необходимостью предполагает мысленное продолжение действий, согласование целей и средств их достижения, ожидание как непосредственных результатов, так и более отдаленных последствий своих усилий. Значительная часть тех результатов, которые творятся людьми в их повседневном незаметном труде, окажет влияние не только на современников, но и на жизнь грядущих поколений. Поэтому предвидение будущего, умение соотносить с ним свою деятельность в настоящем является обязательным условием подлинно человеческого осмысленного бытия.
Без прогнозов и попыток заглянуть в будущее вообще трудно представить себе развитие человека и общества. В таком случае они утрачивают жизненную перспективу: все цели, мечты, стремления, планы теряют свой смысл, а человек начинает духовно и физически умирать еще при жизни, а общество – разрушаться. Поэтому целостное и глубокое постижение будущего выполняет важнейшую функцию пробуждения от апатии, освобождения от власти инерции и подчинения существующему порядку вещей.
В течение многих тысячелетий люди отрабатывали средства и методы проникновения в тайны будущего, искали способы приподнять завесу, отделяющую будущее от настоящего. В ходе социокультурного развития сформировалось два направления исследования: ненаучное (интуитивное, обыденное и религиозное) и научное. Критерием их различия является способность открывать закономерности в развитии природы и общества и на их основе делать достоверный вывод. Ненаучное предвидение, как правило, не стремится найти устойчивую закономерность и апеллирует к иррациональным сферам человеческого духа и бытия в целом. Интуитивное предвидение основано на предчувствиях человека; обыденное – на житейском опыте и связанных с ним аналогиях, приметах и подобном; религиозное предвидение (пророчество) – на вере в сверхъестественные силы, якобы предопределяющие будущее, на суевериях и т. п.
Научное предвидение опирается на знание причинно-следственных зависимостей и детерминационных связей, а также умение экстраполировать сложившиеся тенденции социокультурного и социоприродного развития в будущее. Согласно идеям научной прогностики будущее – это далеко не все то, что порождает человеческая фантазия. Будущее тысячами нитей связано с настоящим и прошлым, и поэтому научное знание и социальное прогнозирование должно отвечать на вопросы: Что может произойти в будущем? Каше формы это новое приобретет? Когда его следует ожидать? Какова мера достоверности данного прогноза?
Основным видом научного предвидения является прогнозирование. Прогнозирование – не просто высказывание о будущем, а систематическое исследование перспектив развития того или иного явления или процесса с помощью средств современной науки. Прогноз, в отличие от прорицания, предвосхищения, пророчества, обладает высокой степенью обоснованности, научной доказательности, объективности. Так, метеорология может достаточно точно предсказать изменения погоды в определенный отрезок времени, а врач – описать ход той или иной болезни. Принципиально важной характеристикой прогноза является его целостность. Каждый прогноз строится на четко определенном теоретико-методологическом основании. Это означает, что нельзя набрать привлекательных свойств, смыслов и ценностей из разных цивилизаций, социальных систем и экономических укладов и назвать все это желаемым будущим или целью модернизации.
Ученый, занимающийся составлением прогнозов, должен мыслить целостно, интегрально, анализируя огромное количество тенденций, относящихся не только к одной или двум, но ко многим областям жизни человека и общества. В своей деятельности прогнозист должен опираться на духовный и интеллектуальный опыт многотысячелетнего развития человечества, иметь общее и весьма глубокое представление о развитии истории и культуры. Именно поэтому прогнозы чистых технократов и узких специалистов часто оказываются несостоятельными, в то время как идеи о будущем великих философов прошлого (Платона, Канта, Соловьева, Шпенглера и др.) подтверждались общественно-исторической практикой.
В западноевропейских странах получила бурное развитие специфическая отрасль знания о будущем – футурология. Футурология (от лат. futurum – будущее и греч. logos – слово, учение) призвана, используя различные методики, осуществлять разработку прогнозов, связанных с описанием конкретных форм, проектов и образов будущего, изучать тенденции развития отдельных стран и мира в целом. В широком значении слова футурология – это совокупность представлений о будущем человечества, в узком – область научных знаний, охватывающая тенденции и перспективы тех или иных социальных процессов. В отечественной литературе футурология часто употребляется как синоним прогнозирования и прогностики.
В современных западных странах исследование будущего (футурология) играет все возрастающую роль при принятии важных экономических и политических решений, выдвижении различных программ, моделей и сценариев развития как отдельных социальных явлений, так и общества в целом. И это понятно: по мере усложнения социальных связей, ускорения темпов общественного развития, усиления роли в жизни современных обществ государственного начала (планирования, программирования, попыток достижения чуть ли не полного контроля над человеческим поведением и социальными процессами) неизбежно возрастает и потребность в хорошо продуманной системе прогнозирования.
В качестве подтверждения этого тезиса рассмотрим опыт ведущих стран Запада и Востока, в которых научное прогнозирование является необходимым элементом определения долгосрочной стратегии развития как отдельных корпораций, так и государства в целом. В частности, многие решения в современном Китае принимаются на основе стратегического прогноза на 50 лет. А в США создана целая сеть организаций, занимающихся стратегическим прогнозированием во всех сферах общественной жизни. В частности, только RAND Corporation объединяет более 5000 квалифицированных экспертов, многие из которых являются ведущими специалистами в своих областях[194].
Разумеется, возможности науки в предвидении будущего ограничены и уменьшаются по мере удаления от настоящего. Поэтому для ответа на поставленные вопросы мы должны обладать четко определенной периодизацией будущего. В современной футурологии обычно выделяют непосредственное, обозримое и отдаленное будущее, критерием разграничения которых является мера определенности, достоверности их постижения. Чем дальше мы продвигаемся в будущее, тем менее надежными становятся наши прогнозы и предсказания. Эта возрастающая неопределенность коренится в самой природе социального развития, имманентно содержащей принципы многовариантности, нелинейности, стохастичности. Исторический процесс, как мы показали в соответствующих главах, является сложным сплавом объективного и субъективного, закономерного и случайного, обусловленного и стихийно-спонтанного. Поэтому по мере продвижения от этапа к этапу в периодизации будущего степень вероятности прогноза резко уменьшается.
Построение указанной периодизации будущего не является произвольным, а продиктовано характером наших знаний о будущем, которые в свою очередь определяются объективными обстоятельствами. Относительно непосредственного будущего наука уже сейчас располагает многими конкретными данными, которые позволяют составлять обоснованные, весьма достоверные прогнозы на 20–25 лет вперед. Но нелепо, например, пытаться детально, в подробностях, с помощью каких-то контрольных цифр «описывать» обозримое будущее. Столь же наивно требовать от предвосхищения отдаленного будущего большего, чем предельно общие и гипотетические суждения, не связанные с определенными хронологическими сроками. Здесь наше незнание заведомо преобладает над знанием.
В зависимости от конкретной цели исследования в футурологии применяют следующие виды прогнозов:
• поисковые (иногда их называют изыскательскими или реалистическими) – составляются непосредственно для того, чтобы выявить, каким может быть будущее, отправляясь от реалистических оценок существующих в данное время тенденций развития в различных сферах общественной деятельности;
• нормативные – ориентированы на достижение в будущем определенных целей, содержат различные практические рекомендации для осуществления соответствующих планов и программ развития;
• аналитические – делаются, как правило, для того, чтобы в научных целях определить познавательную ценность различных методов и средств исследования будущего;
• прогнозы-предостережения – составляются для непосредственного воздействия на сознание и поведение людей с целью заставить их предотвратить предполагаемое нежелательное будущее.
Конечно, различия между этими основными видами прогноза условны; в одном и том же конкретном социальном прогнозе могут сочетаться признаки нескольких видов.
В исследовании будущего применяется обширный и многообразный арсенал научных методов, специальных методик, логических и технических средств познания. Некоторые футурологи насчитывают около двухсот методов и методик. Однако основные методы прогнозирования сводятся к следующим пяти (остальные же являются их различными сочетаниями и вариациями):
• экстраполяция[195];
• историческая аналогия;
• компьютерное моделирование;
• сценарии будущего;
• экспертная оценка.
Каждый из этих методов предвосхищения будущего имеет свои достоинства и недостатки. Точность экстраполяции, например, резко убывает по мере продвижения в будущее, которое никак не может быть простым количественным продолжением настоящего. Весьма ограничена применимость к предвидению будущего метода исторической аналогии, ибо будущее человечества никак не может в своих основных чертах свестись к повторению прошлого. В каждую эпоху возникают новые обстоятельства, каждая эпоха имеет настолько индивидуальное состояние, что в эту эпоху люди действуют и принимают только такие решения, которые вытекают из самого этого состояния. Столь же ограничены и возможности компьютерного моделирования в силу того, что творческое прогнозирование невозможно формализовать, представить в виде простой совокупности операций, выкладок и формул. Конечно, компьютерные и прочие информационные технологии используются в прогнозировании, но выполняют сугубо вспомогательные функции. У компьютеров нет воображения, интуиции, они не видят принципиально новых возможностей будущего развития. Да и было бы странно подменять человеческое творчество стандартными машинными операциями; тем не менее наша техногенная цивилизация постоянно стремится к этому, убивая саму способность людей к творчеству. Метод сценариев будущего является весьма популярным, так как открывает простор фантазии и воображению, но при этом страдает ярко выраженной субъективностью. В данном ряду, пожалуй, наиболее надежным методом социального прогнозирования является экспертная оценка перспектив реального исторического процесса при условии, что она опирается на верные теоретические представления о нем, использует результаты, полученные с помощью других методов, и дает этим результатам правильную интерпретацию.
Глава 28 Социальное предвидение и его особенности
Как мы уже знаем, научное предвидение имеет своей основой объективную закономерность развития природы, общества и человека, познание которой делает возможным экстраполяцию сложившихся тенденций в будущее и его более или менее адекватное постижение. Это общее методологическое соображение при его применении к анализу общественных явлений должно быть существенно уточнено. Дело в том, что объективная детерминация явлений, на которую опирается всякое научное предвидение, в общественной жизни проявляется весьма специфично. Специфика эта, как мы указывали в главе «Альтернативы истории и проблема выбора путей общественного развития», состоит в том, что в обществе действуют сознательные существа, ставящие перед собой определенные цели и стремящиеся к их осуществлению. Поэтому в общественной жизни историческая закономерность (необходимость) выступает не как нечто жесткое и однозначное, а носит статистически-веро-ятностный характер, пробивает себе дорогу лишь через массу случайностей, отклонений. Понятый таким образом социальный детерминизм по необходимости включает понимание многозначности, вариативности будущего, возможности человеческого влияния на это будущее, требует учета непредсказуемого человеческого поступка и выбора, субъективных устремлений людей. Короче говоря, при выдвижении прогноза относительно будущего социального бытия людей нужно обязательно помнить получившую уже чуть ли не всеобщее признание мысль о том, что развитие общества не имеет окончательного предопределения, а осуществляется в соответствии с принципом многовариантности, носит нелинейный характер. В этом развитии мало что можно точно предугадать, а тем более спроектировать. Здесь можно только прогнозировать, учитывая столкновения и противоборство различных тенденций и сил.
Кроме того, во избежание крупных просчетов и ошибок в процессе социального прогнозирования нужно иметь в виду и следующее: выдвижение правильного прогноза предполагает учет и анализ не только материальных возможностей и предпосылок будущего жизнеустройства, но и всего того, что имеет отношение к области духовного идеального. Тот, кто стремится предвидеть будущие обстоятельства общественной жизни, не может избегнуть анализа духовного состояния общества и, са-
мое важное, анализа глубинных мировоззренческих ориентиров и ценностных предпочтений, которые так или иначе выступают в качестве мотиваций и стимулов массовых действий людей, направленных на реализацию тех или иных программ общественного развития. Учет самых различных ориентаций и предпочтений, всей духовно-ценностной мозаики – важное условие правильного прогноза, что особенно верно относительно переходных периодов, когда происходит распад и крушение традиционных ценностных норм и возникает обостренная потребность в обретении новых мировоззренческих и духовных координат. Можно определенно утверждать – никакое истинное понимание происходящих в нашей стране процессов и, тем более, никакое достаточно надежное прогнозирование вероятного будущего просто невозможно, если мы не будем все происходящее в обществе рассматривать в связи и на фоне сдвигов и перемен в общественном сознании, связанных с той или иной трансформацией смысложизненных ценностей и идеалов. И это потому, что характер и направленность социальных изменений в существенной мере определяются именно духовным состоянием общества, перестройкой в глубинных структурах сознания, в основных идеях и общепризнанных идеалах. Надо иметь в виду, реальное будущее складывается не только из того, что возникает и изменяется, но из того, что остается неизменным или изменится мало. Идущие из глубины веков стереотипы поведения и нормы жизни, несмотря на все социальные катаклизмы и метаморфозы, имеют тенденцию воспроизводиться, как бы возвращаться в исходное состояние, набирать историческую инерцию, если и преодолимую, то лишь в экстремальных ситуациях, путем крайних чрезвычайных мер, посредством насилия над живой народной жизнью. Прежде всего это относится к инерциям сознания, под воздействием которых в измененном обличии сплошь и рядом воспроизводится старое содержание.
Понимание и учет указанных особенностей общественного развития диктуют необходимость разработки принципиально новой, противоположной господствующей долгие годы в Советском Союзе концепции социального проектирования и регулирования. Для последней, как известно, было характерно стремление к безальтернативному планированию будущего, постоянно воспроизводящиеся попытки предписать и указать, каким это будущее должно быть и в какие сроки достигнуто.
На практике это означало стремление подчинить жизнь людей заранее заданной схеме, строить будущее на основе изначально принятого плана, подобно тому, как это имеет место при строительстве домов, заводов и фабрик, лишать общество активнотворческой силы, которая делает его субъектом исторического процесса и обусловливает его способность к самоорганизации.
Следует помнить, что общество – не механизм, которым можно управлять извне, разбирать на составные части и снова собирать, а организм, в котором ни одну из частей нельзя без вреда для него устранить или заменить другой. Прежде чем что-либо в нем менять, необходимо проиграть на модели всевозможные последствия различных вариантов предполагаемого изменения. На постсоветском пространстве, к сожалению, в не таком далеком прошлом, да и теперь социальное экспериментирование осуществляется зачастую не на модели, а непосредственно на людях. Разработка новой динамической концепции общественных изменений вообще и социального прогнозирования и проектирования в частности призвана способствовать преодолению этой практики. Новая концепция должна создаваться на принципиально иной методологической основе. Ее теоретический инструментарий следует направлять на осознание общих перспектив и возможных альтернатив разумного выбора. Это означает, что на смену директивному планированию, волюнтаристическому крупномасштабному социальному экспериментированию должно прийти мысленное экспериментирование вариативного, гибкого типа, которое будет осуществляться исходя из наличных условий и реальных возможностей практики, органически вырастать из самой действительности, проигрывая при этом все имеющиеся в ней тенденции и направления дальнейшего развития. Рассматриваемый подход к будущему требует ясного понятия не только того, что неизбежно существует, но и по мере усложнения общественной жизни и ускорения ритмов истории того, что значительно расширяет зону непредвиденного, вероятностно-случайного, непредсказуемого. Он явно противоречит идее тотального прогнозирования, которое по своей сути явилось отражением практики тотального руководства. Эта идея, отрицая всякую зону вероятного и непредсказуемого, тем самым отрицала и какую бы то ни было индивидуальную самостоятельность, и активность, ибо запрограммированную активность нельзя считать действительно творческой. Вот почему подлинное раскрепощение общества предполагает преодоление практики тотального прогнозирования, определение зон и сфер, где прогностика не вправе вмешиваться, навязывать обществу свои проекты и модели, однозначно программировать будущее.
Сказанное не означает, что прогнозирование и социальное проектирование не играет никакой роли в регулировании общественных процессов. Речь идет лишь о том, что на смену теории-предписанию, жестко-однозначному прогнозу должен прийти метод косвенного регулирования социальных процессов, когда каждое решение будет определяться ситуацией, а точнее, тем, что из этой ситуации можно извлечь на благо человечества.
Прогрессивно ориентированная прогностическая деятельность, включающая понимание неоднозначности будущего, возможность влияния на будущее непредсказуемого человеческого выбора и поступка, может оказать обновляющее положительное воздействие на социально-политическую практику. Авторитетный прогноз, опирающийся на современные представления о том, каким образом будущее возникает из настоящего, мог бы, например, послужить мощным духовным стимулом конструктивно-созидательных социальных действий, способствовать консолидации людей, совместно творящих свое будущее.
Возможность воздействия прогноза на предполагаемые обстоятельства особенно усиливается в период духовного кризиса, в переходные эпохи. В ситуации глубокого сомнения и социальной апатии находится наиболее благодатная почва для всякого серьезного духовного воздействия и влияния. В этой ситуации энергия открытости, готовности размышлять, слушать и услышать, чтобы преодолеть внутреннее духовное беспокойство и смуту, обладает наибольшей силой.
Обнаруживается, что прогнозы не нейтральны прогнозируемым обстоятельствам. Прогнозы, формирующие определенные образы будущего, являются хоть и специфической, но весьма существенной формой проявления субъективного фактора истории. А это значит, что они, как и субъективный фактор истории в целом, оказывают все возрастающее влияние на жизнь общества, социально-политическую практику, поступки и поведение людей в настоящем. Прогноз, касающийся будущего социального субъекта (класса, группы и т. д.) и затрагивающий его интересы, так или иначе оказывает влияние на деятельность данного субъекта и тем самым – на свое собственное осуществление. Диалектика взаимосвязи настоящего и будущего здесь такова, что настоящее не только предопределено прошлым и обусловливает будущее, но и в свою очередь испытывает влияние со стороны будущего. Прогноз будущего неизбежно воздействует на дела людей и поступки здесь и сейчас, в текущей жизни. Именно явные осознанные и скрытые бессознательные установки относительно будущего и определяют поведение человека сегодня. Представления о будущем – это уже один из способов воздействия на него, путь формирования будущего. Порождая в своем сознании образ будущего, мы как бы создаем первый, приближенный вариант того, что должно реализоваться. Точнее говоря, в зависимости от содержащегося в социальных программах описания будущего они побуждают человека либо активно стремиться к нему и тем самым содействовать его воплощению в жизнь, либо противодействовать его наступлению, либо пассивно ожидать его. Поэтому любой социальный прогноз сочетает в себе как научно-познавательное содержание, так и определенное идеологическое назначение.
Основными механизмами воздействия будущего на настоящее являются самоорганизующиеся (самосбывающиеся) и саморазрушающиеся прогнозы. Прогнозы, которые содействуют собственной реализации, обычно называют самоорганизующимися. Хороший пример самоорганизующегося прогноза приводит американский исследователь М.К. Мертон. Он пишет, что беспочвенные слухи (прогноз) об ожидающемся банкротстве способны вызвать биржевую панику, отток вкладов, падение курса ценных бумаг и в конце концов привести к тому самому банкротству, которое эти слухи предрекали. Пророчество краха, по словам Мертона, ведет к действительному осуществлению. К числу самоорганизующихся прогнозов часто можно отнести медицинские предсказания. Благоприятный или неблагоприятный прогноз, сделанный врачом, став известен больному, может оказать решающее воздействие на исход болезни.
Прогнозы могут быть и саморазрушающимися. Когда в результате прогноза возникает картина будущего, которая нежелательна, прилагаются усилия, чтобы этот прогноз не состоялся, был разрушен. В качестве примера такого саморазрушающегося прогноза французский демограф А. Сови приводит демографические прогнозы 30-х гг. XX в. Прогнозы, утверждавшие, что Франции угрожает исчезновение населения, вызвали ряд мер, которые не позволили этим прогнозам осуществиться.
Но поскольку прогноз меняет предсказываемую ситуацию, то это воздействие следует учитывать в самом процессе предвидения, т. е. принимать во внимание воздействие предвидения как ситуацию, уже измененную предвидением, и так далее до бесконечности. В целом воздействие образов будущего на действительность может быть выявлено посредством рассмотрения вопроса о взаимодействии настоящего и будущего в развитии человеческого общества, путем анализа обратной связи между тем или иным содержанием опережающего отражения и реальными общественными процессами. (Жизнь порождает прогноз, прогноз воздействует на жизнь.)
Иногда факт воздействия на настоящее различных предсказаний, пророчеств, веры (в зависимости от того, какая форма опережающего отражения рассматривается) называют эффектом Эдипа (согласно преданию, убийство Эдипом родного отца явилось прямым результатом пророчества).
Прогностическая деятельность, таким образом, предполагает высокую степень ответственности, всякий раз требует достоверно выявлять уже получившие распространение в духовно-ценностном пространстве общества всевозможные проекты, своего рода модели желаемого будущего, принадлежащие различим социальным силам, слоям и группам.
Итак, образы будущего занимают исключительно важное место в структуре субъективного фактора истории, выступают мощным духовным стимулом массовых действий людей, моментом их причинной обусловленности и регуляции. И как теперь уже стало очевидным, многих футурологов не столько заботит, какое будущее на самом деле ожидает человечество, сколько стремление повлиять своими прогнозами на поведение людей в настоящем. При этом одни пытаются привлечь людей уготованным для них будущим, тогда как другие, напротив, – запугать их. В обоих случаях речь идет о том, чтобы навязать человеку такое будущее, о котором в самом прогнозе, быть может, даже умалчивается. В зависимости от поставленных целей фабрикуются прогнозы-сирены, заманивающие в земной рай, или, наоборот, безжалостные прогнозы-камикадзе, убивающие в людях всякую надежду на лучшее будущее, чтобы заставить их примириться с настоящим.
Оказывается, веру в будущее можно эксплуатировать, ею также можно спекулировать, на ней можно «играть». Будущее, с какой бы стороны мы ни посмотрели, является важнейшим измерением человеческой жизни. Во всяком случае, предвидение будущего не менее важно для благополучия рода человеческого, чем ликвидация «белых пятен» непознанных страниц свершившейся истории.
Но прогнозы могут и должны выполнять совершенно иные функции. Подлинная, гуманистически оправданная задача прогноза состоит в том, чтобы не только показать варианты возможного развития личности и общества, но и в том, чтобы пробудить творческую энергию людей ради достижения действительно высоких и благородных целей. Человек никогда не должен быть рабом обстоятельств или заранее запрограммированного будущего; согласно Ясперсу, он сам должен участвовать в борьбе за будущее, создавать (конструировать) новые возможности, которых без него не было бы. Здесь уместно напомнить, что прошлое никогда не превращалось в будущее плавным течением; будущее, как и все живое, рождается в муках. Поэтому человеку необходимо отдавать себе отчет в том, что он не пыль на ветру, а причастен к сотворчеству своей судьбы и истории. И если человек уклоняется от этого сотворчества и борьбы за будущее, предоставляет внешним силам, зачастую недобросовестным и не чистым на руку, возможность определять его, то тем самым обрекает себя на бессмысленное прозябание в той социальной реальности, которую создадут другие.
Завершая рассмотрение данного раздела, отметим, что наиболее выдающуюся роль в постижении будущего еще задолго до возникновения научного прогнозирования и футурологии, а после их появления наряду и вместе с ними играла и играет теперь социальная утопия.
Раздел VIII Утопические образы будущего, их сущность и роль в жизни общества
Глава 29 Утопия как специфическая форма освоения социальной реальности
Одним из наиболее глубоких и ярких способов духовного освоения будущего и выдвижения действенного социального идеала является утопия. Противоречивость общественной жизни, социальные конфликты, экономическая эксплуатация и поляризация жизненного уровня людей, стихийность и неуправляемость социальных процессов, дифференциация нравов и образа жизни отдельных социальных слоев и групп неизбежно порождали и порождают стремление изменить существующую действительность, обусловливают поиски новых непротиворечивых форм социального бытия. Теоретические попытки преодоления реальной разорванности и разобщенности социального мира, достижения его целостности и гармонии, жажда хотя бы духовного овладения ситуацией, осмысления, оправдания или осуждения тех или иных идейных позиций наличного бытия явились важнейшими компонентами общественного сознания всех эпох и народов. В этих попытках в наиболее концентрированном виде отразилась органически свойственная человеку как общественному существу потребность в поисках смысла жизни, в самопознании и самоосуществлении.
Мечты о преодолении социальных конфликтов и установлении гармонии, не находя реальной почвы для своего полного или частичного воплощения в жизнь, порождали даже в обществах, находящихся на самой низкой стадии цивилизации, сложные идейно-художественные и духовные образования. Эти мечты, большей частью представляющие собой иллюзорную компенсацию действительных тягот жизни, принимали в мифах, сказках, легендах, религии и искусстве необычайно разнообразные формы. Они направляли фантазию людей на создание миражей или безвозвратно утраченного «золотого» века, или далеких блаженных стран, путь к которым пока не найден, или, наконец, на конструирование всевозможных вариантов социальной гармонии будущего.
В рамках этого разветвленного духовно-культурного комплекса родилась и социальная утопия, ставшая чувствительнейшим индикатором самых мучительных противоречий своего времени. В утопии нашли довольно оформившееся выражение социальный протест, непринятие существующей действительности, желание обрести иную реальность, достичь гармонии в зыбком и «неподвластном» человеку общественном мире. Посредством утопии человек как зависимая частица пестрого социального мира (все более растущего в автономности своих «надчеловеческих» связей и слепых сил) искал свою духовную скоординированность с этим миром, свое предназначение в нем.
Термин «утопия» (от греч. отрицание ои – не и topos – место, нигде не находящееся; по другой версии от ей – лучший, хороший и topos – хорошее, совершенное место) ведет начало от названия вымышленного острова в трактате Томаса Мора (1478–1535) «Золотая книга, столь же полезная, как и забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии».
В современной философской и социологической литературе имеются и иные вариации термина «утопия»: «дистопия» (от греч. dus – плохой и topos) – буквально плохое место, «антиутопия» – негативная утопия, противоположная классической, позитивной. В антиутопии, в отличие от утопии, будущее изображается в исключительно пессимистических тонах, в виде картины неизбежного вырождения и даже гибели. Утопия, следовательно, выступает как образ воображаемого, иногда идеального, а иногда дисгармоничного (негативная утопия) общества, страны, государства. В обыденном употреблении понятие «утопия» приобрело отрицательно-оценочный смысл, выступает как нарицательное для обозначения различных, в том числе и возвышенных, но в целом нереальных и неосуществимых проектов и ожиданий относительно будущего.
Утопия как явление общественного сознания возникла задолго до выхода в свет классической книги Т. Мора и продолжает свое существование по сей день. В ходе длительной эволюции утопии выявились разнообразные литературные формы ее выражения. Утопические образы воображаемого общества получали воплощение в различных философских, социологических, экономических и политических трудах, в программах общественного переустройства, в социально-прогностических трактатах и, наконец, в литературно-художественных произведениях (государственные романы). При этом идеал умозрительного, вымышленного общества размещался автором на далеких островах, вершинах гор, в недрах земли, на других планетах, в соседних странах или даже в собственном государстве утописта, понятом им с точки зрения идеала или его противоположности (утопия пространства). Он мог быть спроектирован на прошлое или будущее (утопия времени).
Утопии многообразны и по социально-классовой природе. Среди этого многообразия широко представлены утопии, выражающие идеалы как угнетенных трудящихся масс (прежде всего различные течения утопического социализма), так и других классов и социальных групп. Различаются утопии и по исторической роли (прогрессивные, консервативные, реакционные), способу реализации идеала или проекта (реформистские и революционные, утопии бегства в иной мир и утопии действия), типу авторства (утопия как продукт индивидуального творчества, так называемая интеллектуальная утопия, и утопия как продукт коллективного творчества – народная утопия), по объектам конструируемых образов (общество в целом или какие-то особые его сферы и части – экономика, политика, мораль, отдельная личность и т. д.), масштабам модели (полис, община, город, страна, континент, мир в целом), по характеру предлагаемых решений тех или иных проблем и способу интерпретации и оценки роли различных факторов в жизни общества (технократические, антигосударственные, педагогические и т. д.). Указанные установки и элементы в конкретных утопиях тесно переплетаются, выступают в различных комбинациях и сочетаниях.
Во избежание терминологической путаницы и неопределенности имеет смысл разграничить понятия «утопия», «утопизм», «утопическое сознание». Утопия — это конкретное целостное произведение художественного или концептуального характера (роман, трактат и т. д.). В случаях, когда утопический образ, или идеал нового общественного устройства, находит свое воплощение в таком произведении, утопия и утопическое произведение совпадают, являются тождественными понятиями. Однако утопическое творчество не ограничивается подобного рода произведениями. Элементы того, что составляет суть утопии, содержатся в произведениях, которые в целом к утопиям отнести нельзя, например в религиозно-эсхатологических сочинениях, фантастике, социально-политических трактатах и т. д. Данные элементы могут встречаться и в различных политических манифестах, декларациях, программах и лозунгах, которые в целом не являются утопическими. Утопическое творчество присутствует и в социальных экспериментах. Оно может быть тесно связано с практикой массовых движений и т. д. Все это делает целесообразным применение термина «утопизм», который, на наш взгляд, имеет собирательный характер и включает в свое содержание все продукты утопического творчества, в какой бы форме они ни выступали и в каких бы произведениях или документах ни воплощались.
Вместе с тем утопический образ общественного устройства вызревает и в любой форме своего воплощения (роман, трактат или даже реальный эксперимент), включается в социальный оборот и объективируется в результате определенного способа восприятия и подхода к исторической реальности. Представляется, что для обозначения способа восприятия или подхода к исторической реальности, соответствующего пониманию утопического, целесообразно применять термин «утопическое сознание». Последний характеризует собой целостный, относительно самостоятельный тип сознания, не сводимый ни к какой-либо отдельно взятой форме общественного сознания, поскольку он, как правило, находит свое воплощение в любой из них, ни к тому или иному его уровню, так как он практически имеет место в рамках того и другого. Иными словами, если речь идет об утопическом сознании, то имеется в виду определенный способ восприятия, подход к исторической реальности; если речь идет об утопии и утопизме, то под ними понимаются всевозможные проекты, образы и модели, которые по своей сути есть не что иное, как воплощенный результат, выражение в виде тех или иных произведений или даже реальных поступков определенного способа восприятия или подхода к социальной действительности.
Как формальное определение понятия «утопия», так и формальные критерии отнесения того или иного произведения к утопическому жанру особых трудностей не вызывают. Они появляются при анализе сущностных характеристик рассматриваемого понятия и производных от него слов. Это обусловлено не только тем, что анализ понятия «утопия» зачастую ведется с различных позиций и на основе различных методологий, или тем, что утопия в ходе длительной эволюции приобрела множество новых значений, которые не вкладываются в содержание книги, написанной Т. Мором. Разнобой в трактовке понятия «утопия» вызван прежде всего противоречивостью и неоднозначностью явления, которое оно отражает, даже беглое знакомство с утопической и околоутопической литературой убеждает в том, что утопия – это феномен, объединяющий разнородные посылки и широкий спектр оппозиций: факт и вымысел, возможное и невероятное, здравомыслие и безумие, реальное и фантастическое, историческое и легендарное, сознательное и бессознательное и т. п.
Поэтому вполне допустима мысль, что утопия принадлежит к пограничному искусству, находится на стыке между обыденным и теоретическим сознанием, образным и концептуальным восприятием действительности, психологией и идеологией, религией и наукой. В ней как бы скрещиваются пути философии, религии, искусства, здравого смысла, науки и социального действия. Все это затрудняет выявление родовых признаков и особого качества феномена утопического сознания, открывает путь для далеко расходящихся его интерпретаций, превращает проблему утопии в предмет острых разногласий и дискуссий. Именно этой особенностью утопического сознания в значительной мере обусловлен широкий спектр взглядов как отечественных, так и зарубежных авторов по вопросам о сущности, основных характеристиках и исторической роли утопии.
Чтобы рельефнее подчеркнуть, о чем идет речь, приведем несколько высказываний, в которых даются прямо противоположные, взаимоисключающие оценки утопии. Так, российский исследователь Э. Араб-Оглы пишет: «Открытый в начале XVI в. Томасом Мором этот легендарный остров (имеется в виду остров Утопия. – Авт.) вскоре оказался целым утопическим архипелагом, в течение столетий оставался в глазах прогрессивного человечества символом социальной справедливости, примером вдохновения и подражания. Существовавший лишь в воображении, он оказал поистине неизгладимое влияние на все последующее развитие общества, несравненно большее, чем многие реально существовавшие государства. На весах истории идеи, заимствованные у идеальных утопических государств, значительно перевешивают золото и драгоценности, вывезенные конкистадорами из обеих Индий. Сокровища Монтесумы и выкуп Атахуальпы выглядит в исторической перспективе жалким приобретением в сравнении с воспринятыми из Утопии принципами всеобщего образования детей и равноправия женщин, с демократическими конституциями, Энциклопедией и Академией наук, с идеалами разумного общественного устройства, социального планирования и справедливости. Робеспьер вдохновлялся утопическими идеалами Руссо; после завоевания независимости Соединенные Штаты Америки положили в основу своей конституции образ правления Океании Гаррингтона, а сны Веры Павловны из романа Чернышевского «Что делать?» пробудили целое поколение революционеров в России. Вот почему не будет преувеличением сказать, что история человечества выглядела бы совершенно иначе, если бы не была открыта Утопия»[196]. При этом в подтверждение своих мыслей и оценок исследователь ссылается на хрестоматийно известные крылатые фразы, высказанные некоторыми выдающимися деятелями литературы и искусства, в глазах которых утопия являлась олицетворением гуманистических традиций и убеждений в осуществимости социальных идеалов, веры в лучшее будущее для человечества. В частности, приводятся высказывания О. Уайльда о том, что «не стоит смотреть на карту, раз на ней не обозначена Утопия, ибо это та страна, на берега которой высаживается человечество», и А. Франса, который писал, что «без утопистов прошлых времен люди все еще жили бы в пещерах, голые и несчастные… Утопия – это принцип всякого прогресса, а также попытка проникнуть в лучшее будущее»[197].
А вот совершенно иного рода оценка утопии: «Утопия не есть убежище свободы… она есть убежище тотального террора и абсолютной скуки…» Так писал известный западногерманский социолог Р. Дарендорф. Особенно негативное отношение к утопии как к какому-то рационально-логическому универсуму, подавляющему всякое спонтанное творческое проявление личности, было характерно для французских новых философов А. Глюксманна, Ж. Эллюля, А. Розлера, Я. Ландиера. Они придерживались мысли, что социальный утопизм от Мора и Кампанеллы до современного коммунизма проводил критику частной собственности и личных интересов во имя свободы государства и его деятельности с целью осуществления тотальной рационализации и регламентации. Например, Ж. Эллюль пишет: «Всякий утопизм есть триумф техницизма… абсолютная победа технического рационализма под прикрытием мечты… Утопия есть наиболее монотонный и унылый универсуум, она представляет собой Мега-Машину Мэмфорда, наконец-таки реализованную».
А может быть, утопия в одних своих проявлениях полезна и прогрессивна, а в других – вредна и реакционна? На это вопрос попытаемся ответить ниже, а сейчас зафиксируем еще одно противоречие, выделенное исследователями утопии. Оно состоит в проблеме осуществимости и реализуемости выдвигаемых утопистами идеалов и проектов общественного устройства. Ряд авторов рассматривают утопию как продукт фантазии, конструкцию воображения никогда не осуществимых социальных проектов, как произведения, не считающиеся с фактами. Такой точки зрения придерживается, например, российский ученый И.В. Бестужев-Лада. Из западных исследователей тезис о неосуществимости утопии особенно настойчиво подчеркивает Дж. Шклар. «Утопия, – пишет она, – это модель, идеальный образец которой побуждает к созерцательному предположению и суждению, но не влечет за собой никакой другой деятельности… Утопии каждая на свой манер попытались представить то вневременное “должно”, которое никогда не могло стать “есть”».
Такой подход вызывает критику со стороны авторов, утверждающих, что даже поверхностный взгляд на историю утопической мысли позволяет обнаружить в ней множество богатых прогностическим содержанием идей, воплотимость и практичность которых не может в наше время вызывать сомнений. По мнению польского исследователя Е. Шацкого, утопия оказывается значительно способней к реализации, чем это когда-либо можно было представить. Зачастую речь идет не о том, какой проект безоговорочно невозможен для реализации, а о том, что большинство не в состоянии представить себе его осуществление, или о том, что он действительно невозможен в данное время, но будет возможен завтра или послезавтра[198].
А вот мнение Н.А. Бердяева: «…Утопии могут быть реализованы. Жизнь идет к утопии. И возможно, что начинается новый век, в котором интеллигенция и образованные классы будут мечтать о методах, как избежать утопии, о возвращении к обществу не утопическому, менее совершенному, но более свободному»[199].
Итак, перед нами две точки зрения. Представители одной из них настаивают на неосуществимости и нереальности утопических идей, представители другой, напротив, видят в них образцы гениального предвидения. Такая разнополярность мнений обусловлена прежде всего неоднозначностью и внутренней амбивалентностью утопического сознания. Утопия и неосуществима, и осуществима. С одной стороны, она в соответствии с этимологией термина и обычным словоупотреблением (которое, кстати, не безосновательно), «нигде не находящееся место», а с другой – она (в этом убеждает нас вся история утопического сознания) не есть просто фантазия и оторванные от реальной жизни мечтания, а содержит в себе некое волевое начало, имеющее тенденцию воплощаться в действительность. Не зря многие утописты, подвергаемые осмеянию и издевкам за нереалистический подход к жизни, все же внушали страх власть имущим. Более того, у этих последних всегда были плохие отношения с пустыми мечтателями, с теми, кто жил верой в иные, казавшиеся недостижимыми цели и идеалы. Но если бы мысли, чувства, желания этих людей и в самом деле были безобидными фантазиями, то не было бы причин преследовать их или даже подвергать физическому уничтожению.
Возникают вопросы: На чем же держится прогностическая способность утопии? Каковы и в чем ее гносеологические возможности? В чем состоит отличие утопического проекта от социально-научного предвидения? Где грань между утопическим и научным подходами к социальной реальности? Для ответа на эти и многие другие вопросы обратимся к сущностному анализу утопии и утопического сознания.
В основе любой модификации утопического подхода к социальной действительности лежит определенный гносеологический «механизм», устойчивая совокупность приемов и методов мышления, в ходе развертывания и реализации которых вызревает (объективируется) конечный продукт утопического творчества – утопический роман, утопический философский трактат, законодательный проект и т. д. Раскрытие этих приемов и методов мышления позволяет установить, что утопическому сознанию изначально присуща устойчивая ориентация на умозрительное конструирование таких образов иного социального мира (инобытия), который был бы лишен органически присущих всякому реальному обществу внутренних противоре-чий и конфликтов, представлял бы статичную, как правило детализированную и однозначную, картину общественной жизни. Соответственно этому будут утопическими те идеалы, проекты общественной организации, в которых заложена идея однозначного (посредством устранения одной из сторон противоречия) социального инобытия, будь то положительного или отрицательного (антиутопия) характера. Именно установка на конструирование наряду с реальным обществом, строение которого не упорядочено, запутано, законы которого противоречивы и разнородны, а конфликты неразрешимы, воображаемого общества, в котором все должно быть упорядоченным, однородным и непротиворечивым, делает утопию утопией. В подтверждение сказанного достаточно сослаться на «Государство» Платона, оказавшего столь огромное влияние на последующую утопическую традицию.
Решающее значение в утопическом творчестве принадлежит вере в осуществимость идеального состояния, эмпирическую достижимость внутренне непротиворечивого общественного устройства. Сконструированный утопистом по законам воображения мир инобытия человека и всего человечества кажется ему настолько реальным и заслуживающим права называться обществом, что его искренне удивляет, почему другие этого не понимают и не спешат за ним последовать, а продолжают существовать в своем дисгармоничном и неустроенном мире, который нельзя даже назвать обществом. Утопист в данном случае основывается на догматическом моральном и идейном «абсолютизме», на убеждении, что он обладает единственной, высшей и окончательной истиной, имеющей абсолютную значимость для всех времен и народов. Из этого с необходимостью вытекает идея мессианского призвания: ведь если удалось, наконец, решить главный вопрос «Что есть истина», если ты обладаешь «абсолютом», то твой долг «спасти», «облагодетельствовать» человечество, обратить его в свою веру, даже если само оно этого не хочет. По представлению утописта, абсолютная истина, коль скоро она найдена и, безусловно, является выражением добра и справедливости, уже сама по себе, собственной силой способна покорить мир. Более того, утопист не допускает даже мысли, что у других тоже могут быть свои истины и абсолюты, обусловленные их «субъективным рассудком» (Ф. Энгельс). Все другие истины, с его точки зрения, ложны и нежизненны. Вот что гласит «Введение» к трактату великого утописта Ш. Фурье «Теория четырех движений и всеобщих судеб»: «Один лишь спор должен отныне занимать людей периода цивилизации: это спор с целью удостовериться, действительно ли я открыл теорию четырех движений, ибо в случае подтверждения следует бросить в огонь все политические, моральные и экономические теории и готовиться к самому изумительному, самому счастливому событию, какое может иметь место на этом земном шаре и на всех планетах – к внезапному переходу от социального хаоса к всемирной гармонии»[200].
В результате таких устремлений утопист попадает в плен им же самим изобретенной искусственной универсальной схемы, демонстрируя при этом наряду с иллюзорностью своих установок завидную духовную силу, нравственный ригоризм и мощный заряд эмоциональной энергии. Перестраивая мир в своем представлении и придавая своим взглядам (системе) значимость глобальных, надысторических и незыблемых «законов», утопист тем самым поступает вопреки логике социально-научного мышления, в известной мере даже воспроизводит религиозно-догматический подход к действительности, хотя и в неадекватной для него форме. Настаивая на мнимости и недолговечности окружающего и на подлинности идеального, акцентируя внимание на первичности воображаемой картины социального мира, он впадает в ту идеалистическую ошибку, которая, так или иначе, свойственна всем утопистам. Утопия, что особенно важно подчеркнуть, представляет собой вполне определенный замысел, специфическое устремление мысли и воли. В ней содержится некая скрытая до поры до времени дремлющая сила, доминирующая идея-желание, имеющая тенденцию воплощения в реальность, перехода из области воображения в область социальной практики. И эта идея-желание, или умонастроение, не является чем-либо, как может показаться на первый взгляд, совершенно неоформленным, хаотичным и аморфным. В своей действительности утопия выступает как модель усовершенствования общества на основе устойчивых организационных принципов, посредством идеально отлаженного организованного механизма. Так, Ж. Эллюль подчеркивает, что утопия ни в коем случае не должна рассматриваться как выражение свободной импровизации, непредсказуемости и нерегламентированности человеческих судеб: «Она, напротив, является псевдоматематической, логически жесткой конструкцией совершенного общественного устройства, подчиненного абсолютному и вездесущему планированию». И действительно, какого бы исторического периода утопические тексты и произведения – XVIII, XIX или XX в. – ни рассматривать, при всех различиях они имеют общую черту: во всех этих утопиях так или иначе заложено стремление подчинить органическое, спонтанно-естественное развитие истории искусственно-рациональному плану, проекту, изменить человека и общество методами волевого усилия.
Таким образом, утопическое сознание не ставит своей целью и задачей адекватное познание социальных явлений и процессов: оно ориентировано скорее на мысленное построение иного мира (инобытия), на конструирование идеальной (фантастической) реальности, выдвижение таких образов и идеалов, которые в зависимости от конкретной социальной ситуации и расстановки общественно-политических сил или воодушевляют людей и расковывают их активность, или, наоборот, уводят человека в призрачный мир, т. е. выступают как попытка снять реальные противоречия, восполнить в иллюзии существующую и не могущую быть еще реально устраненной неустроенность действительного мира. Именно в этом, на наш взгляд, скрытый мотив и тайна утопического творчества вообще. Вместе с тем это означает, что утопия не может выдвинуть достоверно обоснованный прогноз (однозначность, бесконфликтность и непротиворечивость общественной жизни не реализуема ни при каких условиях). Опираясь в основном на воображение, а не на научные и теоретические методы познания действительности, она, в сущности, пытается подчинить будущее сегодняшним нуждам, взглядам и оценкам, придать характер реальности иллюзорным надеждам и ожиданиям. Поэтому она не в состоянии выступить в качестве собственно теоретической концепции общества, способной дать реальное представление о том, каким будет общество будущего. Из этого, разумеется, не следует, что утопия лишена познавательной, в частности прогностической, способности или предрешает вопрос об историческом значении утопии, неизбежность и прогрессивность многих форм которой бесспорны. Важно подчеркнуть, что утопия и наука по-разному относятся к восприятию и пониманию социальной реальности и что в утопии имеет место только теоретико-познавательный элемент, но он является второстепенным, сопутствующим.
Познакомимся с главным методом утопических конструкций – методом абсолютизации, который является выражением самых глубинных механизмов утопического творчества, проявлением его сущности. Конструируя иной мир, утопист заимствует материал из наличной социальной действительности. Но сам подход к социальной действительности у него весьма специфичен. Он вырывает из диалектически взаимосвязанного социального целого те или иные стороны, элементы и наделяет их либо абсолютно негативным, либо абсолютно позитивным смыслом, лишая их тем самым того реального значения, которое они приобрели в ходе своего исторического развития. В результате реальный мир оказывается раздробленным, разорванным на отдельные фрагменты и части, естественная причинно-следственная и функциональная связь между которыми нарушается и деформируется. Правда, только начальная стадия работы утопической мысли является разрушительной. За ней, как правило, следует созидательная, конструктивная стадия, когда утопист стремится проделать обратную работу – воссоздать посредством вытеснения из своего поля зрения негативных элементов и сторон действительности, а также иллюзорной абсолютизации позитивных, оказавшихся в фокусе его внимания, воображаемую целостность, идеальный мир, который в своем логическом завершении во всем должен быть противоположением существующему. Утописты, как правило, выбирали в качестве символов своих картин нового мира противоположные стороны отрицаемой ими современней действительности: гармонию вместо дисгармонии; согласованность и упорядоченность вместо разобщенности и хаоса; равенство вместо социальных привилегий; законность вместо злоупотреблений властью; счастье вместо обездоленности и т. д. Естественно, возникшая таким образом модель нового мира вряд ли может в своем целостном выражении быть верным отражением социальной действительности к тенденции ее развития. Она скорее подобна кривому зеркалу, в котором в перевернутом искаженном виде отражается реальность.
Вместе с тем данная модель не является чем-то абсолютно произвольным и случайным, поскольку постулируемые ею ценности обусловлены в конечном счете уровнем развития познания, приоритетом общественных потребностей, а также социальной позицией и жизненным опытом самого утописта. Следовательно, утопизм приобретает многовариантность, обилие форм воплощения не из самого себя, а из окружающей действительности. Единственный источник его содержания – окружающий мир. И в этом смысле субъективный рассудок, желание утописта всегда имеют под собой объективную основу. Поэтому каждая конкретная утопия – важнейший документ, свидетельствующий о характере духовной атмосферы, поисках и чаяниях людей данной эпохи. В ряде случаев она может дать более глубокую характеристику своего времени, чем какой-либо юридический документ или литературно-художественное произведение, помогает высветить скрытые от обычного («реалистического») взгляда некоторые стороны действительности. Парадоксальность утопического творчества заключается в том, что оно не только оборачивается конструированием искусственных, универсальных схем. С помощью того же самого метода абсолютизации, развертывания его в ходе своего творчества до максимальных пределов утопия нередко может подняться до уровня формирования качественно новой идеи, прорваться сквозь устоявшиеся представления и парадигмы мышления, обнаружить новые и неожиданные повороты мысли. Важную роль играет образная форма выражения утопической мысли. Утопия даже тогда, когда выступала в виде социального трактата как концепции, неизменно тяготела к образно-художественному восприятию мира.
В утопии, если воспользоваться высказыванием французских литераторов братьев Гонкур, воображение действует путем анализа. В ней оно сплавлено с рациональным осмыслением фактов и явлений действительности. Открытое воображение, раскованное сознание позволяет утопическому творчеству осуществлять духовные эксперименты с большей свободой, чем в науке, которая, ориентируясь на познание законов действительности, по необходимости ищет в ней единообразие, сходство, повторяемость. Если наука жестко детерминирована природой объекта, то утопия, напротив, в своем представлении легко осуществляет, перестраивает и переделывает социальную реальность, допускает иную систему общественных связей и отношений. В существенной мере именно благодаря этому утопия способна подняться над своим временем, обогатить, обогнать или предвосхитить перспективы научного поиска. Такова парадоксальная психология и логика метода абсолютизации в утопическом творчестве, не учитывая которого невозможно проникнуть в суть воображаемых миров Платона, Т. Мора, Т. Кампанеллы, Э. Кабе, А. Сен-Симона, Ш. Фурье и всех других утопистов, понять их внутренний мир и особое состояние сознания.
Каковы же причины формирования и воспроизводства утопического сознания? Что является побудительной силой и стимулом утопического творчества?
Утопическое сознание возникает из потребности в определенных, реально отсутствующих, с точки зрения того или иного социального субъекта, значениях. При этом оно либо противопоставляет тем или иным сторонам неудовлетворяющей его ситуации положительные значения, которые являются результатом воображения, и стимулируют, активизируют деятельность людей в направлении их реализации, либо, напротив, уводят от реальных противоречий ситуации в иллюзии, вытекающие из субъективных желаний и стремлений. Иначе говоря, утопия выступает в известной мере умозрительным, иллюзорным средством реализации такой потребности, для реального удовлетворения которой исторически отсутствуют пока еще обстоятельства, не созрели условия или нет их вообще. «То, чего человек желает, чего он необходимо должен желать, – необходимо с той точки зрения, на которой он стоит, – тому он верит. Желание есть потребность, чтобы что-нибудь было, чего нет, сила воображения, вера представляет это человеку как существующее»[201]. Таким образом, потребности и интересы, выражающие неудовлетворенность наличным бытием, задают общее направление идеальному конструированию такой будущности, прообраза которой еще нет в реальной действительности.
Сопротивление человека среде начинается с поиска того, на что можно опереться. Классической иллюстрацией этому может служить утопия Платона, который «ясно увидел, что современное ему общество идет к гибели, что совершенно не за что ухватиться ни в общественной, ни в политической жизни, что нужно избрать какой-то свой путь… Поэтому Платону… приходилось использовать ту область человеческого сознания, которая всегда приходит на выручку в моменты великих социальных катастроф. Эта область – мечта, фантазия, новый и уже рационализированный миф, утопия»[202]. В этом заключается не только слабость человеческого сознания, но и его конфликтно-азрешающая сила – способность отыскивать и выстраивать жизнеутверждающие, положительные ценности. Люди оказываются в состоянии найти выход из любых противоречий. Даже если этот выход иллюзорный, тем не менее он свидетельствует о фундаментальной общественной потребности и общественной способности обнаружить не только противоречия реального мира, но и искать и находить известное единство и гармонию с этим миром.
Утопия – это такая форма сознания, которая полагает цели человека еще до того, как поняты условия и предпосылки реализации этих целей. Место утопии, следовательно, надо искать не в рамках теоретического понятия действительности, а в пределах ценностного освоения социального бытия.
Ценностное восприятие действительности не может не быть эмоционально насыщенным. Эмоционально-психологическая сфера – непременная часть утопического сознания. В нем логическая, четко осознанная аргументация в конечном счете подавляется внелогическими влияниями и внушениями, которые препятствуют беспристрастному осмыслению социальных процессов истории. Здесь ценностные установки утопического сознания, включающие мощный эмоциональный заряд, способствуют формированию устойчивых духовных образований, так или иначе направленных на изменение существующего мира.
Таким образом, утопическое творчество направлено на моделирование тех состояний социального бытия, которые в своем целостном выражении хотя и не вытекают из анализа действительных тенденций общественного развития (в этом смысле утопия – не истина), но, тем не менее, могут представляться желаемыми и необходимыми, выступать как высшая ценность. Жизнь и деятельность утопистов всех времен – яркий пример страстного стремления человека к достижению тех форм общественного устройства, которое бы полностью соответствовало его ценностям и идеалам. Вместе с тем отсюда следует, что в той мере, в какой утопическое сознание представляет собой явление эмоционально-психологического порядка, включает иррациональные и волевые моменты – в той же мере нельзя прямо и механически применять к нему критерий истинности, как это необходимо в научном познании.
В утопическом сознании синтетический результат отражения и ценностный подход к действительности всегда достигаются при ведущей роли ценностного подхода. Ему подчинены все другие признаки и свойства данного феномена. Это вытекает из специфики задач, которые должны решать познавательная и ценностно-ориентационная деятельность. Познавательная деятельность должна обеспечить гносеологическую адекватность сознания отражаемым объектам (функционально ценно именно то, что истинно); вторая – способствовать различению воздействия объектов по их отношению к личностным, групповым, классовым потребностям и интересам (истинность и заинтересованность далеко не всегда совпадают). Функционально ценным, адекватным (соответствующим своему назначению) в определенных условиях оказывается неистинное сознание – различные иллюзии, возникающие в ходе переработки, искажения результатов отражения в соответствии с различными групповыми или классовыми интересами и потребностями. Именно поэтому утопическое сознание не укладывается в рамки теоретико-познавательных норм и критериев. Оно всякий раз оказывается шире их, включает в себя волевые, интуитивные, иррациональные и прочие моменты, которые обычно стараются элиминировать ради достижения объективной истины. И в этом тоже его сила и слабость одновременно. Такими особенностями в значительной мере объясняется характерный для утопии метафизический разрыв социального целого на части, моменты, факторы, абсолютизация какого-либо одного или нескольких факторов сразу и противопоставление их друг другу, т. е. факторный подход. Отсюда также становятся понятными попытки утопистов достичь состояния гармоничности социального бытия благодаря просвещенным монархам, то филантропии капиталистов, то, наконец, деятельности бескорыстных друзей человечества и т. д. Здесь в полней мере выявился взгляд утопистов на дело осуществления ими же выдвинутого социального идеала как на подбор удачных инструментов, рецептов и средств. Подобное не могло не вести утопистов к крайней метафизической односторонности, которая выражалась прежде всего в том, что они в своем представлении об осуществлении идеала могли легко, например, абстрагироваться от политической деятельности и сосредоточить свое внимание лишь на одной социальной области или, иначе, полностью удалять всю социально-экономическую сферу из исторического движения и возложить надежды исключительно на политическую практику и активность, на мгновенный революционный взрыв и т. п.
Подход утописта к социальной действительности, исходя из отвлеченных понятий, вытеснение из поля его зрения нежелательных элементов, односторонняя абсолютизация тех или иных факторов, непонимание исторической закономерности и необходимости находили свое наиболее адекватное выражение в рассматривании образа идеального (анти-идеального) общественного устройства и вне контекста прошлое – настоящее – будущее, в игнорировании объективной последовательности событий, в их генетической связи и обусловленности, т. е. в антиисторизме. Антиисторизм – родовая черта утопического сознания. Его рассмотрение позволяет выявить ряд взаимосвязанных между собой важнейших характеристик и особенностей утопического сознания.
Специфика утопического сознания проявляется прежде всего в непонимании утопистами необходимости переходного периода от одного состояния общества к другому, в убеждении, что будущее состояние цельности бытия, свободного от противоречий, может быть достигнуто одноразовым применением какой-либо универсальной схемы. Этот прием мышления сопровождается рассмотрением настоящего и будущего как категорий, находящихся не только на разных полюсах шкалы ценностей (настоящее отождествляется с чем-то неподлинным, будущее – с чем-то подлинным и совершенным), но и как категорий, почти не соединенных логической нитью исторической преемственности. В результате устраняется вопрос о становлении, время лишается своего естественного течения, объективность процесса развития игнорируется, а будущее всегда выступает как нечто готовое и законченное. Отсюда максимализм утопии, ее альтернативность (черта, наиболее рельефно обнаруживающая себя в период революционных перемен). В данном случае мышление утописта вращается в рамках метафизически абстрактной схемы «или-или», его видение реальности – черно-белая фотография, в которой не фиксируются вторичные и сложные связи, нет сложного диалектического переплетения противоречивых тенденций, полутонов, оттенков.
Антиисторизм утопического сознания проявляется также и в статичности выдвигаемых утопией идеалов и моделей нового социального бытия. Этот признак характеризуется тем, что в отличие от науки, которая всегда дает динамическую картину, где все прогнозируемые обстоятельства воспринимаются как моменты одного непрерывного диалектического процесса развития (причем процесса, который может быть понят не иначе, как результат реальных условий, движущих сил и закономерностей), утопия дает застывший, неподвижный образ предсказываемых обстоятельств. Идеал, выдвигаемый утопией, будучи не результатом анализа реальных исторических закономерностей, а в той или иной степени произвольным изобретением утописта, неизбежно должен ассоциироваться в его сознании как с чем-то абсолютно совершенным и законченным, так и с представлением о завершении (финале) и исторического процесса, и его познания (совершенство, коль скоро оно достигнуто, не нуждается в развитии и изменении).
Ясно, что в такого рода схему мышления невольно должно было вкрадываться убеждение о том, что цель оправдывает средства. Это отразилось прежде всего на отношении к человеческой личности, которая, ввиду того что реализация цели (идеала) рассматривалась как ключ к разрешению всех человеческих проблем, оценивалась как не имеющее самостоятельного значения средство, инструмент реализации цели. И это логично. Если будущее ожидает нас уже в готовом и совершенном виде и необходимо лишь приложить усилия, чтобы побыстрее к нему добраться, то стоит ли стесняться в средствах? В этом случае сама мысль о том, что средства способны изменить цель, кажется попросту лишенной смысла и нелепой. За утверждение абсолютной истины можно и должно бороться любыми средствами.
Догматическое отношение к цели выражалось в мелочной регламентации общественной жизни, в стремлении абсолютно подчинить личность обществу. Достаточно вспомнить, например, надсмотрщиков Т. Мора и Т. Кампанеллы; представления Э. Кабе об обществе будущего, где жизнь рабочих организована чуть ли не по армейским принципам; индустриальную армию Э. Беллами, утопией которого, как известно, восхищались отставные армейские офицеры; Б.П. Анфантена и других сенсимонистов, стремящихся регламентировать не только труд, но и все проявления человеческой жизни, начиная от свободы совести и кончая прической и костюмом; регламентированные миры Г. Уэллса и О. Хаксли, чтобы убедиться в этом. Наши современники, знакомясь с содержанием ряда утопий прошлого, могут даже подумать, что перед ними сознательные антиутопии, в которых иное человеческое состояние изображается заведомо в мрачных тонах, и в известной мере разделить весь ужас «Человека из подполья» Ф.М. Достоевского, прийти к выводу, что нет более суровой, говоря словами Гегеля, тирании, чем тирания абсолютной добродетели и морали.
Даже реально существующее пространство, природа и творения рук человеческих подвергаются утопистами отрицанию, поскольку, с их точки зрения, все это дисгармонично, неупорядочено, асимметрично. Руководствуясь стремлением к тотальной организованности, правильности и стабильности, утопист в своем воображении перестраивает существующее реально пространство и выдвигает в противоположность ему образ симметричного, во всем организованного утопического пространства, будь то пространство города, острова или группы островов.
Жгучее желание утописта избавиться от кошмара настоящего, наблюдаемого социального хаоса, несправедливости и распущенности каким-то парадоксальным образом оборачивается в утопическом творчестве конструированием кошмара будущего, неспособностью утописта представить себе будущее человеческое общество как ассоциацию свободных и непохожих друг на друга людей. Ценой совершенной, добродетельной и благой жизни в изображаемой утопистом картине нового мира чуть ли не всегда становится полная регламентация, пожизненная специализация и жесткое подчинение индивида какому-то верховному авторитету. Складывается впечатление, что утопист стремится подойти к общественному бытию с инженерной точки зрения, как к некоему идеально отлаженному организационному механизму (машине). В итоге стремление к раю на земле грозит обернуться адом.
И тем не менее, утопия в ходе своей эволюции во все возрастающей степени приближается к более верному отражению социального бытия, в ней все более плодотворно проявляется проективная способность человеческого сознания и его конструктивно творческий характер. Вот почему утопия зачастую, по крайней мере субъективно (отражая точку зрения ее создателя), начинает казаться основанной на мысли, полученной научным путем. Это, разумеется, не означает, что простое количественное накопление познавательных элементов может привести утопию к постепенному ее превращению в науку. Как наука, в силу исторической обусловленности и относительности всякого знания, не теряет свою качественную определенность по причине того, что в ней возможны неточности, заблуждения и подобное в познании социального мира, так и утопия, сколь бы верно она ни отражала те или иные стороны социальной жизни, до тех пор, пока данное отражение базируется не на познанных социальных закономерностях, а исключительно на ценностном отношении к социальному бытию, не теряет качественной определенности утопии как таковой.
Итак, утопия – это особая форма духовно-ценностного освоения социальной реальности, состоящая в создании методами абсолютизации и умозрительного конструирования, как правило, максимально детализированных образов (моделей, идеалов и т. д.) бесконфликтного, внутренне непротиворечивого и не подлежащего изменениям общественного устройства, призванного обеспечить определенное желаемое (позитивная утопия) или нежелаемое (негативная утопия) состояние человечества и человека. Утопия выдвигает такие проекты и идеалы, которые не основываются на достоверном знании объективных закономерностей, а вытекают в основном из ценностного отношения к социальной действительности, и поэтому в целом, т. е. в том виде, в каком первоначально задумываются, никогда не осуществимы. Однако в случае совпадения ценностной ориентации, на основе которой они конструируются, с объективной тенденцией исторического развития они могут содержать крупицы истины, верно отражать те или иные стороны социальной жизни и, следовательно, быть осуществимыми в своих частностях и элементах и играть значительную роль в становлении и развитии социальной науки.
Отдельно остановимся на рассмотрении роли утопизма в жизнедеятельности общества, и на его социально-политических функциях.
Глава 30 Утопия как духовный стимул массовых действий людей
Исторический опыт свидетельствует, что влияние тех ИЛИ иных идей на жизнь общества, как правило, не находится в прямом соответствии с их истинностью или, напротив, их ложностью. Поэтому для понимания действительного значения недостаточно оценить идеи с чисто гносеологической точки зрения. Практически значимым, действенным нередко оказывается неистинное сознание – социальные иллюзии, ложные идеи, полуистины.
Воздействие утопических идей на общественное развитие реализуется через их принятие и поддержку людьми, непосредственно участвующими в социальном движении. Следовательно, активность утопии, степень ее влияния на ход исторических событий зависит прежде всего от того, насколько обнаруживается механизм ее проникновения и распространения в массовом сознании.
Эмоционально волевой тон, нормативно-ценностная окрашенность и образность, отличающие утопию от научно-теоретических концепций, делают ее более удобной для усвоения массовым сознанием, способствуют ее сравнительно легкому превращению в практическое умонастроение и социальное поведение.
Вообще, на иллюзорной вере в реальность должного, в то, чего очень хочется (желаемое будущее) и на нетерпеливом отрицании того, чего «очень не хочется» (нежелаемое настоящее) построены многие человеческие поступки. В самом деле, знание всех возможных в будущем следствий наших действий, перспектив, с ними связанных, и ответственности за них скорее сдерживает, а не побуждает человека к поступку. Напротив, иллюзорные идеалы и ценности легко могут стать объектом веры, приобрести форму практических велений и императивов общественной борьбы, выступать побудительной силой и фактором социального поведения, социальных потрясений и даже трагедий. Дополнительным стимулом действия может служить простое незнание всех возможных его последствий и даже отказ от их знания. Это в полной мере касается и утопического сознания. Овладев массовым сознанием, утопизм может обрести огромную инерционную силу и взрывной потенциал. Им нельзя пренебречь, с ним нельзя не считаться в политико-идеологической сфере, нельзя просто отсечь или отбросить его. В этом случае утопизм, как всякое иное духовное образование, становится материальной силой. Его история – не только история иллюзий, мечтаний, сновидения, но и в известном смысле реальная история того или иного народа, страны.
Нередко утопические стремления и ожидания оказывались способными влиять на ход истории. Они занимали значительное место в структуре субъективного фактора и направляли, хотя бы короткое время, социальную деятельность многих тысяч людей; через действия масс, через практику политических партий активно вторгались в жизнь и воздействовали на нее. В этом смысле утопия, несомненно, представляет собой одну из форм социального действия и поведения. Переходя из области воображения и моральных представлений в область социальной практики, она становилась руководством к действию.
Сказанное не означает, что продуцируемые утопическим сознанием идеалы оказываются способными к буквальному осуществлению. Утопизм, даже имея за собой силу социального движения, став сознанием этого движения, тем не менее является неадекватным подходом к социальной действительности. Результат реальных действий, инспирируемый им, никогда не совпадает с выдвигаемой и изображаемой им целью. Но он, никогда не осуществляясь в целом (в своих притязаниях на достижение гармонического, внутренне непротиворечивого общества), нередко являлся способным к осуществлению с организационной стороны. Свидетельство тому – социально-утопические эксперименты, организация общин, фаланстеров, сельских коммун, трудармий и т. д. Здесь утопизм, приходя к результатам, как правило, прямо противоположным ожидаемым, зачастую оказывался способным к реализации с точки зрения своих внешностных характеристик регламентации, установления определенного распорядка, образа жизни и т. п.
Существует два способа воздействия утопизма на социально-политическую практику – прямой и косвенный. Прямое воздействие утопии прослеживается тогда, когда она непосредственно выступает в качестве программы действия тех или иных классов и социальных групп. Косвенное воздействие – когда включение утопии в социальную динамику опосредуется программами неутопического характера.
Степень воздействия утопии на социальные процессы зависит от того, в какой мере она в состоянии внушить массам убежденность в проблематичности существующих отношений, в необходимости выбора между ними и какими-то новыми общественными отношениями. В этом случае утопизм, с одной стороны, выступает симптомом кризиса существующей общественной организации и появления контридеологии, с другой – симптомом появления силы, способной выйти из этого кризиса. Кроме этого, утопизм нередко мог выступать непосредственно в качестве идеологии массовых социальных движений. Так, в эпоху крестьянских войн и буржуазных революций утопист осуществлял функции критики и социальной реконструкции, воодушевления, активизации и интеграции масс. Он противопоставлял тем или иным сторонам неудовлетворяющей ситуации положительные значения, которые, будучи результатом воображения, стимулировали деятельность людей в направлении их реализации. При этом надо подчеркнуть, что утопизм, ввиду своей критической направленности, критики существующего общественного порядка и устройства с позиций выдвигаемого им социального идеала так или иначе выполнял ориентирующую и нормативную функции в жизни общества.
Но и в этом случае, как и во всех других, утопизм проявляет амбивалентность и противоречивость. Поскольку стремления к реализации утопического идеала не опираются на необходимую и достаточную материальную базу, реальные возможности и потенции общественного развития, постольку в сознании носителей утопизма может наступить крутой перелом. В такой ситуации обнаруживается тенденция превращения утопизма в конформистское сознание, и он начинает выполнять функции механизма психологической защиты. Особенность утопий такого рода состоит в том, что с их помощью символически и иллюзорно разрешаются противоречия, которые практически не разрешимы в данных условиях. Неудовлетворенные делания и стремления всего лишь проецируются на замещающий их иллюзорный объект (гипотетический идеал, образ и подобное будущего общества). Путем сопереживания и идентификации утопизм переводит в сферу иллюзии и воображения реально значимые потребности и интересы, создает иллюзорный эффект целостности реально противоречивого и разорванного мира и, следовательно, выполняет функции компенсации и социального эскейпизма. При этом особенно большое значение имеет художественно-образный элемент утопии. Именно через художественную, образную форму воспроизведения какой-либо идеи удается обеспечить эффект сопереживания, возникновение состояния катарсиса, где психологическое разрешение конфликта, психологическое удовлетворение потребности занимает центральное место.
Эта функциональная способность утопизма в определенные исторические периоды (особенно в кризисных ситуациях) бывает необходима и неизбежна, ибо дает психологическую устойчивость, иллюзорную видимость овладения ситуацией и преодоления острого конфликта, противоречия, которое осознает мыслитель или какая-либо группа, класс и которое может быть преодолено в настоящий период только в фантазии.
Умозрительное приобщение к воображаемому и желаемому миру с помощью утопизма способно вызвать стремление к моментальному изменению существующей действительности, к быстрейшей практической реализации цели и вести к представлению о мгновенном наступлении новой, счастливой жизни. В данных случаях утопизм может стать доминирующей формой проявления субъективного фактора истории, быть началом организующим – формировать настроение, интересы, заражать и вдохновлять людей на те или иные социальные действия и даже преодолеть «детерминизм социальной закономерности» (Н. Бердяев).
Такого рода ситуации чаще всего имеют место в периоды революционных потрясений. И действительно, можно ли представить революцию без взрыва страстей. Сам эмоциональный заряд революционного движения неизбежно рождает утопическое умонастроение. В этом смысле утопизм – обязательный спутник революции. Он практически всегда становится ее неизбежной духовной пеной. В принципе, вряд ли найдется пример в истории, когда какое-либо революционное движение было совершенно однородным и все его составляющие социальные силы руководствовались только строго научной теорией, исключающей всякую партикулярность интересов, облекаемых в различные идеологические формы.
Революционный утопизм является практическим приложением утопического мышления к жизни общества, к социально-политической практике. Он воодушевляет людей на борьбу, выступает как мощный катализатор энергии и энтузиазма масс. Вместе с тем он создает иллюзорное представление о мгновенном скачке в совершенство, идеальное состояние, когда желаемое где-то и когда-нибудь превращается в здесь и сейчас, оказывается в пределах досягаемости. В этом смысле утопизм – «опиум революционера – наркотик, вызывающий прекрасные сны, после которых наступает кошмарное пробуждение»[203].
Носителям революционного сознания практически всегда характерна утопическая вера в то, что исторические цели гораздо ближе, чем они есть в реальности и что революция как бы одним актом, чуть ли не в один день преобразит жизнь общества. С их точки зрения, нужно только победить врагов и установить соответствующие нормы поведения людей.
Конечно, не всякий утопист является революционером, и не всякий революционер – утопистом, но если утопист вступил на революционный путь, то он не остановится ни перед какой крайностью. «Убежденный в достоинствах своего проекта, он готов платить любую цену за его реализацию. Из любви к человеку он будет сооружать гильотины, во имя вечного мира вести кровавые войны»[204].
Не беда, если бы утопический подход к преобразованию общества оставался на бумаге, только мечтой – как в утопиях Мора, Кампанеллы, Мелье, Морелли и др. Как свидетельствуют факты истории, нередко утопические проекты оказываются соблазнительными, овладевают волей, становятся руководством к действию. Это происходит в соответствии с их содержанием, т. е. в сущности на основе внешностно-организационных мер, принудительного нормирования, когда активно пытаются искоренить существующее общественное зло и полностью преобразовать жизнь общества и человека. Именно тогда и выявляется их деструктивное, разрушительное начало.
Утопия может казаться привлекательной и прогрессивной и на самом деле быть таковой, пока она остается только мечтой, надеждой на будущее. В данном случае она способствует критическому осмыслению социальной реальности, выдвижению новых альтернатив общественного развития, позволяет осуществлять сравнительный анализ различных моделей будущего общественного устройства и т. д. Но стоит ей превратиться в социальную инженерию, как она сразу же начинает ставить человеку опасные ловушки, превращается в свою противоположность – антиутопию. Это вытекает из сущности утопического сознания, важнейшими характеристиками которого, как уже отмечалось, являются непротиворечивость мысленно сконструированного образа общества, абсолютизация провозглашаемых принципов, установка на преобразование реальности посредством одноразового применения какой-либо универсальной схемы, максимализм и метафизичность в подходе к изменению общества, стремление к стандартизации, регламентации и симметрии, нравственный ригоризм и нетерпимость к критике и т. д.
Самым удивительным и неожиданным превращением в судьбе утопии является то, что она не только вопреки своему первоначальному замыслу приводит не к добру, а к злу, не устраивает, а разрушает, но и каким-то странным и непостижимым образом превращает утопистов и их последователей из самоотверженных ревнителей блага и счастья человеческого в откровенных тиранов и узурпаторов. Есть какая-то своя парадоксальная и противоречивая логика, заложенная, по-видимому, в самой природе утопического сознания. Иначе как объяснить роковую диалектику, приведшую Белинского от всеобъемлющей любви к человечеству и отдельному человеку к требованию «тысячи голов» или превратившую аскетического и добродетельного человека в личной жизни Робеспьера в хладнокровного тирана, а многих наших пламенных революционеров – в палачей-чекистов, о чем с таким глубоким проникновением пишет русский философ С.Л. Франк[205].
В реальной практике претензии утопизма извне навязать неустроенному и дисгармоничному миру принципиально новые формы социального бытия, планомерно перестроить жизнь людей посредством единой направляющей разумной воли всегда наталкивались на упорное и неустранимое сопротивление старого мира. Старый мир, несмотря на все свое несовершенство, неорганизованность и неупорядоченность, почему-то сопротивляется своему разрушению, не торопится перестраиваться в соответствии с предлагаемой ему моделью, какой бы идеальной она не представлялась ее авторам. Данное обстоятельство, или, точнее, сама логика начатых преобразований, ставит одержимого своей идеей утописта перед необходимостью сломать данное сопротивление, устранить все внешние препятствия на пути к реализации идеала, всецело обращает его деятельность на разрушение существующего, именно с этого и начинают все революционеры, руководствующиеся утопическим замыслом утвердить абсолютно совершенный и новый порядок жизни. Им и в голову не приходит, что их установки могут находиться в фундаментальном противоречии со сложностью человеческого бытия, что есть нечто неподвластное воле человека и не может быть изменено каким бы то ни было волевым усилием. Как проявление случайности, злой воли, как нечто противоестественное воспринимается ими факт существования людей, не соглашающихся на строительство «нового» мира, обеспечивающего им полное спасение. Эти люди, с их точки зрения, просто ненормальны. Они во имя добра и справедливости должны быть изолированы, подавлены, наконец, уничтожены. В итоге получается, что стремление к утверждению общественного идеала постепенно подменяется антиобщественной деятельностью, основной целью которой становится устранение противников будущего идеального общественного устройства, всех тех, кто защищает настоящее. Так, шаг за шагом, пробивает себе дорогу тенденция к деспотизму, насилию, которая в своем логическом завершении грозит обернуться всеохватывающей тиранией.
Утопизм вопреки своим первоначальным установкам роковым образом увлекается на путь тотального террора, превращая своих творцов и последователей из «невинных» мечтателей и фантастов в деспотов и тиранов. Такова в самом общем и поэтому неизбежно систематизированном виде судьба практических попыток воплощения в реальную жизнь утопического идеала абсолютно совершенного общественного устройства.
Практическая роль утопизма сложна, двойственна и противоречива. Особенности утопизма обусловлены не только многозначностью его социального наполнения (субъектом утопического сознания могут выступать различные социальные слои и группы), но и в том, что он помимо социально-активизирующих функций может выполнять и весьма часто выполняет функции социального эскейпизма, бегства от действительности в мир иллюзии. Кроме того, даже на уровне эмпирического наблюдения можно обнаружить, что в развитии утопического сознания имеются определенные ритмы его функциональной активности: в одни исторические эпохи она обладает активной творящей силой, а в другие – оттесняется на задний план общественной жизни. Эти свойства утопического сознания зависят, в конечном счете, от конкретно-сторической ситуации, социально-политического и общекультурного контекста той или иной страны или народа.
В заключении имеет смысл сделать оговорку. Понимая всю необходимость развития критической рефлексии в отношении утопизма, видя в этой рефлексии эффективный инструмент очищения общественного сознания от опасных иллюзий, одно из условий преодоления в нем всевозможных патологических состояний, мы, вместе с тем, не должны доводить критику утопии и утопического сознания до полного отрицания каких бы то ни было социальных идеалов, до отождествления этих идеалов исключительно с ложным сознанием. В настоящее время подобное предостережение приобретает практически значимый смысл: развернувшаяся у нас критика социализма как реальности и как идеологии, своим острием сплошь и рядом направленная против социальных идеалов вообще, характеризуется попытками квалифицировать всякие идеалы как изначально утопические. Иначе говоря, критическое отношение к утопическому сознанию, ставшее фактом сегодняшней духовной ситуации, все чаще и чаще переносится на само понятие социального идеала, а осознание опасности реальных попыток осуществления утопических идей оборачивается негативным отношением к идеалам как таковым. Между тем очевидно, что без общепринятых социальных идеалов, без их воодушевляющей силы в принципе невозможно вырваться из того кризисного состояния, в котором оказались восточноевропейские страны. Диффузность общественного сознания, отсутствие в нем системообразующей ценностной идеи делают общество крайне уязвимым, не способным к мобилизации усилий для преодоления кризиса.
Именно поэтому проблема осмысления причин и характера взаимосвязи и взаимопроникновения утопии и социальных идеалов, а также определение научно обоснованных критериев различия между утопическими и неутопическими идеалами, между идеалами гуманными и антигуманными, между идеалами, свободно выбранными человеком и навязанными ему, становятся в условиях переходного общества приоритетными. Сегодня нам как никогда необходимо научиться отличать идеалы, ведущие к постепенному совершенствованию и гуманизации общественной жизни, вытекающие из традиции и исторического опыта народа, от идеалов, ввергающих нас в бездну преисподней, в тупики саморазрушения и безысходности. В данных условиях критическая рефлексия в отношении утопии и утопического сознания как раз и призвана стать действенным противоядием против постоянно имеющей место опасности превращения здоровых социальных идеалов в идефикс, в идолов, требующих кровавых жертвоприношений.
Для полноты рассматриваемой здесь картины развития утопического сознания необходимо хотя бы кратко специально остановиться на анализе антиутопии как своеобразного литературно-социологического жанра, получившего в XX в. небывало широкое распространение и популярность.
Глава 31 Век антиутопий. Антиутопия как наиболее рельефное выражение пессимистического видения будущего
В XX в. антиутопия явила собой наиболее рельефное выражение антисциентизма и антитехнократизма, выступила как абсолютно полное и концентрированное воплощение пессимистического выражения будущего. В ней глобальные противоречия современного общества достигают предельных форм выражения, гипертрофируются и в таком виде экстраполируются в будущее, тем самым лишая его всякой позитивной ценности. В отличие от принципа надежды (по выражению Э. Блоха), внутренне присущего утопизму прошлых эпох, в антиутопии постулируется принцип отчаяния. Для антиутопии характерно отречение от всего того, на чем стояла прежняя утопическая мысль: от веры в разум и в возможности человека, от установки на равенство и счастье людей, от преданности идее прогресса и от надежд на педагогику, от представлений о естественности добра и необходимости социальной справедливости. Она строится на абсолютном пессимизме, исключающем какую бы то ни было веру в духовные и нравственные силы человека. Субъект антиутопического творчества полностью отрицает утопию как представление о недостижимом желаемом. С его точки зрения, развитие общества идет к достижимому нежелаемому. Однако разувериться в возможности добра и справедливости не значит избавиться от иллюзий. Отрекшись от традиционных утопических ценностей, антиутописты не смогли преодолеть утопический подход как таковой к социальной действительности. Детализированным, непротиворечивым и однозначным картинам идеально совершенного общества, изображаемого утопистами прошлых эпох, ныне противопоставляются столь же однозначные и непротиворечивые картины идеального несовершенного общественного устройства будущего.
В конгломерате беспрерывно сменяющих друг друга антиутопий или негативных утопий (дистопий) непреходящей популярностью пользуются, однако, немногие. Среди них прежде всего «Мы» Е. Замятина (1884–1937), «О дивный новый мир» О. Хаксли (1894–1963) и «1984» Дж. Оруэлла (1903–1950). Е. Замятин в некотором смысле является родоначальником этого жанра (мы говорим «в некотором смысле», поскольку антиутопизм, понятый как негативная реакция на те или иные идеалы позитивного утопизма, существовал задолго до Замятина). Замятин первый в полной мере связал данный жанр с критическим осмыслением последствий научно-технического прогресса, а также с реальной опасностью становления тоталитаризма, еще мало кем осознанной в то время. Этим он придал ему новое направление и смысл. К настоящему времени его роман «Мы» стал классическим произведением антиутопического жанра.
О. Хаксли задумал свой роман как пародию на технические утопии Г. Уэллса. В своем романе он ярко и красноречиво нарисовал образ богатого утилитарного стандартизованного и полностью подчиненного власти технократов общества будущего. Действие романа происходит в VII в. «Эры Форда», девизом которого являются три принципа: «общность, идентичность, стабильность».
«Дивный новый мир» состоит из обезличенных людей, от рождения предназначенных для выполнения определенных трудовых функций. «Воспитание» человека здесь начинается с момента эмбрионального развития, которое происходит в специальных колбах. Для каждого индивидуума без исключения, от высшего (альфы) до слабоумного (морона), устанавливается раз и навсегда определенный режим труда, отдыха, одежды, напитков и т. д. Хаксли подчеркивает, что этот рационализированный, благоустроенный и комфортабельный мир в корне противоречит подлинно человеческой жизни и человеческим чувствам. Показателен в этом отношении следующий описанный в романе эпизод. В «дивный новый мир» случайно попал молодой человек, Дикарь, воспитанный в индейской резервации на классических произведениях Шекспира и мифах. В диалоге с Главным контролером Европы Мустафой Мондом этот юноша выразил свое возмущение по поводу только что открытой им цивилизации и потребовал права быть несчастным:
«– Не хочу я удобств. Я хочу Бога, поэзии, настоящей опасности, хочу свободы, добра и греха.
– Иначе говоря, Вы требуете право быть несчастным, – сказал Мустафа.
– Пусть так, – с вызовом ответил Дикарь, – Да, я требую.
– Прибавьте уж к этому право на старость, уродство, бессилие, право на сифилис и рак; право на недоедание; право на вшивость и тиф; право жить в вечном страхе перед завтрашним днем; право мучиться всевозможными лютыми болями.
Длинная пауза.
– Да, это все мои права, и я их требую»[206].
Хаксли полагает, что в будущем общество в результате развития научно-технического прогресса превратится в социально устойчивый тоталитарный строй. Предвидимые достижения физико-технических, химико-биологических и социально-психологических циклов наук позволят правящей элите, с одной стороны, материально умиротворить массы и тем самым избавить общество будущего от экономических предпосылок возмущения масс, с другой – осуществить глубокую революцию человеческого тела и духа, т. е. сформировать конформистский тип человека, не способного к борьбе и самостоятельному мышлению. Конечным итогом этих преобразований объективно будет разрешение проблемы счастья, суть которой сводится к тому, чтобы заставить людей полюбить свое собственное рабство и тем самым обеспечить устойчивость и равновесие социального организма.
Специфика антиутопий состоит в том, что они не содержат позитивных идеалов и конструируют пессимистические образы будущего. Эти образы являются, во-первых, результатом доведения до абсурда идеалов позитивного утопизма, во-вторых – результатом доведения до максимума некоторых реальных тенденций в развитии общества, особенно тенденций в развитии науки и техники.
В первом варианте антиутопия не обязательно должна выдвигать свою систему ценностей. Ее создателей больше интересует, как выглядел бы мир в случае успешного осуществления идеалов противоположной стороны. Причем цель данного рода утопий – дать такое описание этих идеалов, которое доказало бы, что они в корне антигуманны, вредны и неосуществимы.
Во втором варианте, однако, антиутопия выражает протест, определенную реакцию на те или иные социальные процессы в условиях современного общества и на те вполне реальные последствия, которые они в этом обществе вызывают.
В результате мрачные картины, изображаемые антиутопией, представляют собой предупреждение, предостережение по поводу судьбы, ожидающей человечество, если оно не свернет с того пути, по которому идет. Они, как и идеалы позитивного утопизма, отражают реальные проблемы своей эпохи, придают им выразительность, выпуклость и тем самым способствуют их разрешению. Причем особенно важную роль здесь играет художественная форма выражения антиутопического произведения. Именно с помощью художественных средств антиутопия способна дать наиболее рельефное представление о парадоксальных и грозных перспективах тех или иных тенденций общественного развития, высветить скрытые от простого наблюдения многие аспекты и стороны социальной действительности. Абсурдность бытия, которая еще большинством не замечена и не осознана, выступая объектом художественной гиперболизации, становится зримой, очевидной. В этом великая гуманистическая сила, значение и актуальность антиутопии.
Тотальная организация, тотальный контроль, тотальный обман и самообман – вот три кита, на которых в основном строятся современные антиутопии. Современный антиутопизм представляет собой своеобразную форму критики технической цивилизации, ее болезней и пороков, выступает как честная попытка предупредить, указать, какие беды и опасности, препятствия и трудности возможны и вероятны на пути человечества. В этом смысле антиутопизм сознательно или бессознательно является манифестацией необходимости иного, лучшего мира. Его критика настраивает, заставляет людей задуматься.
Американский философ Г. Маркузе, например, вполне серьезно опасался, что наметившиеся тенденции в развитии современного капитализма, если им не воспрепятствовать, приведут к превращению человеческого общества в «дивный новый мир» Хаксли и оруэллианскую звероферму. Стоит отметить, что фантастические образы будущего романов-антиутопий как навязчивая идея неотступно преследуют представителей всех форм пессимистического утопизма и тем самым способствуют более глубокому осознанию негативных тенденций в развитии современного общества.
Вообще в наше время свою полезность утопия сохранила прежде всего в качестве специфического жанра научно-фантастической литературы. Полезность утопии обнаруживается в том, что она позволяет предвосхищать вероятное отдаленное будущее, которое на данном уровне познания не может быть научно предсказано в конкретных деталях; она может и предвосхищать отрицательные социальные последствия человеческой деятельности, опасности нежелательных тенденций в развитии общества. Именно такими являются романы К. Чапека «Война с саламандрами», Р. Бредбери «451° по Фаренгейту», К. Воннегута «Колыбель для кошки», Лао Шэ «Записки о кошачьем городе» и др. Сюда можно отнести также «Туманность Андромеды» И. Ефремова, «Магелланово облако», «Возвращение со звезд» С. Лема, «Трудно быть богом», «Полдень, XII век» Стругацких и др. Особого внимания в этом плане заслуживает знаменитая антиутопия А. Платонова «Чевенгур».
Подобного рода утопии, несомненно, оказали значительное стимулирующее воздействие на развитие такой отрасли социологии, как социальное прогнозирование, в частности, вызвали к жизни методы нормативного прогнозирования и сценариев с целью анализа и оценки желательности и вероятности предполагаемого развития событий.
Тем не менее, несмотря на ряд параллелей как в социальном, так и гносеологическом смысле, классическая позитивная и современная негативная утопия не равнозначны и не тождественны, ибо если позитивный утопизм помимо критики «сущего» выдвигает идеалы «должного», то негативный утопизм ограничивается лишь критикой «сущего», прямо не выдвигая идеалов «должного». В лучшем случае идеалы негативного утопизма могут присутствовать в скрытой форме, косвенно, опосредованно вырисовываться из контекста самого содержания того или иного произведения данного жанра. Иными словами, нормативный элемент, всегда так или иначе присущий позитивному утопизму, в негативной утопии выражается в незначительной степени и проявляется лишь в отрицательной форме. И что здесь интересно: не всегда просто ответить, каков вариант предпочтительнее. Если благие намерения позитивного классического утопизма грозили нередко обернуться (а иногда и на самом деле оборачивались) адом, то мрачные картины будущего антиутопий если и не прокладывают дороги в рай, то, по крайней мере, предупреждают о возможных опасностях. В этом очередной парадокс утопического творчества.
Раздел IX Проблемное поле социальной философии в начале iii тысячелетия
Глава 32 Современная глобальная ситуация. Сущность и типология глобальных проблем
Поколение, к которому мы принадлежим, является свидетелем и участником драмы всемирного масштаба – изменения типа цивилизационного развития и способа человеческого жизнеустройства. Техногенно-потребительская цивилизация, победно шествовавшая по миру в течение последних четырех столетий, сегодня обнаружила свою историческую несостоятельность, породив ряд глобальных кризисов и обнажив «пределы роста». Экологическая, демографическая, термоядерная и другие проблемы являются уже не только предметом изучения специалистов, но стали реалиями повседневной жизни и угрожают самому факту существования человеческого рода. Можно сказать, что вторая половина XX в. прошла под знаком возрастающей угрозы уничтожения человечества в катастрофе глобальных потрясений.
Осознание факта, что процесс общественного развития становится все более противоречивым и опасным, пришло к наиболее чутким мыслителям еще в XIX в. В творчестве таких европейских философов, как А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше явно слышны мотивы кризиса, мрачные предчувствия, ожидания скорой гибели западной цивилизации. В русской философии идея ложности и исторической обреченности буржуазно-апиталистического общества, созданного в Западной Европе и Северной Америке, вообще была общим местом социально-илософских учений от славянофилов до евразийцев. В начале XX в. эти идеи нашли свое преломление и в естественных науках. Зримо обнаружившиеся процессы разрушения биосферы породили такое понятие, как «охрана природы», а в 1960-е годы возникает термин «глобальные проблемы». К этому времени стало очевидно, что клубок острейших социальных противоречий запутывается все туже, а их последствия могут быть ужасными. Например, человечество осознало, что если раньше отдельный индивид был смертен, но оно как целое бессмертно, то сейчас в огне термоядерной войны могут быть уничтожены не только люди, но и вообще все живое на Земле. Кроме того, резко обострились проблемы голода, бедности, состояния природной среды.
К сегодняшнему дню сложилась целостная концепция глобальных проблем современности, опирающаяся на достижения современной науки и философии. Согласно этой концепции под глобальными проблемами следует понимать комплекс острейших социоприродных противоречий, затрагивающих как мир в целом, так и отдельные регионы и страны. Проблемы глобального уровня относятся к числу наиболее важных и настоятельных задач, требующих незамедлительного решения со стороны человечества как коллективного субъекта. Исходя из данного определения, выделим сущностные признаки глобальных проблем: 1) глобальные проблемы не влияют на жизнь не только отдельных индивидов и групп, но и определяют судьбу всего человечества, другими словами, планетарное будущее во многом зависит от успеха или неуспеха их решения; 2) они не решаются сами собой или даже усилиями отдельных стран и народов, а требуют совокупных действий всего человечества; 3) глобальные проблемы тесно связаны.
К первой группе относятся проблемы, рассматривающие отношения основных социальных общностей человечества: Востока и Запада, Севера и Юга, богатых и бедных стран. В последнее время все более значимым фактором международной конкуренции становится культурный барьер, разделение человечества по цивилизационному признаку. «Социализм и капитализм конкурировали в рамках единой культурно-цивилизационной парадигмы, и силовое поле, создаваемое биполярным противостоянием, удерживало в ее рамках все остальное человечество, оказывая на него мощное преобразующее влияние. Исчезновение биполярной системы уничтожило это силовое поле, высвободив сразу две цивилизационно-культурные инициативы: исламскую, несущую мощный социальный заряд, и китайскую»[207]. В результате конкуренция стала стремительно приобретать характер конкуренции между цивилизациями – «и кошмарный смысл этого обыденного факта еще только начинает осознаваться человечеством»[208].
Легче всего понять суть межцивилизационных конфликтов по аналогии с межнациональными конфликтами. Известно, что межнациональные конфликты весьма трудно погасить в силу их иррациональности: стороны конфликта не могут договориться, так как существуют в разных ценностных системах. Поэтому всякого рода разжигание межнациональных конфликтов следует рассматривать как преступление особой тяжести.
Что же касается участников конкуренции между цивилизациями, то они разделены еще глубже, чем стороны межнационального конфликта. «Они не только преследуют разные цели разными методами, но и не могут понять ценности, цели и методы друг друга. Финансовая экспансия Запада, этническая – Китая и религиозная – ислама не просто развертываются в разных плоскостях; они не принимают друг друга как глубоко чуждое явление, враждебное не в силу различного отношения к ключевому вопросу всякого развития – вопросу власти, – но в силу самого своего образа жизни. Компромисс возможен только в случае изменения образа жизни, т. е. уничтожения как цивилизации»[209]. Конкуренция между цивилизациями предельно иррациональна, а потому сверхопасна и разрушительна.
В XX в. вместе с крушением традиционных империй потерпела крах и система колониализма. Однако, к сожалению, благоденствия и счастья это народам не принесло. Обнаружилось, что финансово-экономические путы намного превосходят по эффективности и силе давления на народы прямое военно-политическое насилие. В результате зависимость одних стран от других не только не исчезла, но, изменив формы своего проявления, многократно усилилась. И что парадоксально и удивительно, научно-технический прогресс, который, казалось бы, по определению должен расширить возможности всех стран и государств нашей планеты, на деле стал одной из важнейших причин ужасающей дифференциации народов мира по уровню доходов. Можно даже утверждать, что именно научно-технический прогресс стал существенным препятствием для реализации надежд на прогресс социально-исторический: он усилил сильных и ослабил слабых, он превратил богатых в еще более богатых, а бедных – в еще более бедных, лишив их всякой возможности на прорыв в благополучное будущее. Высокие технологии, которыми овладели страны капиталистического ядра, стали орудием подчинения и господства над населением всей остальной части нашей планеты. Разрыв в уровне жизни между странами приобрел именно технологический характер. Этот разрыв в сложившейся ныне парадигме мирового развития преодолевается с большим трудом даже странами достаточно продвинутыми в овладении традиционным индустриальным производством, а для стран наиболее отставших он становится вообще непреодолимым. Феномен межгосударственной эксплуатации технологически развитыми странами всего остального мира следует квалифицировать как новую разновидность колонизации одной частью планеты другой ее части. В основе этой колонизации – жестко оберегаемая монополия Запада на производство целого ряда высокотехнологичных видов продукции: микропроцессоров, вооружения, операционных систем, фармацевтики, образов Голливуда и т. п.
Сегодня образуется своего рода «информационно-иерархическая пирамида богатства и власти, вершина которой занята странами первого мира во главе с США»[210]. Характеризуя данную пирамиду, Л.А. Мясникова пишет: «Пирамида работает подобно насосу – к ее вершине непрерывно идут потоки финансов, богатств, интеллекта. Можно добавить и рабского труда (с учетом дешевизны рабочей силы «гастарбайтеров» и их экономического бесправия): создается полная аналогия с Древним Римом, через 2000 лет цикл повторяется на новом, уже не силовом, а информационном уровне»[211].
Масштабы деградации отставших стран таковы, что позволили многим исследователям вполне доказательно говорить о феномене «конченых», или «падающих» и «несостоявшихся», государств, безвозвратно утративших не только важнейшие интеллектуальные ресурсы развития, но и способность их воспроизводить. С этим также связано и сомнение в корректности применения в современных условиях понятия «развивающиеся страны». С точки зрения ряда исследователей, в отношении огромного и все возрастающего количества государств данное понятие теряет свой прежний смысл.
В данном контексте можно говорить и о «вызове трущоб», проблеме огромного количества лишних людей. В 2003 г. в докладе ООН «Вызов трущоб» было показано, что из шести миллиардов нынешнего населения планеты один миллиард – это так называемые seum people, т. е. трущобные люди, те, кто живет в землянках, лачугах, пустых ящиках и т. п. Трущобный миллиард – это треть мирового городского населения и почти 80 % городского населения менее развитых стран[212].
При сложившейся ныне парадигме экономического развития капитал уже не в состоянии включить все разросшееся население планеты в производственные процессы. К 2020 г. численность трущобных людей составит уже 2 млрд при прогнозируемых 8 млрд населения планеты, причем половина трущобников будет моложе 25 лет, что само по себе может возыметь крайне негативные последствия. Известно, что когда молодежи слишком много, общество оказывается не в состоянии социализировать и интегрировать ее. Между тем не социализированная и не интегрированная в жизнь общества молодежь всегда выступала в качестве взрывного материала, спускового механизма всякого рода смут, бунтов и революций. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с демографической структурой всех обществ, претерпевших данные социальные катаклизмы. Заметим, что если эти тенденции не будут пресечены и повернуты вспять, то столкновение локальных цивилизаций, которое предсказывает американский футуролог С. Хантингтон, и впрямь станет неизбежным, что грозит катастрофой не только для человечества, но и для биосферы в целом.
В связи с означенными выше процессами необходимо рассматривать и проблему иммиграции, которая в наше время приобрела глобальной характер, что позволяет исследователям говорить о новом великом переселении народов. По прогнозам демографов, к 2025 г. от 30 до 50 % населения, например, крупнейших городов Западной Европы и Северной Америки будут составлять выходцы с Юга. И этот процесс, похоже, уже необратим. По долгосрочному прогнозу ООН, рост населения будет происходить во всех регионах Земли, за исключением Европы, где численность населения к 2050 г. сократится с 726 млн до 632 млн человек. Известно, что для воспроизведения существующего уровня населения требуется уровень рождаемости в 2,1 ребенка на женщину. Среди промышленно развитых стран такой показатель имеют только США, в то время как в Европе он составляет в среднем 1,4 ребенка (в Японии – 1,32). Но и столь скудная рождаемость достигнута преимущественно за счет иммигрантов: в развитых регионах мира они обеспечивают свыше половины демографического прироста, а в Европе – 89 %. Относительно высокий (по европейским меркам) показатель фертильности во Франции – 1,89 ребенка в 2000–2005 гг. сдерживает прогрессирующее сокращение населения Франции, но не уменьшение числа французов.
Западное общество стареет: к 2050 г. средний возраст ее жителей составит 45,2 года (в том числе в Италии – 52, Японии – 53 года и лишь в США – 40 лет), в то время как в беднейших странах мира – 27,1 года. Приблизительно треть населения Европы окажется старше 65 лет, а соотношение работающих к пенсионерам изменится с нынешних 5/1 до 2/1[213]. Английский ученый Н. Фергюсон, назвавший США «колоссом на глиняных ногах», дает следующую характеристику Европе: «Старая Европа стареет все больше»[214]. Он пишет, что, «несмотря на впечатляющее расширение ЕС, не говоря уже о валютном союзе 12 входящих в него стран, демографические реалии обрекают Европейский Союз на сокращение его международного влияния. Снижение рождаемости и рост продолжительности жизни ведут к тому, что средний возраст жителей Западной Европы уже менее чем через полвека приблизится к 50-летней отметке. Старая Европа скоро станет в прямом смысле слова старой.
Западная Европа, сформировавшая у себя потребительское общество и цивилизацию досуга, уже не может обойтись без притока иммигрантов с бедного Юга. Европейцев и американцев сегодня весьма трудно заставить выполнять целый ряд работ, особенно в третичном секторе, за которые с удовольствием берутся иммигранты. В принципе, Европа стоит перед болезненным выбором: «либо допустить в страны еще большую иммиграцию и связанные с ней социокультурные перемены, либо превратиться в укрепленные сообщества пенсионеров»[215]. В результате Европа, если она, конечно, резко не изменит алгоритм своего развития, обречена стать континентом старых людей, остро испытывающих потребность в массовой миграции для поддержания производства и сохранения сложившейся системы социального обеспечения.
Ко второй группе относятся проблемы, связанные со взаимодействием природы и общества. Прежде всего это экологическая угроза. Именно она, как правило, рассматривается массовым сознанием как наиболее зримое и опасное проявление глобальных проблем. Но несмотря на кажущуюся простоту и очевидность того, что она из себя представляет, ее подлинная сущность ясна далеко не всем. Большинство людей полагают, что экологическая проблема состоит в загрязнении воды, воздуха, почв. Поэтому и способы преодоления ими видятся в массовом внедрении очистных систем, замкнутых технологических линий и безотходного производства. В реальности процессы загрязнения являются лишь верхушкой айсберга. В своей глубине и сущности экологическая проблема представляет собой поражение естественного и его отступление под напором искусственно сконструированной реальности, замещение органических, живых форм бытия, в том числе и человека как телесного существа, мертвыми техническими (в широком смысле) системами. Поясним это следующим образом. В естественной среде макротела не взлетают в воздух со сверхзвуковой скоростью, не идут процессы химического синтеза полимеров, не происходят направленные ядерные реакции, не функционируют синхрофазотроны и т. д. Все эти процессы не приспособлены, не соответствуют эволюционно сложившимся формам природной среды и оказываются для нее разрушительными.
Становление и проявление данной проблемы в качестве важнейшего фактора мирового развития имеет длительную предысторию. Долгое время, вплоть до эпохи буржуазных революций и возникновения машинного производства, того, что мы сегодня называем Модерном, процессы социоприродного развития шли преимущественно естественным путем, более или менее объективно, порождая достаточно жизнеспособные формы эволюции. Однако в XV–XVII вв. в силу ряда причин человек западноевропейской культуры почувствовал возможность и необходимость сознательного и рукотворного преобразования мира в его глубинных основаниях и принципах. В нем он увидел хаос невзаимосвязанных тел и процессов, лишенных внутренней органической связи, жизни, а следовательно, и какой-либо ценности. По мере развития средств покорения природы в духовной сфере нарастал пафос преодоления естественного отрыва от него. Совсем неслучайно, что символом ново-европейской культуры стал Прометей, античный герой, дерзко бросающий вызов богам и похищающий у них огонь – средство земного самоутверждения. В древнегреческой мифологии Прометей был рядовым персонажем – огромную популярность и символическую ценность он получил лишь в Новое время. В это время практически отсутствуют философские и научные работы, обосновывающие мысль о необходимости сохранения природы. Напротив, вся интеллектуальная и техногенная мощь направлена на ее тотальное преобразование. Здесь надо оговориться: человек, будучи существом производящим (К. Маркс), всегда находился в деятельном отношении к миру, создавая то, чего природа не дала в готовом виде. Но традиционные культуры мыслили мир как великую гармонию и естественность и не оправдывали, да и не могли это сделать в принципе, идеи его полного преобразования.
Рассмотрим в каких формах происходит экспансия искусственного?
1. Экспансия искусственного проявляется в опыте замены естественных природных систем (биоценозов, биогеоценозов) огромными техническими мегамашинами. Такая замена привела к разрушению веками складывавшихся экосистем. Но трагический парадокс эпохи заключается в том, что техническое проектирование не способно в принципе создать тот уровень гармонии и совершенства, который несли в себе природные объекты. Современная экологическая наука свидетельствует, что природные процессы настолько глубоки и разнообразны, что никакой разум не способен их априорно установить и исчислить. Поэтому сегодня с полным правом можно утверждать, что именно природа являет собой гармоничную систему, а неравномерно развивающаяся техническая среда, несмотря на все усилия технократических организаторов, остается несбалансированным конгломератом.
2. Экспансии искусственного присущи формы изменения общества на основе некоей рассудочной схемы, плана, проекта. Но опять-таки, искусственная конструкция тотально измененного общества оказывается ниже по своему качеству, чем естественно сложившиеся социально-экономические и социокультурные системы. Более того, в ряде случаев общества, созданные на основе рационального проекта, разрывающего нить традиции, оказывались в принципе несостоятельными, не способными обеспечить реализацию неотчуждаемых прав человека, например права жизни (нацистская Германия и некоторые другие).
3. Она проявляется в разрушении таких естественных объектов, как телесность и психика человека. Постоянное пребывание в искусственной среде приводит к угасанию многих важнейших функций, обеспечивающих сохранение витальности организма. Так, в индустриально развитых странах остро стоит проблема ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний как следствия гиподинамии, рака как следствия массированного химического и радиоактивного воздействия, психических заболеваний как следствия перегрузки пустой информацией и высочайшего темпа жизни. Кроме того, на первый план стала выходить и проблема бесплодия, импотенции и угасания полового влечения у людей детородного возраста, что рассматривается специалистами как итог долгого нахождения в отрыве от естественной среды, стимулирующей функцию воспроизводства рода.
Проблемы, связанные с обострением социоприродных противоречий, имеют и еще один аспект. Сегодня даже для массового сознания очевидно, что природные ресурсы стремительно истощаются и человеческая цивилизация, построенная на их всевозрастающем использовании, балансирует на грани самоуничтожения. Причем важно отметить, что лидерами в форсированном разрушении природы являются преимущественно высокоразвитые в индустриальном и потребительском отношениях государства. Напомним факт, что США, население которых составляет чуть более 4 % от мирового, потребляют около 40 % сырьевых энергетических ресурсов, задействованных сегодня в мире. Промышленность, вся инфраструктура, транспорт, которые обслуживают интересы этих 4 %, уже в течение 30 лет съедают кислород, образуемый наземным фотосинтезом растений на территории США. Если бы возможно было каким-то образом отделить штаты от российской Сибири и джунглей Латинской Америки, жизнь их прекратилась бы. Из 72 видов сырья, используемых Соединенными Штатами, 69 завозится из других стран. А если к США добавить другие государства, где достигнуты наиболее высокие стандарты потребления, т. е. взять в целом страны так называемого золотого миллиарда населения нашей планеты, то все вместе они уже потребляют в пределах 80 % добываемых ныне сырьевых ресурсов и выбрасывают в атмосферу 60 % углекислого газа[216]. Но, похоже, и это не предел, который может удовлетворить растущие аппетиты раскрутившегося маховика предпринимательской экономики индустриально развитых стран. Простой расчет показывает, что остальной мир так жить не может. Природа просто этого не выдержит. Сейчас уже понятно: техногенная цивилизация, основанная на идеологии неограниченного прогресса и потребительской психологии, и сама вступает в кризисное состояние, и всему человечеству навязывает бесперспективный, тупиковый путь развития.
Диспропорция между богатыми и бедными странами настолько велика, что если, например, все страны выровнялись бы по уровню потребления энергоресурсов на душу населения с США, то потребовалось бы еще 2,6 таких планет, как наша, а нефть и газ в этом случае выкачали из недр Земли за одно десятилетие[217].
Не менее остро, чем проблема нехватки углеводородных ресурсов, стоит вопрос дефицита пресной питьевой воды. Сегодня как никогда актуально звучит тезис «Забудьте о нефти – думайте о воде», высказанный еще в 1962 г. американским президентом Джоном Кеннеди. И нынешний Генсек ООН Пан Ги Мун официально признает: «В ближайшее время пресная вода может стать главной причиной региональных войн». Обозначены и водно-пороховые бочки: озеро Чад, реки Брахмапутра, Ганг, Замбези, Лимпопо, Меконг, Сенегал, Иордан, Нил, Тигр, Евфрат, Арак, Иртыш, Кура, Обь…
Зоной особого риска является Азия. Только в южной ее части проживает четвертая часть населения планеты, которая имеет доступ всего лишь к 5 % мировых запасов пресной воды. Есть еще Юго-Восточная Азия и беспокоящая многих Восточная, где ключевой игрок и мировой гигант – Китайская Народная Республика – испытывает серьезные проблемы с питьевой водой.
Эти проблемы порождают и усиливают международные противоречия в азиатском регионе. КНР, составляющая одну пятую населения Земли, обеспечена лишь 7 % мировых запасов пресной воды, причем и этот незначительный объем на 90 % загрязнен отходами интенсивно развивающейся экономики. Дефицит пресной воды ощущают более 300 городов
Китая. Власть периодически проводит веерные отключения воды в крупнейших городах, не исключая Пекина. Мир с трудом приспосабливается к запросам Китая, в одночасье превратившегося в крупнейшего потребителя многих ресурсов. Возможные последствия масштабных гидротехнических проектов, разрабатываемых в Китае, трудно представить. Речь идет о переброске воды в засушливый северо-западный район Китайской народной республики. Пострадают миллионы жителей Индии и Бангладеш, чья жизнь во многом зависит от реки Брахмапутра.
Даже США и Канада не могут договориться о совместном использовании водных ресурсов. Наличие совместной комиссии, наблюдающей за использованием вод Великих озер, не спасает. В 2006 г. правительство США объявило о планах использовать в береговой охране Великих озер патрульные суды с пулеметами. Подобные проблемы созревают на границе США и Мексики, где группа американцев – частных собственников на воду пытается оспорить давно практиковавшийся отвод мексиканцами воды из Рио-Гранде, до того как река достигала США. В самой Америке разгорается дискуссия вокруг возможности переброски водных ресурсов из Великих озер в реку Миссисипи для снабжения городов и фермерских хозяйств.
Тем самым для США вода, как и энергетика, становится ключевым элементом стратегической безопасности и внешнеполитическим приоритетом. К решению этой проблемы привлекаются и военные.
Бывший министр обороны Великобритании Джон Рейд предупреждал о наступающей эпохе водных; войн. В публичном отчете на саммите об изменении климата в 2006 г. он пояснил: по мере превращения водных бассейнов в пустыни, таяния ледников, отравления водоемов станут вероятнее насилие и политические конфликты. Дж. Рейд даже допустил, что водный кризис превращается в угрозу глобальной безопасности.
Проблема воды остро стоит и в Европе. Всемирная организация здравоохранения заключает: 15 % жителей Европы вообще не имеют доступа к воде, которая могла бы считаться питьевой.
Для некоторых регионов мира дефицит голубого золота приобретает характер национального бедствия. Уже сегодня опресненную морскую воду пьют народы стран Персидского залива. На привозной воде живут Алжир, Гонконг, Сингапур, прибрежные районы бывшей Югославии. Ежедневно от жажды или некачественной живительной влаги умирают тысячи детей и взрослых. Налицо все признаки острейшего глобального кризиса.
Третья группа глобальных проблем связана с отношениями человека и общества и включает целый комплекс проблем, несущих угрозу человеческой сущности и достоинству. Прежде других выделим проблему масштабного изменения духовной среды человеческой жизни в результате реализации проекта вселенского обмана. Возможности манипулирования сознанием миллионов людей (благодаря современной информационной технике) оказались беспрецедентными. Как никогда раньше усилился контроль над общественной и личной жизнью людей. Сегодня есть все основания говорить даже об информационном сетевом закабалении мира[218]. Информационный взрыв, новые коммуникационные сети обернулись в наше время невероятным давлением на все человеческие органы чувств. Вместе с этим ныне утвердились технологии промывания мозгов с целью формирования нужного типа сознания, ценностных установок и стереотипов поведения людей. И все это происходит на глобальном уровне. Возникли глобальные информационные поля, способные действовать на сознание людей поверх государственных границ, создавать возможность манипуляции человеческим сознанием в планетарном масштабе. На земле сейчас живут более 6 млрд человек, а возможность реализовать потребительский образ жизни имеет всего 1 млрд, так называемый золотой, и то с большими оговорками, для остальной же части человечества полное удовлетворение всех материальных потребностей в принципе невозможно не только сегодня, но даже в самой отдаленной перспективе. Однако СМИ наиболее развитых стран в экономическом отношении стран разрекламируют по всему миру свой образ жизни. В результате многие жители слаборазвитых стран недовольны своим положением, отрываются от родной почвы и мечтают жить, как в Америке или Европе. Им и в голову не приходит, что Европа – уникальная цивилизация, которая невоспроизводима нигде и никогда. Их оторванность от своей почвы, от традиционного уклада жизни обернется потерей привычной гармонии, жгучей неудовлетворенностью, фрустрациями, неврозами, наркоманией, преступностью, терроризмом, наконец, самоубийством. В сущности, все это можно определить как аксиологическую катастрофу, болезненнейший слом ценностных установок и традиций, утрату вечных ценностей. Последствия этой катастрофы могут быть непредсказуемо опасны.
На постсоветском пространстве аксиологическая катастрофа проявилась наиболее резко и выпукло. Средства массовой информации практически всех стран СНГ, несмотря на очевидно кризисное состояние экономики и социальной сферы, целеустремленно и форсированно насаждают в сознание людей, прежде всего молодежи, гедонистическую мораль и психологию, но одновременно с этим никоим образом не прививают трудовую культуру и аскезу.
Аксиологическая катастрофа во многом связана с широким распространением массовой культуры, ее примитивных и вульгарных образов, стандартизированных и тиражируемых современными техническими средствами. Данная культура – причина формирования особого типа человека, который можно квалифицировать как усредненный продукт городской массовой культуры. Если говорить шире, то продуктом урбанизации стала новая общность, получившая определение «масса», в границах которой медленно, но верно деформируются родовые черты не только личности, но и этносов, исторически сформировавшихся народов на планете Земля. Масса состоит из однородной толпы одинаковых людей, лишенных корней и традиций. Она нивелирует и обезличивает человека, не поддается структурированию, неадекватно реагирует на происходящие события, легко возбудима, безответственна и жестока. Культом массы становятся низшие, первобытные человеческие инстинкты: питание, секс, примитивное развлечение.
В силу всего этого масса является благодатной средой для социального зомбирования, социального внушения. Отсюда в наше время небывалый расцвет различных массовых идеологий, радикальных квазирелигий, социального мифотворчества и утопизма, разгул экстремистов всех мастей, начиная от политиков и заканчивая звездами эстрады и кино.
Мы стали свидетелями произошедших в мировоззрении и мироощущении людей глубинных сдвигов, трансформаций, изменений. Например, люди всегда знали, что существуют темные иррациональные силы бессознательного, всевозможные сексуальные извращения, безумия и т. д. Однако вплоть до XX в. общество относилось к этим сторонам жизни недоброжелательно, часто репрессивно. Теперь же, напротив, данные феномены человеческого поведения становятся доминирующей темой средств массовой коммуникации, художественного творчества, кино, культивируются и поощряются. Отказавшись от веры в какие бы то ни было Абсолюты (как однозначно зафиксировал эту ситуацию Ф. Ницше – «Бог умер»), разочаровавшись в разуме, социальности и подобном, во всех прежних базовых опорах жизни, цивилизованный человек конца XX в. остался один, погрузился в мир «чувственной культуры» (П. Сорокин). Иными словами, XX в. отверг все основания существования человека, которые признавались в прошлом, не создав новых надежных опор жизни. В настоящее время ужас осознания бессмысленности, неразумности жизни стал фактом истории. Возникло ощущение безопорности во всех сферах жизни: в экономике, морали, политике; сформировалась эпоха тотального плюрализма, для которого нет никакой иерархии ценностей, нет никакой смыслообразующей и общезначимой цели. Исчезли приоритеты, общество атомизировалось, ведущим стало стремление замкнуться на своем личностном «Я» по принципу «Я так хочу», не ориентируясь на другие ценности, не пытаясь соотнестись с ними. Неудивительно, что сейчас исследователи с нарастающей тревогой заговорили о возможности антропологической катастрофы как о более опасной, чем даже экологическая и демографическая. Антропологическая катастрофа – это утеря человеком человеческого, измельчание и деградация, духовное оскудение. В результате антропологической катастрофы душа человека опустошается, он перестает кому-либо и чему-либо верить, ожесточается, утрачивает социальные связи и начинает руководствоваться в своем поведении простейшими биосоциальными нормами, господствовавшими еще в доисторический период.
Проблема состоит в том, что нормальная эволюция постоянно усложняющегося мира социума объективно предъявляет все более возрастающие требования к развитию интеллекта, воли, творческих способностей человека, т. е. развитию всех тех личностных качеств, которые форсированно разрушаются современной массовой культурой, агрессивной, навязчивой и вездесущей рекламой. Человек, которому внушают, что главной целью его существования является бесконечное повышение комфорта его жизни, вряд ли сможет дать ответы на жесткие вызовы современности, вряд ли окажется способным к преемственности и продолжению социальной эволюции. В этом суть глобального противоречия между объективным эволюционным процессом человека в мире и интересами элит, мотивированных целью сохранения своей власти и удобства управления. Неудивительно, что сегодня исследователи все чаще обращают внимание на характерное для постиндустриального общества трагическое противоречие потребительской направленности массового сознания, этики гедонизма (всячески поощряемых рекламными технологиями) и личностных качеств человека, которые требуются для дальнейшего научно-технического прогресса.
Деградация человеческого материала, падение качества образования – сегодня характерные черты развитых стран. Техническое лидерство постепенно перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, на Новый Восток. Д. Белл, например, усматривает главное противоречие постиндустриального общества в конфликте между технократически регулируемыми экономическими и социальными структурами и гедонистически ориентированной этикой поведения современных людей.
Необходимо иметь в виду, что физическая изнеженность – это лишь первое следствие технологизации общества. Второе следствие – волевая, морально-психологическая и умственная изнеженность (леность духа), проявляющаяся в безответственности и равнодушии. В результате глобальная личность – детище техногенно-потребительской цивилизации – становится чуждой и враждебной ей силой, не способной далее обеспечивать ее поступательное развитие.
Необходимым условием существования глобальной личности, ориентированной на изнеженность и комфорт, становится жесткое разделение населения нашей планеты на две неравные части: избранное меньшинство и отвергнутое большинство. Нетрудно заметить, что такого рода стратегия мироустройства является деструктивной и трагически опасной.
Только общество, состоящее из индивидуальностей, способно к совершенствованию и к более устойчивому развитию. Именно гетерогенность человечества, дифференцированность по интеллекту и другим качествам обеспечивают его выживаемость, являются объективной основой для специализации людей по роду и направлению занятий, помогают им приспосабливаться к самому широкому диапазону требований развития. Унификация же стиля и образа жизни, стереотипизация мышления и стандартизация оценок посредством СМИ (раньше всех ставших глобальными) делает человека не способным к адекватной реакции на эти требования развития. Спору нет, что для бесперебойного функционирования и преуспевания транснациональных корпораций весьма желательно и удобно именно унифицированное рыночное пространство. В обстоятельствах абсолютного преобладания обезличенно-нивелиро-ванных людей-автоматов, легко ориентируемых на приобретение самых разнообразных товаров – от жевательных резинок до примитивных масскультовских сериалов, – транснациональным корпорациям до поры до времени обеспечено прогнозируемое будущее.
В целом можно констатировать, что мир сегодня в глобальном масштабе столкнулся с проблемой неадекватности человеческого материала вызовам текущего момента истории. Это явление касается не только рядовых граждан, но и верхних слоев развитых стран – элит. Сегодня мы являемся свидетелями того, что важнейшие политические решения, имеющие глобальную значимость, подчас принимают люди, далекие от идеала руководителя.
С нашей точки зрения, именно последняя группа глобальных проблем является важнейшей по значимости и обусловливает остроту и опасность всех остальных. Основные противоречия современности, вопреки расхожему представлению, находятся не в экономической и научно-технической сфере. Они разворачиваются в первую очередь в пространстве идей, представленных в общественном и индивидуальном сознании. Детерминированность социальных институтов и процессов ценностями и идеалами духовного характера давно уже была осмыслена в русской философской мысли. Так, В.С. Соловьев справедливо писал, что в отрыве от высшего светоносного начала человеку не суждено остановиться на срединном уровне правового и гражданского состояния – он неизбежно скатывается ниже, к прямому подчинению личности темным стихиям стяжательства, своекорыстия, вражды всех против всех. По В.С. Соловьеву, для того чтобы в обществе не восторжествовали сугубо земные, материальные мотивации, в нем должна сохраняться духовная энергетика, питающая устремления вверх. Эти прозрения традиционных философских учений подтверждает и современная наука: единственно гарантированным состоянием является хаос, его не надо искусственно производить – он возникает сам собой в тот момент, когда ослабевают наша воля и воодушевление. В то же время любой системообразующий порядок становится возможным только в результате методичных усилий, нравственной зоркости и деятельной воли. Поэтому преодоление глобальных кризисов своей исходной точкой должно иметь мощный реформационный сдвиг – обновление системы идеалов и ценностей, позволяющих человеку оставаться субъектом социальных процессов, а не винтиком гигантской социальной мегамашины, быть в полной мере человеком, а не антропоидным существом с полностью разрушенной человеческой сущностью.
Глава 33 Глобализация как явление и как предмет социально-философского осмысления
Реалии ушедшего XX в. изменили наши представления о закономерностях развития социума. Мир стал принципиально иным. Поэтому многие исторические аналогии, факты из жизни общества прошлых столетий мало что проясняют в нынешних процессах и явлениях общественной жизни. То, что происходит сегодня в общественном бытии людей, нередко является качественно новым. Мы являемся свидетелями интенсивного процесса формирования новой геоструктуры мира, нового мироустройства, нового миропорядка.
Всю совокупность этих новых явлений нельзя правильно оценить и понять без анализа характера и направленности глобализационных процессов.
Глобализацию обычно рассматривают как качественно новую стадию интернационализации экономической жизни планеты, выражающуюся прежде всего в усилении взаимозависимости национальных экономик. Сегодня ее определяют как процесс ослабления и слома традиционных территориальных, социокультурных и государственно-политических барьеров, некогда разделявших народы, но в то же время предохранявших национальные экономики от стихийных и неупорядоченных внешних воздействий; как процесс потери государствами национальной автономии в макроэкономической сфере и становления новой, почти лишенной всякого протекционизма системы международного взаимодействия и взаимосвязи. В тенденции это означает, что происходит процесс утери локальными, национальными экономиками потенций саморазвития и их интеграции в единый общепланетарный экономический организм с универсальной системой регулирования и, соответственно, с обобщением экономической деятельности в планетарном масштабе и перемещением экономической власти с национально-государственного уровня на глобальный уровень. Скоро, как считают некоторые исследователи, только мировая экономика получит право называться самовоспроизводящейся системой, т. е. системой самодостаточной, макроэкономической, а национальные экономики такое право утеряют и превратятся в микроэкономические подсистемы мирового капиталистического хозяйства. Об этом свидетельствует и тот факт, что если еще совсем недавно регулирующая роль в экономической жизни осуществлялась национальными рынками, а мировой рынок имел всего лишь вспомогательное значение, то сейчас ведущую роль в экономическом регулировании начинает играть мировой рынок, а национальные рынки многих стран попадают под его чуть ли не тоталитарный контроль и зависимость, становятся слепыми исполнителями его воли. Само собой понятно, что экономической интеграции в той или иной форме сопутствует политическая консолидация и социокультурное взаимовлияние.
Исходя из этого, многие западные, прежде всего американские, исследователи склонны интерпретировать глобализацию как фатально предопределенный, неизбежный процесс, нивелирующий всякие национальные различия, от экономических до культурных. Квалифицируют его как процесс, тождественный вестернизации всего мира, однонаправленный (безальтернативный), в конечном итоге устраняющий суверенное территориальное государство. А некоторые восторженные приверженцы глобализации рассматривают ее как движение к миру без границ, к открытой и взаимосвязанной мировой экономике, а стало быть, к единому унифицированному человечеству. Например, японский исследователь К. Омэ в своей книге «Мир без границ», вышедшей в 1990 г., писал: «…Экономический механизм отдельных государств стал бессмысленным, в роли же сильных актеров на мировой сцене выступают глобальные фирмы».
В реальности, однако, не все так просто. Взглядам сторонников глобализации противостоят, причем с нарастающей силой, взгляды ее противников. В результате до сих пор не выработан какой-либо согласованный подход к данному феномену.
Противоречия и путаница в осмыслении феномена глобализации часто возникают из-за того, что некоторые понятия, с помощью которых ранее традиционно объяснялись процессы хозяйственной и культурной связи между отдельными государствами, стали отождествляться или подменяться термином «глобализация». Это прежде всего касается смежных, близких, но не тождественных понятию «глобализация» понятий «интернационализация» и «интеграция». Явления, отраженные данными понятиями, связаны тем обстоятельством, что фиксируют факт выхода множества ранее внутристрановых процессов на международный уровень, за пределы границ отдельно взятых государств. Различие же этих явлений – во времени и условиях их возникновения, в их сущности и социально-исторических функциях, в широте охвата (количестве, наборе) субъектов (стран, государств), вовлеченных в их орбиту, глубине и интенсивности связей между данными субъектами, а также в тех результатах и последствиях, которые они выражают.
Обратимся к краткому анализу содержания, а также характеристике соотношений данных понятий.
Интернационализация представляет собой объединение действий нескольких отдельных субъектов экономики, политики вокруг общих для них задач, целей; открывает возможность межгосударственного пользования чем-либо, предполагает выход чего-то ранее сугубо внутреннего за начальные рамки. В экономическом плане мотивом интернационализации является доступ к международным рынкам торговли. Обычно наиболее эффективно интернационализация реализуется на локальном уровне и в приложении к отдельным направлениям или сферам и видам деятельности. Главная ее функция – обеспечение постоянных и устойчивых международных связей.
Интеграция — объединение в целое каких-либо частей. В аспекте экономики интеграция выступает как объективный процесс переплетения национальных хозяйств и проведение согласованной межгосударственной экономической политики, формирования тесно взаимосвязанных экономических зон (анклавов), имеет тенденцию к соединению всех циклов хозяйственной деятельности в единое целое. Суть интеграции – в формировании на основе и посредством развития глубоких и интенсивных связей крупных союзов, коалиций, социально-территориальных систем. Причем процесс интеграции обычно разворачивается и протекает на региональном уровне, в рамках отдельных территориально-географических регионов, вовлекая, как правило, в свою орбиту страны и народы близкородственные в цивилизационном и социокультурном отношениях.
Не так давно в условиях биполярного мира человечество серьезно было обеспокоено решением целого ряда проблем глобального характера. Развивающиеся страны при поддержке Советского Союза добивались в рамках ООН установления нового экономического порядка, который бы остановил процесс их экономической эксплуатации и дискриминации в международных отношениях. Предлагались различные способы решения продовольственной проблемы, нищеты и бедности, проблем перенаселения, экологии, рационального использования природных ресурсов, энергетической безопасности, освоения богатств Мирового океана и т. д. В ходу были такие понятия, как «международное разделение труда», «международная специализация и кооперирование производства», которые также описывали тенденции к сближению национальных экономик, к всемирному социально-экономическому объединению. Однако несмотря на обилие всех этих глобальных проблем, вопрос о глобализации как таковой не возникал.
Стало быть, должно было произойти нечто весьма значимое, эпохальное, что вдруг заставило бы заговорить о глобализации, глобализационных процессах как реальности современного мира. Этим «нечто» стал развал Советского Союза, исчезновение одного из двух полюсов развития и силы, формирование бесполюсного мира. Остался один центр силы во главе с США, олицетворяющий собой интересы и устремления так называемого золотого миллиарда. Изменившаяся таким образом историческая ситуация, собственно, и не позволила победителям в «холодной» войне выдвинуть свой глобализационный проект и попытаться навязать его миру.
Это обстоятельство показывает очевидность всей некорректности попыток однозначно квалифицировать глобализацию как исключительно объективное технико-экономическое явление. Глобализация изначально имела ярко выраженный политико-идеологический характер.
Глобализационный проект, выдвинутый США и их союзниками, предусматривает такой процесс мирового развития, в ходе которого четко выстраивается жесткая иерархия, вертикаль нового мирового порядка во главе с центром, принимающим различные управленческие решения глобального уровня, и периферией, включающей две части – зону жизнеобеспечения центра (золотого миллиарда), где сосредоточен реальный сектор экономики, и зону, состоящую из государств, от которых, по возможности, желательно дистанцироваться и не принимать участия в решении их внутренних проблем.
Как всякое сложное явление, глобализация, таким образом, представляет собой единство стихийно-спонтанного и целевого начал, объективного и субъективного факторов социальной динамики.
Остановимся на анализе глобализации как естественного, стихийно-спонтанного процесса. Понятие глобализации в его позитивном смысле фиксирует резко возросшую в наше время взаимосвязанность мира, сжатие пространства и времени благодаря совокупному действию новых и усовершенствованных старых средств коммуникации (телевидение, радио, реактивная авиация, интернет, мобильный телефон и т. д.). Объективно возросшая взаимосвязанность мира, взаимодействие и взаимовлияние различных частей человечества проявляются прежде всего в том, что географические и государственные границы становятся все более легко преодолимы и прозрачны. Потоки людей, капиталов, факторов производства, товаров, услуг и информации с возрастающей интенсивностью циркулируют по планете. В итоге земной шар стал еще более обозримым и маленьким. Все это позволяет говорить об утверждении в современном мире глобальной коммуникации.
Наиболее наглядным выражением глобализации явилась общедоступная возможность мгновенного и практически бесплатного перевода суммы денег из одной точки мира в другую, а также мгновенного и практически бесплатного получения любой информации. Судя по всему, именно эта особенность современных информационных технологий и позволила российскому исследователю М.Г. Делягину определить глобализацию как «процесс формирования и последующего развития единого общемирового финансово-экономического пространства на базе новых, преимущественно компьютерных технологий»[219]. Но это, заметим, одно из многих определений глобализации.
Можно говорить о наметившейся тенденции к некоторой унификации образа жизни, стилей поведения, взглядов, вкусов. Во всех уголках планеты люди сегодня имеют возможность носить одну и ту же одежду, потреблять одну и ту же пищу, получать информацию из одних и тех же средств массовой информации. Чуть не весь мир потребляет продукцию Голливуда (в различных странах мира она составляет от 60 до 100 % национального кинопроката), читает разрекламированные вездесущей рекламой одни и те же книги, слушает по преимуществу англоязычную поп– и рок-музыку и т. п. При этом национальные языки нередко засоряются английским космополитическим сленгом, синтаксическими кальками, что угрожает деформацией веками сложившихся ментальных структур, которые наряду с прочим непосредственно связаны с языковым своеобразием народов.
Следующее выражение глобализационных процессов – это тенденция к формированию глобальной экономики, единого всепланетарного рынка, возникновение и деятельность транснациональных корпораций (ТНК), экономическая мощь которых вполне сопоставима с возможностями не только небольших, но и средних национальных государств. Транснациональные корпорации, освоившие буквально все закоулки мира, цементируют современное производство в единую глобальную систему.
Транснациональные корпорации как закономерный итог концентрации производственного и финансового капитала обрели в ряде аспектов возможность уходить из-под национального регулирования, контроля со стороны государственных и общественных структур отдельной страны. Сегодня транснациональные корпорации способны как объективно, так и субъективно влиять на внутреннее положение не малого количества государств, темпы и направления их развития, на деле тем самым ограничивая суверенитет этих государств. В своей совокупности все это означает, что на нашей планете возникли и утверждаются новые центры принятия решений и реальной власти, способные конструировать на глобальном уровне новые правила игры для многих секторов (субъектов) современных международных отношений. Результат этого – потеря отставшими странами возможности не только создавать, но и поддерживать на своей территории конкурентоспособные предприятия без активного вмешательства ТНК. Лишь транснациональные корпорации в состоянии извлекать прибыль из современных технологий, поскольку национальные рамки для них узки. Отсталым странам это делать весьма затруднительно.
Развертыванию этого процесса в решающей степени способствовали научно-технические достижения, глобальный характер современных технологий. К таким технологиям сегодня относятся средства и инфраструктура телекоммуникаций, информационные потоки, высокоскоростной транспорт, а также распространение образовательных моделей благодаря научному и другим видам интеллектуального обмена.
Глобализация в значительной степени представляет объективный процесс, однако наряду с объективной стороной глобализационные процессы имеют и субъективную сторону, во многом являющуюся рукотворной сконструированной реальностью.
Говоря о глобализации как рукотворной реальности, необходимо отметить, что глобализационные процессы – это не только объективное следствие техноэкономического развития, но и политическое явление. Глобализацию инициировали, направляли и проводили в жизнь вполне определенные силы, а точнее сказать, транснациональные круги США, Западной Европы и Японии, реализующие в этом процессе свои экономические и геополитические интересы, не совпадающие с национальными интересами других народов и государств. Непосредственными агентами в становлении глобальной экономики явились правительства стран «Большой семерки» и их международные институты – Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, ВТО. Причем глобализация вводилась с помощью механизма политического давления, посредством прямых действий правительства или через деятельность МВФ, Всемирного банка, Всемирной торговой организации (ВТО) и целого ряда теневых структур. Это явление осуществлялось в целях унификации всех национальных экономик вокруг набора одинаковых правил игры, обеспечивающих выгодные условия для стран – лидеров глобализации. Заметим, что в наибольшей степени избежать негативных последствий глобализации удалось тем странам, которые не всегда соглашались с рекомендациями МВФ и умели настоять на самостоятельной политике (Китай, Малайзия). Но большинство государств, ставших клиентами МВФ, просто не смогли себе этого позволить.
В действительности страны – лидеры глобализации вовсе не ориентированы на установление равноправных партнерских отношений со слаборазвитыми государствами, а наоборот, стремятся к последовательному наращиванию различий между государствами в уровне производства. Результат этого – ослабление и дестабилизация конструктивной взаимозависимости национальных экономик и усиление социально-экономической дифференциации народов, соответственно, господствующего положения одних стран и зависимо-подчиненного положения других. Важно понять, что такого рода ассиметричная взаимозависимость, как правило, не определяется действием нейтральных экономических сил, а является следствием осмысленных действий крупнейших финансово-хозяйственных субъектов, точнее сказать, действий государств-гегемонов, создающих правовые механизмы, позволяющие или облегчающие присвоение прибавочной стоимости в любом уголке нашей планеты и защищающие результаты такого присвоения, задействовав (в зависимости от конкретных условий, силы сопротивления, значимости задачи и т. п.) все имеющиеся рычаги контроля, все меры воздействия – от предоставления кредитов до прямого вооруженного вмешательства.
Колониальное или периферийное положение множества стран мира – объектов глобализации не оставляет им шансов выйти на траекторию устойчивого роста и сравняться со странами центра. Более того, происходит нечто совершенно иное: развитие стран мировой периферии направляется таким образом, чтобы они играли роль амортизатора проблем развитых стран. Сбалансированность хозяйственного развития стран периферии невыгодна развитым странам, поскольку позволяет им отказаться от роли донора последних. Диспаритет цен, утечка умов, отток капитала, растущие долги становятся постоянным источником возобновления структурных диспропорций, зависимости и отсталости. Именно такого рода ситуация и устраивает стран-гегемонов.
В этом смысле крах системы мирового социализма и открытие рынков с многомиллионным населением явились факторами колоссального смягчения трудностей и остроты противоречий глобального капитализма. Примечательно и то, что так называемое вхождение в мировой рынок стран бывшего социалистического содружества отнюдь не означает присоединение их к странам – лидерам глобализации, как это внушали нам в свое время проводники реформ, а оборачивается новой, еще не до конца изученной формой зависимости. Глобализация в том виде, как она развернулась в конце XX в., была бы в принципе невозможна без падения бывшей второй сверхдержавы – СССР, без разрушения биполярного мира. В этом случае все попытки США к достижению мирового лидерства, доминирования и даже господства (к установлению однополярного мира) были бы просто невозможны. Представляется, что вряд ли кто-либо из серьезных исследователей будет утверждать, что все эти эпохальные события XX в. произошли исключительно сами собой, стихийно-спонтанно, без направляющей и организующей воли.
Таким образом, глобальный мир, о котором так много сегодня говорят, не формируется сам собой, стихийно, спонтанно, а создается силой и нуждается в ней для своей самореализации (разве не об этом свидетельствует война в Ираке?). В сущности, этот мир, если чем и отличается от империй, в прошлом сколоченных мечом, так это своими масштабами, но не внутренним принципом. В самом деле, нельзя не согласиться с мыслью о том, что устранение с мировой арены фактора военной мощи непременно обернулось бы тем, что экономика нашей планеты стала бы функционировать и развиваться по-другому и в другом направлении. Без постоянного присутствия фактора военного давления (разумеется, здесь нельзя забывать и о других факторах – финансовых, информационно-идеологических и т. п.) мировая экономика структурировалась бы совершенно иначе. В этом случае все разговоры о том, что глобализация представляет собой исключительно продукт стихийно-спонтанного развертывания рынка, выглядели бы предельно наивно.
Можно вести речь о двух сторонах глобализации: глобализации как естественном, стихийно-спонтанном, неуправляемом процессе и глобализации как искусственном, организуемом и управляемом процессе. Глобализация как естественный процесс является результатом различных незапланированных и в очень малой степени предсказуемых трансформаций и изменений в техносфере, в экономической, политической и, в целом, социокультурной жизни общества. Глобализация как искусственный процесс включает элемент прямого или замаскированного, осознанного (просчитанного) насилия, т. е. попыток навязать силой или другими методами (подкупом, обманом, убеждением и внушением) тех или иных ценностно-мировоззренческих, экономических, политических представлений и соответствующих им решений и направленности действий. На деле рукотворная глобализация характеризует собой желание стран, вырвавшихся вперед в технико-экономическом развитии, получать, используя естественный процесс взаимопроникновения различных социокультурных достижений, доминирующее положение в структуре международных отношений, а также придать характер универсальности своей модели развития, навязать ее другим странам и народам, лишив их тем самым возможности самостоятельного исторического творчества.
В сущности, объективной предпосылкой диспропорций в развитии мировой экономики, неравенства между странами и народами, исходным фактором успеха одних и неудач других стала общественная производительность труда, которая и предопределила возникновение трудно преодолимого барьера между развитыми странами, где производительность труда выше среднемировой, и отсталыми странами с производительностью труда ниже среднего уровня[220]. Предпосылку общественной производительности труда правительства стран Западной Европы и Северной Америки стали бесцеремонно и жестко эксплуатировать в своих корпоративных интересах. И ничего удивительного тут нет. В современных условиях любой социальный, экономический и политический процесс в принципе не застрахован от его эгоистического использования отдельными социальными группами, мировой финансовой олигархией, организованными преступными группировками и кланами. Однако использовать можно лишь какой-то реальный, а не абсолютно искусственный процесс.
Соглашаясь с тем, что глобализация имеет под собой определенную объективную основу, мы, тем не менее, утверждаем, что в том виде, в каком она сегодня воплотилась в реальность, глобализация является вызовом для всего мирового сообщества и не может быть для него приемлемой.
Во-первых, не может быть приемлемой, потому что становление и утверждение глобального мира нельзя путать с его американизацией, а именно эту модель глобализации стараются навязать человечеству. Каждый регион планеты, каждая цивилизация, каждая большая культурная традиция (например, русская) имеют полное право участвовать в формировании нового мироустройства.
Во-вторых, недопустимо лишать народы мира их права на демократический суверенитет. В условиях американо-западнической либеральной глобализации обнаружилась тенденция к появлению наднациональных органов власти и управления типа Международного валютного фонда, Всемирного банка и подобного, которые никто не выбирал, но которые пытались и пытаются монопольно управлять мировым сообществом, навязывать свою волю народам мира. Каждый народ имеет неотчужденное право выбирать свое правительство и контролировать его действия.
В-третьих, глобализация действует в направлении деконструкции суверенных национальных государств и национальных сообществ, открывает возможности вывода элит из сферы их служения национальным интересам и из системы национального контроля. Если на международной арене появляются лидеры, проводящие независимую национальную политику и выражающие глубинные интересы своих народов, то на них сразу же открывается «охота», начинает оказываться беспрецедентное давление, принимающее самые разнообразные формы, вплоть до физического устранения.
Феномен «дезертирство элит» (высказывание А.С. Панарина) в наше время приобретает зловещие черты. Поведение российской элиты в постперестроечный период – наиболее яркое подтверждение этому. Поэтому перед народами мира стоит задача разрушить алгоритм нынешней глобализации и восстановить в полном объеме национальный контроль над элитами, пресечь неуемное желание многих их представителей служить не своим народам, а новоявленным хозяевам мира, объединенным в глобальные структуры.
Глобализация способствовала увеличению разрыва в уровне жизни населения стран Третьего мира и индустриально развитых стран Первого мира периода господства индустриального общества.
Причем самое тревожное – быстрое нарастание диспропорции. Как показал доклад ООН «Глобализация с человеческим лицом» (1999), разрыв в уровне жизни между пятью богатейшими и пятью беднейшими странами в 1960 г. составил 30: 1, в 1990 – 60: 1, в 1997 – 74: 1.
В эпоху глобализации в разрыве жизненного уровня между богатыми и бедными странами обнаружились совсем другие масштабы и темпы нарастания. Достаточно сказать, что только за последние 15 лет доход на душу населения существенно понизился более чем в 100 странах.
Но в наибольшей степени свое деструктивное начало обнаружила глобализация в денежно-финансовой сфере. В этой сфере она породила новую и опасную разновидность валютно-финансовых кризисов. Выяснилось, что свободно мигрирующий по миру капитал (финансовая свобода) способен порождать разрушительные спекулятивные смерчи, оказывать мощное дестабилизирующее воздействие на национальные экономики. «…Быстрая глобализация финансов представляет собой основной источник уязвимости всей глобальной экономики. Спекулянты могут подорвать стабильность национальных валют, принуждая правительства принимать дорогостоящие меры и способствуя росту безработицы и нищеты. Упрощается совершение и распространение мошеннических операций в глобальном масштабе. В современной мировой экономике большинство государств, в отличие от индустриально развитых стран, бессильны в отношении внутренних последствий колебаний валютных курсов, движения капиталов и других источников нестабильности, вызванных глобализацией финансов»[221]. При этом финансовые спекуляции очень часто сопряжены с включением в действие механизмов самоорганизующихся (самоосуществляющихся) прогнозов, способных непредсказуемо обрушить банковскую систему, валютный рынок, рынок ценных бумаг страны-жертвы. Наибольшую уязвимость по отношению к всевозможным ситуациям испытывают страны, недавно вступившие на путь рыночных реформ и в силу этого не обладающие развитыми инструментами экономической политики и необходимым опытом. Можно утверждать, что современная валютно-финансовая система таит в себе возможность стихийных как не спровоцированных, так и сознательно спровоцированных кризисов. Сегодня ведущие страны Запада (прежде всего США) вместо того, чтобы указывать человечеству путь вперед, оказались инициаторами неожиданной инволюции – возврата от капитализма «веберовского» типа к его старой спекулятивно-ростовщической модели[222].
Важно понять, что тот вариант постиндустриализма, который ныне утверждается в развитых странах, отнюдь не выступает в качестве гуманистической альтернативы индустриально-рыночной цивилизации и ведет к новым, еще более жестким вызовам природе и культуре. Это обусловлено тем, что техно-центрическая модель западноевропейского постиндустриализма оказалась непосредственно связанной с технологиями дематериализации богатства – придания ему знаковой формы для последующего включения в систему мирового информационно-электронного обмена, что на деле сплошь и рядом оборачивается откатом в развитых странах от продуктивной экономики и утверждением новой формы ростовщичества – господства электронных денег и власти виртуальной экономики, связанной с фиктивным капиталом, власти банка над предприятием, а международной финансовой олигархии – над национальными экономиками, т. е. по сути, новой формой паразитаризма и глобального хищничества.
Сегодня человечество, как представляется, вступило в новую фазу своего развития – фазу игрового (если так можно выразиться) капитализма, втягивающего в крупную спекулятивную игру всю мировую экономику. Наиболее рельефным проявлением этого можно считать возникновение финансово-экономических игровых технологий, не имеющих аналогов. Они способны подрывать национальный суверенитет в областях, затрагивающих основы существования людей, их материальную обеспеченность. Обнаружилось, что наряду с глобальными информационными полями, позволяющими действовать на сознание людей поверх государственных границ, в мире образовались и другие глобальные поля, открывающие возможности аналогичных действий в отношениях материальных факторов человеческого существования.
Игровая капиталистическая экономическая система – это система апокалиптически-катастрофическая. Если на практике постиндустриальное общество в его западной модели ведет лишь к перераспределению мировых ролей: высокоразвитые страны освобождаются от индустриальной функции (перерабатывающая промышленность) и становятся центром мировой финансовой игры, а также центром перераспределения ресурсов. Индустриальные функции передаются определенному количеству стран второго эшелона развития, способным обеспечить успешное функционирование перерабатывающей промышленности; на остальные страны выпадает роль поставщиков сырья и дешевой рабочей силы. Причем постсоветское пространство – часть мировой периферии, богатой сырьевыми ресурсами и осуществившей в свое время собственными силами индустриализацию[223], предстоит в соответствии с данным распределением ролей деиндустриализировать и превратить в ресурсного и экологического донора западного центра силы. Такова структура мира, планируемая и выстраиваемая на нынешней фазе развития постиндустриализма. Поэтому в своем буржуазно-либеральном варианте концепция постиндустриализма не представляет никакой реальной альтернативы экологически разрушительному индустриализму, инструментально потребительскому отношению к миру. Самая главная опасность, однако, состоит в том, что глобализация в своем евроатлантическом варианте осуществления способна вести к изменению, а в тенденции – и к устранению национальных форм и содержания, до сих пор выступающих основой цивилизационного разнообразия человечества, народов мира.
Глобализация, справедливо отождествляемая сегодня многими исследователями с американизацией, угрожает тем, что обеспечивает выживание и устойчивость человечества. Она угрожает этническому, культурному и цивилизационному многообразию, которое по многим признакам для выживаемости человечества имеет такое же значение, как разнообразие видов в живой природе. Пресечение этнического, культурного и цивилизационного многообразия, полная планетарная интеграция, переход от множественности государств, народов, наций и культур к униформному миру обернется если не гибелью и смертью социального мира вообще, то, по крайней мере, его бесконечным упрощением и обеднением. Закон разнообразия – важнейший закон системогенетики (общей системной теории), исследующий общие законы преемственности, наследования эволюции в «мире систем».
Надеяться, что под воздействием евроамериканских ценностей все народы мира будут трансформированы в некое единое аморфно-всеобщее человечество, – очередная эпохальная иллюзия. В многообразии человеческого духа, многоцветий культур народов – жизненность и сила человеческого рода. Исторически сложившееся деление человечества на культурно-исторические типы (различные локальные цивилизации) является непреодолимым препятствием на пути реализации глобального проекта унификации человечества.
Глобализация как форма подлинной интеграции и действительного объединения человечества может стать возможностью и необходимостью только в том случае, если она вместо унификации и нивелировки будет сориентирована на сохранение человеческого разнообразия, на реализацию принципа справедливого равенства между странами, народами, если в ее основу будет положен принцип полицентричной организации экономической, политической и культурной жизни людей и если она будет происходить естественно.
Отсюда задача грандиозной важности – направить глобализационные процессы в такое русло, в рамках которого откроются возможности для решения, а не умножения фундаментальных глобальных проблем, стоящих перед человечеством.
В наше время вектор развития экономической, политической и социокультурной жизни направлен в сторону создания больших пространств. В древности и в средние века развитие экономики и технологических укладов этого не требовало, несмотря на различные военно-политические объединения, союзы, завоевания и подобное, имела место тенденция к раздробленности, к созданию независимых образований в виде небольших княжеств, герцогств и т. п. Позже с развитием заводского и фабричного производства появилась объективная потребность в формировании общенационального рынка, в возникновении крупных национальных государств. Как свидетельствуют факты истории, процесс образования национальных государств был сложным, противоречивым и длительным. Со второй половины XX в. (особенно последней его четверти) экономика, новые технологии потребовали для своего успешного функционирования еще больших пространств, т. е. выхода экономических систем за рамки национально-территориальных образований. Однако это не означает, что для развития современных хозяйственных структур нужна вся планета. Процессы экономической интеграции вполне успешно протекают на континентальных и субконтинентальных пространствах, в географических регионах, населенных родственными народами в цивилизационном и социокультурном отношениях, т. е. народами, принадлежащими, как правило, той или иной локальной цивилизации современного мира. Наиболее ярким примером региональной интеграции выступают страны Западной Европы, ряд государств Юго-Восточной Азии. В последнее время тенденция к региональной интеграции стала заметно проявлять себя и в Латинской Америке. Импульсивное и обостренное стремление к консолидации присуще некоторым лидерам, общественным и религиозным деятелям исламского мира. Другое дело, что США и их союзники пытались и пытаются навязать реальным интеграционным процессам свою версию направленности их развития. По сути США стремятся сконструировать систему глобальной регуляции мировой экономики, не соответствующую действительному характеру и объективным тенденциям ее развития. Их цель – однополярный мир, которым можно управлять из одного центра.
Мир, однако, несмотря на все усилия этой новой и необычайно агрессивной имперской сверхдержавы превратить его в однополярный, остается и будет долго, если не всегда, оставаться многополярным, полицентрическим. На практике глобализационный проект США, ориентированный на моноцентричность мира, оказался очередной эпохальной иллюзией, фантомом. В реальности идет интенсивный процесс формирования самодостаточных региональных центров развития и силы, объединяющих целую группу государств и вступающих между собой в жесткую конкурентную борьбу. Это происходит потому, что сама идея установления моноцентрического мира противоречит логике социального, базирующегося, как и все в мире живого, на законе разнообразия. Ни глобальный характер современных информационных технологий, ни интернет, ни скоростной транспорт не в состоянии сами по себе обеспечить единство мира, преодолеть его разорванность и противоречивость. В практике реальной жизни процесс становления новой геоструктуры мира, нового миропорядка, нового мироустройства имеет тенденцию не только к интеграции, но и к дезинтеграции, к формированию новых и жестких разделительных линий. Мир, структурируясь иначе, по-прежнему остается не единым.
Сегодня ряд исследователей (в отличие от многих заокеанских аналитиков, которые, исходя из факта явного превосходства США в военном и экономическом отношении, доказывают возможность утверждения под эгидой Соединенных Штатов одного глобального центра мира) выдвигают вполне взвешенную и аргументированную точку зрения, согласно которой «мировой системе предстоит стать полицентрической, а самим центрам – диверсифицированными, так что глобальная структура силы окажется многоуровневой и многомерной (центры военной силы не будут совпадать с центрами экономической силы и т. п.), хотя и необязательно сбалансированной»[224]. Причем формирующийся новый миропорядок будет базироваться не на одной, а на нескольких дополняющих друг друга и в чем-то соперничающих ценностных системах. А его специфической чертой станет отсутствие универсального индивидуального лидерства. Ни одна страна (сколь бы сильна она ни была) не сможет навязать миру свою линию развития. Кроме того, грядущий мировой порядок, скорее всего, будет иметь не одну, а несколько точек роста и изменяться одновременно в нескольких направлениях, в том числе и взаимоисключающих. Это связано с тем, что на авансцене мировой истории с неожиданной быстротой стали появляться новые акторы и игроки, и хотя они пока не принадлежат к мировым лидерам по уровню экономического развития, тем не менее, уже сегодня способны создать под своим лидерством региональные центры развития и силы, противостоящие дальнейшей экспансии евроамериканской цивилизации, и в состоянии отстоять экономические и иные интересы стран, объединяющихся вокруг данных центров, а также сформировать коалиции, не зависимые от стран – лидеров глобализации, способные пресечь тенденцию к утверждению моноцентрической геополитической структуры мира и трансформировать ее в полицентрическую структуру. Эти государства имеют мощный военный потенциал, длительную историю и глубокие культурные традиции. Они не могут смириться с постулатом заведомого неравенства, с униженностью в мировой иерархии, со сведением их до уровня управляемой геополитической величины и непременно найдут способ своей консолидации, поскольку такое положение несовместимо с их генетическим кодом исторического самосознания. Не так легко перевести в русло желаемой для себя политики такие страны, как Россия, Китай, Индия и другие, чье историческое прошлое и национальное самосознание препятствует унизительной зависимости от любой державы или группы держав. Поэтому можно предположить, что будущая геополитическая структура мира будет состоять из автономных самодостаточных центров развития и силы, каждый из которых обзаведется собственной сферой влияния, т. е. верх возьмет не принцип тотальной глобализации, а принцип регионализации мира. Это и будет вариант, близкий к классическому типу баланса сил.
Симптомы такого рода поворота событий выявились, и их множество. Сегодня на нашей планете наряду с существованием огромного количества стран Третьего и отчасти бывшего Второго мира, утративших способность к самостоятельному развитию (так называемых падающих или несостоявшихся государств), выделился целый ряд крупных стран, которые, несмотря на свое прошлое и даже нынешнее отставание от стран Первого мира (лидеров глобализации), быстро создают предпосылки для перехода на более высокую ступень мировой иерархии и начинают активно воздействовать на процесс формирования нового миропорядка, новой геострукгуры мира. В специальной литературе подобные государства называют восходящими странами-гигантами. Пальма первенства среди них принадлежит Китаю, масштабы территории, численность населения и темпы роста которого в своей совокупности беспрецедентны. В эту группу государств включают Индию, Бразилию и Россию. Появилась даже аббревиатура, состоящая из начальных букв в названии данных государств: БРИК – Бразилия, Россия, Индия, Китай. В последнее время стали говорить о втором эшелоне восходящих стран-гигантов, к которым относят ЮАР, Пакистан, Индонезию и Мексику. Для обозначения этих стран также уже появилась своя аббревиатура – ЮПИМ.
Восходящие страны-гиганты первого и второго эшелона успешно преодолевают комплекс периферийности и выходят на передовые рубежи. Сам факт их существования свидетельствует о неизбежности перехода от моноцентризма, навязываемого миру США, к полицентризму, от однополярности к многополярности.
Почему не глобализация, а регионализация становится доминирующим фактором мирового развития? Дело в том, что в современных условиях прежде всего из-за ограниченности ресурсов ужесточается конкуренция по всем направлениям и азимутам. В ситуации ужесточения глобальной конкуренции на мировых рынках подавляющее большинство государств нашей планеты могут сохранить суверенитет и политическую субъективность только в союзе с другими государствами созданием коалиции государств, позволяющей успешно противостоять давлению глобальных монополий и прочим глобальным опасностям и кризисам, которые породила глобализация. Прежде всего она запустила в действие механизм, позволяющий странам с производительностью труда выше среднемирового уровня выкачивать из стран с производительностью труда ниже среднемирового уровня всевозможные ресурсы – природные, финансовые, интеллектуальные, человеческие, включая даже красивых женщин. Дифференциация по уровню доходов между населением развитых и отставших стран стала в этой связи нарастать с угрожающей скоростью. Однако у государств и народов мира существует инстинкт самосохранения. К сегодняшнему дню его проявлением как раз и стал «переход от глобализации к регионализации, т. е. от формирования единого общемирового рынка к созданию системы региональных рынков. В их рамках в силу снижения остроты конкуренции смогут не только существовать, но и развиваться относительно менее эффективные общества»[225].
Регионализацию, таким образом, можно рассматривать как реакцию стран на вызовы глобализации, как способ ограничить ее негативное влияние на национальную экономику посредством установления внутрирегиональных преференций, внешних барьеров и коллективного протекционизма. «Регионализм – один из способов справиться с глобальной трансформацией, поскольку большинству стран недостает сил и средств для того, чтобы одолеть такие проблемы на национальном уровне», – пишет шведский политолог Б. Хеттне[226]. А вот взгляд на эту проблему известного российского экономиста академика С. Глазьева. Он пишет: «Нужно понимать, что весь мир стоит на пути создания мощных региональных союзов, которые могут выжить в конкурентной борьбе. Буквально через несколько лет мы станем свидетелями организации торгово-экономических отношений и связей не столько между странами, сколько между крупными региональными группировками, каждая из которых будет стремиться доступными ей способами накачать мускулы и стать весомым игроком, с которым считаются другие. Конкуренция будет вестись между ЕС, НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли), Меркосур (Таможенный союз ряда государств Южной Америки), ЕврАзЭС, Индией, Китаем и Японией, которые создают зону свободной торговли в Юго-Восточной Азии»[227].
Некоторые авторы считают, что сегодня обозначились контуры мира без Запада. Этот новый мир покоится, с их точи зрения, «на углубляющихся быстрыми темпами взаимосвязях между развивающимися странами (через потоки товаров, денег, людей, идей), которые, на удивление, неподконтрольны Западу. В результате формируется новая, параллельная, международная система с собственными нормами, институтами и общепринятыми структурами власти… Восходящие державы начали выстраивать альтернативную архитектуру институтов и особые модели государственного управления, которые составляют каркас их собственного – и очень реального – устойчивого и легитимного (в глазах большей части остального мира) политико-экономического порядка»[228].
Охвативший планету в конце 2010-х гг. финансово-экономический кризис стал ускорять процессы регионализации мира и привел к противодействию схеме всеобъемлющей, стандартизирующей глобализации (точнее, американизации). Глобальный кризис убавил разговоры о регионализации как ступени на пути к глобализму или о глобализации как процессе, осуществляющемся через регионализацию, дал серьезные основания многим исследователям полагать, что регионы в послекризисный период представляет собой вполне самостоятельные образования, которые изначально по своим целям и функциям будут направлены против глобализма, поставившего их в докризисное время в крайне невыгодные условия. Более того, кризис позволил некоторым аналитикам с достаточной степенью доказательности говорить о разворачивающемся на нашей планете процессе деглобализации. После победы над Советским Союзом в «холодной» войне экономически развитые страны перекроили мир исключительно в интересах своих глобальных корпораций. И сделали это так недальновидно, что лишили половину человечества возможностей нормального развития. Эта геооперация вызвала не только глобальную напряженность, всплеск терроризма и миграций, но и ограничила возможности сбыта товаров, произведенных в самих этих странах. В результате данные страны (прежде всего США) и сами попали в объятия кризиса перепроизводства. Эффективность модели развития евроатлантической цивилизации повсеместно стала подвергаться сомнению и критике. Вот некоторые суждения, высказанные в эти кризисные 2007–2010 гг. целым рядом исследователей.
Американский экономист Р. Олтман (занимавший в 1993–1994 гг. должность заместителя министра финансов США) в своей статье «Геополитическое поражение Запада» пишет, что глобальный финансово-экономический кризис подорвал доверие к экономике Запада, что он уводит мир от однополярной системы и смещает мировой фокус в сторону от США. Р. Олтман считает: «В среднесрочной перспективе глобальный плацдарм Соединенных Штатов будет уменьшаться, в то время как другие страны, особенно Китай, получат шанс ускорить свое восхождение»[229]. Британский эксперт Андриан Пабст заключает: «Мир больше не будет тянуться за Западом. Атлантическая однополярность… уже не формирует и не направляет глобальную геополитику и геоэкономику»[230]. Министр иностранных дел Сингапура Дж. Ео отмечает: «Развивающиеся страны уже не станут устремлять свои взоры только на Запад как источник вдохновения; они тоже повернутся к Китаю и, может быть, к Индии»[231]. А бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт утверждает: «Совершенно очевидно, что однополярное мироустройство доказало свою неэффективность и нежелательность. Так что, нравится нам это или нет, мы в каком-то смысле возвращаемся к региональным империям и вступаем в новый век»[232]. По мнению директора лаборатории стратегических сценариев Института экономических исследований Nomisma (Болонья, Италия) А. Полити, идеология рыночной экономики (невидимая рука, витальная сила и демократия рынка) подорваны. «Если все это, – пишет он, – и не станет концом рыночной экономики по сути, мало сомнений в том, что управляемая рыночная экономика стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) будет разительно отличаться от евроатлантической. Сценарий упадка привычной системы может показаться пугающим, но лучше смоделировать его (и сделать выводы по изменению курса), чем идти на поводу у инерции мышления, интересов привилегированных кругов и невежества, которые стремятся заблокировать радикальные перемены»[233]. Д. Белл, всемирно известный автор теории постиндустриального общества, анализируя процессы регионализации мира, приходит к выводу о том, что наша эпоха становится «эпохой разобщенности». Он подчеркивает, что, несмотря на усилия некоторых политиков сконструировать однополярный мир, реальные события идут своим чередом. Согласно ему «именно поэтому мы наблюдаем сегодня прецеденты региональной интеграции… Регионы – вот те политические, социальные и культурные единицы, из которых будет строиться мир XXI в.»[234].
Даже 3. Бжезинский признает, что «500-летнее глобальное доминирование атлантических держав подходит к концу»[235]. Таковы оценки сегодняшней ситуации в мире. Обратим внимание на процесс чрезвычайно быстрого изменения положения. Кто бы раньше мог подумать, что Запад прямо на глазах начнет терять статус образца развития для незападных народов и стран? Но это сегодня происходит.
Неслучайно некоторые прозорливые исследователи еще задолго до глобального финансово-экономического кризиса предсказывали, ссылаясь на маятниковый характер взаимодействия «Восток – Запад», возможность смены цивилизационного лидерства в мире. Если первоначально в ходе цивилизационного развития лидировал Восток (на Востоке, в Месопотамии, Египте, Индии, Китае возникли первичные цивилизации, восточный «человек спиритуальный» дал миру Библию, Коран, «Бхагавад-Гиту» и т. п.), а в XV–XVIII вв. это лидерство перешло к Западу, дополнившись в XX в. лидерством США, к экономическому человеку, утвердившему агрессивно-потребительское отношение к миру, то сейчас, в силу экологического императива и других глобальных вызовов нашего времени, путь, приведший Запад к успеху, может быть в обозримой перспективе пресечен, и мировое лидерство снова вернется к Востоку[236]. Уникальные культуры таких евразийских гигантов, как Китай и Индия, обнаружили исключительную выживаемость и устойчивость. Данные страны как никакие другие азиатские государства обладают способностью к противостоянию инструментально-потребительской цивилизации Запада. Причем в духовном плане здесь особо выделяется Индия. Индийская культура обладает посттехническим, постпотребительским, постэкономическим потенциалом – альтернативами современному агрессивному глобализму, его хищническим интенциям и установкам. И этот потенциал не имеет в мире аналогов. Постэкономический потенциал обусловлен великой индо-буддийской духовно-религиозной традицией, отличающейся от всех других духовно-религиозных традиций удивительной глубиной и основательностью осмысления окружающего мира. Можно поэтому предположить, что индо-буддийская традиция способна выступить в качестве одной из предпосылок кардинальной перестройки той картины мира и мировоззрения, которые сформировались в эпоху европейского Возрождения и Нового времени и продолжают до сих пор господствовать, несмотря на свою несовместимость с экологическим императивом.
В истории, таким образом, действует мегацикл, т. е. на земле доминирует то западная часть мира и ее менталитет, то восточная. Вначале господствовала восточная фаза мирового мегацикла, потом западная. Теперь западная фаза вошла в период таяния и утери своих потенций. Впереди, похоже, восточная фаза мирового мегацикла.
Исследователи Д. Кадшика и М. Сингха пишут, что настало время объединить усилия Индии, Ирана, Китая, России и Малайзии для выхода из плена ошибочных концепций и поиска более приемлемых стратегий – для себя и для других стран[237]. С их точки зрения, три гиганта Евразийского континента – Россия, Китай и Индия способны обеспечить срыв плана Запада навязать Востоку перспективу догоняющего развития (отсталого Юга), т. е. вечной зависимости от Запада и вечного комплекса неполноценности, и создать самостоятельную стратегию развития, собственную историческую линию поведения.
Весьма интересное суждение в этой связи высказывает российский исследователь В.И. Пантин: «…Уже появляются признаки грядущего изменения мирового порядка, очередной геоэко-номической и геополитической революции. В XXI в. намечаются новые сдвиги и изменения мирового порядка. В частности, на сцену глобальной политической истории постепенно выдвигаются три азиатские страны-цивилизации – Япония, Китай и Индия, уже ставшие мировыми центрами экономической и политической силы. Роль этих новых центров силы на протяжении XX в. медленно, но верно возрастала и неизбежно будет возрастать в XXI в.: вектор мировой истории снова начинает поворачивать на Восток. В результате этих долговременных процессов прежняя «периферия», или «полупериферия», в недалеком будущем может стать «центром» мирового развития, как это уже не раз бывало в истории»[238]. Уже упомянутый нами английский исследователь Н. Фергюсон подчеркивает: «Если события будут и далее развиваться так, как они развивались в последние несколько десятилетий, двухвековому доминированию Европы, а затем и ее гигантскому североамериканскому отпрыску придет конец. Япония была лишь провозвестником азиатского будущего. Она оказалась слишком мала и слишком интравертна, чтобы изменить мир. Но те, кто идет вслед за ней, и прежде всего Китай, свободны от этих недостатков… Европа была прошлым, США являются настоящим, а Азия, с доминирующим в ней Китаем, станет будущим мировой экономики»[239].
Сегодня центр международной политики неуклонно смещается в Азию. С.А. Караганов пишет: «В Азии налицо тенденция к формированию регионального экономического центра – мягкого интеграционного блока, способного через десятилетие стать мощнейшим средоточением экономической силы. Такой блок может основываться на Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Не исключено, что подобного рода альянс в конце перерастает в формальное интеграционное объединение наподобие Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) или Европейского экономического сообщества (ЕЭС) прошлых лет. Возможно усиление юаня, иены и рупии за счет доллара. Так или иначе, становлению нового объединения будет оказано серьезное противодействие (в первую очередь со стороны США), однако этот процесс едва ли удастся остановить. Азиатские державы, обретающие уверенность в своих силах, стремятся сбросить идеологическое и культурное господство, которое им веками навязывал Запад. Они заявляют о готовности проводить – либо при поддержке соседей, либо (пока) в одиночку – самостоятельную линию в экономике и политике»[240].
Полицентричность, которая формируется на наших глазах, надо полагать, не приведет человечество к гармоничному и непротиворечивому состоянию. Теоретически многополярность может быть устойчивой при равных возможностях центров сил, при их соответствии классическому типу баланса сил. Но такая идеальная ситуация в истории редко случается, а если случается, то ненадолго, ибо она противоречит закону неравномерного развития государств. В реальности непременно какое-то государство или группа государств вырвется вперед. Новый центр силы, достигнув экономической и военной мощи, равной или превосходящей потенциал ведущих государств мира, сразу же начинает требовать для себя нового статуса, означающего на деле передел сфер мирового влияния. Борьбы, противоречий и дисгармонии, видимо, человечеству не избежать еще долго. Как бы люди в своих помыслах и идеалах ни стремились к миру и согласию, человеческая история, тем не менее, остается трагически конфликтной и противоречивой. И здесь уже не так важно, какая конкретно конфигурация или геоструктура международных отношений будет господствующей в мире.
Утвердится ли схема полицентрического (многополярного) мира, в котором собственной зоной влияния обзаведутся также страны, как Китай, Индия, Россия, Бразилия и подобные, или возьмет верх другой сценарий, когда параллельно будут сосуществовать шесть или семь цивилизаций, утверждающих себя в качестве самостоятельных региональных центров мирового развития, – противоречий этих и конфликтов устранить не удастся.
Все предпринимавшиеся когда-либо попытки осуществить полную и окончательную интеграцию и универсализацию мира, включая современные попытки США и их союзников, в принципе не состоятельны, ограниченны и преходящи. Глубокой в этой связи представляется мысль М. Гефтера о «схватке разнонаправленных развитий», которые не растворяются в «едином мире», а создают перманентный «мир миров», некую взаимозависимую целостность различий – «равноразность». Исследователь призывает отказаться «от единства, по отношению к которому различия способны быть лишь версиями или вариантами». Единство, в его понимании, – это «совместимость несовпадающих векторов развития». «Мир и есть (будет?) МИР МИРОВ». Поэтому-то на смену «окончательному решению» придет «НЕОКОНЧАТЕЛЬНОСТЬ МИРОУСТРОЙСТВА как способ ужиться всем вместе на Земле»[241].
Человечеству необходимо выживать. Поэтому вновь возникающим центрам силы, крупным государствам, имеющим свои сферы влияния, так или иначе придется договариваться и улаживать проблемы. Как отдельные интеграционные экономические зоны они будут иметь взаимоотношения, скорее всего, в виде интернационализации, уступающие статусу или позиции глобализации. Судя по всему, лишь вопросы экологии, демографии, совместного освоения космического пространства и другие подобного рода проблемы приобретут всеобщий глобальный характер. Необходимость решения этих вопросов будет стимулировать взаимосвязь и взаимодействие различных центров развития и силы, объединять их. Разъединять их будет борьба за территории, богатые сырьевыми и минеральными ресурсами, за дешевую рабочую силу, за страны, еще не включенные в сферу влияния данных центров, и т. д.
Не исключено и наступление эпохи новых темных столетий, эпохи хаоса и анархии, для которой станет характерным упадок и крушение крупных государственных образований, грабежи, религиозный фанатизм, экономический застой, потеря основных достижений цивилизации, ее отступление в отдельные укрепленные анклавы и т. д. Но такого поворота событий человечество не должно допустить.
Вообще, современное состояние мирового сообщества можно определить как цивилизационный слом или как гигантскую бифуркацию, где жестко сопряжены относительно новые и весьма опасные процессы: экологический, демографический, антропологический, социально-политический, финансово-экономический, этический, религиозный и другие кризисы. Можно предположить, считает российский исследователь Л.В. Лесков, что после прохождения этой мегабифуркации мировая история в XXI в. будет развиваться по одному из нижеследующих альтернативных сценариев.
1. Униполярная глобализация по модели Pax Amerikana (мира по-американски).
2. Неустойчивое равновесие нескольких мировых центров силы.
3. Столкновение цивилизаций, нарастание волн терроризма, наркобизнеса, «малых» войн и т. п.
4. Распад мирового сообщества на слабо связанные центры силы, возврат к варварству, новое Средневековье.
5. Экологическая катастрофа – сначала региональная, а затем и глобальная.
6. Глобализация по модели партнерства локальных цивилизаций в решении общемировых проблем.
7. Глобализация по модели ноосферного постиндустриального перехода в условиях качественно нового научно-технического прорыва[242].
Похоже, что к сегодняшнему дню реальный ход мировой истории отверг первый сценарий. Современное человечество движется все ускоряющимися темпами от фантома однополярности к полицентрическому мироустройству, что, конечно, само по себе (и здесь мы согласны с Лесковым) не гарантирует стабильного и устойчивого развития человеческой цивилизации. Только два последних сценария из этих семи выступают как конструктивные и не тупиковые, способные обеспечить в постбифуркационном пространстве XXI в. выживание человечества, его устойчивое самодвижение и развитие. Однако, к сожалению, путь к реализации этих позитивных сценариев пока просматривается с большим трудом. Крот истории все еще роет свою дорогу в потемках.
Вот такими оказываются замысловатые сюжеты и пути истории современной стадии развития человечества.
Итак, однополярность, о которой так много писали и говорили после падения Советского Союза, оказалась непродолжительной. История в очередной раз продемонстрировала миру, что она не терпит супердержав. Каким бы мощным и доминирующим ни было то или иное государство, у него рано или поздно появляются соперники, и человечество вновь возвращается к полицентрическому, к многополярному миру конкурирующих между собой великих государств (центров развития и силы). И даже если США образумятся и откажутся от имперских притязаний, другие страны или группы стран начнут бороться за свою гегемонию. Борьба за превосходство и доминирование всеобща и вечна.
Глава 34 Восточнославянские народы в эпоху современных глобальных трансформаций: выбор пути развития
Славянский мир вступил в третье тысячелетие раздробленным и обессиленным, подверженным внутренним распрям и разрушительному внешнему воздействию. Резко сужается территориальное жизненное пространство, сокращается численность населения, на глазах слабеет экономический и оборонный потенциал. Процесс крушения советской сверхдержавы, сопутствующие геополитические переделы и обвалы значительно опережают процесс цивилизационного самоопределения славянства и обретения теми или иными славянскими народами своей идентичности. По сути, идет деславянизация мира. Однако не только славянский мир в целом, но и восточно-славянская цивилизация в отдельности (восточнославянский суперэтнос) не выработала согласованных мер по противодействию негативным тенденциям и процессам.
Между тем будущее восточнославянской цивилизации закладывается сегодня. Восточнославянским народам, чтобы не оказаться вытолкнутыми на обочину исторического процесса, в нищую мировую периферию, а занять достойное место в геополитической (финансово-экономической, демографической, экологической и т. д.) обстановке XXI в., еще более противоречивой и конфликтной, чем в XX в., необходимо выработать и осуществить инновационную, прорывную стратегию развития.
Проблемы, с которыми столкнулись восточнославянские страны, настолько уникальны, что никакой внешний опыт не поможет их решить. У наших народов одна задача: найти свой ответ на вызов среды, свое цивилизационное измерение, выдвинуть и воплотить в жизнь свой социальный проект. И только те лидеры, которые окажутся способными, опираясь на менталитет, исторический опыт и традиции, предложить новый, отвечающий требованиям сегодняшнего дня комплекс идей и моральных, нравственных императивов, будут соответствовать высоте своего положения, заслужат память потомков. Ибо только на собственной культурной матрице возможна всякая успешная модернизация, как это было, например, в Японии в XIX–XX вв., в Китае в XX в.
Что же наиболее важно в геостратегическом плане для восточнославянских народов в данный исторический момент?
Ответ один: формирование восточнославянского цивилизационного центра развития и силы на собственной культурно-цивилизационной основе.
Объединяющаяся и объединенная Европа не считает православные восточнославянские народы своими и, похоже, считать не будет. Для Азии (прежде всего Юго-Восточной) и народов исламского мира мы тоже не свои. В этой ситуации восточнославянским народам остается либо консолидироваться, объединяться и создавать свой собственный центр развития и силы, либо превращаться в этнографический материал, почву для развития других цивилизационных центров. Вот и получается, что только в союзе (друг с другом и некоторыми странами Евразии) восточнославянские народы могут сохранить себя, найти свою нишу и место в мире, но союз этот должен быть равноправным и справедливым.
Беларусь и Украина изначально являются европейскими государствами. Они территориально принадлежат Европе. Однако следует различать два смысла понятия «Европа»: географический, в котором Европа как часть света простирается до
Уральских гор, и социокультурно-цивилизационный. В социокультурном и цивилизационном плане Европа разделена.
Западная Европа (первая) – это та, которая дала миру техногенную цивилизацию, т. е. первая в мире осуществила индустриализацию и распространила (или навязала) по всему миру нормы и законы общества потребления. Первая Европа – совершенно уникальный регион мира, омываемый Гольфстримом, и, соответственно, с характерным для него умеренно теплым океаническим климатом. Западная Европа неповторима, поскольку она сложилась и структурировалась в результате действия многих факторов, которые в своей совокупности больше не обнаружили себя ни в каком другом регионе мира (об этом очень убедительно писал выдающийся немецкий социолог М. Вебер). Ко второй Европе с некоторой долей условности можно отнести Чехию и Венгрию. Эти государства ближе всего к Западной Европе и по географическому расположению, и по духу. Что касается Болгарии и Румынии, то они уже существенно иные по духу и ментальности. Польша находится где-то между второй и третьей Европой. Албанию и Косово придется отнести к четвертому лику Европы, ведь они представлены этносами, исповедующими ислам. Беларусь, Украина – тоже Европа, но по природно-климатическим, религиозным, ментально-духовным характеристикам наиболее далеки от Западной Европы. Здесь, в целом, обнаруживается такая тенденция: чем ближе к Западу, тем больше Европы; чем ближе к Востоку, тем меньше Европы. Нравится это кому или нет, но Беларусь и Украина принадлежат не к западноевропейской протестантско-католической цивилизации, а имеют прямое отношение к восточно-православной славяно-русской цивилизации (оспорить этот тезис трудно, но многие, тем не менее, будут пытаться это делать. Верно сказано, если бы таблица умножения затрагивала чьи-либо интересы, правильность ее непременно ставилась бы под сомнение).
Культурно-цивилизационная дифференциация является неоспоримым фактом истории развития человечества. Этот факт получил исчерпывающее осмысление в мировой социально-философской мысли. Явление цивилизационной дифференциации человечества зафиксировано в целом ряде широко употребляемых ныне понятий: «культурно-исторические типы» (Н.Я. Данилевский), «локальные цивилизации» (А. Тойнби), «суперэтносы» (Л.Н. Гумилев) и др.
Но если белорусский народ принадлежит к восточнославянской православно-христианской цивилизации, то подлинным белорусским националистом в позитивно-конструктивном, творчески созидательном смысле[243] может быть только славянофил. Белорусский националист-западник – это псевдонационалист, человек, изменяющий культурно-цивилизационной идентичности своего народа. Общественно-политическая, педагогическая деятельность такого человека объективно (независимо от его самооценки) направлена на разрушение глубинных основ социального бытия восточнославянского суперэтноса. По сути, такого рода деятель стремится (возможно, отнюдь не бескорыстно) «сдать» свою цивилизацию другой, чужой цивилизации, войти в «чужой дом», нимало не задумываясь при этом о реальных последствиях данных стремлений для своего народа и даже о том, что такие попытки, помимо всего прочего, просто неприличны в чисто человеческом, нравственном смысле. С упорством, достойным лучшего применения, белорусские и украинские западофилы не перестают рассматривать Украину и Беларусь как изначально принадлежащие к европейской и вообще к западной культуре, истории, идентичности, религии, ценностям, ментальности, причем не просто в географическом, а именно в социокультурном и цивилизационном смысле.
Обратимся к научным работам, специально исследующим этот вопрос.
Этот вопрос наиболее полно раскрыт в работе американского исследователя С. Хантингтона. В своей книге «Столкновение цивилизаций» он выделяет восемь мировых цивилизаций, четко очерчивая цивилизационные границы Запада. Согласно С. Хантингтону Запад сегодня включает Европу, Северную Америку, а также страны, населенные выходцами из Европы, т. е. Австралию и Новую Зеландию»[244]. Что же касается границы Европы на Евразийском континенте, то восточная граница Запада совпадает с восточной границей западного христианства, которая сформировалась в 1500 г.
С. Хантингтон ставит вопрос о том, кого из народов, населяющих географическое пространство Европы, можно относить к потенциальным членам Европейского Союза, НАТО и подобных им организаций, и отвечает на него следующим образом: «Наиболее ясный ответ, против которого трудно возразить, дает нам линия великого исторического раздела, которая существует на протяжении столетий, линия, отделяющая западные народы от мусульманских и православных народов. Эта линия определилась еще во времена разделения Римской империи в IV в. и создания Священной Римской империи X в. Она находилась примерно там же, где и сейчас, на протяжении 500 лет. Начинаясь на Севере, она идет вдоль сегодняшних границ России с Финляндией и Прибалтикой (Эстонией, Латвией и Литвой); по Западной Беларуси и по Украине, отделяя униатский Запад от православного Востока; через Румынию, между Трансильванией, населенной венграми-католиками, и остальной частью страны, затем по бывшей Югославии, по границе, отделяющей Словению и Хорватию от остальных республик. На Балканах эта линия совпадает с исторической границей между Австро-Венгерской и Оттоманской империями. Это – культурная граница Европы, и в мире после «холодной» войны она стала также политической и экономической границей Европы и Запада…
Европа заканчивается там, где заканчивается западное христианство и начинаются ислам и православие (выделено нами. – Авт.). Именно такой ответ хотят услышать западные европейцы, именно его они в подавляющем большинстве поддерживают sotto voce[245], именно такой точки зрения открыто придерживается большая часть интеллигенции и политиков»[246].
Другой западный автор, Ф. Болкестайн, в своей книге «Пределы Европы», изданной в 2003 г., пишет о нецелесообразности и невозможности включить Россию, Украину и Беларусь в Европейский Союз и относить их к европейской цивилизации. При этом, с его точки зрения, Украина, Беларусь должны стать буфером между Европейским Союзом и Россией. Отсюда, кстати, и была придумана концепция государств – соседей Европейского Союза. Соседи в данном случае выступают как своеобразный Восточный вал, разделяющий Россию и Европейский Союз.
Таким образом, Запад не считает Украину и Беларусь европейскими государствами. В лучшем случае он их рассматривает как элемент внешнего периметра безопасности Европы. И это неудивительно. Ведь современная Европа – это не только единые стандарты, прописанные чиновниками Евросоюза, но и общее историческое и культурно-цивилизационное наследие, к которому, как бы это кому нравилось или не нравилось, Беларусь, Россия и Украина не имеют никакого отношения. А не имеют они к этому отношения, потому что изначально принадлежат к другой цивилизации – православно-славянской.
Еще можно было бы как-то согласиться с нашими национа-листами-западниками, если бы Евросоюз, НАТО и подобные организации были ориентированы на сохранение национальной идентичности (скажем, белорусскости) или на развитие национального самосознания входящих в эти организации государств. Но ничего подобного не наблюдается, и такая ситуация вполне естественна. Она обусловлена зафиксированным и подтвержденным в мировой специальной литературе процессом интенсивного преодоления и отбрасывания Европой всего национального. «Европейский Союз всегда был постмодернистским проектом, призванным выйти за пределы базовых элементов модернистского мира: наций и национальных государств»[247]. Так пишет английский автор Д. Шерр. Причем, что интересно, тенденция к денационализации обнаружила себя в Западной Европе уже достаточно давно. Пожалуй, впервые ее достаточно ясно осознал всемирно известный немецкий исследователь В. Гумбольдт – создатель оригинальной и методологически эффективной версии цивилизационного подхода к анализу истории человечества. Пророчески заглядывая в будущее, он писал: «…Та власть, которой обладает над нами нами же созданная цивилизация, все определенней толкает нас в направлении универсализма, народы под нашим влиянием приобретают намного более единообразный облик, и формирование оригинальной национальной самобытности удушается в зародыше даже там, где оно, пожалуй, могло бы иметь место (выделено нами. – Авт.)[248].
Эпигонам и сторонникам европейского выбора следовало бы прислушаться к приведенным выше высказываниям и уяснить, наконец, тот общеизвестнный факт, что Запад никогда не отличался национальной и культурной терпимостью. В отличие от России, которая в ходе своего исторического развития смогла выработать целый ряд суперэтнических универсалий, Запад в силу своих цивилизационных особенностей вряд ли будет способным когда-либо строить свои отношения с оказавшимися в орбите его влияния народами (особенно с православными славянами) на основе принципа равенства и консенсуса.
Интересно, каким образом в сознании белорусских и украинских представителей западофилов совмещается стремление к национальному возрождению, к развитию национального самосознания и культуры с мечтой войти в «Европейский дом», продвинуться в Европу, отдаться власти чиновникам наднациональных структур Европейского Союза? Не есть ли это определенного рода «культурная шизофрения», о которой вполне определенно говорит все тот же С. Хантингтон? В частности, он пишет: «Политических лидеров, которые неумело считают, что могут кардинально перекроить культуру своих стран, неизбежно ждет провал. Им удастся заимствовать элементы западной культуры, но они не смогут вечно подавлять или навсегда удалить основные элементы своей местной культуры. Политические лидеры могут творить историю, но не могут избежать истории. Они порождают разорванные страны, но не смогут сотворить западные страны. Они могут заразить страну шизофренией культуры, которая надолго останется ее определяющей характеристикой» (выделено нами. – Авт.)[249].
Пора нам, наконец, научиться верно оценивать сущность, характер и направленность развития западноевропейской цивилизации. В решении этого вопроса может оказаться наиболее полезным и взгляд изнутри, т. е. изучение концепций и теорий самих западноевропейских исследователей. Это важно потому, что всякий ложный образ, всякие иллюзии относительно сущности и характера западноевропейской цивилизации стоили и, несомненно, будут еще стоить незападным народам, в том числе и восточным славянам, непомерно дорого. Обратим свое внимание, например, на то, что писал по интересующему нас вопросу выдающийся английский историк А. Тойнби еще в 1947 г.: «…Западная цивилизация имеет своей целью ни больше, ни меньше, как включение всего человечества в единое общество и контроль над всем, что есть на земле, в воздухе и в воде и к чему можно приложить для пользы дела современную западную технологию. То, что Запад совершает сейчас с исламом, он одновременно делает и со всеми существующими ныне цивилизациями – православно-христианским миром, индуистским и дальневосточным, – включая и уцелевшие примитивные общества, которые находятся в безвыходном положении даже в собственной цитадели – тропической Африке. Таким образом, современное столкновение ислама и Запада не только глубже и интенсивнее, нежели любое из прежних, оно также представляет собой весьма характерный эпизод в стремлении Запада вестернизировать весь мир…»[250]. Как все сказанное им звучит сегодня актуально и современно!
Западная цивилизация является потребительской. Она не может существовать, не расширяясь за счет других цивилизаций, которые постепенно поглощает.
Нам следует пересмотреть приукрашенный образ старой и доброй Европы, а также образ США. Подумать о союзе с теми цивилизациями и народами, которые так же, как и мы, подвергаются открытому или замаскированному насилию и агрессии.
Говоря об историческом самоопределении восточнославянских (как, впрочем, и всех других) народов, надо иметь в виду чрезвычайно важное обстоятельство: в наше время более или менее надежную историческую перспективу для своего выживания и дальнейшего устойчивого развития имеют только те страны, территории которых богаты минеральными и энергетическими ресурсами, или те, которые овладели или смогут овладеть высокими технологиями. Вообще-то факторов, определяющих историческую судьбу народов, множество, но сегодня на первый план выдвинулись именно энергетически-сырье-вой и технологический факторы.
Поставим вопрос: Нужны ли сегодняшнему Западу Украина и Беларусь? Нужны: во-первых, для того, чтобы ослабить Россию, не дать ей возможности создать свой самостоятельный центр развития и силы и тем самым получить беспрепятственный доступ к ее ресурсам, стать хозяином и распорядителем этих ресурсов; во-вторых, для генно-биологической подпитки состарившихся западно-европейских этносов, т. е. для приостановки быстро нарастающих процессов депопуляции в западном мире и для пополнения биологически и социально активным населением из Беларуси и Украины своей рабочей силы. Причем, по замыслу западноевропейских политтехнологов и государственных деятелей привлечение рабочей силы из восточнославянских стран призвано существенно уменьшить поток эмигрантов из Африки, Азии и Латинской Америки.
Западные европейцы, сформировавшие у себя общество потребления и цивилизацию досуга, обогнавшие весь мир по уровню научно-технического прогресса и экономического преуспевания, осуществившие множество всяких революций во всех сферах своей жизнедеятельности, к настоящему времени, похоже, утратили или утрачивают желание рожать детей, а следовательно, уже не могут обойтись без притока эмигрантов с Юга. Европейцев и американцев сегодня трудно заставить выполнять целый ряд работ, особенно в третичном секторе, за которые с удовольствием берутся иммигранты. В результате Европа, если она, конечно, резко не изменит алгоритма своего развития, обречена стать континентом старых людей, остро испытывающих потребность в массовой миграции для поддержания производства и сохранения сложившейся системы социального обеспечения.
Западные политики и ученые прекрасно отдают себе отчет в этом. Они понимают, что замена иммигрантских потоков из бедных стран Третьего мира потоками имммигрантов из славянских стран будет в известной мере спасительной для Западной Европы, поскольку существенно замедлит разрушение культурно-цивилизационного кода. Так, американский исследователь П. Ханна подчеркивает, что расширение Европейского Союза «необходимо самой Европе, иначе она прекратит свое существование»[251]. Этот свой тезис он подкрепляет следующим весьма красноречивым высказыванием одного из официальных представителей Еврокомиссии: «Хотя мы не желаем этого признать, расширение притормаживает неблагоприятную демографическую динамику, увеличивая численность рабочей силы»[252]. Вот в чем оказывается еще один из глубинных мотив расширения Европейского Союза.
В других отношениях Беларусь и Украина Западу не нужны. Они не нужны ей как конкуренты в получении ресурсов из третьих стран, не нужны ей и в области промышленного производства, особенно высокотехнологичного. Напротив, Западу необходимо любой ценой сохранить монополию на высокотехнологичное производство. Ибо это является важнейшим условием его доминирования в мире. Но главное – Западной Европе не нужны Беларусь и Украина как чуждые духовно-ментальные и культурно-цивилизационные образования.
Западноевропейцев понять можно: они стремятся сохранить свою цивилизацию. Но для восточнославянских народов процесс перекачки рабочей силы в западные страны может обернуться не чем иным, как ускорением и углублением деславянизации мира. Страны, которые покинули самые образованные, квалифицированные и экономически активные граждане, ждет превращение в государства-паразиты, не способные к самостоятельному существованию, а поэтому нуждающиеся во внешнем управлении. Став составной частью балто-черноморского санитарного коридора, отделяющего Россию от Западной Европы, Беларусь и Украина могут превратиться в глухую окраину Европы и изгоев Евразии. Космополитический и постмодернистский Запад не будет беспокоиться о сохранении социокультурной идентичности и развитии национального самосознания белорусского и украинского народов. Как представители другой цивилизации Беларусь и Украина никогда не достигнут реального равноправия со странами Западной Европы.
В свою очередь Россия одна, без стратегического экономического, политического и военного союза с остальными восточнославянскими странами вряд ли сможет сохранить свою территориальную целостность, удержать свою Западную и Восточную Сибирь – богатейшую в мире кладовую сырьевых и энергетических ресурсов – ей для этого просто не хватит населения. На этот регион с откровенным вожделением сегодня смотрят и США, и Япония, и Китай, и др.
Подчеркнем, что при реализации данного сценария цель раздробления восточнославянского мира, превращения его в колониальную или полуколониальную периферию других центров силы будет достигнута. Именно над осуществлением этой цели сейчас и трудятся те, кто хочет поживиться, сохранить свои высокие стандарты потребления за счет восточнославянских народов. И как это ни трагично, мы и сами помогаем мировым гегемонам в осуществлении этой цели. «Горько смотреть, – пишет украинский исследователь С.Н. Сидоренко, – как российская и украинская «элиты» наперегонки, отталкивая одна другую локтями, устремляются «в Европу», изо всех сил стараясь продемонстрировать перед Западом свою «цивилизованность». На Украине, по предписанию Запада, эта «цивилизованность» должна выражаться в отречении от своей тысячелетней русской истории, от созданного за эту тысячу лет духовного достояния, в предательстве русских интересов и т. д. От России же в качестве проявления «цивилизованности» Запад ожидает в первую очередь отказа ее от «имперских амбиций», а также трансформации ее духовной сущности, ослабления тех духовных основ, на которых веками держалась русская жизнь. И, надо сказать, на протяжении всего послесоветского периода Россия очень старалась соответствовать предъявляемым требованиям, так что готова была жертвовать чем угодно, только бы признали ее «цивилизованность», только бы причислили ее к Европе…»[253]
Представим другой вариант развития событий. Предположим, Беларусь, Россия, Украина создают свой самодостаточный региональный центр развития и силы. В орбиту их влияния, не исключено, будут вовлечены еще какие-то страны и народы. В этом случае Россия сможет сохранить территориальную целостность, а соответственно, и богатства своих недр. И тут надо понять самое главное: недра Западной и Восточной Сибири в случае тесного и равноправного союза восточнославянских народов станут их общим стратегическим ресурсом. В их освоении, в создании всех необходимых инфраструктур наряду с русскими принимали активное участие белорусы и украинцы. Это наше общее достояние. Это наш общий потенциал для дальнейшего стабильного развития без ресурсного голода. В случае реализации этого сценария перед восточнославянскими странами открывается перспектива длительного и устойчивого развития. Тогда восточнославянскому миру, обладающему богатыми ресурсами, никто не сможет диктовать свои условия. Мы сами тогда сможем определять свой путь, свою стратегию, свою идеологию, свой перспективный социальный проект.
Будет ли правильным, если Беларусь и Украина при определении своей стратегической линии развития пренебрегут этой возможностью? Думается, что нет.
В большой политике и геополитике действуют свои законы, с которыми народам мира так или иначе приходится считаться, – объективные факторы. Эти законы в очень малой степени зависят от наших эмоций и настроений, текущей экономической и политической конъюнктуры. Например, существуют следующие факторы: в России разведанные ресурсы в денежном исчислении составляют сумму 160 тыс. долларов на одного человека, а в Европе – всего лишь 6 тыс. долларов; воды Нила и Амазонки загрязнены, а в России в одном Байкале 24 % мировых запасов чистой питьевой воды, которая скоро, судя по всему, станет дороже бензина; России принадлежит более половины черноземов планеты, которые, согласно экспертным данным, могут прокормить более 800 млн человек, а также принадлежит более половины хвойных лесов планеты. Это и есть объективные факторы целесообразности единения трех родственных народов. И надо полагать, эта объективная потребность возьмет свое. Есть также уверенность, что Россия изживет, перемелет олигархический режим, русский народ сможет, в конце концов, привести к власти тех людей, которые будут реализовывать его глубинные интересы.
Действительно Беларусь и Украина только в союзе с Россией могут стать значимыми субъектами мировой политики; но принципиально важно и то, что вне традиционного союза трех братских славянских народов Россия тоже не застрахована от этого. Нам никогда не следует забывать, что восточнославянские народы, учитывая общность их исторических путей развития, культурно-цивилизационную близость, теснейшие научные и промышленно-технологические связи, являются естественными союзниками высшей степени. Напомним, что технологический потенциал Советского Союза был по преимуществу сосредоточен в трех славянских республиках – России, Украине, Беларуси. И воссоздавать его поэтому разумно в теснейшем взаимодействии и кооперации. Правильно пишет все тот же С.Н. Сидоренко: «Без Киева, из которого берет начало наша история, без единого православия, без русской культуры, которая является общим достоянием великороссов, малороссов, белорусов и других народов некогда великой страны, и Россия, и Украина внутренне бессмысленны и взаимно неполноценны»[254].
В целом перед Республикой Беларусь и Украиной открываются три возможных пути развития: 1) двигаться в западном направлении с перспективой полной потери своей политической субъективности, краха экономической системы, а также «вымывания» наиболее биологически и социально активной части населения, как это сейчас, например, происходит в Прибалтике и Польше; 2) некоторое время маневрировать между Западом и Россией, надеясь на получение разного рода преимуществ и преференций, но такая ситуация приведет только к потере исторического времени и ослаблению потенциала развития; 3) взять курс на крупномасштабное сближение с Россией, однако избрание этого пути движения будет в равной мере зависеть от Беларуси, Украины и России. Вряд ли следует сомневаться в том, что при условии преодоления в России дикого олигархического капитализма этот третий путь станет наиболее перспективным и жизненным для восточнославянских народов.
Сегодня перед восточнославянскими странами стоит задача, чтобы не допустить ситуации, когда процесс нарастающей регионализации, консолидации региональных групп и центров силы будет происходить без них. Независимо от устремлений наших геополитических конкурентов восточнославянский регион, будучи в окружении экономически и политически более сильных конкурентов – Западной Европы и Китая, – будет испытывать огромные трудности в процессе своей консолидации. И уж тем более в деле превращения в самостоятельный центр развития и силы, т. е. в центр притяжения надежных союзников и партнеров. Это обстоятельство, безусловно, потребует от восточнославянских народов определенного рода сверхусилий, а от их элит и лидеров – политической воли, смелости и целеустремленности. Без инвестиций в интеграцию восточно-славянские народы могут оказаться кандидатами на утерю своей исторической и политической субъективности, частичное или полное поглощение своими более консолидированными и более успешными геополитическими конкурентами.
Мы, конечно, отдаем себе отчет в том, что события в настоящий момент трагически разворачиваются в совершенно другом направлении. В отличие от всех других регионов мира только один регион – восточнославянский идет не по пути интеграции, а по пути дезинтеграции. Нас разделяют, а мы и сами с энтузиазмом разделяемся.
В чем это проявляется? В экономическом плане Беларусь и Украина только в том случае могли бы по-настоящему заинтересованно взять курс на сближение с Россией, если бы она допустила их к добыче необходимых для нужд национальных экономик энергоресурсов на своей территории, пошла бы на реальное создание единого экономического пространства с выделением долевой собственности на сырьевые месторождения, стала привлекать к реализациии крупномасштабных модернизационных проектов, предпринимала различные другие такого рода действия, вплоть до введения общей валютной системы. Только так возможно было прочно привязать политику данных стран к политике России, исключив при этом влияние США в восточнославянском регионе. Само собой понятно, что эти меры, предпринимаемые Россией, не должны были бы носить односторонний характер и компенсироваться соответствующими шагами с белорусской и украинской сторон. Поразительно, что Россия допустила к добыче энергоресурсов на своей территории Германию, Великобританию, Францию, США и Японию – страны, только тем и озабоченные, чтобы исключить всякую возможность возрождения России в качестве конкурентоспособного центра развития и силы, но не поступила аналогичным образом в отношении своих самых близкородственных народов – белорусского и украинского.
Почему так получилось?
В России на данный момент сложилась система монетократии – власти денег, а в ее властных структурах доминируют люди с коммерческим, а не государственным мышлением, «низкие мужи» (если прибегнуть к терминологии Конфуция). Для нынешней российской элиты деньги представляют собой не просто функциональную вещь, средство. Для основной массы ее представителей деньги – это бог, абсолютная ценность. «…Они считают, что при помощи денег можно решить любые проблемы, в том числе и метафизические…, т. е. деньги – это не просто инструмент для решения каких-либо сугубо практических вопросов, это кардинальная характеристика человека, имманентная ему. Она отличает людей категории А от людей категории Б»[255]. Ведь только подумать: Беларуси приходится договариваться о разработке месторождений нефти и газа с Венесуэлой, Азербайджаном, Туркменистаном, с кем угодно, только не с Россией. Отказ допустить своих ближайших соседей к добыче энергоресурсов на территории России, похоже, никак иначе нельзя объяснить, как стремлением ее политического руководства сохранить за собой шантажный потенциал в отношении всех стран СНГ. Гибельность такой коммерчески ориентированной политики очевидна.
Однако надо понимать, что без инвестиций в интеграцию и Россия, и Беларусь, и Украина будут обречены на дальнейшую деградацию, распад, частичное или полное поглощение своими консолидированными и более успешными геополитическими конкурентами. В реальности существуют объективные факторы целесообразности единения этих трех родственных народов, от которых очень трудно отмахнуться, даже если бы кому-либо очень этого хотелось. И надо полагать, что эта объективная потребность возьмет свое. Есть также уверенность, что Россия изживет, перемелет олигархический режим, что русский народ сможет, в конце концов, привести к власти тех людей, которые будут реализовывать его глубинные интересы. И белорусский, и украинский народы в этом должны ему помогать.
Многое в дальнейшем будет зависеть и от Украины. После выборов 7 февраля 2010 г. Украина вышла на историческое перепутье. Перед ней открываются пути развития, которые мы уже рассматривали.
Отметим, что сближение Украины с Россией будет в равной мере зависеть от Украины и от России. Однако чтобы это произошло, нужна смена элит. А это очень сложный процесс. Пока нельзя с уверенностью сказать, что существует в России и на Украине достаточное количество людей – критическая масса, способная сформировать новую элиту. Но как бы там ни было, ясно одно: от власти должны быть отстранены коммерсанты-бизнесмены. К власти, как на Украине, так и в России, – акцентируем внимание, – должны прийти люди, обладающие масштабным государственным мышлением.
Восточнославянским народам нужна духовная мобилизация. Такую необходимость диктует актуальный характер вызовов обществу, которые сегодня обусловлены не только прошлым, но и продуцируются будущим. Эти вызовы требуют адекватного ответа, т. е. интеллектуальных прорывов и новых проектных решений, соответствующих реалиям современности. Восточнославянские мыслители, озабоченные состоянием своих стран, должны противопоставить бесперспективности идей западников, занятых торгом вокруг наиболее выгодной траектории встраивания восточнославянских стран в западноевропейскую цивилизацию, мобилизационный проект будущего опережающего, а не догоняющего характера, выявить оптимальные пути развития на собственной культурно-цивилизационной основе, выдвинуть и обосновать собственную теорию, точнее, метатеорию, позволяющую сформировать принципы и направления движения Беларуси, России, Украины в сторону свободной, не занятой и не детерминированной другими странами и народами ниши существования в нынешнем противоречивом и сложном геополитическом пространстве. Их задача – выявить в гуще ветвящихся дорог исторической эволюции те пути развития, которые в наибольшей степени соответствуют принципам гуманизма и справедливости и вместе с тем открывают для восточнославянской цивилизации длительную историческую перспективу.
Восточнославянские народы, сполна познавшие крайности дилеммы «социализм – капитализм», должны отказаться от бесперспективного эпигонства и приступить к решению действительно трудной творческой задачи – выработке нового проекта будущего, выдвижения великой альтернативной идеи, ориентированной на решение глобальных проблем, стоящих перед человечеством.
При этом мы убеждены, что «вулкан истории» отнюдь не потух и способен к новым цивилизационным выбросам. «Цветущее многообразие» (выражение К. Леонтьева) культур не оставлено навсегда позади, и «конец истории» еще пока не наступил. Космогонические процессы образования новых миров (моделей) еще, к счастью, продолжаются, и история остается открытой для творчества, для поисков новых, неизведанных путей развития. Всего за 30–40 послевоенных лет в мире появилась наряду с атлантической новая цивилизационная модель – тихоокеанская. Нет поэтому никаких оснований отрицать и возможность появления еще одной модели – евразийской. Евразийская модель – это специфическая цивилизационная общность, интегрирующая импульсы Запада и Востока, Севера и Юга и по-своему преломляющая, творчески синтезирующая их. Она должна быть направлена на изживание раскола восточно-славянских народов и внутрироссийского раскола, быть ориентированной на всемирность и всечеловечность. Иначе говоря, проблема состоит в том, чтобы разумно соединить лучшие черты многовекового опыта России и других восточнославянских народов, в том числе и опыта их недавнего советского прошлого, с достижениями стран Востока и современного постиндустриального общества Европы и Северной Америки, отсекая при этом все то, что не соответствует историческим традициям и национальным интересам народов, составляющих эту общность, и ведет к потере ими своей самоидентификации, своей осевой, центральной, смыслообразующей ценностной идеи.
Как свидетельствует история, возникновение новых цивилизаций всегда развертывалось в сфере духа – в ходе формирования оригинальной системы ценностей и нового видения горизонтов бытия. Подражание не может быть источником вдохновения. Оно никогда не станет основой для формирования самобытной цивилизации. Его результаты всегда будут вторичны и неинтересны другим народам. Не числом, а умением, силой духа формировались новые цивилизации. Например, никому не известное племя, поселившееся на левом заболоченном берегу Тибра, ведущее примитивное сельское хозяйство и по всем другим параметрам отстающее от богатых городов Средиземноморья, через несколько веков превратилось в могучую Римскую империю. Почему? Да потому, что Рим выработал принципиально новую социально-политическую модель развития. В силу той же способности к новаторским решениям слабые аравийские племена, постоянно теснимые соседями, создали грандиозную мир-империю – арабский халифат. Немногочисленные христианские общины, впервые в истории перенесшие социальную борьбу в духовную сферу, вызвали к жизни самую влиятельную и многочисленную мировую религию и т. п. А это означает, что будущее зависит не только от объективно-исторических факторов (численности населения, размера территорий и т. п.), но и от адекватного исторического выбора, от способности к конструктивному проектированию, т. е. от субъективного фактора истории.
Сегодня восточнославянским странам нужны мыслители и практики с развитым чувством долга и чести, обладающие «длинной волей», способные силой мысли заглянуть за привычный горизонт событий. Именно они, используя свои творческие силы, могут выдвинуть и реализовать в ходе развернувшейся в нашем тесном земном мире битвы за будущее свой жизнеспособный проект восточнославянской цивилизации как регионального самодостаточного центра развития и силы.
Противоречивость нынешней ситуации, растерянность общества могут быть преодолены лишь посредством той или иной формы подвижничества и интеллектуальной мобилизации.
Смеем высказать тезис: если Беларусь, Россия и Украина не смогут достичь тесного, специально подчеркнем, равноправного экономического, политического и военного союза, т. е. стать самодостаточным центром развития и силы, то их ждет деградация и угасание. Их попросту, каждую по отдельности, раздавит или каток глобализации, или уже сформировавшиеся другие центры развития и силы. При подобном развитии событий, акцентируем внимание, наши дети и внуки, многие из которых уже успели стать жертвами информационной войны, ведущейся против восточнославянских и целого ряда других народов, могут оказаться рабами XXI в., мелкой разменной монетой на мировом рынке труда. Правда, рабство XXI в. кандалов и цепей не потребует. Оно будет выступать в других, более завуалированных формах. Рабство XXI в. – это рынок дешевой рабочей силы; это территория для разрешения вредных производств и вредных отходов, это место для сброса некачественных товаров, это сырьевые придатки для других стран и т. д. Но такого поворота событий восточнославянские народы не должны допустить ни при каких обстоятельствах.
Глава 35 Проблемы становления управляемого мира: противоречия и дискуссии
Сейчас много пишут, говорят и спорят о перспективе формирования глобальной власти, о возможности становления управляемого мира. Причем мысль об управляемости миром получает выражение в самых разнообразных понятиях, словосочетаниях, смысловых оттенках и оценочных суждениях как позитивного, так и негативного характера. Современные публикации на эту тему пестрят такими понятиями, как «сверхобщество», «мировое правительство», «глобальная империя», «глобальная держава», «глобальное управление», «глобоамерика», «современная глобократия», «глобофашизм», «сообщество тени», «новая антицивилизация», «мировая глобократия», «заговор мирового масонства», «мир контролируемого и управляемого хаоса», «неформальные центры влияния чрезвычайно высокой компетенции» и т. п.
Действительно, мы являемся свидетелями интенсивного процесса изменения структур управления и генезиса новых оргструктур. Соединенные штаты Америки и их союзники, например, совершенно сознательно и целенаправленно стремятся создать новую мировую структуру управления, которая могла бы обеспечить перераспределение властных полномочий с национального на глобальный уровень. Управление миром понимается ими как свобода перманентного и произвольного регулирования наиболее значимых планетарных процессов и событий. В этом направлении действует целый ряд влиятельных организаций, для которых характерна анонимность и принципиальная непубличность большей части принимаемых решений. Приведем наиболее категоричное, на наш взгляд, в некоторой степени фаталистического характера, высказывание на этот счет известного российского исследователя А.А. Зиновьева. Он пишет: «Во второй половине нашего (двадцатого) столетия произошел великий перелом в социальной эволюции человечества. Сущность этого перелома в том, что начался переход от эпохи обществ к эпохе сверхобществ. Этот переход явился результатом стечения многочисленных исторических факторов… Происходящий процесс объединения всего человечества в единое целое является в реальности покорением всего человечества западным миром как единым целым. С этой точки зрения он может быть назван процессом западнизации человечества. Поскольку в западном мире доминируют США, поскольку они распоряжаются большинством ресурсов Запада и планеты, этот процесс может быть назван американизацией человечества…
Выражения «глобализация», «западнизация» и «американизация» фиксируют фактически различные аспекты одного и того же процесса эволюции человечества… Этот процесс еще только начался. Им будет заполнена вся история в XXI веке. Похоже на то, что это будет история, которая по своей трагичности намного превзойдет все трагедии прошлого…
…Миров, способных сражаться за самостоятельный эволюционный путь, на планете осталось совсем немного. До недавнего времени главными конкурентами в борьбе за мировую эволюцию были коммунизм и западнизм. После разгрома советского коммунизма инициативу захватил западнический вариант эволюции. Прочие варианты (мусульманский мир, Африканский континент, Южная Америка) суть либо эволюционные тупики, либо подражание западному, либо зона колонизации для Запада. Во всяком случае, что бы ни происходило в этих регионах, изменить направление социальной эволюции уже невозможно в силу закона эволюционной инерции…
С возникновением глобального сверхобщества произошел перелом в самом типе эволюционного процесса: степень и масштабы сознательности исторических событий достигли такого уровня, что стихийный эволюционный процесс уступил место проектируемой и управляемой эволюции (выделено нами. – Авт.)… Это означает, что целенаправленный, планируемый и управляемый компонент эволюционного процесса стал играть определяющую роль в конкретной истории человечества»[256].
Таким образом, мы видим, речь идет не просто об объединении всего человечества в какого-либо вида целостность, а об овладении миром, монопольном управлении им, о вступлении человечества в эпоху своего рода суперлевиафана. Если все это действительно так, то всякие наши рассуждения об историческом самоопределении, например восточнославянских народов, становятся попросту бессмысленными.
Схожее с мыслями А. Зиновьева, только несколько в другом ракурсе, высказывает и западный исследователь М. Кастельс. По его мнению, глобальные силы, а соответственно, и глобальная власть уже играют существенную роль. В современном мире доминируют глобальные сети капитала, информации, технологий, сложные, гибкие, динамичные и трудные для понимания системы взаимодействий, пронизывающие границы национальных государств. При этом господствует в глобальных сетях некая гетерогенная элита, окопавшаяся в нематериальных дворцах, созданных коммуникативными сетями и информационными потоками. Данная элита является отгороженной от бедных масс стеной цен на недвижимость. Она опирается на все богатство, созданное человечеством, и манипулирует результатами всеобщего труда. Элита космополитична. Ее глобальное доминирование основано на способности сегментировать и дезорганизовывать привязанные к локализму массы. Эта элита представлена в руководствах стран «Большой Семерки», Международного Валютного Фонда, Всемирного Банка, на неформальном форуме в Давосе. Она все более настойчиво будет стремиться упрочивать свои многосторонние связи и все больше будут обособляться от контроля глобальных масс. М. Кастельс утверждает, что сегодня в каждом национальном государстве действуют не только национальные, но и другие силы, включающие представителей транснациональных корпораций, международных неправительственных организаций, людей, ориентированных на юридические нормы Европейского Союза и содействующих их реализации в данной стране. Что же касается США как современной имперской сверхдержавы, то они, по мнению Кастельса, потенциально являются способными осуществлять в своих военных действиях политическую бесконтрольность. Причем хотя для тех или иных международных военных акций США привлекаются другие страны, участие этих стран на деле выступает лишь попыткой придать легитимность данным акциям, представить их в виде интернациональных и многосторонних[257].
Вообще, вопрос о политических механизмах глобального доминирования рассматривается многочисленными авторами. При этом чаще всего обсуждается проект Мировой империи.
Проблематика глобальной империи наиболее фундаментально рассмотрена в работах М. Хардта и А. Негри, прежде всего в их капитальном труде «Империя»[258]. Исследователи считают, что глобальная имперская сила не только еще начала создаваться, но и уже действует. Империя, согласно им, отнюдь не сводится к военно-политическому доминированию США в мире. Более того, формирующаяся имперская власть охватывает даже более «глубоко закинутую» в современный мир политическую сеть, чем та, которая образуется доминирующим ныне в мире треугольником власти и богатства (США, Европейский Союз, Япония). Эта сеть имеет сегодня больше узлов, чем «Большая Семерка».
Следует, однако, подчеркнуть, что Хардт и Негри, будучи по своим убеждениям последовательными противниками формирования такого рода глобальной имперской власти, ставят вопрос о «бытии – против», о будущей альтернативе империи, приветствуют всякого рода возмущения народных масс, включающие все многообразие протестности единичной, субъективной, групповой, национальной и т. п. К сожалению, Хардт и Негри не смогли четко наметить контуры своего альтернатив-ного проекта, а ограничились лишь общей постановкой вопроса о необходимости сопротивления нарождающейся империи.
Российский исследователь С.И. Каспэ также считает, что современный мир – это империя, империя Запада. Современный мир, по Каспэ, – это сфера могущества Запада, которая включает не просто огромную территорию, а весь мир. И если реальной политике империи Запада еще иногда приходится считаться с чужими суверенитетами, то это явным образом воспринимается как нечто ситуативное и, в принципе, преодолимое. При этом современный мир хотя и сохраняет свою неоднородность, но сохраняет ее в сочетании с дозированной унификацией. Империя последовательно добивается унификации тех культурных зон, которые важны для системной стабильности, оставляя прочее вне сферы своего влияния. Это прежде всего касается периферийных элит, задача которых – взаимодействовать с элитой центра на общеимперском языке социокультурной коммуникации, а с подконтрольным населением контактировать на локальных языках, переводя на эти языки поступающие из центра сигналы и команды.
Все это означает, что власть Запада интерпретируется исключительно как универсальная. Западные ценности рассматриваются не просто как подлежащие повсеместному утверждению, но как самой своей сутью к таковому предназначенные. Они возводятся в абсолют и получают институциональное обеспечение в виде международных трибуналов, гуманитарных агрессий, миротворческих миссий и т. д.
С.И. Каспэ считает, что господство империи Запада вовсе не означает гомогенизации всего мирового пространства. В действительности империя организована иерархически и концентрически – от центра к периферии, т. е. составляющим ее сообществам присваивается различный статус, дается разный объем прав и обязанностей. В одной из последних своих работ, посвященных этой проблеме, С.И. Каспэ с немалым пафосом пишет: «Глобальная империя Запада уже сложилась; нравится ли она кому-то или нет, это – сверхмощный центр притяжения, масса, искажающая все линии мира, влекущая к себе или отталкивающая от себя все прочие политические тела… Империя Запада достигла качественно завершенной (и количественно нарастающей) универсальности, пронизав своими сетями и охватив инфраструктурой весь обитаемый мир. У нее нет границ – не только интенционально, но и фактически; нет альтернативных, т. е. сопоставимых по мощи, центров силы; нет даже внешних варваров, от которых можно было бы, уверившись по тем или иным причинам в их принципиальной нецивилизованно-сти, закрыться и замкнуться в себе. В плане имперского строительства глобализация завершена – в том смысле, что не осталось географических зон или социальных процессов, которые, в принципе, не входили бы в сферу влияния и интересов империи. Все происходящее сегодня в мире является внутренним делом глобальной империи Запада, по крайней мере, действует именно так, с большим или меньшим успехом (точнее, с большей или меньшей скоростью) преодолевая несогласных. Временные отступления с целью перегруппировки сил случаются; но не капитуляции… Ничего даже близко не может предложить ни Китай, ни исламисты, ни Россия»[259].
Надо полагать, что разразившийся на нашей планете финансово-экономический кризис несколько поубавил западнофильский энтузиазм С.И. Каспэ и, возможно, даже убедит его в том, что та парадигма развития, которую Запад навязал человечеству, не является вечной, наиболее жизнеспособной и перспективной для современного мира.
Два известных российских автора В.И. Пантин и В.В. Лапкин ввели понятие универсальной цивилизации. Они полагают, что центр мировой системы, объединяющий развитые государства, представляет собой межцивилизационное образование, обладающее чертами своего рода сверхцивилизации (мегацивилизации, универсальной цивилизации). Универсальная цивилизация выступает как единое образование тесно взаимодействующих между собой на основе современных политических и экономических институтов цивилизаций[260]. Правда, авторы концепции поясняют, что само представление о сверхцивилизационной общности, охватывающей ряд наиболее важных и бурно развивающихся регионов мира, интегрирующей успешно модернизирующиеся общества, исходно принадлежащие к различным цивилизациям, в целом, является гипотетическим, а понятие «универсальная цивилизация» относится к числу идеально типических конструкций. При этом они подчеркивают, что универсальная цивилизация не соответствует понятию «всемирная цивилизация», под которой обычно понимают цивилизацию, охватывающую все страны и народы мира.
И тем не менее, введением этого понятия авторы вольно или невольно постулируют мысль об универсалистском проекте как зародыше единой всемирной цивилизации, который, несмотря на все генетически обусловленные противоречия и трудности в своей реализации, все же является основным мегатрендом развития современного человечества. «Эта новая цивилизация возникает как бы «поверх» старой, как своеобразная «надстройка» над ней, прорастая сквозь нее и не уничтожая, а лишь оттесняя ее на периферию социальной жизни. Модернизация, собственно, и есть процесс цивилизационной «мутации», преобразования традиционной цивилизации в форму цивилизации универсальной, в которой традиционные унаследованные элементы сохраняются как бы «в снятом виде», но которая со временем обретает все большую самостоятельность и качественную определенность относительно своей прародительницы – западноевропейской цивилизации»[261].
С точки зрения данных исследователей, получается, что реализация сверхцивилизационного проекта превратит, в конце концов, нашу современность в действительно универсальный и действительно глобальный феномен. А это означает не что иное, как устранение всякой цивилизационной дифференциации и окончательное утверждение эры универсалистского бытия человечества. Само собой разумеется, что в случае воплощения в жизнь данного проекта планетарная власть (глобальное управление), действующая в рамках единого мирового административного пространства, станет неотвратимой реальностью. Прав С. Хантингтон, который сказал: «Только всемирная власть способна создать всемирную цивилизацию»[262]. Остается вопрос, не обернется ли эта мировая власть режимом все-планетарного тоталитаризма или глобального апартеида.
Сторонники универсалистского проекта социального бытия человечества убеждены, что сама объективная логика всемирно-исторического процесса необратимо ведет к образованию единой общечеловеческой цивилизации. В рамках новой исторической общности, с их точки зрения, будут преодолены не только формационные (экономические и политические), но и всякие социокультурные и даже ментальные различия, присущие ныне локальным цивилизациям. Причем в этом и состоит, согласно им, глубинный и конечный смысл развернувшихся на нашей планете глобализационных процессов.
Необходимо признать, что универсалистский проект цивилизационного бытия человечества имеет под собой определенные основания, поскольку фиксирует некоторые реальные черты в развитии современного социума, в частности, как уже отмечалось, нарастающую взаимосвязанность и взаимозависимость между народами, государствами, регионами и континентами нашей планеты. Российский исследователь Н.Г. Козин пишет в этой связи: «Мир действительно становится более взаимозависимым, можно сказать, даже нуждающимся в большем единстве как абсолютно необходимом условии собственного выживания. Но, во-первых, какова природа этой глобальной взаимозависимости? Она может оказаться разного происхождения. Взаимозависимыми бывают и те, кто сотрудничает как партнеры, и те, кто связан диалектикой раба и господина, отношениями хищника и его жертвы. И, во-вторых, оттого, что мир становится взаимозависимым, от этого он не становится менее многообразным. Опять-таки, взаимозависимость – это одно, а многообразие цивилизаций и культур, которые слагают мир, – это совершенно другое»[263].
Поставим вопрос: Кто доказал, что решение, например, общих глобальных проблем, остро стоящих сегодня перед человечеством, должно обязательно осуществляться за счет слома социокультурной идентичности локальных цивилизаций? Здесь также нет никакой причинной зависимости между решением общих глобальных проблем современного мира и необходимостью преодоления локального многообразия его цивилизаций и культур. «Есть связь между решением такого рода проблем и необходимостью глубокого и гармонического сотрудничества, изменения самого типа межцивилизационных отношений. Но эту связь нельзя доводить до необходимости преодоления самого локального цивилизационного многообразия современного мира»[264].
В сущности, идея превращения цивилизационного многообразия мира в цивилизационное однообразие актуализирует не проблему равноправного существования и гармонического сотрудничества локальных цивилизаций, а проблему цивилизационной агрессии, подавления и поглощения одних цивилизаций другими с целью установления глобального административного пространства и управления миром из одного центра. Где гарантия того, что реализация данной идеи обернется не единством мира, а эффектом новой Вавилонской башни?
Все дело в том, что единое человечество – это не единая цивилизация (сверхцивилизация, мегацивилизация) или единая культура, общая для всего человечества. «Так проблема единства человечества не решается, так она в лучшем случае оглупляется и вводится в пространство очередной социальной утопии, а значит, очередного тупика в историческом развитии. Собственно, сама проблема единства современного человечества – это проблема, актуальная только при условии его многообразия, ибо оно как единство актуально только в условиях многообразия, так как может быть только единством многообразного. Единства единообразного нет, здесь просто нет оснований для самого существования единства, ибо единством чего оно будет, если единообразное не нуждается в единстве? Проблема единства – это проблема многообразного бытия, в данном случае – цивилизационного и культурного»[265].
В современной литературе часто обосновывается мысль о постиндустриальной перспективе как общей для всего человечества парадигме развития. Причем в этом случае, как и во всех рассмотренных выше, западноевропейские цивилизационные стандарты принимаются за общечеловеческие, а тот путь развития, по которому пошла Западная Европа, интерпретируется не иначе как магистральный для всех народов и государств нашей планеты. Схема здесь проста: коль скоро именно западная цивилизация – европейская и североамериканская – достигла наибольших успехов в развитии научно-технического прогресса, прежде всего прогресса в создании и эффективном использовании новейших информационных технологий, то другим цивилизациям ничего иного не остается, как следовать в ее фарватере движения. Но так ли это?
Даже если согласиться с тем, что все локальные цивилизации будут проходить одни и те же стадии формационного развития, то и в данном случае нельзя утверждать, что все они утратят свою цивилизационную качественную определенность и, более того, начнут превращаться в социокультурные образования западноевропейского типа. Здесь вся проблема в том что с теоретической точки зрения совершенно неправомерно отождествлять формационные стадии исторического процесса с цивилизационной дифференциацией человечества. Такого рода отождествление есть не что иное, как своего рода формационное высокомерие. От того, что локальные цивилизации либо проходят, либо стремятся достичь одних и тех же стадий формационного развития, они не перестают быть локальными цивилизациями. Локальные цивилизации, осваивая новые формационные свойства и качества, по необходимости адаптируют их к особенностям своего цивилизационного типа развития и в силу этого не теряют своей локальности, продолжают сохранять свою идентичность и специфику. Поэтому цивилизационные стандарты любой, даже самой продвинутой цивилизации никогда не смогут выступить в качестве общечеловеческих. Ни одна локальная культурно-цивилизационная общность, сколь бы мощной и преуспевающей она ни казалась в данный момент исторического развития, не обладает и не может обладать такими ценностями и смыслами существования, которые могут быть приложимыми ко всему человечеству, быть полностью идентифицированными. «Человечество, погруженное в одну культуру и цивилизацию, – это недопустимая идеализация, ибо человечество для своей реальности в качестве человечества предполагает сосуществование огромного разнообразия культур. Можно даже сказать, что суть человечества и заключается в этом сосуществовании.
Но это мало волнует тех, кто не замечает принципиальных различий между стадиями и типами исторического развития, между формационным прогрессом и цивилизационным развитием в истории, в результате чего мы сталкиваемся с до боли знакомой евроцентрической цивилизационной аберрацией, когда цивилизационные стандарты европейской цивилизации отождествляются с общечеловеческой, а формационный прогресс – со всемирной западнизацией. Но не все еще могут быть
Европой или Америкой»[266]. А вот еще одно весьма точное и емкое суждение на этот счет: «Если бы глобальному торжеству либеральной парадигмы и либерального миропорядка суждено было стать реальностью, если бы миф о «конце истории» сбылся, то это обернулось бы буквальным концом истории, ибо означало бы качественную деградацию человечества. В разнообразии цивилизационных кодов, в их конкуренции и одновременно – творческом взаимодействии заключается истинный механизм Истории, механизм развития» (выделено нами. – Авт.)[267].
Некоторые исследователи, в частности М. Голанский, допуская возможность дальнейшего торжества и расцвета глобализации (глобального либерализма) на ближайшие 15–20 лет, тем не менее, предсказывают полный ее крах и смену глобальным тоталитаризмом не далее как во второй декаде XXI в. Это, по мнению теоретика, произойдет в результате резкого сокращения в мире производства продукции на душу населения (ВВП) по причине «ограниченности ресурсов биосферы и чрезмерной антропогенной нагрузки на нее»[268]. Данная ситуация неизбежно приведет не только к отказу от безудержного технического активизма (инструментально-потребительского отношения к миру) и переориентировке научно-технического прогресса на решение задач сохранения биосферы, но и к смене предпринимательской рыночной экономики, направленной на получение максимальной прибыли и расширенное производство планово-регулируемой экономикой с доминированием общественной собственности и административно-командных методов управления. «На почве доминирования общественной собственности, – пишет Голанский, – утвердится тоталитарный строй с рядом малопривлекательных черт, таких как адми-нистративность, планирование (вместо рынка), застойность, снижение жизненного уровня, товарная дефицитность (видимо, рационирование товаров), сокращение ассортимента, контроль центра над численностью населения (лицензирование деторождения), нормативность, идеологизация всех сторон жизни, монизм (вместо нынешнего плюрализма), мировой федерализм, сужение понятия национального суверенитета, переориентация научно-технического прогресса (НТП) с трудосбережения на ресурсосбережение»[269]. При этом автор подчеркивает, что в обстановке нарастающего господства общественной собственности и ослабевающего значения рыночных отношений враждебные действия мирового рынка против отставших стран (разумеется, тех стран, которые смогут пережить эпоху глобализации, сохранив себя как самостоятельные субъекты истории) должны, видимо, прекратиться, и они получат определенную перспективу (щадящий режим) для своего существования и развития.
Мы полностью солидаризируемся с мыслью Голанского о том, что глобализация в ее техноцентристском, либерально-рыночном варианте принципиально несовместима с экологическим императивом и будет неизбежно пресечена. Но мы, исходя из общетеоретических соображений, никак не можем принять даваемую им характеристику гипотетической модели грядущего (после нынешней фазы глобализации) миропорядка как в смысле анализа ее содержательного наполнения, так и с точки зрения интерпретации предполагаемых путей и способов ее воплощения в реальную жизнь.
Во-первых, новое состояние социального бытия, призванное, согласно Голанскому, заменить собой систему современного мирового капитализма, поразительно напоминает по своей структуре и содержанию утвердившуюся в свое время в странах социалистического содружества (социалистический лагерь) модель хозяйствования и социально-политических отношений, с той лишь разницей, что новая модель наделяется чертами универсальности, превращается в общемировое явление (мировой федерализм). Такой поворот событий представляется маловероятным уже хотя бы потому, что история не терпит буквальных повторений и вращений по одному кругу.
Во-вторых, Голанский обосновывает переход от эпохи всесильного и всемирного мирового рынка (глобальный либерализм) к эпохе командно-административных методов управления (глобальный тоталитаризм) путем одноразового акта и в столь сжатые сроки, что уже ныне здравствующему поколению будет «представлена редкая возможность быть живым свидетелем стремительного ее падения»[270]. Получается, что человечество, переходя от глобального либерализма к глобальному тоталитаризму, разворачивается в своем движении подобно армейской шеренге, по единой команде. Такого в человеческой истории, опять же по причине ее разнообразия, неравномерности, альтернативности и нелинейности, никогда не случалось, и случиться не может. Не может столь сложное, многокомпонентное движение, как переход к качественно новому состоянию общества, уподобиться поступи армейской фаланги или железнодорожному расписанию, где все предусмотрено.
Видимо, такой проект развития человечества вытекает у Голанского из излишней абсолютизации современных закономерностей глобализационных процессов, из веры в непреложность их действия. В действительности, никто не доказал, что глобализация носит необратимый характер. Не исключено, что она может даже в ближайшем будущем претерпеть кардинальные метаморфозы и быть повернутой в совершенно другую сторону. Глобальный порядок, как и все остальное на этой земле, имеет альтернативные варианты и сценарии развития.
В научных кругах сегодняшнего дня имеют хождение и более смягченные, компромиссные варианты идеи глобальной власти. Так, профессор Миланского университета М. Альберто считает, что с учетом устойчивости национального государства как институционального воплощения политической власти и источника коллективной идентичности универсальное глобальное общество маловероятно, но многополярный мир, регулируемый некой формой полиархичного глобального управления, возможен: «Нет и не предвидится единого мирового государства с единым гражданством всех взрослых, с равными правами и обязанностями (республика Мира И. Канта). Нет и федеративного Союза государств Мира или единой империи. Но подобие мирового общества как ассоциации людей, национальных государств, международных организаций, наднациональных союзов и транснациональных сообществ, интегрируемое и регулируемое полиархичной формой глобального управления (выделено нами. – Авт.), медленно возникает»[271]. Причем, с точки зрения А. Мартинелли, ключевую роль в становлении поли-архаичной формы глобального управления призван опять-таки сыграть Европейский Союз как активный игрок международной политики и пример другим регионам мира. И что интересно: исследователь, хотя и считает утверждение универсального глобального общества маловероятным, но все же в ряде мест своей статьи не исключает возможности постепенного, очень пока медленного его формирования.
Итак, мы видим, что в современной литературе выявилась тенденция, в рамках которой формирование планетарной власти, управляемого мира рассматривается в целом как вполне актуальная или, по крайней мере, не очень отдаленная от нас реальность. Иное дело, что одни авторы относятся к процессу становления мирового правительства с воодушевлением, видят в нем позитивное начало, другие, напротив, усматривают в данном процессе опасность утверждения планетарного тоталитаризма, электронного концлагеря[272] и т. п.
Сегодня действительно есть некоторые основания говорить о вполне осознанном глобализационном социальном проекте США и их союзников, ориентированном на утверждение нового мирового порядка, моноцентрического мироустройства. «В современном глобальном мире, – как пишет А.С. Панарин, – появились новые финансово-экономические, политические и военные технологии, способные подрывать национальный суверенитет в вопросах, затрагивающих основы существования людей, их повседневную обеспеченность и безопасность… Манипуляции с «плавающими» валютными курсами и краткосрочным спекулятивным капиталом способны экспроприировать материальные накопления тех или иных народов и стран, обесценить труд сотен миллионов людей. Это значит, что мы являемся свидетелями нового процесса формирования глобальной власти, отличающейся от ее традиционных форм принципиально новыми технологиями дистанционного воздействия и латентными формами проявления» (выделено нами. – Авт.)[273].
И тем не менее, возникает вопрос высшей теоретической сложности: Действительно ли человечество вступило в эпоху плановой истории и формирования мирового правительства или все же концепт управляемого мира есть не что иное, как очередной вариант эпохальной иллюзии?
Многие исследователи усматривают необходимость в формировании мирового правительства прежде всего в связи с нарастающей угрозой экологической катастрофы. Они полагают, что существует настоятельная потребность в создании мощной всемирной экологической организации, которая разрабатывала бы международные документы и следила за их выполнением, а также имела право применения жестких санкций в случае их несоблюдения. Наряду с экологической существует множество и других глобальных проблем современности, которые также, с точки зрения этих авторов, как никогда ранее делают необходимым создание справедливой и эффективной системы управления миром.
Действительно, экологические проблемы трансграничны ввиду глобальной системности биосферы, а поэтому необходимо решать их в планетарном масштабе. Например, сегодня наша планета оказалась разделенной на две части не только по уровню научно-технического и экономического развития, но и по экологическому признаку – на страны экологических доноров, интересы которых никак не защищены справедливыми законами и эффективным контролем, и страны-реципиенты, имеющие возможность (безвозмездно и безнаказанно) потреблять чужие экологические ресурсы в размерах, далеко превосходящих воспроизводство этих ресурсов на их национальных территориях. Но даже такая международная акция, как введение экологического налога, предлагаемого целым рядом исследователей, политических и общественных деятелей, оказывается, не может быть осуществлена без создания соответствующего наднационального, надгосударственного органа. Вот и получается, что с какой стороны ни подойти к решению современных глобальных проблем, сразу же возникает вопрос о необходимости создания некоего всемирного центра власти (мирового экологического правительства), способного ограничить суверенитет национальных государств, если последние являются загрязнителями глобальной экологической системы, варварски относятся к природе и ее ресурсам.
Однако если исходить из экологической проблематики как наиболее зримой мотивации к формированию мировой власти, то и здесь не просматривается какой-либо реальной перспективы. В действительности, перспектива провозглашения мирового правительства весьма маловероятна и отдалена, а может быть, и в принципе нереальна.
Для создания мирового правительства нет пока достаточно прочной базы. Конечно, некоторым может показаться, что его создание уже под силу новой и пока единственной сверхдержаве – США. Но это лишь на первый взгляд. При более пристальном рассмотрении этой проблемы становится очевидно, что в любом случае созданное США мировое правительство было бы американским или проамериканским (напомним, США, где выбросы CO2 в последнее время возросли на 12 %, демонстративно вышли из Киотского протокола, ограничивающего эти выбросы). Американское или проамериканское мировое правительство, по всему видно, не устроит ни страны Востока, ни Россию, ни даже западноевропейские государства.
Если же взять претендующую ныне на мировое лидерство западноевропейскую цивилизацию в целом, то она выступает скорее тормозом, чем локомотивом в решении глобальных экологических проблем. Рыночная экономика капитализма, которая в своем истоке побуждает к бережливости, на потребительском конце цепи своего функционирования оборачивается насаждением, культивированием сбыта изначально не только ненужных, но и совершенно неизвестных ранее услуг и товаров. Вряд ли можно ожидать, что капиталистический Запад, избалованный изобилием и изнеженностью, постоянно воспроизводящий в угоду предпринимательской экономике и закону само-возрастания капитала целый мир искусственных, надуманных потребностей, сможет сформировать в людях культуру аскетизма, этику самоограничения, внутреннее побуждение к свертыванию раздутых потребностей. А без всего этого невозможно решить глобальные проблемы человечества. Приучить Запад к требуемому как сегодня, так и всегда в будущем ограничению не сможет никакое, даже самое жесткое мировое экологическое государство. Сделать это смогут, скорее всего, грозные непредвидимые глобальные катаклизмы и катастрофы. Похоже, только пройдя школу тяжелейших испытаний, Запад сможет образумиться в этом отношении.
Вот что в связи с проблемой формирования мирового правительства пишет российский исследователь В.Д. Зотов: «…Вероятность образования мирового правительства в XXI веке – а именно он может быть последним веком в истории человечества – равна нулю или, во всяком случае, ничтожно мала. Народы и государства явно не готовы к столь радикальному политическому повороту (лучше сказать перевороту) в системе всемирных связей»[274]. Здесь, конечно, можно было бы говорить и о чрезвычайно широких возможностях мировой финансовой олигархии (олигархического интернационала). Но, к сожалению, устремления мировой финансовой олигархии прямо противоположны экологическому императиву современности.
Выход из глобального экологического тупика В.Д. Зотов видит в реформировании Организации Объединенных Наций и ее органов, включая Совет Безопасности. Причем наиболее желательный вариант реформирования он усматривает в создании особого Совета Экологической Безопасности.
Слов нет, реформированная в таком ключе ООН действительно смогла бы значительно воспрепятствовать нарастающему разрушению биосферы. Однако радикально решить экологические проблемы современности такого рода международная структура, на наш взгляд, не в состоянии. Все дело в том, что переход от техногенно-потребительской к духовно-экологической цивилизации не может явиться просто результатом запретительных мер, экологической цензуры и экспертизы хозяйственной деятельности (на что, по-видимому, и в самом деле был бы способен Совет Экологической Безопасности и что само по себе чрезвычайно важно). В своей действительности прорыв к духовно-экологической цивилизации может стать только результатом мощного творческого, инновационного скачка, кардинальной ценностно-мировоззренческой революции, духовной реформации.
В реальности существует слишком много препятствий объективного и субъективного характера на пути формирования управляемого мира.
Мировое правительство, или глобальная империя в форме доминирования США или какого-либо нового центра влияния, не способно сформироваться прежде всего в силу поликультурности, полицивилизационности мира. Несмотря на то что технологические революции (информационная и биоинженерная), острые экологические проблемы требуют координации усилий, интернационализации и интеграции, последние десятилетия ознаменовались мощным культурно-цивилизационным и национальным сепаратизмом, подъемом религиозно-политических движений, восстановлением местных культурных традиций во многих странах мира. Стремления сторонников глобализации, связывающих свои надежды с капитализмом, натолкнулись на неистовое сопротивление культурных сепаратистов, которые в большинстве своем не приемлют антигуманного характера глобального капитализма. Более того, сегодня полицентричность, поликультурность и полицивилизационность мира начинают усиливаться в связи с общим и весьма интенсивным развитием государств Востока и Юга. Помимо всего этого, к настоящему времени вполне выявились и определились региональные государства-гегемоны, ставшие центром притяжения для многих других стран данного региона. Эти государства-гегемоны, позиционирующие себя на мировой арене в качестве представителей той или иной локальной цивилизации, вовсе не склонны превращаться в управляемый структурный элемент мировой глобальной империи, представленной США или какой-либо другой военно-политической силой. Отсюда, кстати, неискоренимое стремление каждой цивилизации в лице своих ведущих стран овладеть ядерным оружием. В данном случае ядерное оружие необходимо для того, чтобы стать этим странам самостоятельными игроками на мировой арене, получить возможность избавиться от контроля и «опеки» со стороны самой мощной имперской сверхдержавы, какой сегодня являются США.
Все это на деле ведет не к управляемому миру, а к усилению глобального беспорядка и нарастанию страха. В результате перспектива объединения человечества становится все более призрачной и туманной.
Нет пока достаточных оснований для того, чтобы сбрасывать со счетов и такую форму государственного устройства, как национальное государство. Слухи о его смерти, на наш взгляд, явно преувеличены. Учитывая возможность нарастания хаотизации мира, нельзя исключать даже то, что национальные государства (по крайней мере, некоторые из них) могут вступить в своем развитии в полосу определенного рода ренессанса, стать наиболее надежной опорой человеческого существования, «островками» безопасности в этом конкурентном, сложном и противоречивом мире.
Таким образом, вряд ли мы можем ожидать не только в ближайшее время, но и в более или менее отдаленной перспективе возникновения эффективной и справедливой глобальной власти на нашей планете. И если даже США откажутся от имперских притязаний, другие страны или группы стран начнут бороться за свою гегемонию. Борьба за превосходство и доминирование всеобща и вечна.
Следует особо подчеркнуть, что в специальной литературе наряду с обилием прогнозов относительно утверждения управляемого мира, грядущего, даже скорого вытеснения стихийноспонтанного сознательным началом в человеческой истории имеются исследования, в которых, наоборот, обосновывается мысль о том, что сегодня как в социальных процессах в целом, так и в международных отношениях в частности стихийность, неуправляемость и нерегулируемость возрастают и начинают играть все более значимую роль. Так, российский исследователь Н.А. Косолапов в своей интересной, хотя и не во всем бесспорной статье «Международно-политическая организация глобализирующегося мира: модели на среднесрочную перспективу» пишет: «Правомерно предположить: чем более масштабны и сложны процессы, чем крупнее вовлеченные в них социальные, материальные и иные ресурсы, чем более отдален во времени ожидаемый результат, чем более долгие и масштабные усилия нужны для его достижения, тем проблематичнее достижение сочетаемости всех перечисленных выше условий («здесь и сейчас») применительно к обществу, государству, региональной группировке и тем более мировому сообществу. Следовательно, тем большую роль будет играть стихийное начало и тем значительнее, по всей вероятности, должен быть эффект «аккумулирования стихии» и приносимых ее итогов»[275]. Исследователь отмечает, что, прибегая к различного рода утопиям, неоправданным ожиданиям, ставя социальные и иные эксперименты, мы не только не избавляемся от стихийности, но умножаем ее, «добавляя к стихии естественной и неизбежной ту, что порождена реакцией внешнего мира на человеческий авантюризм, полузнание, безответственность»[276]. Для управления такой громадной и сложной системой, какой является жизнь мирового сообщества, согласно ему, отсутствуют не только комплекс необходимых условий, но и теория управления, которые позволили бы сделать осознанной и направленной деятельность человека в историческом масштабе времени. В итоге Косолапов приходит к выводу, что, хотя человек и способен осознанно ставить и преследовать свои интересы и цели в конкретном масштабе времени, в целом же исторический процесс был и пока остается стихийным. При этом особый акцент он делает на стихийно-спонтанном и необратимом характере процесса развития техносферы. Он пишет: «Техносфера тяготеет к формированию концентрических кругов ее обеспечения. Такие круги образуют:
1) собственно техносфера как совокупность наиболее развитых («постиндустриальных») государств, находящихся друг с другом в определенных структурных отношениях;
2) страны – реальные претенденты на скорое вхождение в техносфру по достигнутому уровню развития или по исполняемым для техносферы жизненно важным функциям;
3) страны, необходимые техносфере как источники энергоресурсов и сырья и / или как наиболее емкие рынки и незаме-щаемые другими странами в этих качествах;
4) замещаемые страны, функции которых по отношению к техносфере могут выполнять (вместе или по отдельности) другие страны и / или территории на тех же для техносферы экономических и иных условиях и с теми же практическими результатами;
5) страны, безразличные для существования и жизнедеятельности техносферы (ныне или вообще);
6) страны, ныне или в перспективе враждебные к техносфере и / или входящим в нее государствам и подкрепляющие эту враждебность действиями и / или наличием потенциала нанесения ущерба»[277].
Альтернативу такого пути развития, в частности такого структурирования мира, Н.А. Косолапов не видит, поскольку считает ситуацию объективной, формирующейся стихийно-спонтанно, естественно. При этом исследователь подчеркивает, что ни сейчас, ни в обозримом будущем не появится каких-либо предпосылок для того, чтобы взять под контроль, научиться сознательно управлять развитием и развертыванием техносферы, служащей материальной основой явления и процессов глобализации. Здесь, с его точки зрения, долговременные и объективные последствия не могут и не будут измеряться в категориях сознательно поставленных целей.
Отдавая себе отчет в том, что неконтролируемое расширение техносферы «все более и необратимо разрушает естественную экологию Земли, исчерпывает исторически наиболее доступные человеку ресурсы»[278], автор пытается наметить пути выхода из этой противоречивой ситуации. Он полагает, что процессы развертывания техносферы (соответственно, и глобализации) объективно «вплотную подводят человека к неизбежности необратимой смены среды обитания и жизнедеятельности с естественной на искусственную» (выделено нами. – Авт.)[279]- Сложившиеся тенденции развития, подчеркивает далее автор, оставляют человеку в обозримой перспективе две генеральные «стратегии хозяйственного поведения», не требующие безусловного отказа от капиталистической общественной модели: массированное освоение Мирового океана и / или массированный же хозяйственный выход в космос (причем, по-видимому, первое должно предшествовать второму; но то и другое невозможно без создания искусственной среды обитания и жизнедеятельности человека). Часто же упоминаемая, начиная с 1980-х годов, третья стратегия – стратегия «устойчивого развития» – нереализуема в рамках неолиберализма и объективно требует перехода к своего рода “посткапитализму”»[280]. Правда, почему-то стратегию перехода человечества к эпохе «посткапитализма» исследователь не считает нужным брать в расчет.
Мы не можем согласиться с таким фаталистическим взглядом на дальнейшую перспективу развития человечества. Полная смена среды обитания и жизнедеятельности человека с естественной на искусственную – это однозначно смерть самого человека. Даже если когда-либо и наступит мир, в котором появятся полулюди и полумашины, своего рода биотехнические кентавры, некие киборги, то такой мир явно долго существовать не сможет. Разговоры же о массированном хозяйственном выходе в Космос – это лишь свидетельство абсолютной невменяемости современного технико-инструментального разума[281]. Мы убеждены, что планета Земля будет до скончания времен оставаться нашим единственным домом, и судьба человечества полностью зависит от перспектив его сохранения. Что же касается массированного освоения Мирового океана, то без отказа от сложившейся модели социокультурного развития человечество и здесь не сможет обеспечить человечеству длительной исторической перспективы существования.
В другой публикации Косолапов пишет: «По-видимому, разрешение экологических проблем мира XXI века надо искать не на путях возврата – к чему; к социально-природным отношениям XIX, XV или какого-то иного столетия; по каким критериям? – к некой модели «идеальных» отношений между человеком и природой, реально никогда не существовавших. Перемены в этих отношениях уже необратимы. И выход надо искать в дальнейшем осознанном, целенаправленном и управляемом движении от сохраняющихся остатков «естественности» к созданию целиком и полностью искусственной среды обитания человека. Только в ней станет возможно достижение устойчивого развития как постоянства развития духа – психики, опыта, знаний, культуры – в высокостабилизированной, защищенной от кризисов материальной среде»[282]. В этом высказывании, как представляется, благие намерения доминируют над рационально научными соображениями. Ничего не поделаешь, некоторые современные люди верят в прогресс столь фанатично, как их далекие предки верили в Бога. Интересно, а почему бы не подумать автору о том, что воспеваемый им кардинальный скачок в развитии техносферы лежит за пределами не только собственно социальной истории, но и истории человека как биологического вида. Верно ставит вопрос российский исследователь И.В. Ефимчук: «Как бы критично (и вполне заслуженно) ни относились к социальной организации аграрных цивилизаций современные либералы, безусловно одно – такая организация позволяла людям жить (но при гораздо меньшей плотности населения). Даст ли такую возможность человеку та новая техническая организация разумного бытия, поиск которой активно ведется по всем направлениям (техническим, социальным, естественнонаучным)?»[283].
Понять желание правительства стран, в которых наиболее всеобъемлюще утвердилась техносфера, сохранить сложившийся образ жизни и достигнутые стандарты потребления исключительно для себя, конечно, можно. Однако оправдать эти устремления, особенно имея в виду возможное катастрофическое состояние будущего всего человечества, никак нельзя. Подобного рода поведение идеологов и лидеров стран золотого миллиарда в немалой степени объективно обусловлено постоянно разрастающейся техносферой, вне рамок которой население данных стран, в отличие от других государств, где еще сохранились элементы органической жизни, существовать, похоже, уже не может. Резкий возврат к доиндустриальной модели существования для них уже в принципе невозможен. В случае обвального крушения, неожиданной катастрофы или серии тотально разрушительных катастроф техносферы индустриально (постиндустриально) развитые страны не имеют реальной возможности вернуться к доиндустриальному образу жизни, не рискуя при этом физическим вымиранием огромных масс людей. Но и не прекращающиеся попытки правительств данных стран (точнее было бы сказать, олигархического интернационала) навязать миру вопиюще несправедливую, насильственно-иерархическую геоэкономическую и геополитическую структуру миру еще в большей степени нереалистичны и неосуществимы. В этом как раз и заключается трагическое противоречие современного мира, причина нового, воистину всепланетарного противостояния всего того, что есть Запад и не-Запад. Удастся ли Западу овладеть не-Западом – тема специальных рассуждений. Здесь же мы хотим подчеркнуть, что человечеству, чтобы избежать резкой тотальной катастрофы техносферы, способной отнюдь не в последнюю очередь истребить население самых богатых и преуспевающих ныне на почве глобальной конкуренции стран, следует приступить к разумной, по возможности постоянной перестройке, а где необходимо – и к демонтажу сложившегося образа жизни и наиболее опасных достижений так называемого прогресса, т. е. перейти к смене курса корабля, имя которому – планета Земля. И мы, в отличие от Н.А. Косолапова, считаем, что это в принципе возможно. Лидерам техносферных стран следует отказаться от тупиковой стратегии, направленной на сохранение любой ценой, даже ценой принесения в жертву всех других народов планеты существующего положения вещей, все еще позволяющего населению их стран осуществлять потребительский образ жизни. Им следовало бы подумать о кардинальной смене нынешней парадигмы развития (это, несомненно, рано или поздно само собой произойдет) и поразмыслить о достижении такой ситуации, которая открыла бы возможность утверждения на нашем маленьком Земном шаре господства планетарного разума, а не планетарного тоталитаризма, способного превратить этот шар в кладбище человечества. Тем более, что бесспорно возросшие в наше время значение и роль субъективного фактора истории, кажется, позволяют приступить к решению этой фундаментальной важности задачи.
К сожалению, сегодня, как и в эпоху первоначального накопления капитала, человеческая алчность, эгоизм, вирус потребительства, недальновидность, т. е. неспособность предвидеть конечные результаты преобразующей деятельности, лежащие за пределами устремлений к выгоде лишь здесь и теперь, неизбежно берут верх над всем остальным. Идеалы гуманизма и человечности все время оказываются на периферии устремлений тех групп и лиц, от которых хоть что-то зависит в судьбе нашей цивилизации. Поэтому, повторяем, ничего не остается, как предположить, что человечеству, прежде чем оно образумится, предстоит пройти суровую школу глобальных катастроф и катаклизмов. Симптомов и предпосылок к такому повороту событий обнаруживается немало.
Итак, мы видим, что вопросы о соотношении стихийноспонтанного, естественноисторического и целеволевого, осознанного начал в динамике социума, о возможности становления и развития глобальной власти, сознательного управления мировыми процессами не имеют в современной специальной литературе однозначного решения.
Тупики эволюции и зоны риска современного общества (вместо заключения)
Современный социум оказался беспрецедентно противоречивым. Завершивший свой стремительный бег XX в., столь не похожий на все предшествующие времена нашей истории, казалось, до бесконечности расширил возможности человечества, открыл ему новые заманчивые перспективы и горизонты. Масштабы научно-технической революции оказались грандиозными. Достаточно сказать, что только за последние 50 лет человечество израсходовало столько энергии, сколько за всю предшествующую пятидесятитысячелетнюю историю. В XX в. стало возможным передвижение в пространстве со сверхзвуковой скоростью, полеты на Луну, проникновение в микромир, овладение ядерной энергией, создание телерадиокоммуникаций, электронно-вычислительных машин и информатики, новых конструктивных материалов, высоких технологий, расшифровке генома и т. д.
Но все это почему-то не вызывает оптимизма. Напротив, какое-то субстанциональное беспокойство, душевное смятение, ощущение конца времен, надломленности и хрупкости бытия, предчувствие цивилизационного слома, бед и катастроф с пугающей быстротой захватывает сознание современного человека. Американский исследователь И. Валлерстайн пишет: «Сегодня снова наблюдается конец исторической системы, аналогичный концу феодальной системы 500–600 лет тому назад»[284]. Автор подчеркивает, что, несмотря на глубокую укорененность того мировоззрения, которое сформировалось в эпоху Возрождения и Нового времени, наша историческая система, вероятно, не продержится более 50 лет.
Современное общество подошло к такому моменту в своем развитии, когда оказались исчерпанными все прежние смыслы человеческого бытия. Похоже, человечество вступает в эпоху смены парадигм развития, находится на пороге фундаментальных социально-экономических и ценностно-антропологических трансформаций. Мы являемся свидетелями радикальных сдвигов, меняющих все основания мироустройства, роль и место локальных цивилизаций и национального государства, семьи и брака, системы ценностей и нравственности. Причем все эти изменения получают такое интенсивное распространение в мире, что можно в полный голос говорить о тенденции, набравшей силу и угрожающей основам человеческого существования, о точке бифуркации глобального характера.
Социальные философы, футурологи, экологи, просто мыслящие люди разных мировоззренческих ориентаций и взглядов со все более развернутой аргументацией и доказательностью говорят о том, что мы находимся накануне бури тысячелетия. Человечество уже не может продолжить развитие на путях, заложенных в культурных матрицах техногенной цивилизации.
Становится очевидным, что мир уже никогда не будет таким, каким он был в прошлом. Сравнивая наиболее близкий к нам XX в. со всеми предшествующими столетиями человеческой истории, необходимо отметить, что этот век не только породил две мировые войны невиданной разрушительной силы, но и был, по крайней мере последние 50 лет, готов в любую минуту начать третью, уже ядерную или термоядерную войну, способную уничтожить все живое на Земле. По количеству человеческих жертв, брошенных в топку истории, XX век явился абсолютным лидером, самым кровавым столетием в жизни человечества. Только в Европе в войнах погибли около 100 млн чел. (для сравнения: в XVII в. – 3 млн, в XVIII в. – 5 млн, XIX в. – около 10 млн чел.).
Необходимо констатировать, что рост насилия в наше время соответствует или даже обгоняет общую тенденцию ускорения темпов движения общества. Он стал доминирующей тенденцией современного мирового развития, значительно потеснившей стремление к утверждению принципов ненасильственного мира. И дело здесь не только в прямых военных столкновениях. Человечество пока не научилось предотвращать насилие и в других, самых разнообразных его формах и проявлениях. Всепроникающими формами насилия стали преступность, которая, начиная с 1980-х гг. прошлого столетия, ежегодно вырастает на 5 %, и терроризм, который в конце XX – начале XXI в. обрел статус новой и опасной глобальной проблемы. Вообще к началу третьего тысячелетия многие человеческие действия, особенно в их личностном и общественно-политическом проявлении, приобрели неконтролируемый и вместе с тем изощренно антигуманный характер. Причем, экспансия насилия идет в ногу с экспансией потребительской идеологии и психологии. Вирус потребительства, взращенный в Западной Европе, распространился по всему миру. В этом смысле весь современный мир стал Европой – инструментально-рациональной системой насилия над природной и социальной средой, нацеленной на получение максимально полезного эффекта (прибыли) любыми средствами.
К чему все это может привести в условиях приближающегося экологического коллапса?
Напомним, что в настоящее время факт экологических пределов роста – несомненной экологической перегрузки планеты и явной опасности экологической катастрофы мало кем оспаривается. Дискуссии разворачиваются лишь в определении сроков экологического коллапса, который чаще всего усматривается во временном интервале от 25 до 50 лет.
Естественно, люди в этой ситуации все чаще стали задавать вопросы: К каким социальным последствиям ведет и приведет совершающийся на их глазах научно-технический прогресс? Куда идет человечество? Почему колоссальные силы, созданные и приведенные в движение людьми, все чаще оборачиваются против них самих?
Сегодня экологические проблемы оказались тесно сопряжены с демографическими. Лавинообразный рост населения вместе с форсированной индустриализацией обернулись ускоренной урбанизацией, разрушением веками складывавшейся структурированности населения, его традиционных социальных связей, групповой (общинной) защищенности и самоуправляемости На наших глазах стало происходить быстрое и, кажется, необратимое разложение выработанных в течение длинного ряда столетий традиционных форм контроля над личностным поведением человека и общественной жизнью. Теперь, когда во всех крупных городах мира укоренились и действуют криминальные структуры и террористические группировки, видно, к чему привело утвердившееся абсолютное доминирование свойственных для правового государства внешностных, почти целиком основанных на полицейском надзоре, формально-юридических норм социального регулирования над традиционными, которые по преимуществу выступали в виде обычая, религии и морали с характерными для них глубоко внутренними механизмами воздействия на человеческое поведение – совестью, виной, стыдом, грехом, раскаянием и т. д.
Можно также говорить о существенном ухудшении генофонда человечества (в Англии, например, 94 % детей рождаются с теми или иными наследственными отклонениями), общем снижении творческого потенциала, о почти необратимом изменении векторов ценностной ориентации населения от развития к потребительству, о формировании потребительской культуры, катастрофически теряющей духовность и заполняющей образовавшийся вакуум индустрией удовольствий и развлечений, о кризисе искусства, об опаснейшей тенденции нравственного вырождения и т. д.
В XX в. утвердилась и пала мировая система социализма.
Что касается строительства социализма в СССР и в некоторых других странах, как бы там ни говорили, это была практическая, хоть и неудачная, попытка установить между людьми справедливые отношения, реализовать их надежды на лучшее будущее. Приведем отрывок из письма А. Воске, автора 15 романов и 22 сборников стихов, одного из законодателей художественной моды Франции, к российской интеллигенции. Письмо имеет знаменательный заголовок: «Обращение к тем, кто не утратил душу». А. Воске пишет: «Ведь Запад вовсе не олицетворяет успех, достойный подражания. Мы преуспеваем, и нас характеризует материальное сверхпресыщение. Но не в этом ведь истинное счастье, и не в этом истинное мерило существования. Наша цивилизация непрестанно порождает – привычка идет от Америки – все новые искусственные потребности, которые через месяц-другой превращаются в естественные. Как и американцы, мы тяготеем к формуле «быть – значит иметь». Граждане разных западных стран начинают чувствовать себя усредненно-одинаковыми и взаимозаменяемыми. Нас подстерегают неграмотность, забвение истории и механизация умов. Перспектива для нашей молодежи – материальная удача, которая ничего не решает, или наркотики, или самозаточение в какой-нибудь сумасшедшей секте, или безразличие ко всему на свете.
Еще и поэтому можно утверждать, что вы – наша надежда…
Мы желаем вам оказаться достойными этого призвания и не воспроизводить наши социальные стандарты… От имени Европы мы полагаемся на Вас! После падения социализма у «капитализма и либерализма, индивидуализма и эгоизма, у бездушного гражданского общества и внеморального правового государства нет реальной альтернативы»[285]. Поражение социалистической идеи и утверждение в России паразитарно-спекулятивного, криминально-мафиозного капитализма (дикого капитализма) стали крушением великих надежд человечества на возможность создания общества, в котором нет эксплуатации человека человеком и поляризации людей на бедных и богатых, где общие интересы доминируют над частными, а альтруизм – над эгоизмом, солидарность и добровольное сотрудничество – над конкуренцией и борьбой. Для многих миллионов людей, причем не только бывших советских граждан, но и представителей зарубежья, это настоящая трагедия.
После поражения Советского Союза в «холодной» войне возникла принципиально новая геополитическая ситуация, выразившаяся в столкновении западной цивилизации со всеми остальными странами мира, в формировании неведомого ранее человечеству геополитического, воистину всепланетарного разлома, по одной стороне которого Запад, а по другой – все, что не-Запад. Причем политика США как новой имперской сверхдержавы, возглавившей Запад, оказалась на редкость агрессивной и экспансионистской, направленной, по сути, на новый передел мира. Столь разрушительных и масштабных результатов развала СССР, кажется, не ожидал никто. Теперь в XXI в. человечеству придется сделать нелегкий выбор относительно того, в каком мире ему жить: в одномерном, с единым центром господства и власти, или многомерном, не отвергающем социокультурное разнообразие стран и цивилизаций, их право на самостоятельное историческое творчество.
Как возникновение, так и крушение СССР повлекли за собой события вселенского масштаба, оказали глубинное влияние на развитие мирового сообщества в XX – начале XXI в.
Наличие системного антикапитализма в виде Советского Союза вынудило буржуазию западных стран включить механизм перераспределения общественного продукта в пользу значительной части среднего и рабочего классов, что было явным отклонением от логики развития и природы капитализма как такового. Само существование Советского Союза, осуществившего за короткий срок индустриализацию, первым покорившего космос, первым построившего мирную атомную электростанцию, атомный ледокол и подобное, заставляло капиталистическую систему в самом ее ядре нарушить классовую логику и, в той или иной мере, отступать от принципов капитализма и даже рядиться в квазисоциалистические одежды. Отсюда триумф средних классов, этого станового хребта западноевропейской демократии. Отсюда и ориентация на становление и развитие «государства всеобщего благоденствия».
С крушением СССР, объективно выступавшего гарантом обеспеченной жизни низших слоев западноевропейского общества, ситуация стала меняться. Капитал начал разворачивать наступление на средний и рабочий классы непосредственно в самом ядре капиталистической системы. Наконец, тот курс на свертывание государства всеобщего социального обеспечения (правый реванш), к реализации которого еще ранее приступили в Англии М. Тетчер, а в США – Р. Рейган, получил широкие возможности для своего успешного развертывания. «Недаром, – пишет известный историк А. Фурсов, – там уже появилась социологическая теория «20: 80». Согласно ей в современном западном обществе меняется социальная структура: 20 % – богатые, 80 % – бедные, и никакого среднего класса – он размывается, тает вместе с нацией-государством, частной формой которого является welfare state (государство всегобщего благоденствия)»[286]. Современная статистика доходов красноречиво свидетельствует: на протяжении последних десятилетий реальная заработная плата рабочих низшей и средней квалификации неизменно снижалась, тогда как доходы высококвалифицированных работников, индивидуально занятых программистов, дизайнеров, ученых, а особенно управляющих, менеджеров постоянно росли. Например, в США средний заработок промышленного рабочего примерно в 300 (!) раз ниже, чем доходы высших менеджеров крупнейших компаний. В 1980 г. этот разрыв был почти вдвое меньше[287]. Вообще, за последние двадцать лет доля зарплаты в добавленной стоимости снизилась в США, например, с 45 до 35 %, в Германии – с 47 до 45 %[288].
Из сказанного видно, что развертывание мирового социального процесса в течение всего XX и даже в начале XXI в. протекало под исключительным влиянием Советского Союза, а точнее сказать, под влиянием его восточнославянского ядра, его проблем и решений, побед и поражений. Три русских революции, идейный взлет коммунизма и практика социалистического строительства, Первая и Вторая мировые войны, наконец, процесс постсоветской трансформации 1980—1990-х гг. прошлого века – все эти исторические события и вехи, в которых роль России обнаружила себя рельефно и выпукло, в значительной степени формировали социальный и духовный облик мира.
Стремительно захвативший во второй половине десятых годов XXI в. нашу планету глобальный финансово-экономический кризис показал, что та направленность развития мировой экономики, которая в США и Западной Европе обернулась формированием третьей модели капитализма – финансового капитализма (ей предшествовала модель классического капитализма как империализма), не может иметь длительных исторических перспектив. Скоро, как справедливо считают многие исследователи, экономизму придет конец по той простой причине, что эта модель нежизнеспособна ни социально, ни экологически. А это означает, что человечество наряду с экологическим, антропологическим и другими кризисами нашего времени вступило в полосу глобального экономического кризиса, одной из важнейших причин которого выступил экономический эгоизм западных стран.
Стало очевидным, что современный мир вступает в полосу глобального беспорядка, в ситуацию неопределенности, нарастающих рисков и новой хаотизации. В виду того что глобализация неолиберального финансового капитализма несет с собой подчинение большинства меньшинству, она ведет тем самым к неизбежным конфликтам: локальным, региональным, даже планетарным, привносит в международные отношения потенциальное «структурное насилие» (И. Галтунг). Можно даже утверждать, что навязываемый США и их союзниками новый мировой порядок, который сегодня, кстати, все чаще называют новым мировым беспорядком, становится причиной хаотизации мира и глобализации страха. Наш мир становится миром новой неизвестности, глобальных войн и глобальных катастроф. Все это, к сожалению, свидетельствует о патологизации современности.
Итак, мы видим, что человечество вступило в полосу кризисных ситуаций, которые в своей совокупности могут быть идентифицированы как глобальный цивилизационный кризис.
Что же привело мир к такому опасному состоянию?
Как у всякого сложного явления, причин, породивших современный глобальный цивилизационный кризис, великое множество. Но главная из них – техногенная предпринимательская экономика, основанная на принципе получения максимальной прибыли; всепроникающая власть закона самовоз-растания капитала.
Похоже, пришло время, когда нельзя игнорировать факт моральной усталости техноцентрической модели развития, которая, хотя и обеспечила в свое время мощный рывок Запада, сегодня ведет весь мир к тотальной экологической катастрофе. Поэтому, как бы нам ни было тяжело расставаться с привычными взглядами, мы должны согласиться с современной глобалистикой, показывающей на основе цифр и фактов, что продолжение сложившихся тенденций развития современной техногенной цивилизации уже в недалеком будущем (возможно, при жизни родившегося поколения) будет пресечено. К тому же стало ясно: проблемы, порожденные развитием техники, принципиально нельзя решить с помощью самой же техники, пусть даже еще более совершенной; новая эффективная техника очистных сооружений, энергосберегающих технологий и других достижений научно-технического разума не помогут избежать экологического коллапса; при любых сценариях технического развития планета не выдержит техногенной перегрузки, ибо глубинные корни экологического кризиса лежат в вытеснении техническим, искусственным естественного, натурального, в выхолащивании души и тела человека, в превращении его в некое подобие робото-компьютерного устройства. Технический прогресс воспроизводит на Земле процессы, к которым эволюционно не приспособлены ни окружающая природа, ни сам человек. Ведь в естественных условиях на Земле нет источников атомной энергии, термоядерных реакций, нет природных квантовых генераторов, не происходит в короткий промежуток времени массового образования материалов с новыми химическими свойствами, макротела не передвигаются со сверхзвуковой скоростью, не взлетают в космос многотонные массы и т. д. Все эти процессы являются инородными в макромире Земли, нарушают эволюционно установившееся природное равновесие, создают эколого-кризисные состояния. Поэтому ставка на либеральную программу всемирной вестернизации на деле представляет собой губительную планетарную авантюру. Такая ставка превращает людей в пассажиров «Титаника», абсолютно уверовавших в безопасность своего путешествия на чуде техники и поэтому суетно продолжающих выяснять отношения друг с другом, добиваться переселения из одной каюты в другую, хитрить и обманывать один другого.
Все сказанное означает, что сегодня, для того, чтобы выжить, человечеству необходимо реабилитировать другие, незападные стратегии, связанные с преодолением техноцентриче-ской модели развития и возрождением этикоцентричных традиций мировой культуры, среди которых свое законное место занимает и наша, восточнославянская, православная традиция. Речь идет об утверждении эпохи постэкономизма, которая будет означать смену приоритетов земной цивилизации в целом, переориентировку усилий человечества с инструментальной деятельности, направленной на удовлетворение растущих потребительских вожделений, с всепожирающего молоха экономизма и техноутилитаризма на деятельность, связанную с поддержкой экологического равновесия мира. В хозяйственном плане эта эпоха, как нам представляется, будет характеризоваться переходом от технически-деструктивных к биологически-конструктивным технологиям.
Говоря о необходимости и неизбежности изменения парадигмы современного цивилизационного развития, некоторые авторы не только предсказывают скорые вселенские потрясения, но и рассматривают их как желательные и полезные. Например, известные российские исследователи В.И. Пантин и В.В. Лапкин, базируясь на различных циклически-волновых моделях развития общества, не просто предрекли в своей книге «Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития» (2006 г.) глобальные финансовые, экономические, политические и военные конфликты на межцивилизационной или межэтнической основе в период с 2009 по 2017 г., но и пришли к выводу, что эти грядущие потрясения являются необходимыми для изменения нынешней тупиковой модели цивилизационного развития. С их точки зрения, только они способны разрушить или перестроить глобальные монополии, ставшие тормозом на пути дальнейшего социального и культурного развития, а также тесно связанную с ними олигархию (власть немногих) и систему манипулирования массовым сознанием через использование СМИ и информационных технологий… «Без великих потрясений, – пишут далее авторы, – по-видимому, невозможно вывес-ти большинство людей из состояния умственной спячки, апатии и нравственного разложения, заставить их мыслить и действовать во имя собственного спасения»[289].
Сформулируем следующие вопросы: Не ставим ли мы слишком пессимистический диагноз ситуации? Может быть, рисуем сверх меры мрачную, трагически-апокалиптическую картину? Думается, что нет. Более того, пессимизм основан не столько на верифицируемом знании действительно опасных тенденций нашего времени (с чем можно было бы как-то бороться), сколько на понимании другой, более страшной в данной ситуации проблемы – отсутствии осознания обществом грозящей ему опасности, необходимости реальных действий, направленных на ее преодоление, стремление дать ответ на жесткие вызовы современности, в частности на зов биосферы о ее спасении.
Трагизм ситуации заключается в том, что вера в научно-технический прогресс, сформировавшаяся у подавляющего большинства людей, прогрессистское сознание превратились в XX в. в тоталитарную идеологию с целым набором своих непререкаемых понятий-символов «экономический рост», «экономическая эффективность», «ускоренное развитие», «коэффициент полезного действия» и подобных, которые ослепили человечество, не давая ему возможности видеть реальность такой, какая она есть на самом деле. В результате человечество все чаще демонстрирует неспособность не только принять, но и понять вызовы сегодняшнего дня.
Вот почему пришло время ставить вопрос о спасении мира, будить людей, чтобы они проснулись раньше того времени, когда ситуация станет необратимой, стучаться в закрытую дверь, пока она не откроется.
Выпускники высшей школы не должны входить во взрослую жизнь, не имея представлений и достаточных знаний о действительных сложностях и противоречиях современного социума. Ведь именно они во всех странах тем или иным образом формируют национальную элиту, им придется давать ответы на жесткие вызовы современного необычайно конфликтного и конкурентного мира. Свою задачу мы, авторы данного учебного пособия, усматриваем в том, чтобы указать критические точки, которые ожидаются в ближайшем и обозримом будущем, объяснить связанные с ними угрозы и испытания. Не быть рабом обстоятельств и диктата времени, обрести умение противостоять им – вот главная цель подготовки будущей элиты общества.
Основная задача всех мыслящих и совестливых людей – противодействовать опасностям нашего века и пытаться по возможности остановить деструктивные процессы, повернуть развитие человечества в созидательное, гуманистическое русло. Общество должно мобилизовать рефлексию – особого рода социокультурную реакцию самозащиты от надвигающихся потрясений и угроз; взять на себя сознательную ответственность за дальнейшее развитие отношений природы и общества, за сохранение биосферы, а соответственно, за обеспечение в будущем своего собственного существования.
Размышления о судьбах мировой культуры, о путях развития локальных цивилизаций и человечества в целом, о глобальных перспективах и смысложизненных задачах необходимо дополнять конкретными поступками, способствующими улучшению как собственной, так и общественной жизни. Несмотря на все трудности и испытания, философия позволяет человеку оставаться на позициях взвешенного оптимизма: будущее человечества не может быть безальтернативно плохим; за сегодняшним кризисом цивилизации, если люди смогут мобилизоваться и не будут бездействовать, наступит более светлая полоса. Перед лицом опаснейших глобальных проблем именно философия может дать человеку ничем не заменимую духовную поддержку. Широкие философские обобщения и верная методология помогают выявить в гуще ветвящихся дорог исторической эволюции те пути движения социума, которые открывают для человеческой цивилизации длительную историческую перспективу и, вместе с тем, предлагают людям ценностно-мировоззренческие ориентиры, помогают им избавиться от духовной растерянности и страха перед будущим.
Мы попытались дать свое авторское видение целому ряду актуальных проблем социогуманитарного знания, ответить на множество принципиальной важности вопросов.
Куда движется современный мир: к апофеозу планетарного разума или господству планетарного тоталитаризма, к новым достижениям человеческого духа, к прорыву в духовноэкологическую цивилизацию или к мировой смуте, к вселенскому хаосу, к наступлению новых темных веков, к тяжелейшему, многослойному кризису рода людского? С чем мы, в конце концов, имеем дело: с созиданием или разрушением, с дорогой в будущее или с провалом в прошлое? Нас ждет глобализация как форма подлинной интеграции и действительного объединения человечества или униполярная, глобализация по модели Pax Amerikana? Будем ли мы жить в полицентрическом мире по модели партнерства локальных цивилизаций или станем свидетелями жесточайшего столкновения этих цивилизаций? Останутся ли народы и национальные государства действительными субъектами исторического процесса или окажутся во власти олигархического интернационала, управляемые безликими, анонимными наднациональными сетевыми структурами?
Ответы на эти и многие другие вопросы требуют знания характера движущих сил, причин, факторов, внутренних механизмов и направленности развития современного социума. Однако господствовавшая прежде социальная теория (образ социального мира) находится сегодня в тисках мощного парадигмального кризиса или, выражаясь более понятно, привычные классические схемы и объяснительные принципы общественных явлений оказались уже не в состоянии дать ответ на вопросы, которые настоятельно ставит современная эпоха. Новая фундаментальная объяснительная теория (парадигма) диалектики социальных процессов находится еще только на стадии становления. Прибегая к терминологии А.Дж. Тойнби, можно сказать, что сегодня социальная теория ищет «Ответ-на-Вызов современности».
Мы будем считать свою задачу выполненной, если смогли внести хотя бы незначительный вклад в формирование новой объяснительной парадигмы развития социума. Надеемся, что учебное пособие займет свое место среди учебников нового поколения по социогуманитарным дисциплинам для студентов высших учебных заведений.
Рекомендуемая литература
Арон, Р. Избранное: Введение в философию истории / Р. Арон. М. – СПб., 2000.
Барулин, В.С. Социальная философия / В.С. Барулин. М., 1999.
Бауман, 3. Индивидуализированное общество / 3. Бауман. М., 2002.
Бек, У. Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек. М., 2000.
Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования / Д. Белл. М., 1999.
Бергер, П. Социальное конструирование реальности / П. Бергер, Т. Лукман. М., 1995.
Бердяев Н.А. Происхождение и смысл русского коммунизма. М., 1990.
Бердяев, НА. Смысл истории / Н.А. Бердяев. М., 1990.
Бжезинский, 3. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство / 3. Бжезинский. М., 2004.
Биллингтон, Дж. Россия в поисках себя / Дж. Биллингтон. М., 2006.
Биричевская, О.Ю. Аксиология массовой культуры. Сравнительный ценностно-смысловой анализ / О.Ю. Биричевская. М., 2005.
Бородич, А.А. Аксиология социального действия: монография /
A. А. Бородич. Гродно, 2005.
Бродель, Ф. Динамика капитализма / Ф. Бродель. Смоленск, 1993.
Булгаков, С.Н. Философия хозяйства / С.Н. Булгаков // Сочинения: в 2 т. М., 1993.
Бьюкенен, Дж. Смерть Запада / Дж. Бьюкенен. М., 2003.
Вазюлин, В.А. Логика истории. Вопросы теории и методологии / B. А. Вазюлин. М., 1998.
Валлерстайн, И. Конец знакомого мира. Социология XXI в. / И. Валлерстайн. М., 2003.
Вальчик, В.М. Алгоритмы истории / В.М. Вальчик. М., 1989.
Васильева, Т.С. Сущность и смысл истории / Т.С. Васильева. Пермь, 1996.
Василькова, В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем / В.В. Василькова. СПб., 1999.
Вебер, М. Избранное: образ общества / М. Вебер. М., 1994.
Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер. М., 1993.
Водопьянов, П.А. Великий день гнева. Экология и эсхатология / П.А. Водопьянов, В.С. Крисаченко. Минск, 1993.
Волновые процессы в общественном развитии. Новосибирск, 1992.
Глазьев, С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития / С.Ю. Глазьев. М., 1993.
Глобальные проблемы и перспективы цивилизации: Философия отношений с природной средой. М., 1994.
Гобозов, ИА. Философия истории / И.А. Гобозов. М., 1997.
Грани глобализации. М., 2003.
Гринин, Л.Е. Философия, социология и теория истории / Л.Е. Гринин. Волгоград, 2000.
Гумилев, Л.Н. От Руси к России: очерки этнической истории / Л.Н. Гумилев. М., 1992.
Гумилев, Л.Н. Ритмы Евразии / Л.Н. Гумилев. М., 1993.
Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н. Гумилев. Л., 1990.
Гэлбрейт, Дж. Новое индустриальное общество / Дж. Гэлбрейт. М., 1969.
Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. СПб., 1995.
Данилов, А.Н. Переходное общество / А.Н. Данилов. Минск, 1997.
Делягин, М.Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации / М.Г. Делягин. М., 2003.
Демичев, ЯЛ.Социальная философия / В.А. Демичев, В.Н. Демичева. М., 1998.
Дильтей, В. Введение в науки о духе / В. Дильтей // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. М., 1987.
Динамика общественного развития. М., 1988.
Духовная жизнь общества: состояние и проблемы управления. М., 1992.
Дьяконов, ИМ. Пути истории / И.М. Дьяконов. М., 1994.
Зеленков, А.Н. Динамика биосферы и социокультурные традиции / А.Н. Зеленков, П.А. Водопьянов. Минск, 1987.
Зомбарт, В. Буржуа / В. Зомбарт. М., 1994.
Зотов, А.Ф. Очерки социальной философии / А.Ф. Зотов, В.Н. Шевченко. М., 1994.
Ильенков, Э.В. Философия и культура / Э.В. Ильенков. М., 1991.
Ильин, В.В. Философия истории / В.В. Ильин. М., 2003.
Ильин, ИА. Наши задачи / И.А. Ильин. М., 1992.
Ильин, ИА. О грядущей России / И.А. Ильин. М., 1993.
Ионов, И.Н. Теория цивилизаций от Античности до конца XIX века / И.Н. Ионов, В.М. Хачатурян. СПб., 2002.
История философии / под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск, 2001.
Карсавин, Л.П. Философия истории / Л.П. Карсавин. М., 2007.
Кашин, В.В. Социальная философия / В.В. Кашин. Екатеринбург, 1994.
Кива, А. Социальные революции на исходе века / А. Кива. М., 1992.
Кирвель, Ч.С. Образы будущего: утопия и антиутопия в современном мире: в 2 ч. / Ч.С. Кирвель. Гродно, 1994.
Кирвель, Ч.С. Современные глобальные трансформации и проблема исторического самоопределения восточнославянских народов / Ч.С. Кирвель [и др.]. Минск, 2010.
Кирвель, Ч.С. Утопическое сознание: сущность и социально-политические функции /Ч.С. Кирвель. Минск, 1989.
Коллингвуд, Дж. Р. Идея истории. Автобиография историка / Дж. Р. Коллингвуд. М., 1982.
Корольков, АЛ. Русская духовная философия / А.А. Корольков. СПб., 1998.
Косик, В.И. Константин Леонтьев: размышление на славянскую тему / В.И. Косик. М., 1997.
Крапивенский, С.Е. Социальная философия / С.Е. Крапивенский. М., 1998.
Кузнецов, А.В. Социальная философия: практикум / А.В. Кузнецов, В.В. Кузнецов. Минск, 2007.
Кульпин, Э.С. Бифуркация Запад – Восток. Введение в социоесте-ственную историю / Э.С. Кульпин. М., 1996.
Лавриненко, В.М. Социальная философия / В.М. Лавриненко. М., 1995.
Лебон, Т. Психология народов и масс / Т. Лебон. СПб., 1995. Леви-Стросс, К. Структурная антропология / К. Леви-Стросс. М., 1985.
Леонтьев, КН. Византизм и славянство / К.Н. Леонтьев // Храм и церковь. М., 2003.
Лотман, ЮМ. Культура и взрыв / Ю.М. Лотман. М., 1992.
Луман, Л. Понятие общества / Л. Луман // Проблемы теоретической социологии. СПб., 1994.
Лысков, А.П. Проблема социальной философии / А.П. Лысков, В.Ф. Овчинников. Киев, 1995.
Манхейм, К. Идеология и утопия / К. Манхейм. М., 1993.
Марков, Б.В. Храм и рынок. Человек в пространстве культуры / Б.В. Марков. СПб., 1999.
Маркс, К Из экономических рукописей. 1857–1858 / К. Маркс, Ф. Энгельс II Сочинения: в 50 т. М., 1961. Т. 12.
Маркс, К К критике политической экономии. Предисловие / К. Маркс, Ф. Энгельс // Сочинения: в 50 т. М., 1961. Т. 13.
Маркс, К Экономическо-философские рукописи 1844 года / К. Маркс, Ф. Энгельс // Сочинения: в 50 т. М., 1961. Т. 42.
Маркузе, Г. Одномерный человек / Г. Маркузе. М., 1994.
Мартин, Г.П. Западная глобализация / Г.П. Мартин, X. Шуман. М., 2001.
Матвейчев, О А. Суверенитет духа / О.А. Матвейчев. М., 2008. Мечников, ЛИ. Цивилизация и великие исторические реки / Л.И. Мечников. М., 1924.
Минъкова, Т.П. Введение в социальную философию / Т.П. Минькова, М.А. Фролова. М., 1995.
Митрополит Иоанн. Самодержавие духа. Очерки русского самосознания / Митрополит Иоанн. Саратов, 1995.
Моисеев, НИ. Человек и ноосфера / Н.Н. Моисеев. М., 1990.
Момджян, КХ. Введение в социальную философию / К.Х. Момджян. М., 1997.
Мотрич, Н.С. Социальная философия / Н.С. Мотрич. Киев, 1998.
Ницше, Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Ф. Ницше. М., 1995.
Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология. М., 1999. Новая технократическая волна на Западе. М., 1986.
Новгородцев, П.И. Об общественном идеале / П.И. Новгородцев. М., 1991.
Общественное сознание и его формы. М., 1986.
Ортега-и-Гассет, X. Восстание масс / X. Ортега-и-Гассет. М., 2003. Очерки русской философии истории: Антология. М., 1996.
Очерки социальной философии. СПб., 1998.
Очерки социальной философии. М., 1994.
Панарин, А.С. Искушение глобализмом / А.С. Панарин. М., 2000.
Панарин, А.С. Православная цивилизация в глобальном мире / А.С. Панарин. М., 2002.
Панарин, А.С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI веке / А.С. Панарин. М., 1998.
Панарин, А.С. Российская интеллигенция в мировых войнах и революциях XX века / А.С. Панарин. М., 1998.
Панарин, А.С. Российская политическая культура: прогнозы на XXI век / А.С. Панарин // Власть. 1997. № 11.
Панарин, А.С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийством) / А.С. Панарин. М., 1995.
Панарин, А.С. Стратегическая нестабильность XXI века /
A. С. Панарин. М., 2003.
Панарин, А.С. Философия политики / А.С. Панарин. М., 1996.
Пантин, В.И. Актуальные проблемы социальной философии / B. И. Пантин, В.В. Лапкин. СПб., 2005.
Пантин, В.И. Мировые циклы и перспективы России в первой половине XXI века: основные вызовы и возможные ответы / В.И. Пантин. Дубна, 2009.
Пантин, В.И. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития в первой половине XXI века / В.И. Пантин, В.В. Лапкин. Дубна, 2006.
Парсонс, Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношение / Т. Парсонс // Современная западная теоретическая социология. М., 1994.
Пенней, А. Человеческие качества / А. Печчеи. М., 1980.
Платонов, О.А. Русская цивилизация / О.А. Платонов. М., 1995.
Платонов, О.А. Русский труд / О.А. Платонов. М., 1991.
Полати, К. Великая трансформация: Политические и экономические истоки нашего времени / К. Поланьи. СПб., 2002.
Поппер, К. Нищета историцизма / К. Поппер. М., 1993.
Пригожин, И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс. М., 1986.
Риккерт, Г. Науки о природе и науки о культуре / Г. Риккерт. М., 1998.
Розов, Н.С. Структура цивилизации и тенденции мирового развития / Н.С. Розов. Новосибирск, 1992.
Россенко, М.Н. Очерки социальной философии / М.Н. Россенко. М., 1994.
Россия: многообразие культур и глобализация / под ред. И.К. Лисее-ва. М., 2010.
Сагатовский, В.Н. Русская идея: продолжим ли прерванный путь? / В.Н. Сагатовский. СПб., 1994.
Семенов, Ю.И. Секреты Клио. Сжатое введение в философию истории / Ю.И. Семенов. М., 1996.
Сергейко, Е.М. Философия истории / Е.М. Сергейко. СПб., 2002. «Славянский вопрос»: век истории. М., 1997.
Соколов, С.В. Социальная философия / С.В. Соколов. М., 2003.
Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин. М., 1992.
Сорос, Дж. Кризис мирового капитализма / Дж. Сорос. М., 1999. Социальная философия / под ред. И.А. Гобозова. М., 2003.
Степин, В.С. Эпоха перемен и сценарии будущего / В.С. Степин. М., 1996.
Судьбы государства в эпоху глобализации / под ред. В.Н. Шевченко. М., 2005.
Тейяр де Шарден, П. Феномен человека / П. Тейяр де Шарден. М., 1987.
Теннис, Ф. Общность и общество / Ф. Теннис. СПб., 2007.
Теория познания: Познание социальной реальности: в 4 т. М., 1995. Т. 4.
Тойнби, А.Дж. Постижение истории / А.Дж. Тойнби. М., 2002.
Тойнби, А.Дж. Цивилизации перед судом истории / А.Дж. Тойнби. М., 1995.
Тоффлер, О. Новая волна на западе / О. Тоффлер. М., 1986.
Тоффлер, О. Третья волна / О. Тоффлер. М., 1999.
Тоффлер, О. Футурошок / О. Тоффлер. Спб., 1997.
Тоффлер, Э. Революционное богатство. Как оно будет создано и как оно изменит нашу жизнь / Э. Тоффлер, X. Тоффлер. М., 2008.
Трансформации общества и современная философская антропология. Минск, 2005.
Троицкая, Н.Е. Русская цивилизация между Востоком, Западом и Югом (историософские миниатюры) / Н.Е. Троицкая. М., 1995.
Трубецкой, Н.С. Исход к Востоку / Н.С. Трубецкой // Пути Евразии. М., 1992.
Универсальный эволюционизм и глобальные проблемы. М., 2007. Философия и академическая наука. Научно-образовательное издание / под ред. Ю.И. Ефимова. СПБ., 2009.
Философия и идеология жизнедеятельности Беларуси: теоретические основы антикризисной модели и механизмы ее реализации / П.Г. Никитенко [и др.]. Минск, 2009.
Философия истории / под ред. А.С. Панарина. М., 1999.
Франк, С.Л. Духовные основы обществ / С.Л. Франк. М., 1991.
Франк, С.Л. Смысл жизни / С.Л. Франк // Духовные основы общества. М., 1992.
Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм. М., 1994.
Фромм, Э. Здоровое общество. Догмат о Христе / Э. Фромм. М., 2005.
Фукуяма, Ф. Конец истории / Ф. Фукуяма // Вопросы философии. 1990. № 3.
Хабермас, Ю. Демократия. Разум. Нравственность / Ю. Хабермас. М., 1995.
Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. СПб., 2000.
Ханна, П. Второй мир / П. Ханна. М., 2010.
Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. М., 2003.
Хантингтон, С. Третья волна. Демократизация в конце XX века / С. Хантингтон. М., 2003.
Хелд, Д. Глобальные трансформации. Политика, экономика, культура / Д. Хелд [и др.]. М., 2004.
Цивилизация: Вызовы современности. СПб., 2009.
Шапавалое, В.Ф. Россия как цивилизация / В.Ф. Шапавалов // Альманах центра общественных наук. М., 1997. № 3.
Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории / О. Шпенглер. М., 1993.
Шпенглер, О. Человек и техника / О. Шпенглер // Культурология. XX век: Антология. М., 1999.
Штомпка, П. Социология социальных изменений / П. Штомпка. М., 1996.
Шюц, А. Формирование понятия и теории общественных наук / А. Шюц // Американская социологическая мысль. М., 1994.
Элиас, Н. О процессе цивилизации: в 2 т. / Н. Элиас. М., 2003.
Юрьев, М. Третья империя. Россия, которая должна быть / М. Юрьев. М., 2007.
Яковец, Ю.В. Предвидение будущего: парадигма цикличности / Ю.В. Яковец. М., 1992.
Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. М., 1994.
Примечания
1
Лосев, А.Ф. Античная философия истории / А.Ф. Лосев. М., 1977. С. 19.
(обратно)2
Тюрго, А.Р. Избранные философские произведения / А.Р. Тюрго. М., 1937.
(обратно)3
Франк, С.Л. Духовные основы общества / С.Л. Франк. М., 1992. С. 28.
(обратно)4
Франк, Л.С. Духовные основы общества / Л.С. Франк. М., 1992. С. 15.
(обратно)5
Гегель, Г.В.Ф. Лекции по философии истории / Г.В.Ф. Гегель // Сочинения: в 2 т. М.; Л., 1970. T. 1. С. 54.
(обратно)6
Детерминизм (от лат. determinare – определять) – учение об объективной закономерной взаимосвязи и причинной обусловленности всех явлений материального и духовного мира. Противоположность детерминизма – индетерминизм.
(обратно)7
Синергетика (от греч. synergetikos – совместный, согласованно действующий) – научное направление, изучающее связи между элементами структуры (подсистемами), которые образуются в открытых системах (биологической, физико-химической и др.) благодаря интенсивному (потоковому) обмену веществом и энергией с окружающей средой в неравновесных условиях.
(обратно)8
Точка бифуркации – переломный, критический момент неопределенности в процессе развития, точка разветвления возможных путей эволюций системы.
(обратно)9
Зиновьев, А. Глобальный человейник / А. Зиновьев. М., 1997. С. 142.
(обратно)10
Пантин, В.И. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития / В.И. Пантин, В.В. Лапкин. Дубна, 2006. С. 43.
(обратно)11
Конт, О. Курс положительной философии: в 2 т. / О. Конт. СПб., 1900. T. 1.С. 21.
(обратно)12
Гегель, Г.В.Ф. Лекции по философии истории / Г.В.Ф. Гегель. М., 1993. С. 64.
(обратно)13
Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. М., 1961. T. 3. С. 18.
(обратно)14
Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. T. 19. С. 350.
(обратно)15
Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. T. 19. С. 6–7.
(обратно)16
Парсонс, I Система современных обществ / T. Парсонс. М., 1997. С. 23.
(обратно)17
Сциентизм, сайентизм (от лат. sientia – наука) – абсолютизация роли науки в развитии общества.
(обратно)18
Номинализм (от лат. nomen – имя) и реализм – философские течения, сформировавшиеся в средневековой схоластике. Номинализм утверждает, что существуют только единичные вещи, а общие понятия – всего лишь имена, которыми люди называют сходные вещи. Реализм же признает объективное бытие не только единичного, но и общего. При этом «умеренный» реализм считает, что общие понятия являются отражением этого общего в нашем уме, а «крайний» реализм настаивает на реальном существовании общих понятий вне человеческого ума.
(обратно)19
Кареев, Н.И. Введение в изучение социологии / Н.И. Кареев. СПБ., 1897. С. 103.
(обратно)20
Аристотель. Политика / Аристотель // Сочинения: в 4 т. М., 1993. T. 4. С. 379.
(обратно)21
Момджян, К.Х. Введение в социальную философию: учеб, пособие / К.Х. Момджян. М., 1997. С. 174–179.
(обратно)22
Гегель, Г.В Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. / Г.В.Ф. Гегель. М., 1974. T. 1. С. 385–386.
(обратно)23
Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс. Ф. Энгельс. Т. 23. С. 189.
(обратно)24
Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс. Ф. Энгельс. Т. 23. С. 195.
(обратно)25
Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. T. 23. С. 51–52.
(обратно)26
Там же. T. 46. Ч. II. С. 219.
(обратно)27
Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. T. 46. Ч. II. С. 221.
(обратно)28
Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. T. 46. Ч. I. С. 205.
(обратно)29
Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. T. 6. С. 441.
(обратно)30
Момджян, К.Х. Введение в социальную философию: учеб, пособие / К.Х. Момджян. С. 435.
(обратно)31
Зомбарт, В. Буржуа / В. Зомбарт. М., 1994. С. 81.
(обратно)32
Зарубина, Н.Н. Экономический человек в глобальном мире: энергия экспансии и толерантность / Н.Н. Зарубина. М., 2004. № 11. С. 175.
(обратно)33
Зомбарт, В. Буржуа / В. Зомбарт. С. 131.
(обратно)34
Зомбарт, В. Торгаши и герои. Раздумья патриота / В. Зомбарт // Собрание сочинений: в 3 т. СПб., 2005. T. 2. С. 52.
(обратно)35
Там же.
(обратно)36
Соловьев, В.С. Экономический вопрос с нравственной точки зрения / В.С. Соловьев // Сочинения: в 2 т. М., 1990. T. 1. С. 77.
(обратно)37
Бердяев, Н.А. Философия неравенства: письма к недругам по социальной философии / Н.А. Бердяев. Л., 1991. С. 206.
(обратно)38
Булгаков, С.Н. Философия хозяйства / С.Н. Булгаков. М., 1912. С. 107.
(обратно)39
Булгаков, С.Н. Сочинения: в 3 т. / С.Н. Булгаков. М., 1993. T. 1. С. 84.
(обратно)40
В Санкт-Петербургском университете в сентябре 1998 г. выступал ректор университета г. Лондона (штат Онтарио, Канада) Поль Давенпорт. Будучи экономистом, он посвятил почти все свое выступление экономике образования. В частности, он особо подчеркнул, что современное образование не дает молодежи возможности достичь высоких доходов и высокого социального положения, как это почти автоматически было в прошлом. Из выступления следовало, что смысл современного образования окончательно переместился в сферу стабилизации социума.
(обратно)41
Сапожников, Е.И. Общество потребления в странах Запада / Е.И. Сапожников // Вопросы философии. 2007. № 10. С. 59.
(обратно)42
Бьюкенен, П. Дж. Смерть Запада / П. Дж. Бьюкенен. М., 2003. С. 56.
(обратно)43
Кузнецова, Л.В. Дурная бесконечность символического потребления / Л.В. Кузнецова // Философия и общество. 2008. № 3. С. 130.
(обратно)44
Сапожников, Е.И. Общество потребления в странах Запада / Е.И. Сапожников // Вопросы философии. 2007. № 10. С. 55.
(обратно)45
Силин, АЛ. Духовность против терроризма / А.А. Силин // Вестник Российской академии наук. 2003. T. 73. № 11. С. 1018.
(обратно)46
Кузнецова, JI.B. Дурная бесконечность символического потребления / Л.В. Кузнецова // Философия и общество. 2008. № 3. С. 130.
(обратно)47
Панарин, А. С. Глобальное политическое прогнозирование в условиях стратегической нестабильности / А.С. Панарин. М., 1999. С. 197.
(обратно)48
Ницше, Ф. Сочинения: в 2 т. / Ф. Ницше. М., 1998. Т. 2. С. 633.
(обратно)49
Достоевский, Ф.М. Собрание сочинений: в 15 т. / Ф.М. Достоевский. М., 1991. Т. 9. С. 289, 292.
(обратно)50
Делягин, М.Г. Мировой кризис. Общая теория глобализации / М.Г. Делягин. М., 2003. С. 177–178.
(обратно)51
Нарочницкая, Н. «Аналитические институты» – глаза, уши и мозг Америки/ Н. Нарочницкая// Наш современник. 2004. № 3. С. 185.
(обратно)52
Там же. С. 185–194.
(обратно)53
Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. T. 3. С. 29.
(обратно)54
Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. T. 3. С. 25.
(обратно)55
Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. T. 21. С. 176.
(обратно)56
Там же. T. 20. С. 26.
(обратно)57
Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. T. 3. С. 24.
(обратно)58
Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. T. 37. С. 417.
(обратно)59
Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. T. 39. С. 83.
(обратно)60
Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. T. 21. С. 313.
(обратно)61
Майхрович, А.С. Идеология: сущность, назначение, возможности / А.С. Майхрович. Минск, 2001. С. 7.
(обратно)62
Там же. С. 8.
(обратно)63
Штомпка, П. Социология социальных изменений / П. Штомпка. М., 1996. С. 243.
(обратно)64
Merton, R.K. The unanticipated consequences of social action / R.K. Merton // Sociological Ambivalence. New York, 1976. P. 11.
(обратно)65
Гегель, Г. Философия истории / Г. Гегель. СПб., 1993. С. 81.
(обратно)66
Гаджиев, К. С. Масса. Миф. Государство / К.С. Гаджиев // Вопросы философии. 2006. № 6. С. 15.
(обратно)67
Штомпка, Я. Социология социальных изменений / П. Штомпка. М., 1996. С. 326.
(обратно)68
Там же.
(обратно)69
Гегель, Г.В.Ф. Лекции по философии истории / Г.В.Ф. Гегель. СПб., 1993. С. 81.
(обратно)70
Шатобриан, Ф.Р. Замогильные записки / Ф.Р. Шатобриан. М., 1995. С. 324–325.
(обратно)71
У.Черчилль, которого нельзя заподозрить в любви к Сталину, писал о нем в Британской энциклопедии: «Большим счастьем было для России, что в годы тяжелейших испытаний страну возглавил гений и непоколебимый полководец Сталин. Он был самой выдающейся личностью, импонирующей нашему изменчивому и жестокому времени… Сталин был человеком необычайной энергии и несгибаемой воли, резким, жестоким, беспощадным в беседе, которому даже я, воспитанный здесь, в Британском парламенте, не мог ничего противопоставить… Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей государств всех времен и народов.
Сталин произвел на нас величайшее впечатление. Он обладал глубокой, лишенной всякой паники, логически осмысленной мудростью. Он был непобедимым мастером находить в трудные моменты пути выхода из самого безвыходного положения… Он был необычайно сложной личностью. Он создал и подчинил себе огромную империю. Это был человек, который своего врага уничтожал своим же врагом. Сталин был величайшим, не имеющим равных в мире, диктатором, который принял Россию с сохой и оставил ее с атомным оружием. Что ж, история, народ таких людей не забывают». (Эпоха Сталина: события и люди. М., 2004. С. 388.)
(обратно)72
Гобозов, ИЛ. Введение в философию истории / И.А. Гобозов. М, 1999. С. 321; Семенов, Ю.И. Секреты Клио. Сжатое введение в философию истории / Ю.И. Семенов. М., 1996. С. 56.
(обратно)73
Н.А. Бердяев писал по этому поводу следующее: «Бытие нации не определяется и не исчерпывается ни расой, ни языком, ни религией, ни территорией, ни государственным суверенитетом, хотя все эти признаки более или менее существенны для национального бытия. Наиболее правы те, которые определяют нацию как единство исторической судьбы. Сознание этого единства и есть национальное сознание» (Бердяев, Я. Философия неравенства / Н.А. Бердяев II Дон. 1991. № 2. С. 171).
(обратно)74
Ортега-и-Гассет, X Восстание масс / X. Ортега-и-Гассет. М., 2003. С. 16.
(обратно)75
Tart, Ch. Waking up / Ch. Tart. Boston, 1986. P. 103.
(обратно)76
Массовая культура. M., 2004. С. 65.
(обратно)77
Ремизов, М. Мобилизационный пакт для элиты / М. Ремизов // «Известия» от 06.04.2009.
(обратно)78
Делягин, М. Драйв человечества. Глобализация и мировой кризис / М. Делягин. М., 2008. С. 114.
(обратно)79
Панарин, А.С. Народ без элиты: между отчаянием и надеждой / А.С. Панарин II Наш современник. 2001. № 11.
(обратно)80
Антология мировой философии: в 8 т. М., 1971. T. 3. С. 576.
(обратно)81
Струве, П.Б. Интеллигенция и революция / П.Б. Струве // Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909. С. 170.
(обратно)82
Ленин, В.И. Крах II Интернационала / В.И. Ленин // Полное собрание сочинений. T. 26. С. 218–219.
(обратно)83
Сорокин, П.А. Человек. Цивилизация. Общество / П.А. Сорокин. М., 1992. С. 272.
(обратно)84
Там же.
(обратно)85
Голдстоун, Дж. К теории революции четвертого поколения / Дж. Голд-стоун // Логос. 2006. № 5. С. 93.
(обратно)86
Там же.
(обратно)87
Штомпка, П. Социальное изменение как травма / П. Штомпка // Социс. 2001. № 1,2.
(обратно)88
Монизм (от греч. monos – один, единственный) – способ рассмотрения многообразия явлений мира в свете единой основы (субстанции) всего существующего. Противоположностью монизма выступают дуализм (признающий два независимых начала) и плюрализм (исходящий из множественности начал).
(обратно)89
Говоря об исследовательской активности как факторе общественного развития, известный философ А.В. Коротаев пишет: «Совершенно очевидно, что здесь перед нами вполне автономная и достаточно мощная движущая сила социальной эволюции, действовавшая на протяжении всей эпохи существования человечества, но оказавшаяся зачастую в той или иной степени эффективно блокированной. Скажем, достаточно очевидна значимая роль этого фактора в создании такой важнейшей вторичной движущей силы социальной эволюции, как технологический рост. Не менее существенна, впрочем, и его роль в появлении новых и трансформации старых социальных и политических институтов, в появлении новых и трансформации старых форм художественного творчества, игровой культуры и т. д.» (Коротаев, А.В. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность / А.В. Коротаев. М., 1996).
(обратно)90
Штомпка, Я. Социология социальных изменений / П. Штомпка. М., 1996. С. 127.
(обратно)91
Барулин, В.С. Социальная философия / В.С. Барулин. М., 1999. С. 370.
(обратно)92
Соколов, С.В. Социальная философия / С.В. Соколов. М., 2003. С. 96.
(обратно)93
Гобозов, Н.А. Природа и общество / Н.А. Гобозов // Социальная философия. М., 2003. С. 50.
(обратно)94
Гринин, Л.Е. Философия, социология и теория истории / Л.Е. Гринин. Волгоград, 2000. С. 128.
(обратно)95
Доместикация (от лат. domestikus – домашний) – одомашнивание, приручение диких животных.
(обратно)96
Павленко, Ю.В. Происхождение цивилизации: альтернативные пути / Ю.В. Павленко // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 122.
(обратно)97
Иноземцев, В.Л. Глобальный конфликт XXI в. Размышления об истоках и перспективах межцивилизационных противоречий / В.Л. Иноземцев, Е.С. Кузнецова II Полис. 2001. № 6. С. 132.
(обратно)98
Моисеев, Н.Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы. Эколого-политологический анализ / Н.Н. Моисеев // Вопросы философии. 1995. № 1.
(обратно)99
Ваджра, А. Путь зла. Запад: матрица глобальной гегемонии / А. Ваджра. М., 2007.
(обратно)100
Олейников, Ю.В. Перспективы социоприродной эволюции России / Ю.В. Олейников // Свободная мысль. 2002. № 7. С. 103–104.
(обратно)101
Гегель, Г.В.Ф. Сочинения: в 8 т. / Г.В.Ф. Гегель. М.; Л., 1993. T. 8. С. 76.
(обратно)102
Интересен вопрос, почему японцы, постоянно испытывая давление плотности населения, так и не предприняли попыток (вплоть до XX в.) освоить новые территории и выйти за пределы ограниченного пространства. Русские первопроходцы обошли их острова и приступили к освоению американского континента, созданию русской Америки. Видимо, дело в том, что у японцев издревле и повсеместно преобладал тип поведения человека по стандартному образцу: жизнь без инициативы, быть похожим на всех. Открытие новых земель как раз требовало иных поведенческих качеств.
(обратно)103
Коротаев, А.В. Социальная эволюция. Факторы, закономерности, тенденции / А.В. Коротаев. М., 2003. С. 15.
(обратно)104
Мельянцее, В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность / В.А. Мельянцев. М., 1996. С. 61.
(обратно)105
Шахназаров, О. История развития общества: русский путь / О. Шахназаров // Общество и экономика. 2000. № 2. С. 159.
(обратно)106
Шахназаров, О. История развития общества: русский путь / О. Шахназаров. С. 160.
(обратно)107
Коротаев, А.В. Социальная эволюция. Факторы, закономерности, тенденции / А.В. Коротаев. М., 2003. С. 41.
(обратно)108
Маркс, К. Собрание сочинений: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. T. 20. С. 184.
(обратно)109
Вернадский, Г.В. Русская история / Г.В. Вернадский. М., 1997. С. 12.
(обратно)110
Некоторые исследователи отмечают, что положительную роль в процессах упорядочивания общественной жизни и усиления концентрации населения сыграло введение крепостничества (1581). «На Западе вводить крепостное право в том виде, в каком оно понадобилось в России, не было необходимости. Во-первых, вассалу – крестьянину просто некуда было сбежать, разве что только к другому сюзерену, во-вторых, ему в этом резонов не было, так как плодородие земли и климат давали возможность содержать зарождающиеся и растущие города, оставляя ресурсы на собственное пропитание. В России же крепостничеству имелось две альтернативы – не строить города или покинуть места, где русских застало средневековье, и возобновить процесс великого переселения народов. Другой вопрос, что крепостничество в России лет на 80 задержалось и после того, как выполнило свое предназначение. Так это «претензия» к инерционности русской истории, а не к крепостному праву» (Шахназаров, О. История развития общества: русский путь / О. Шахназаров. С. 165). Правда, и крепостничество не смогло полностью остановить процесс обособления и расселения русского народа. В XV–XVII вв., в период централизации русского государства, сопровождающейся нарастанием регламентации поведения и ограничением былых местных свобод, одной из причин расселения стало бегство крепостных крестьян, холопов, городской нищеты на вольные земли окраин государства (Дон, Запорожье, Сибирь) и создание там специфических казачьих поселений.
(обратно)111
Шахназаров, О. История развития общества: русский путь / О. Шахназаров. С. 155.
(обратно)112
Кара Мурза, С.Г. Плодотворные ошибки Ленина / С.Г. Кара Мурза // Наш современник. 1999. № 10. С. 184, 189.
(обратно)113
Кожинов, В.В. Победы и беды России / В.В. Кожинов. М., 2000. С. 9.
(обратно)114
Кара Мурза, С. Плодотворные ошибки Ленина / С. Кара Мурза // Наш современник. 1999. № 10. С. 184, 189.
(обратно)115
Паршев, А.П. Почему Россия не Америка / А.П. Паршев. М., 2000. С. 40–41.
(обратно)116
Универсальное и специфическое в российской истории // Общественные науки и современность. 1999. № 3. С. 88.
(обратно)117
Там же. С. 89.
(обратно)118
Ильин, ИЛ. Что сулит миру расчленение России / И.А. Ильин // Собрание сочинений: в 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 329.
(обратно)119
Кожинов, В.В. История Руси и русского слова / В.В. Кожинов. М., 1999. С. 71.
(обратно)120
Абазов, Р.Ф. Переосмысление прав человека / Р.Ф. Абазов // Полис. 1995. № 2. С. 183.
(обратно)121
Несмотря на обилие публикаций, повествующих о сверхжестокости русских царей, особенно Ивана Грозного, факты все же говорят о другом. Что касается Ивана Грозного, то большое количество казней при нем объясняется отнюдь не «русскостью», а тем, что он правил в XVI в. Современные историки А.А. Зимин и А.Л. Хорошкевич справедливо говорят в своей книге «Россия времен Ивана Грозного»: «…Иван IV был сыном…жестокого века. Шведский король Эрих XTV запятнал себя не меньшим количеством убийств, чем Грозный. Французский король Карл IX сам участвовал в беспощадной резне протестантов в Варфоломееву ночь 24 августа 1572 г., когда была уничтожена добрая половина родовитой французской знати. Испанский король Филипп II с удовольствием присутствовал на бесконечных аутодафе на площадях Вальдо-лида. Цена, которую уплатила Россия за ликвидацию политической раздробленности, не превосходила жертв других народов Европы, положенных на алтарь централизации…»
Известный исследователь русской истории XVI – начала XVII в. Р.Г. Скрынников доказал в своей книге «Иван Грозный», что при этом царе «было уничтожено около 3–4 тысяч человек» (Скрынников, Р.Г. Иван Грозный / Р.Г. Скрынников. М., 1975. С. 181). Между тем давно установлено: в Англии в тот же век при Генрихе VIII казнено было 72 тыс., при Елизавете – свыше 89 тыс. человек, примерно столько же инакомыслящих было уничтожено их современниками испанским королем Карлом V и Филиппом II.
В целом получается, что если на Руси при Иване Грозном было казнено 3 тыс. человек, то в основных странах Западной Европы (Испания, Франция, Англия, Нидерланды) было в это время казнено никак не менее 300–400 тыс. человек. «В течение XVIII–XIX вв. Россия в сравнении с Западной Европой, – как отмечает В.В. Кожинов, – была поистине уникальной страной: за 175 лет в ней по политическим обвинениям было казнено лишь 56 человек (6 пугачевцев, 5 декабристов, 31 террорист времени Александра II и 14 террористов времени Александра III). За это же время в Западной Европе было совершено много десятков тысяч политических казней (так, всего за 5 дней июня 1848 года в Париже было расстреляно 11 тыс. человек, о чем, между прочим, с ужасом писал свидетель событий Герцен, а за несколько дней мая 1871 г. – более 30 тысяч человек)» (Кожинов, В.В. История Руси и русского слова / В.В. Кожинов. С. 26–35).
(обратно)122
Гольц, Г.А. Культура и экономика: поиски взаимосвязей / Г.А. Гольц // Общественные науки и современность. 2000. № 1. С. 26.
(обратно)123
Там же. С. 26.
(обратно)124
Водопьянов, П.А. От нестабильности к устойчивому развитию / П.А. Водопьянов, П.М. Бурак II Беларуская думка. 1996. № 6. С. 41.
(обратно)125
Солоневич, И. Народная монархия / И. Солоневич. Буэнос-Айрес, 1973. С. 153.
(обратно)126
Коротаев, А.В. Объективные социологические законы и субъективный фактор / А.В. Коротаев // Время мира: альманах. Вып. 1: Историческая макросоциология в XX веке. Новосибирск, 2000.
(обратно)127
С.153.
(обратно)128
Солонееич, И. Народная монархия / И. Солоневич. Буэнос-Айрес.
(обратно)129
Соловьев, С. История России с древнейших времен: в 15 т. / С. Соловьев. М., 1962. T. 15. Кн. VIII. С. 7–9.
(обратно)130
Ключевский, В.О. Курс русской истории / В.О. Ключевский. Петроград, 1918. Ч. 1.С. 388, 389.
(обратно)131
Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н.А. Бердяев. М., 1990. С. 8.
(обратно)132
Ильин, В.Н. Эссе о русской культуре / В.Н. Ильин. СПб., 1997. С. 43.
(обратно)133
Лосский, В.О. Характер русского народа / В.О. Лосский. Кн. I. М., 1990. С. 58.
(обратно)134
Там же. С. 48.
(обратно)135
Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма / H.A. Бердяев. С. 8.
(обратно)136
Бердяев, Н.А. Судьба России / Н.А. Бердяев. М., 1990. С. 30–31.
(обратно)137
Иностранная литература. 1998. № 2. С. 241.
(обратно)138
Иностранная литература. 1998. № 2. С. 243.
(обратно)139
Печерин, В.С. Замогильные записки / В.С. Печерин // Русское общество 30-х годов XIX в. М., 1989. С. 162.
(обратно)140
Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. / Ф.М. Достоевский. Ленинград, 1972. T. 28. С. 189.
(обратно)141
Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. / Ф.М. Достоевский. T. 5. С. 230.
(обратно)142
Там же. С. 229.
(обратно)143
Аверинцев, С.С. Византия и Русь: два типа духовности / С.С. Аверинцев // Новый мир. 1988. № 9. С. 135.
(обратно)144
Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн. Антология. М., 1993. С. 124.
(обратно)145
Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. T. 23. С. 660.
(обратно)146
Хилиазм – тысячелетнее царствование на земле с торжеством добра.
(обратно)147
Эсхатология – религиозное учение о конечных судьбах мира и человечества, о конце света и страшном суде.
(обратно)148
Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. T. 23. С. 125.
(обратно)149
Becker, G. Human capital, a theoretical and empirical analysis / G. Becker. 1964. № 4.
(обратно)150
Eisenstadt, S.N. Modernization: Protest and Change / S.N. Eisenstadt. Englewood Cliffs, 1996. P. 1.
(обратно)151
Зарубина, Н.Н. Социология хозяйственной жизни: проблемный анализ в глобальной перспективе / Н.Н. Зарубина. М., 2006. С. 81.
(обратно)152
Модернизация: зарубежный опыт и Россия. М., 1994. С. 23.
(обратно)153
Олейников, Ю.В. Перспективы социоприродной эволюции России / Ю.В. Олейников // Свободная мысль. 2002. № 7. С. 108.
(обратно)154
Пигров, К.С. Империя как инновация, или императив империй / К.С. Пигров // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Выпуск 2. Ч. 1.2007. № 6. С. 7.
(обратно)155
Там же. С. 10.
(обратно)156
Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. М., 1990. С. 55.
(обратно)157
Пантин, В.И. Ритмы общественного развития и переход к постмодернизму / В.И. Пантин II Вопросы философии. 1998. № 7. С. 78.
(обратно)158
Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. М., 1994. С. 280.
(обратно)159
Левит, К. О смысле истории / К. Левит //Философия истории. Антология. М., 1995. С. 263.
(обратно)160
Там же.
(обратно)161
Левит, К. О смысле истории / К. Левит //Философия истории. Антология. С. 263.
(обратно)162
Поппер, К. Открытое общество и его враги / К. Поппер. М., 1992. T. 2. С. 311.
(обратно)163
Франк, С.Л. Свет во тьме / С.Л. Франк // Духовные основы общества. М., 1992. С. 447.
(обратно)164
Там же.
(обратно)165
Соловьев, В.С. Три силы / В.С. Соловьев // Новый мир. 1989. № 1. С. 198–204.
(обратно)166
Соловьев, В.С. Статьи и письма / В.С. Соловьев // Новый мир. C. 229–230.
(обратно)167
Ясперс, К. Истоки истории и ее цель / К. Ясперс. М., 1991. С. 172.
(обратно)168
Там же.
(обратно)169
Батищев, Г.С. Деятельная сущность человека как философский принцип / Г.С. Батищев // Проблема человека в современной философии. М., 1969. С. 93.
(обратно)170
Келле, В.Ж. Теория и история / В.Ж. Келле, М.Я. Кольвазон. М., 1981. С. 45.
(обратно)171
Краткая философская энциклопедия. М., 1994. С. 315.
(обратно)172
Бохеньский, Ю. Сто суеверий / Ю. Бохеньский. М., 1993. С. 12.
(обратно)173
Там же.
(обратно)174
Телеология (от греч. telos – цель и logos – слово, мысль) – учение о целесообразности в природе и обществе, о движении истории к определенной цели, финалу.
(обратно)175
Шанин, I Идея прогресса / T. Шанин // Вопросы философии. 1998. № 8. С. 36.
(обратно)176
Бердяев, Н.А. Смысл истории / Н.А. Бердяев. М., 1990. С. 148.
(обратно)177
Ортега-и-Гассет, X. Дегуманизация искусства / X. Ортега-и-Гассет. М., 1991. С. 73.
(обратно)178
Шаповалов, В.Ф. Основа философии. От классики к современности / В.Ф. Шаповалов. М., 1999. С. 459.
(обратно)179
Educational Vision for the 21st Century. L., 1999. P. 22.
(обратно)180
Данилевский, Н. Россия и Европа / Н. Данилевский. М., 1991. С. 74.
(обратно)181
Данилевский, Н. Россия и Европа / Н. Данилевский. С. 34.
(обратно)182
Данилевский, Н. Россия и Европа / Н. Данилевский. С. 440–441.
(обратно)183
Тойнби, А. Постижение истории / А. Тойнби. М., 1991. С. 524.
(обратно)184
Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон // Полис. 1994. № 1.
(обратно)185
Степин, В.С. Философия и эпоха цивилизационных перемен / В.С. Степин // Вопросы философии. 2006. № 2; Степин, В.С. Демократия и судьбы цивилизации / В.С. Степин, В.И. Толстых // Вопросы философии. 1996. № 10.
(обратно)186
Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. T. 23. С. 88.
(обратно)187
Ерасов, Б.С. Социальная культурология / Б.С. Ерасов. М.,1997. С. 77.
(обратно)188
Василенко, ИЛ. «Очарованный странник» против «экономического человека» / И.А. Василенко // Москва, 1998. № 4. С. 62.
(обратно)189
Соловьев, В.С. Сочинения: в 2 т. / В.С. Соловьев. М., 1990. T. 1. С. 613.
(обратно)190
Шафаревич, И.Р. Россия и мировая катастрофа / И.Р. Шафаревич // Наш современник. 1993. № 1. С. 120.
(обратно)191
Тоффлер, О. Шок будущего / О. Тоффлер. М., 2001. С. 21.
(обратно)192
Там же. С. 23.
(обратно)193
Татаркевич, В. О счастье и совершенствовании человека / В. Татаркевич. М., 1981. С. 137–138.
(обратно)194
Малинецкий, Г. Россия в контексте мировой динамики: экобионический аспект / Г. Малинецкий, Ю. Каганов // Проблемы теории и практики управления. 2005. № 2. С. 105–106.
(обратно)195
Экстраполяция, экстраполирование («экстра» + лат. polire – приглаживать, отделывать) – метод научного исследования – распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую часть явления или целое.
(обратно)196
Араб-Оглы, Э. В утопическом мире / Э. Араб-Оглы //О современной буржуазной эстетике. М., 1976. Вып. 4. С. 73.
(обратно)197
Там же. С. 74.
(обратно)198
Шацкий, Е. Утопия и традиция / Е. Шацкий. М., 1990. С. 22–27.
(обратно)199
Цит. по: Мортен, АЛ. Английская утопия / Л.А. Мортен. М., 1956. С. 246, 247.
(обратно)200
Фурье, Ш. Собрание сочинений: в 4 т. / Ш. Фурье. М., 1951. T. I. С. 84.
(обратно)201
Фейербах, Л. Избранные произведения: в 2 т. / Л. Фейербах. М., 1955. T. 2. С. 764.
(обратно)202
Лосев, А.Ф. Жизненный и творческий путь Платона / А.Ф. Лосев // Платон. Сочинения: в 4 т. М., 1968. T. 1. С. 24.
(обратно)203
Шацкий, Е. Утопия и традиция / Е. Шацкий. М., 1990. С. 145.
(обратно)204
Шацкий, Е. Утопия и традиция / Е. Шацкий. С. 137–138.
(обратно)205
Франк, С.Л. Ересь утопизма / С.Л. Франк // Родник. 1989. № 6. С. 54.
(обратно)206
Хаксли, О. О дивный новый мир / О. Хаксли // Утопия и антиутопия XX в. М., 1990. С. 475–476.
(обратно)207
Делягин, М.Г. Предстоящий мир: некоторые тенденции и требования к России / М.Г. Делягин // Мир в 2020 году. С. 214–242.
(обратно)208
Там же. С. 242.
(обратно)209
Делягин, М.Г. Предстоящий мир: некоторые тенденции и требования к России / М.Г. Делягин // Мир в 2020 году. С. 214–242.
(обратно)210
Мясникова, Л.А. Экономика постмодерна и отношения собственности / Л.А. Мясникова // Вопросы философии. 2002. № 7. С. 5.
(обратно)211
Там же.
(обратно)212
Фурсов, А. Накануне «бури тысячелетия» / А. Фурсов // Москва. 2007. № 1. С. 180.
(обратно)213
Соловей, В. Восстание этничности и судьба Запада / В. Соловей // Политический класс. 2006. № 7. С. 70.
(обратно)214
Фергюсон, Н. Мир без гегемона / Н. Фергюсон // Свободная мысль – XXI. 2005. № 1.С. 24.
(обратно)215
Там же.
(обратно)216
Крылова, ИЛ. Дестабилизация социально-экономической обстановки в России / И.А. Крылова // Философия и общество. 1999. № 1. С. 99.
(обратно)217
Моисеев, Н.Н. Расставание с простотой / Н.Н. Моисеев. М., 1998. С. 286.
(обратно)218
Мясникова, Л.А. Экономика постмодерна и отношения собственности / Л.А. Мясникова // Вопросы философии. 2002. № 7. С. 5.
(обратно)219
Делягин, М.Г. Мировой кризис. Общие теории глобализации / М. Делягин. М., 2003. С. 51.
(обратно)220
Оставляем в стороне рассмотрение многих других причин, приведших Запад к его нынешнему сильному превосходству над остальным миром, в частности, факт беспрецедентного грабежа западноевропейскими государствами других стран и народов в эпоху колониальных завоеваний.
(обратно)221
Simai, М. Globalization: A Source of Intence Competition, Conflicts and Opportunities at the end of the 20th Century / M. Simai // A Paper Presented to the Roundtable Conference «The Global Economy: A Challenge to National Economics». Boston, 1997. December. P. 13, 14.
(обратно)222
Панарин, A.C. Глобальное политическое прогнозирование в условиях стратегической нестабильности / А.С. Панарин. М., 1999. С. 243.
(обратно)223
Ни в коей мере не оправдывая огромных человеческих жертв, принесенных на алтарь сталинской индустриализации, все же необходимо сказать, что и капиталистическая индустриализация не обошлась без жертв. Она, как известно, сопровождалась многолетними колониальными войнами, в которых уничтожались целые народы и древние культуры, происходило разрушение местного хозяйства, культивировалось рабство, насилие, распространялся голод и т. д. Эти издержки экспансии капитализма были никак не меньшими, чем плата за индустриальный скачок в СССР.
(обратно)224
Баталов, Э.Я. Новый мировой порядок: к методологии анализа / Э.Я. Баталов // Полис. 2003. № 5. С. 33.
(обратно)225
Делягин, М.Г. Предстоящий мир: некоторые базовые тенденции и требования к России / М.Г. Делягин // Мир в 2020 году. М., 2007. С. 249.
(обратно)226
Цит. по: Шишков, Ю.В. Регионализация и глобализация мировой экополитики: альтернатива или взаимодействие? /Ю.В. Шишков // Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 8. С. 5.
(обратно)227
Глазьев, С. Таможне дают «добро…» / С. Глазьев // «Завтра». 2009. № 51 (839). С. 9.
(обратно)228
Барма, Н. Мир без Запада / Н. Барма, С. Вебер, Э. Ратнер // Россия в глобальной политике. 2008. № 11. С. 21.
(обратно)229
Олтман, Р. Великий крах – 2008: геополитическое поражение Запада / Р. Олтман // Россия в глобальной политике. 2009. Том. 7. № 1. С. 20.
(обратно)230
Пабст, А. Белинская доктрина: от атлантической однополярности к панъевразийскому сообществу безопасности / А. Пабст // Россия в глобальной политике. 2009. Том 7. № 1. С. 90.
(обратно)231
Ео, Дж. Эпоха великой переоценки / Дж. Ео // Россия в глобальной политике. 2009. Том 7. № 1. С. 29.
(обратно)232
Верхофстадт, Ги. Три выхода для Европы: на пороге «нового века империй» / Ги Верхофстадт // Россия в глобальной политике. 2009. Том 7. № 1. С. 26–27.
(обратно)233
Полити, А. После «бушеномики». От бездержавной многополярности к текучим балансам / А. Полити // Россия в глобальной политике. 2009. Том 7. № 1. С. 68.
(обратно)234
Белл, Д. Эпоха разобщенности / Д. Белл // Свободная мысль – XXI. 2006. № 6. С. 6.
(обратно)235
International Herald Tribune. 2008. Dec., 17.
(обратно)236
Зотов, В.Д. И Запад и Восток / В.Д. Зотов // Свободная мысль. 1998. № 6. С. 9.
(обратно)237
Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 2. С. 17.
(обратно)238
Пантин, В.И. Глобальная политическая история и современность / В.И. Пантин // Общественные науки и современность. 2002. № 5. С. 166.
(обратно)239
Фергюсон, Н. Мир без гегемона / Н. Фергюсон // Свободная мысль – XXI. 2005. № 1. С. 17.
(обратно)240
Караганов, С.А. XXI век: контуры миропорядка / С.А. Караганов // Россия в глобальной политике. 2005. T. 3. № 5. С. 38.
(обратно)241
Гефтер, М. Мир миров: российский зачин / М. Гефтер // Иное. Россия как идея. М., 1995. С. 90–91.
(обратно)242
Лесков, Л.В. Синергетика культуры / Л.В. Лесков // Вестник МГУ. Сер. 7. Философия. 2004. № 5. С. 31.
(обратно)243
Проблема национализма в условиях современности выдвинулась на передний план исследовательского интереса. Сегодня стало ясно, что историческое самоопределение народов, находящихся в условиях социального транзита, их успешное социокультурное развитие и позиционирование на мировой арене невозможно без известной доли здорового государственного национализма, национализма как формы национального возрождения и условий эффективной модернизации. Другое дело, что национализм как объективно неизбежный спутник формирования государства-нации необходимо отличать от различных форм этнократизма, ксенофобии, нацизма и расизма.
(обратно)244
Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. М., 2003. С. 57.
(обратно)245
Sotto voce (итал.) – про себя, вполголоса.
(обратно)246
Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. С. 243–244.
(обратно)247
Шерр, Д. Россия и ЕС в разных координатах времени / Д. Шерр // Независимая газета. 2002. 11 декабря.
(обратно)248
Гумбольт, В. Избранные труды по языкознанию / В. Гумбольт. М., 1984. С. 60.
(обратно)249
Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. С. 237.
(обратно)250
Тойнби, А.Дж. Цивилизация перед судом истории / А.Дж. Тойнби. М., 1996. С. 116.
(обратно)251
Ханна, П. Второй мир / П. Ханна. М., 2010. С. 33.
(обратно)252
Там же.
(обратно)253
Сидоренко, С.Н. Новая Россия и бывшая Малороссия / С.Н. Сидоренко // Москва. 2003. № 11. С. 136.
(обратно)254
Сидоренко, С.Н. Новая Россия и бывшая Малороссия / С.Н. Сидоренко // Москва. С. 135.
(обратно)255
Белковский, С. В стране сложилась монетократия – власть денег / С. Белковский II Политический класс. 2009. № 11. С. 32.
(обратно)256
Зиновьев, АЛ. Великий эволюционный перелом / А.А. Зиновьев // Глобальное общество и Россия: тенденции эволюции и последствия: материалы Междунар. конф. СПб., 2001. С. 7, 12–13.
(обратно)257
Касталье, М. Информационная эпоха. Экономика, общество, культура / М. Касталье. М., 2000. С. 510.
(обратно)258
Хардт, М. Империя / М. Хардт, А. Негри. М., 2004. С. 25.
(обратно)259
Каспэ, С.И. Содружество варварских королевств: независимые государства в поисках империи / С.И. Каспэ // Полития. 2008. № 1. С. 23–24.
(обратно)260
Пантин, В.И. «Универсальная цивилизация»: генезис и противоречия. Глобализация как проявление «сверхцивилизационного» мегатренда / В.И. Пантин, В.В. Лапкин // Полития. 2002. № 4. С. 45.
(обратно)261
Пантин, В.И. «Универсальная цивилизация»: генезис и противоречия. Глобализация как проявление «сверхцивилизационного» мегатренда / В.И. Пантин, В.В. Лапкин // Полития. 2002. № 4. С. 52.
(обратно)262
Цит. по: Дискуссия вокруг цивилизационной модели: С. Хантингтон отвечает оппонентам // Полис. 1994. № 1. С. 51.
(обратно)263
Козин, Н.Г. Универсалистский проект цивилизационной идентичности России / Н.Г. Козин II Философия и общество. 2008. № 4. С. 79.
(обратно)264
Козин, Н.Г. Универсалистский проект цивилизационной идентичности России / Н.Г. Козин II Философия и общество. С. 78–79.
(обратно)265
Там же. С. 82.
(обратно)266
Козин, Н.Г. Универсалистский проект цивилизационной идентичности России / Н.Г. Козин // Философия и общество. 2008. № 4. С. 82.
(обратно)267
Русская доктрина. М., 2008. С. 15.
(обратно)268
Голанский, М. Россия на перекрестке двух дорог / М. Голанский // Москва. 1997. № 8. С. 133–134.
(обратно)269
Голанский, М. Россия на перекрестке двух дорог / М. Голанский // Москва. 1997. № 8. С. 134.
(обратно)270
Там же. С. 135.
(обратно)271
Мартинелли, А. От мировой системы к мировому обществу / А. Мартинелли // Социс. 2009. № 1. С. 14.
(обратно)272
Семерник, С.З. На пути в электронный концлагерь / C.3. Семерник // Беларуская думка. 2007. № 9. С. 166–172.
(обратно)273
Панарин, А.С. Глобальное политическое прогнозирование / А.С. Панарин // Ценности и приоритеты XXI века: Социальная справедливость и экологическая безопасность // материалы Международной науч. – практической конференции. Минск, 2000. С. 30, 32.
(обратно)274
Зотов, В.Д. Запад и Восток / В.Д. Зотов // Свободная мысль. 1998. № 6. С. 15.
(обратно)275
Косолапов, Н.А. Международно-политическая организация глобализирующегося мира: модели на среднесрочную перспективу / Н.А. Косолапов // Общественная наука и современность. 2001. № 6. С. 145.
(обратно)276
Там же. С. 146.
(обратно)277
Косолапов, Н.А. Международно-политическая организация глобализирующегося мира: модели на среднесрочную перспективу / Н.А. Косолапов // Общественная наука и современность. С. 151.
(обратно)278
Косолапов, Н.А. Международно-политическая организация глобализирующегося мира: модели на среднесрочную перспективу / Н.А. Косолапов // Общественная наука и современность. С. 152.
(обратно)279
Там же.
(обратно)280
Там же.
(обратно)281
Идея перехода к сверхмощной цивилизации, способной к массированному хозяйственному освоению космоса, в принципе не реальна, ибо она никак не согласуется с экологическими возможностями нашей планеты. Задолго до того, как будет создана пока еще не имеющая аналогов в современном мире грандиозная космическая техника – сложнейшая система взаимосвязей и взаимодействий огромного количества всевозможных машин, аппаратов, приборов, технологических линий и подобное, – жизнь на Земле неминуемо будет пресечена. Все дело в том, что создание данного уровня техники потребует затрат энергии, ресурсов, материалов, кислорода в таком количестве, которое наша маленькая планета попросту не сможет выдержать. Экологический коллапс в этом случае неизбежен. На ограничения такого рода в научной литературе указывалось уже неоднократно (Алексеев, В.П. Становление человечества / В.П. Алексеев. М„1984. С. 10, 11).
(обратно)282
Косолапов, Н.А. По поводу прослушанного доклада «История и психология антропогенных кризисов: гипотеза техногуманитарного баланса» / Н.А. Косолапов // Материалы постоянно действующего семинара Клуба ученых «Глобальный мир». М., 2003. Вып. 6 (29). С. 68.
(обратно)283
Ефимчик, И.В. Социальная организация – прошлое без будущего? (наивные вопросы дилетанта) / И.В. Ефимчик // Общественные науки и современность. 2005. № 3. С. 152.
(обратно)284
Валерстайн, И. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменяется? / И.В. Валерстайн // Социологические исследования. 1997. № 1. С. 20.
(обратно)285
Кутырев, В.А. Челюсти рационализма / В.А. Кутырев // Свободная мысль. 2000. № 9. С. 5.
(обратно)286
Фурсов, А. Накануне «бури тысячелетия» / А. Фурсов. Москва. № 2, 2007. С. 178.
(обратно)287
Прежевальская, О.Н. Противоречия глобализации и интересы России / О.Н. Прежевальская // Власть. 2003. № 3. С. 51.
(обратно)288
Greider, W. One world, ready or not: the manic logic of global capitalism / W. Greider. N.Y., Simon & Shuster, 1998. P. 75.
(обратно)289
Пантин, В.И. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития / В.И. Пантин, В.В. Лапкин. М., 2006. С. 435–436.
(обратно)
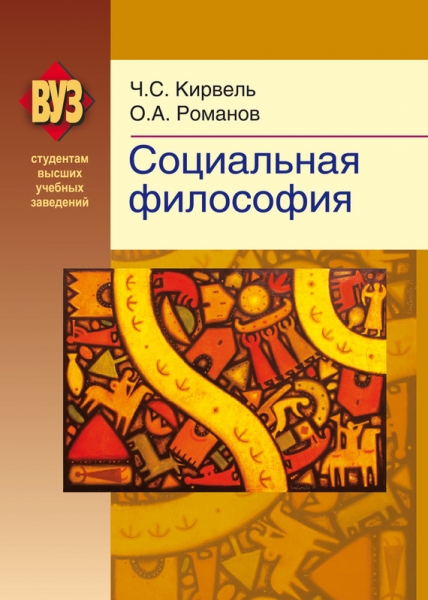

![Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів]](https://www.4italka.su/images/articles/519217/primary-medium.jpg)

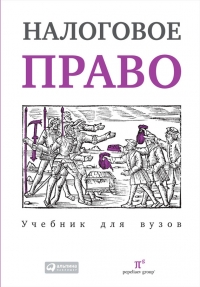

Комментарии к книге «Социальная философия», Чеслав Станиславович Кирвель
Всего 0 комментариев