Коллектив авторов
Варламова Н. В., кандидат юридических наук — гл. 1 раздела IX;
Лазарев В. В., доктор юридических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук — гл. 1—5 раздела VI;
Лапаева В. В., доктор юридических наук, академик Международной академии информатизации — гл. 6 раздела VI; гл. 2, 3 раздела IX;
Лукашева Е. А., доктор юридических наук, профессор, член- корреспондент Российской академии наук — раздел IV; гл. 3 раздела VIII;
Мальцев Г. В., доктор юридических наук, профессор — раздел II;
Мицкевич А. В., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации — гл. 1, 2, 6, 8 раздела V;
Муромцев Г. И., доктор юридических наук, профессор — гл. 3, 4 раздела V;
Нерсесянц В. С., доктор юридических наук, профессор, академик Российской академии наук — Предисловие, разделы I, III; гл. 1, 2 раздела VIII; гл. 4 раздела IX;
Пиголкин А. С., доктор юридических наук, профессор, академик Международной академии информатизации — гл. 5, 7 раздела V;
Соколова Н. С., кандидат юридических наук — гл. 9 раздела V;
Четвернин В. А., кандидат юридических наук — раздел VII.
Предисловие
Настоящий учебник содержит систематическое изложение всех основных проблем, охватываемых вузовским учебным курсом по общей теории права и государства. Он рассчитан не только на первичное ознакомление студентов со стандартным набором вопросов по этой учебной дисциплине, но и на дальнейшее углубленное изучение и освоение более широкого круга общетеоретических проблем и тем современной юриспруденции. В этом отношении данная работа является первым в постсоветской литературе учебным курсом по проблемам общей теории права и государства.
Известно, что наблюдаемый в стране взлет интереса к юридической профессии и юридическому образованию породил огромный спрос на учебную литературу. Появилось множество новых учебников, учебных пособий, лекционных и методических материалов также и по вопросам теории права и государства. Они, разумеется, разного уровня и качества. Но в целом они отражают позитивный процесс формирования различных направлений объективного научного анализа проблем права и государства. Существенное достоинство этой постсоветской юридической литературы состоит в ее ориентированности на идеи и ценности прав и свобод человека и гражданина, господства права, гражданского общества и правового государства. Большое достоинство новой учебной литературы состоит также и в том, что в ней в отличие, от прежних учебников, провозглашавших бесспорные “истины”, присутствует собственная научная позиция автора (со всеми ее достоинствами и недостатками).
Вместе с тем очевидно, что свобода науки от политикоидеологической цензуры вовсе не означает свободы от требований самой науки. Это обстоятельство особенно актуально в условиях широкой коммерциализации вузовского юридического образования с ее установками на упрощенную учебную литературу (в виде развернутой шпаргалки для экзаменов) и ускоренную юридическую дипломизацию массовой аудитории разного рода правовых чтений.
Этой мощной тенденции, ведущей к девальвации юридического образования и юридической профессии, сообщество ученых-юристов (представители науки и образования, авторы учебной литературы и т.д.) должно противопоставить тысячелетние традиции подготовки квалифицированных юристов — знатоков права, ответственность за продолжение и развитие этих традиций в наше время — словом, волю к правоведению (как научному познанию права) и твердость в ее реализации в процессе формирования нового поколения отечественных юристов, соответствующих своему высокому призванию и месту в обществе.
Существенное значение в этом плане имеют дальнейшие шаги по преодолению разрыва между наукой и вузовским образованием, укрепление научных основ учебно-образовательного процесса, усиление и обогащение научного содержания учебной литературы.
Содействовать решению этих задач призван и данный учебный курс. Он подготовлен известными учеными-юристами, внесшими заметный вклад в отечественную юриспруденцию, в ее обновление и развитие в современных условиях. Вместе с тем члены авторского коллектива обладают значительным опытом вузовского преподавания и подготовки учебной литературы.
Участие в составе авторского коллектива представителей разных теоретических школ и направлений (и соответствующие различия в их подходах к тем или иным проблемам правопонимания и т.д.) в целом соответствует реалиям нынешнего переходного этапа в развитии нашей теории права и государства и позволило отразить в курсе основные идеи, концепции и достижения разных течений современной теоретико-правовой мысли.
Авторский коллектив курса далек от представлений о бесспорности содержащихся в нем положений и будет признателен за критические замечания и пожелания по его совершенствованию.
Раздел I. Предмет и метод общей теории права и государства
Глава 1. Предмет общей теории права и государства
§ 1. Предмет общей теории права и государства как общенаучной юридической дисциплины
Общая теория права и государства занимает фундаментальное место в системе юридических наук. Более кратко данная дисциплина зачастую именуется просто как “Теория права и государства”
Название “Общая теория права и государства” предметно и содержательно точнее, поскольку вопросами теории права и государства, т. е. теоретическими (научными) исследованиями, занимаются все юридические науки — каждая в своей сфере, а не только общая теория права и государства. Ведь в гносеологическом (познавательном) плане понятия “теория” и “наука” — это синонимы. Поэтому под теорией имеется в виду именно научная теория, а под наукой — определенная (общая или более частная) теория.
Однако независимо от названия эта основополагающая юридическая дисциплина по своим задачам, функциям, предмету и методу имеет общенаучное значение для юриспруденции в целом и представляет собой именно общую (всеобщую — для данной концепции и системы юридических наук) теорию права и государства. В ней сконцентрированы все наиболее существенные достижения научно-теоретической мысли о праве и государстве, все теоретически (и научно) наиболее важное и значимое в совокупном знании о праве и государстве.
Научное (и теоретическое) значение отдельных юридических дисциплин (характер их взаимосвязей и отношений Между собой и взаимодействия с юридической наукой в целом) определяется их местом и функцией в общей системе юридической науки, в структуре целостного юридико-теоретического знания. При этом именно научные свойства целого (т. е. специфические теоретико-познавательные свойства и особенности юридической науки в целом с ее единым предметом и методом) определяют научные свойства отдельных юридических дисциплин, их предмет и метод, их научно-познавательный статус и т. д., а не наоборот. По логике системноструктурных отношений в сфере юридико-теоретического знания свойства целого (юридической науки в целом) принципиально несводимы к сумме свойств составляющих ее юридических дисциплин и невыводимы из них.
В познавательно-концентрированном виде эти свойства научно-юридического целого представлены в понятии права, которое исходно определяет предмет и метод юридического познания и которое в теоретически развернутой, структурно и функционально конкретизированной и организованной форме представлено во всей юридической науке как единой и целостной системе юридического знания.
Отсюда ясно, что единый предмет и метод юридической науки в целом — это одновременно предмет и метод также и каждой юридической науки. Ведь отдельные юридические науки как составные элементы всей системы юридической науки в целом являются лишь определенными, относительно самостоятельными формами (структурными частями) выражения понятийно единого юридико-теоретического знания, различными формообразованиями единого для всей юридической науки понятия права, т. е. различными аспектами одного и того же юридического предмета и юридического метода.
Предметное своеобразие общей теории права и государства обусловлено научно-познавательными возможностями и целями данной дисциплины, ее общенаучными задачами и функциями в системе юридической науки, местом и значением юридической науки в целом — в системе общественных и иных наук.
Смысл сказанного можно в предварительном порядке резюмировать следующим образом: предмет общей теории права и государства — это общая теория всей юриспруденции как единой самостоятельной, системно целостной науки. Предметом общей теории права и государства, таким образом, являются общенаучные основы всей юриспруденции, ее предмет и методология, ее система и структура, ее онтология, гносеология и аксиология.
С учетом такого общенаучного статуса и роли общей теории права и государства можно сказать, что предмет и методология общей теории права и государства — это научно-теоретическое обоснование (объяснение, раскрытие и развитие) предмета и методологии всей юридической науки в целом.
Поэтому все последующее освещение общенаучных (и общетеоретических) основ юриспруденции (ее предмета, методологии, системы и т. д.) вместе с тем представляет собой адекватное содержательное исследование и изложение всей той проблематики, которая именуется предметом и методом общей теории права и государства. Одновременно в ходе дальнейшего освещения темы будут все более уточняться и конкретизироваться — в общенаучном контексте юриспруденции и системы всех юридических дисциплин — уже высказанные в предварительном порядке суждения и положения о предмете и методе общей теории права и государства.
§ 2. Дуализм объектов и единство предмета юриспруденции
Каждая наука — это определенный способ производства и организации знаний о тех объектах, изучением которых она занимается. В этом смысле юридическая наука является определенным способом производства и организации юридических знаний, т. е. научных знаний о таких объектах, как право и государство.
Объект научного изучения отличается от предмета науки. Один и тот же объект может изучаться разными науками, причем каждая наука изучает данный объект с позиций своего особого предмета и метода.
Объект — это то, что еще подлежит научному изучению с помощью познавательных средств и приемов соответствующей науки. В процессе научного изучения исходные эмпирические знания об объекте дополняются теоретическими знаниями, т. е. системой понятий об основных сущностных свойствах, признаках и характеристиках исследуемого объекта, о закономерностях его генезиса, функционирования и развития. Научное (теоретическое) познание тем самым представляет собой творческий процесс глубинного постижения изучаемого объекта в мышлении, в созидании его мысленного образа (модели) в виде определенной системы понятий о сущностных свойствах данного объекта.
Эти искомые сущностные свойства объекта (в их понятийном выражении) и являются предметом соответствующей науки.
В весьма упрощенном виде можно сказать, что объект науки — это то, что мы о нем знаем до его научного изучения, а предмет — это изученный объект, то, что мы знаем о нем после научного познания. Речь, по существу, идет о различении познаваемого объекта и идеи (теоретического смысла, мыслительного образа, логической модели и т. д.) познанного объекта.
Приведенные положения об объекте и предмете науки в целом относятся и к юридической науке. Поэтому в общем виде можно сказать, что объектами юридической науки являются право и государство, а ее предметом — основные сущностные свойства права и государства. Иначе говоря, предметом юридической науки являются понятие права и понятие государства, поскольку сущностные свойства объекта в соответствии с требованиями научного (теоретического) познания можно адекватно выразить лишь в такой высшей познавательной форме, как понятие. Это означает, что надлежащее (логически последовательное, согласованное и непротиворечивое, системно полное) раскрытие теоретического содержания понятия права и понятия государства, а вместе с тем и адекватное научное их обоснование представлены в юридической науке в целом и составляют ее предмет.
Однако подобная предварительная характеристика предмета юридической науки нуждается в дальнейшем уточнении.
Необходимость такого уточнения обусловлена прежде всего тем, что хотя юридическая наука и изучает два объекта (право и государство), однако она, как и всякая наука, имеет и вообще может иметь лишь один предмет. Это означает, что два фактически разных объекта (право и государство) исследуются и познаются в рамках и с позиций юридической науки в качестве двух необходимых компонентов (составных моментов) одного единого предмета данной науки.
Такое единство предмета науки при двух разных объектах, по логике теоретического познания и законам построения научной системы знаний (в нашем случае — научной системы юридического знания), предполагает определенный момент совпадения и единства сущностных свойств этих разных объектов, т. е. логическую необходимость одного общего понятия об этих двух объектах. Речь, следовательно, идет о принципиальном единстве и предметной совместимости понятия права и понятия государства в качестве необходимых взаимодополняющих компонентов (составных моментов) одного единого общего понятия права и государства.
Подобное общее понятие права и государства логически выступает как исходное, предметообразующее (и одновременно — методообразующее) понятие юридической науки в целом и отдельных юридических дисциплин. Такое общее понятие в абстрактно-теоретической форме выражает все юридическое знание, его границы, сферу и специфику, предметный критерий отличия юридического от неюридического. Данное общее понятие выступает как то исходное всеобщее юридико-понятийное начало (принцип и критерий юридичности), которое подлежит соответствующей конкретизации применительно ко всем сферам и направлениям юридического познания и которое, следовательно, должно учитываться и присутствовать во всех более частных и детальных определениях и характеристиках права и государства, во всей системе понятий юридической науки в целом и отдельных юридических наук.
Предметное единство юридической науки (и вместе с тем — системная целостность всех юридических дисциплин как составных частей единой юридической науки) возможно лишь при смысловом единстве и, следовательно, непротиворечивости всех юридических понятий, а это достижимо только при наличии исходного общего юридического понятия и соответствия ему всех более конкретных юридических понятий. Совокупность юридических понятий только тогда образует целостную и непротиворечивую систему, когда они выражают одно и то же юридико-смысловое начало, представленное в абстрактном виде в исходном всеобщем юридическом понятии и конкретизируемое в системе понятий всей юридической науки в целом.
Признание юридической науки как единой науки о праве и государстве предполагает снятие и преодоление дуализма ее объектов (права и государства) на уровне ее предмета, т. е. на теоретико-понятийном уровне — в форме одного понятия об этих двух объектах, выражающего их основные сущностные свойства.
Дуализм понятий (понятия права и понятия государства) здесь означал бы дуализм научных предметов, т. е. отрицание единой юридической науки о праве и государстве и признание под внешне и словесно единым названием по существу двух разных наук с двумя разными предметами: науки о праве, предмет которой — понятие права, и науки о государстве, предмет которой — понятие государства. Каждая из этих двух разных наук имела бы и свою собственную систему научных Дисциплин: в рамках науки о праве были бы свои теория права, история права, отраслевые и специальные правовые дисциплины, а в науке о государстве соответственно свои теория государства, история государства, отраслевые и специальные Дисциплины по проблематике государства.
Для снятия и преодоления названного дуализма понятий и достижения искомого единства предмета науки, абстрактно говоря, необходимо исходить или из понятия права, или из Понятия государства. Одно из этих понятий, следовательно, Должно быть логически первичным, базовым, определяющим, предметообразующим, а второе понятие — вторичным, обусловленным первым понятием.
Предметом единой науки о праве и государстве, таким образом, может быть или понятие права, включающее в себя правовое понятие государства (т. е. правовое учение о государстве, юридическую теорию государства), или понятие государства, включающее в себя понятие права (т. е. государственное учение о праве, государственную теорию права). Третьего пути к понятийно-предметному единству одной теоретически последовательной науки о двух разных объектах (праве и государстве) нет и логически не может быть. Без логической первичности одного из этих двух понятий мы будем иметь дело не с единой наукой (единой теорией), а с эклектическим, внутренне противоречивым конгломератом характеристик и определений разных понятий и предметов.
Юридическая наука возникла, развивалась и развивается как юриспруденция, предмет которой — понятие права и соответствующее правовое понятие государства.
История и теория юриспруденции как единой юридической науки о праве и государстве свидетельствуют о том, что в рамках данной науки дуализм понятия права и понятия государства преодолевается и необходимое понятийно-предметное единство достигается именно на основе и с позиций определенного понятия права, включающего в себя и соответствующее правовое понятие государства, т. е. сущностные (с позиций этого понятия права) правовые свойства государства.
При этом двум основным типам правопонимания (юридическому и легистскому) соответствуют и две типологически различные концепции юриспруденции.
Юриспруденция, исходящая из различения права и закона (позитивного права) и опирающаяся на юридическое (антилегистское, антипозитивистское) правопонимание и юридическое понятие права (включающее в себя и соответствующее юридическое понятие государства), относится к юридическому типу учения о праве и государстве.
В свою очередь, юриспруденция, отождествляющая право и закон (позитивное право) и опирающаяся на легистское (позитивистское, этатистское) правопонимание и легистское понятие права (включающее в себя и соответствующее легистское понятие государства), относится к легистскому (позитивистскому) типу учения о праве и государстве.
В рамках юридического типа правопонимания и юриспруденции мы исходим из либертарно-юридического понятия права (и соответственно государства) и трактуем право как формальное равенство свободных индивидов, т. е. как всеобщую и необходимую форму свободы людей. Этим общим понятием права в единый предмет юридико-либертарной концепции юриспруденции охватываются оба ее объекта — и позитивное право как нормативная форма свободы (в условиях правового закона), и государство как институциональная (организационновластная) форма этой же свободы[1].
Таким образом, согласно нашей либертарно-юридической «концепции юриспруденция — это наука о свободе.
Иначе проблема единства предмета юриспруденции решается легистами (позитивистами). Показательна также и в этом плане позиция Г. Кельзена как автора наиболее последовательной концепции легизма — неопозитивистского “чистого учения о праве” С одной стороны, для Кельзена, как и для всех легистов (позитивистов и неопозитивистов), право — это приказ власти (с любым произвольным содержанием), принудительное установление и продукт государства — словом, “принудительный порядок”[2]. С другой стороны, он с помощью формальнонормологического метода интерпретирует право (т. е. позитивное право, установленное государством) как систему норм долженствования, восходящих к гипотетической “основной норме” (а не к государству!), и с этих позиций трактует любое (в том числе — деспотическое, тоталитарное и т. д.) государство как “правопорядок”, как “правовое государство”[3]. При этом под “правовым государством” Кельзен имеет в виду позитивно-правовое (легистское) государство и потому отвергает “правовое государство” в общезначимом смысле, которое, по его оценке, исходит из ложных естественноправовых представлений.
Такая правовая (позитивно-правовая) трактовка государства, по мысли Кельзена, позволяет преодолеть “традиционный дуализм государства и права” и добиться единства предмета юриспруденции (в ее неопозитивистской версии): “Предмет познания — это только право”[4]. Под правом при этом имеется в виду именно позитивное право, т. е. любое произвольное и принудительное установление самого государства.
Сопоставляя нашу юридическую концепцию юриспруденции и келъзеновскую легистскую концепцию юриспруденции как два радикально противоположных (и оба по-своему последовательных и “чистых”) типа учения о праве и государстве, можно сказать, что в обоих случаях, хотя и принципиально разными путями и на различных основаниях, достигнуто понятийно-правовое единство соответствующей концепции юриспруденции: единое понятие права (соответственно либертарно-юридическое у нас, нормативистско-легистское у Кельзена) охватывает оба объекта научного познания (право и государство) и является общим и единым для них понятием. Принципиальная разница в том, что в нашем подходе речь идет о чисто юридической концепции права, государства и юриспруденции (о формально-юридической, а не естественноправовой концепции, которую критиковал Кельзен), а в кельзеновском подходе речь идет о чисто легистской (т. е. произвольно-принудительной) концепции права, государства и юриспруденции.
Эти две концепции права, государства и юриспруденции являются скорее идеальными типами (двумя принципиально противоположными полюсами и парадигмами), нежели реальной действительностью всей юриспруденции в то или иное время в той или иной стране. Реальному развитию правовой мысли и юриспруденции в целом, напротив, присущи плюрализм и борьба различных мнений, позиций и подходов, расположенных между этими двумя крайними полюсами правопонимания, а нередко и эклектическое смешение и причудливое сочетание типологически различных идей и положений.
Все это, разумеется, не обесценивает теоретическое значение типологии (и типологической чистоты) правопонимания и юриспруденции как науки.
Ведь в конечном счете именно соответствующий тип правопонимания (и понятия права) определяет теоретический смысл и содержание как предметного единства, так и метода юриспруденции (в той или иной ее версии) в качестве единой и единственной науки о праве и государстве.
Поскольку в научно-теоретическом контексте юридического познания и юридического знания о праве и государстве понятие права как исходное и предметообразующее начало предопределяет (включает в себя, подразумевает и выражает) также и соответствующее данному понятию правовое понятие государства, то с учетом этого можно сказать, что предметом юридической науки является понятие права. При этом следует, конечно, помнить о том, что данное понятие права в теоретико-концептуальной форме охватывает и выражает содержание совокупного юридического знания о сущностных свойствах права и государства.
Предшествующее изложение позволяет сформулировать ряд равнозначных по своему теоретическому смыслу определений предмета юридической науки. Наиболее кратким в этом ряду является следующее определение: предмет юридической науки — это понятие права. То же самое понимание предмета можно выразить несколько иначе: предмет юридической науки — это понятие права и правовое понятие государства. Идентичный смысл можно выразить и по-другому: предмет юридической науки — это понятие права, включающее в себя соответствующее правовое понятие государства и выражающее сущностные свойства права и государства.
Сказанное можно резюмировать следующим образом: предмет юридической науки — это сущностные свойства права и государства в их понятийно-правовом постижении и выражении.
Согласно либертарно-юридической концепции, право и государство — это всеобщие и необходимые формы бытия и осуществления свободы индивидов, их объединений, союзов, организаций и т. д. Это означает, что в соответствии с либертарно-юридической трактовкой предметом юриспруденции является свобода. Поэтому мы рассматриваем юриспруденцию как науку о свободе — науку о свободе в ее всеобщей и необходимой правовой (государственно-правовой) форме.
Глава 2. Понятийно-правовое единство предмета и метода юриспруденции
§ 1. Единство и взаимосвязи предмета и метода юридического познания
Либертарная трактовка предмета юридической науки выражает специфику, задачи и цели общей теории права и государства и в целом юридического познания — понимание и объяснение права и государства в адекватной юридико-теоретической форме. А это можно осуществить с помощью целостной системы юридических понятий, которая представляет собой конкретизацию (применительно к свойствам изучаемых объектов) исходного общего понятия права и которая в процессе такой конкретизации определяет структуру (структурные части) предмета единой юридической науки, т. е. систему юридических наук, место и назначение каждой юридической науки в данной системе, в структуре единого предмета.
В специфике предмета юридической науки выражена и специфика ее метода. Данное обстоятельство соответствует общенаучному требованию логического, теоретического единства предмета и метода научной системы знаний.
Единств о предмета и метода юридической науки, обобщенно говоря, состоит в следующем: специфическое понятийно-юридическое знание (т. е. юридико-теоретическое, понятийно-правовое знание о праве и государстве) — это одновременно и предмет научно-юридического познания права и государства, и метод их юридического познания (тип, форма, результат юридического метода познания данных объектов).
Метод (от греческого слова “методос”) — это путь познания. Юридический метод (метод юридической науки) — это путь юридического познания. Объектами юридического познания являются право и государство как составные части всего объективного мира (мира объектов), как определенные объекты в их многообразных взаимосвязях и взаимодействии с другими объектами (социальными и природными, материальными и духовными), которые влияют на них и испытывают их влияние.
Подобно всякому методу, юридический метод как путь юридического познания — это путь, ведущий от объекта к предмету, от первичных (чувственных, эмпирических) знаний о праве и государстве до теоретического, научно-юридического (понятийно-правового) знания об этих объектах. Эта направленность (интенциональность) юридического познания (и юридической мысли) на понятие права выражает существо и отличительную особенность юридического метода (метода юридической науки).
Юридический метод как путь познания — это бесконечный путь углубления и развития знания о праве и государстве, непрекращающееся движение от уже накопленного знания об этих объектах к его обогащению и развитию, от эмпирического уровня знаний к теоретическому уровню, от достигнутого уровня теории к более высокому уровню, от уже сложившегося понятия права к новому, теоретически более содержательному и богатому понятию. Юридический метод, как и всякий метод, только потому является путем познания, что он и есть юридическое знание (юридическая теория) в движении, в формировании, изменении, углублении и развитии.
В свою очередь, любая теория (в том числе и определенная юридическая теория) является системным и структурным выражением соответствующего юридического метода познания права и государства, результатом его познавательной и конституирующей (системообразующей) функций. Поэтому каждая юридическая теория обладает функцией метода и выполняет такую роль или непосредственно (в меру представленного в ней понятийного знания), или опосредованно (как составной момент другой концепции понятия права и юридического метода).
Метод юридической науки — это юридический метод, который представляет собой способ юридического познания, производства и организации юридического знания. Юридический метод является способом юридического познания и выражения действительности, исходящим из понятия права. Специфика юридического метода состоит в том, что это, по своему познавательному смыслу и природе, — понятийно-правовой метод, способ правового моделирования познаваемой действительности, способ познания действительности с позиций и в границах понятия права, способ понимания свойств, черт, признаков действительности в качестве именно правовых свойств, черт, признаков, т. е. в качестве правовых характеристик (правовых определений), правового выражения и измерения действительности.
Юридическому методу присущи правовой взгляд на мир, правовое видение действительности. Юридически познанная действительность (мир объектов) предстает как юридическая действительность, т. е. как система правовых свойств и связей познаваемой действительности.
С точки зрения юридической науки и юридического метода юридическая действительность — это искомая истина и выявленная сущность мира юридического познания. И если пифагорейцы с позиций математики утверждали, что сущность мира есть число, юристы с тем же основанием могут сказать, что сущность мира — это право. Каждый при этом имеет в виду тот мир, который он познает и знает: математик — мир чисел, юрист — мир права.
Аналогичным образом физики, химики, биологи ищут соответственно свою физическую, химическую или биологическую формулу для познаваемого ими физического, химического или биологического мира. Такова избирательная, предметно спрофилированная природа человеческого мышления и познания.
Формулой юридического мира является понятие права.
Эти различные формулы разных миров (различные научные образы, научные картины мира, создаваемые разными науками) выражают, по существу, нечто общее — всеобщие законы объективного мира (объекта всех наук), т. е. правила упорядоченности этого мира и порядка в нем (математически- числового, правового, физического, химического, биологического и т. д.).
В этом смысле можно было бы сказать, что искомой истиной и предметом юридической науки является право как принцип, правило и норма должного порядка действительности (или, что то же самое, — правопорядок действительности, правовая действительность).
Понятие права как юридическая формула и есть тот принцип правового порядка действительности (тот закон юридической действительности), по которому действует юридический метод и в соответствии с которым им осуществляется юридизация (юридическое логарифмирование) познаваемой объективной действительности, ее постижение и выражение в форме юридической действительности.
§ 2. Специфика и основные функции юридического метода
Процесс конкретизации нового понятия права, его выражения и оформления в виде целостной юридической теории, включая и общую теорию права и государства, осуществляется посредством юридического метода. В этом смысле юридическая теория является формой выражения юридического метода в действии, в созидании новой системы юридических знаний на основе и с позиций единого понятия права.
С помощью юридического метода предмет юридической науки (понятие права) конкретизируется и развертывается в соответствующую юридическую теорию (юридическую науку) как понятийно единую систему знаний о праве и государстве.
Формирование новой юридической теории посредством юридического метода включает в себя два познавательно взаимосвязанных, но различных момента: 1) качественное преобразование всего прежнего юридического знания на основе и с точки зрения нового понятия права, т. е. переинтерпретацию, новое толкование прежних юридических знаний и теорий с позиций и в смысловом контексте нового понятия права (в рамках новой юридической теории с ее предметом и методом); 2) продолжение в русле новой юридической теории прерванного (появлением нового понятия права) количественного роста юридического знания и соответствующих изменений в самой этой новой юридической теории с позиций и в рамках данного нового понятия права.
Таким образом, познавательные возможности юридического метода, как и любого другого метода, заданы творческим (эвристическим) потенциалом самого нового понятия права и ограничены его смысловыми рамками, границами его теоретического смысла, сферой предмета данной юридической теории. Здесь, кстати говоря, вновь отчетливо проявляется теоретико-познавательное единство предмета и метода науки.
Юридический метод — это специфический общенаучный метод юридической науки. Как специфический метод юридического познания действительности он выполняет две следующие основные функции: 1) получение юридических знаний и 2) построение теоретической (научной) системы юридических знаний.
При осуществлении первой функции юридический метод выступает как метод специфического юридического исследования действительности, в результате которого приобретается, умножается, углубляется и развивается юридическое знание. Юридический характер этого знания обусловлен тем, что соответствующие освоение, понимание и толкование действительности осуществляются с позиций, под углом зрения и в пределах понятия права, которое лежит в основе данного юридического метода и исходно определяет его юридико-познавательную профилированность и направленность (интенциональность).
Эти же отличительные особенности (исходная юридико-понятийная профилированность и направленность) присущи и юридическому методу как способу построения и обоснования юридической теории (научной системы юридических знаний).
Внутреннее единство этих двух функций юридического метода (как способа производства юридического знания и как способа его научной организации) коренится в том, что они выражают собой различные взаимосвязанные познавательносмысловые аспекты единого исходного понятия права.
Во всех своих функциях и проявлениях юридический метод — это метод понятийно-правового познания и знания, метод понятия права, т. е. понятие права в качестве метода.
§ 3. Преемственность и новизна в развитии общей теории права и государства
Процессу развития общей теории права и государства и в целом юридического познания присущи как количественные, так и качественные изменения.
Количественные изменения юридического знания (его умножение, уточнение и конкретизация, увеличение его объема и т. д.) происходят в целом с позиций и в границах того или иного понятия права, которое лежит в основе определенной концепции юриспруденции, ее метода и предмета.
Качественные изменения юридического знания связаны с переходом от прежнего понятия права к новому понятию права, с формированием новой юридической теории с соответствующим новым методом и новым предметом.
Разумеется, степень подобных качественных изменений может быть различной, но новые понятия выражают качественный скачок в процессе развития юридического познания и в прогрессе юридической мысли.
Новое понятие права означает и соответствующий новый подход к изучению, пониманию и трактовке как самих эмпирических данных объектов юридической науки (права и государства), так и уже накопленных теоретических знаний о них.
Дело в том, что нет знания с неизменным смыслом, нет некой постоянной единицы смысла знания, нет чистого знания — знания самого по себе вне его смыслообразующего контекста, нет изолированного, автономного знания до, вне и без той или иной уже познавательно предданной системы знаний с определенным типом осмысления этого знания, с определенной концепцией его понимания и его понятия.
Всякое знание (включая и знание о праве и государстве) существует в понятийно связанном, преломленном, опосредованном, квалифицированном, трансформированном и преобразованном виде, т. е. как составная часть (момент) определенного понятия и соответствующей концепции теории (ее предмета и метода).
Отсюда ясно, что знания одной теории не могут прямо и непосредственно (в своем прежнем понятийно определенном виде) войти в корпус новой теории, которая представляет собой новую понятийно определенную систему знаний (т. е. систему знаний, осмысленных и определенных с точки зрения нового понятия).
Для использования знаний одной юридической теории в рамках другой юридической теории необходимо — в процессе создания данной теории — высвободить эти знания из их прежнего понятийно-смыслового контекста (развязать смысловые связи этого знания с прежним понятием права), перевести их в новое понятийно-смысловое поле, осмыслить и определить их с позиций нового понятия в качестве его смысловых компонентов, интегрировать их в понятийную систему новой теории.
Новое понятие права, как и всякое новое понятие в других науках, — это качественный скачок в юридическом познании.
Формулирование (“открытие”, “изобретение”) нового понятия права является нестандартным продуктом оригинальных творческих усилий познающего субъекта, причем заранее невозможно предсказать, каким именно будет предстоящее новое понятие права и каким образом его “открыть”, “изобрести”
Неология (учение о новом) может сказать много интересного и поучительного о том, как делались открытия в различных областях человеческого познания, о природе и различных аспектах творчества нового, о соотношении нового и старого и т. д. При всей своей познавательной, методологической и теоретической значимости подобные положения неологии имеют в виду опыт уже известного нового (уже сделанных открытий), но не еще неизвестное будущее (предстоящее новое). В этом смысле нечто действительно новое (будущее, еще не открытое новое) остается неизвестным до тех пор, пока оно реально не появится. Неизвестными остаются как само это предстоящее новое, так и, разумеется, сам конкретный способ его открытия. Даже открыватели зачастую не знают, как это им удалось, и нередко ссылаются на счастливый случай (ванна Архимеда, яблоко Ньютона и т. д.). Так что нет и в принципе не может быть правила открытия нового, методики о том, как конкретно и какое именно новое открыть. Иначе получалось бы, будто уже заранее известно то новое, которое пока как раз и остается неизвестным.
Приведенные неологические соображения позволяют конкретизировать понимание места и роли нового понятия права в процессе формирования и развития общей теории права и государства и юридического познания в целом. С неологической точки зрения история юридической науки — это история новых понятий права и формирующихся на их основе новых юридических теорий, новых концепций общей теории права и государства.
Но в развитии юридического знания и соответствующей общей теории права и государства момент новизны тесно связан с моментом преемственности. Новое (новое понятие права, новая теория, новая концепция и т. д.) здесь, как и везде, возникает лишь на основе старого (всей совокупности прежних юридических знаний) как познавательно более глубокая, более содержательная и более адекватная форма постижения и понимания права и государства. И новое понятие права не перечеркивает прежние понятия права и соответствующие теории, а диалектически “снимает” их, т. е. преодолевает их ограниченную и устаревшую познавательную форму (преодолевает ограниченные познавательные возможности и границы прежнего понятия) и вместе с тем удерживает их теоретико-познавательный смысл и итоги. Тем самым новое понятие права сохраняет научно значимые результаты предшествующей юридической мысли и на новом, более высоком уровне юридического познания развивает их дальше с более глубоких теоретических позиций и в более широком и адекватном смысловом поле и контексте.
Глава 3. Общая теория права и государства в системе юридических наук
§ I. Общая теория права и государства в системе и структуре юриспруденции
Юридическая наука состоит из совокупности отдельных юридических дисциплин (юридических наук), каждая из которых изучает свои определенные аспекты права и государства.
Существуют различные классификации этих юридических дисциплин. Обычно в системе юридической науки принято выделять следующие группы дисциплин: 1) юридические науки теоретического и исторического профиля (теория права и государства, история политических и правовых учений, всеобщая история права и государства, отечественная история права и государства и др.); 2) отраслевые юридические науки (конституционное право, административное право, гражданское право, гражданское процессуальное право, уголовное право, уголовно-процессуальное право, трудовое право, семейное право, предпринимательское право, сельскохозяйственное право, экологическое право, международное право и др.); 3) специальные юридические науки (правовая статистика, криминалистика, криминология, судебная медицина, судебная психиатрия и др.).
Юридико-теоретическими исследованиями занимается не только теория права и государства, но также и все остальные юридические науки (исторические, отраслевые, специальные). Поэтому теория права и государства в широком научном смысле, т. е. теоретические знания о праве и государстве в полном, систематически развернутом и конкретизированном виде, представлена в юридической науке в целом. Ведь каждая наука — это определенная теория. Так, история политических и правовых учений — это, по существу, история теорий права и государства, т. е. дисциплина одновременно и историческая, и теоретическая. Существенную часть юридико- теоретических знаний, представленных в юридической науке, составляют теоретические положения о праве и государстве, накопленные и разрабатываемые в рамках исторических, отраслевых и специальных юридических дисциплин.
Юридическая наука представляет собой систему юридического знания о предмете данной науки, полученного и организованного посредством юридического метода. Основными структурными частями (элементами) юридической науки как системы юридико-теоретического знания являются отдельные юридические дисциплины (юридические науки).
Присущая юридической науке структура — это форма (порядок) строения, организации и функционирования юридико-теоретического знания в виде отдельных научных дисциплин в рамках единой юридической науки в целом.
Единство предмета и метода всех юридических наук включает в себя два момента. Во-первых, это единство предполагает, что все юридические дисциплины представляют собой различные формы конкретизации (различные аспекты преломления и выражения) понятия права. Это означает, что юридические дисциплины в познавательном плане имеют понятийно-правовой статус и характер и, следовательно, являются научными формами юридического познания, формами выражения юридико-теоретического знания. Во-вторых, рассматриваемое единство предполагает, что все юридические дисциплины являются различными формами (аспектами) конкретизации и преломления одного и того же понятия права. А это означает концептуальное единство (с точки зрения определенного понятия права) соответствующей юридической науки в целом и всех ее структурных частей — отдельных юридических наук.
Отмеченное единство предмета и метода разных юридических наук не означает, конечно, их тождества, поскольку при таком тождестве вообще нельзя было бы говорить о наличии разных юридических наук.
Каждая юридическая наука — это отдельный элемент структуры всей юридической науки, относительно самостоятельное научное формообразование в общем процессе понятийно-правового изучения и выражения объективной действительности, специфически определенная составная часть теоретико-юридического познания и знания.
Если предмет юридической науки в целом — это понятие права во всех аспектах его теоретико-познавательного проявления и выражения, то предмет каждой отдельной юридической науки как составной части (элемента) предмета юридической науки в целом — это какой-то определенный аспект данного понятия права, какой-то определенный элемент (составная часть) юридической действительности. То же самое можно выразить и по-другому: предмет каждой отдельной юридической науки — это определенный аспект основных свойств объективной действительности в их понятийно-правовом постижении и выражении.
Применительно к отдельным отраслевым юридическим наукам приведенные определения можно конкретизировать и пояснить следующим образом. Так, предметная характеристика науки конституционного права, науки гражданского права, науки уголовного права и т. д. в качестве определенных аспектов понятия права прежде всего означает, что предметом науки конституционного права является понятие (т. е. теоретическая концепция, теория) конституционного права (а не, скажем, само позитивное конституционное право, не сами по себе соответствующие нормативно-правовые акты и т. п., которые относятся к объекту данной науки), предметом науки гражданского права является понятие гражданского права (а не позитивное гражданское право — объект данной науки), предметом уголовного права является понятие уголовного права (а не позитивное уголовное право — объект этой науки) и т. д.
Причем предполагается, что понятия конституционного права, гражданского права, уголовного права и т. д. — это формы конкретизации единого (для данной концепции юриспруденции) понятия права, обусловленные особенностями исследуемой объективной действительности, т. е. объектов данных наук как явлений объективного мира в их взаимосвязи и взаимодействии с другими явлениями и т. д.
С точки зрения юридической науки (и ее предмета — понятия права) позитивное гражданское право, уголовное право и т. д. — это лишь объекты изучения, эмпирические явления в общем контексте эмпирической действительности. К этой эмпирической действительности относится и государство, включая его законодательную деятельность. Осмысление всей этой эмпирической действительности как права, как юридической действительности возможно лишь при наличии понятия права и с помощью понятия, права. Понятие же права — это продукт не эмпирических явлений, а мышления, мысли о них, т. е. юридической науки и прежде всего — теории права и государства.
По своему научному статусу и значению теория права и государства является фундаментальной юридической дисциплиной общетеоретического характера и значения. При этом общенаучный (и общетеоретический) характер теории права и государства значим не только в рамках юриспруденции и лишь применительно к самим юридическим дисциплинам (историческим, отраслевым, специальным), но также и применительно ко всем тем неюридическим наукам, которые изучают те или иные аспекты права и государства и в своем подходе к данной тематике, по логике научного познания, должны опираться на уже имеющиеся научные положения и достижения в этой сфере исследований. Речь, конечно, идет об учете и творческом восприятии — в русле междисциплинарных связей различных наук — научных знаний о праве и государстве, представленных в теории права и государства и юриспруденции в целом, а вовсе не о механическом их заимствовании и догматическом использовании. Игнорирование же другими науками общетеоретических (значимых для всех наук) достижений юридической науки, выраженных в теории права и государства, наносит существенный ущерб познавательным возможностям не только этих наук, но и всей системе научного познания в целом.
То же самое можно сказать о значении междисциплинарных связей и отношений теории права и государства, других юридических дисциплин и юридической науки в целом с неюридическими науками (и прежде всего — с общественными, гуманитарными науками).
Основная научно-познавательная задача теории права и государства — это формулирование и обоснование общего понятия права (включающего в себя и соответствующее понятие государства), разработка на этой понятийно-правовой основе предмета и метода данной концепции юриспруденции, конкретизация исходного общего понятия права в виде единой, внутренне согласованной и непротиворечивой системы более частных (т. е. более детализированных и более конкретных) понятий юридической науки как целостной системы различных юридических наук (отдельных юридических дисциплин).
В целом сказанное можно резюмировать следующим образом: предмет теории права и государства — это формулирование, разработка и конкретизация единого общего понятия права и государства в качестве предмета и метода юриспруденции как системы юридических наук.
Юридическое познание (как и всякое научное познание) объективного мира — это и его изучение с помощью понятия права (понятийно-правовое осмысление), и его теоретическое конструирование, моделирование как системы юридических понятий, как юридической действительности, как правового мира. В процессе научного познания юридический метод постигает и выражает объект науки как ее предмет, т. е. юридический метод преобразовывает эмпирический объект в теоретический предмет.
Само понятийно-правовое постижение и определение соответствующего круга эмпирических явлений (объектов) в качестве, например, действующего (позитивного) конституционного права или гражданского права, или уголовного права и т. д. является результатом познавательных, системообразующих и структурообразующих функций юридического метода, с помощью которого осуществляются конкретизация и преломление общего понятия права применительно к познанию особенностей данных объектов. Этим и обусловлены особенности юридического метода в сфере отдельных юридических наук.
Юридический метод познавательно овладевает объективной действительностью (миром объектов) и в процессе конкретизации единого понятия права с учетом особенностей объектов (т. е. в процессе объектной конкретизации предмета юридической науки) формирует систему конкретизированных юридических понятий, определений, связей, взаимодействий и отношений — словом, систему юридического знания, мир права, юридическую действительность.
Каждая юридическая наука (с особенностями ее предмета и метода), будучи компонентом в общей системе юридической науки, сама представляет определенную систему юридико-теоретического познания и знания. В свою очередь юридическая наука как определенная система может рассматриваться как компонент более широкого системного образования — системы наук.
§ 2. Общая теория права и государства и развитие междисциплинарных связей юриспруденции
Юридическая наука находится в многообразных связях и отношениях с другими науками, осмысление и развитие которых относится к числу важнейших задач общей теории права и государства.
Особый интерес для юриспруденции представляет то обстоятельство, что изучением права и государства (в той или иной форме и степени) занимаются и многие другие (неюридические) науки. Последние изучают эти объекты, т. е. право и государство, под своим особым углом зрения, со специфических позиций своего предмета и метода.
Так, философия изучает право и государство в контексте исследования всеобщих закономерностей физического, социального и духовного мира, бытия и мышления и т. д. Философское познание права и государства направлено на уяснение их смыслового содержания с позиций данной концепции философии и философского разума. Это находит свое концентрированное выражение в соответствующих идеях права и государства, в формулировании их мыслительных конструкций и моделей.
Историческая наука (общая история) изучает право и государство в их реально-историческом своеобразии, в их конкретно-исторических проявлениях и значениях. С этих позиций право и государство представляют исследовательский интерес прежде всего как особые исторические явления, как исторические факты, как объективный эмпирический материал и содержательная характеристика социальной истории данного народа на определенном этапе его жизни, как существенные показатели и критерии достигнутой в соответствующем обществе ступени исторического прогресса, уровня общецивилизационного развития человеческой культуры и т. д.
Социология как учение об обществе рассматривает право и государство в качестве составных частей изучаемого социального целого, в качестве определенных социальных явлений в общей системе других социальных явлений, которые в совокупности образуют “материю” общественной жизни, являются факторами ее упорядочения, функционирования, изменения и развития.
Политология как наука о политике и политических влас- теотношениях в целом, в свою очередь, изучает право и государство в качестве политических факторов в системе других политических факторов (политических явлений, отношений, институтов, норм, субъектов политической жизни и т. д.).
С позиций экономической науки право и государство исследуются главным образом в качестве своеобразных экономических факторов, которые вместе с другими экономическими факторами оказывают свое воздействие на экономические отношения, их возникновение, изменение и развитие, на упорядочение, функционирование и защиту определенных форм собственности, производства, товарно-денежных связей, хозяйствования.
В целом специфика предмета и метода юридической науки обусловлена их понятийно-правовым единством, т. е. их общим познавательным смыслом, определяемым соответствующим понятием права, которое является исходным для данной концепции юридической теории и юридической науки в целом.
Юридический метод — в его соотношении со всеми другими методами (общефилософскими, частнонаучными и т. д.) — обладает той же спецификой, самостоятельностью и автономией, как предмет юридической науки в его соотношении с предметами всех других наук и философии. Это, конечно, не означает ни отрицания единства науки как теоретического познания действительности, ни игнорирования междисциплинарных связей разных наук как различных форм такого (типологически единого) теоретического познания действительности. Напротив, специфика отдельных самостоятельных наук предполагает их общенаучное единство в качестве основы их междисциплинарных научных связей. Именно в силу такого единства наук и междисциплинарных связей между ними возможны как общая и целостная научная картина мира (теоретически исследуемой действительности), так и использование в одной науке знаний, полученных в других науках и во всей системе наук в целом.
Но юридическая наука (как и всякая иная наука) может использовать знания других наук не прямо и непосредственно, а косвенно и в опосредованном виде, лишь преломляя их под специфическим понятийно-правовым углом зрения своего предмета и метода, только преобразуя их в составные моменты юридического знания и юридического способа познания.
Освоение методов и результатов других наук было и остается важным направлением и существенным источником развития общей теории права и государства и юридической науки в целом. Можно выделить две основные формы такого юридическо-теоретического освоения значимых для юриспруденции достижений других наук: 1) юридизацию методов (и в целом познавательных средств и приемов) других наук и 2) формирование новых юридических дисциплин (философии права, социологии права и т. д.) на стыке юриспруденции и смежных наук.
Юридизация при этом означает юридико-понятийную трансформацию неюридических методов и дисциплин, их преобразование с определяющих позиций понятия права и их включение в новый познавательно-смысловой контекст предмета и метода юридической науки.
Предметная целостность юридической науки, понятийноправовое единство ее предмета и метода, внутренняя последовательность и непротиворечивость общеюридической теории предполагают, что в юридической науке методы других наук могут и должны использоваться лишь как способы и приемы именно юридического познания, т. е. как познавательные средства и компоненты самого юридического метода. Подобная юридизация методов других наук является необходимым требованием и условием методологической и предметной однородности и чистоты юридической науки.
В юридической науке успешно применяются такие философские и общенаучные методы, как диалектика, метод и приемы логики, системного и структурно-функционального анализа, моделирования, экспериментирования и т. д. Эффективность использования в юриспруденции этих и других методов, способов, приемов и средств исследования зависит от надлежащей конкретизации (юридизации) их теоретико-познавательного потенциала и возможностей под специфическим углом зрения целей и задач юридического познания, смысла и требований юридического метода.
Так, в юриспруденции диалектический метод, принципы, приемы и средства диалектического исследования (диалектика единства и борьбы противоположностей как источник саморазвития действительности, восхождение от абстрактного к конкретному, единство мышления и бытия, логического и исторического, приемы диалектического анализа и синтеза и т. д.) применяются в их юридически преломленном и конкретизированном виде, в качестве приемов и средств юридического познания, способов постижения и выражения юридической диалектики, т. е. специфической диалектики специфического юридического предмета.
Так же обстоит дело и с другими методами, используемыми в юриспруденции. Например, принципы, приемы и положения системного анализа, имеющие в виду систему вообще и относящиеся ко всем системам, должны быть конкретизированы (в общем смысловом контексте юридического метода) применительно к специфике юридического исследования юридических систем (права как особой системы и т. д.), к системным аспектам юридического предмета и метода.
Методы моделирования и эксперимента становятся надлежащим средством получения и умножения юридического знания в качестве приемов юридического моделирования или юридического эксперимента.
Весьма важным направлением развития юридического познания является формирование таких юридических дисциплин, как философия права, социология права, юридическая политология, правовая кибернетика, юридическая антропология, юридическая логика, правовая статистика, правовая информатика и некоторые другие дисциплины. Эти юридические дисциплины формируются на стыке юриспруденции с другими смежными науками. Их появление свидетельствует о том, что прежние междисциплинарные связи юриспруденции со смежными науками (освоение и использование их методов и приемов исследования, некоторых теоретических положений и т. д.) уже не удовлетворяют теоретико-познавательные потребности юридической науки, и она нуждается в систематической разработке соответствующего круга проблем в рамках новой самостоятельной юридической науки.
Важно иметь в виду, что наличие таких юридических (по своему предмету и методу) дисциплин, как философия права, социология права, юридическая антропология, правовая кибернетика и т. д., вовсе не исключает формирования таких же по своему наименованию дисциплин, которые, однако, по своему предмету и методу относились бы к смежным наукам. Так, наряду с философией права как юридической дисциплиной успешно развивалась (например, Гегелем) и отчасти продолжает развиваться (с позиций неокантианства, феноменологии и т. д.) и в XX в. философия права как философская дисциплина, как особенная философская наука (наряду с другими особенными философскими науками — философией природы, философией истории, философией религии и т. д.). Точно так же возможны (и желательны) и социология права в виде социологической дисциплины, юридическая антропология — как антропологическая дисциплина, правовая кибернетика — в рамках кибернетики и т. д.
В рамках юриспруденции философия права, социология права, юридическая политология, психология права, правовая кибернетика, юридическая антропология, юридическая логика, правовая информатика, правовая статистика и т. д. являются юридическими дисциплинами общенаучного, а не отраслевого характера, профиля и статуса. Это обусловлено теми общенаучными теоретико-познавательными функциями, которые осуществляются ими в системе юридических наук и юридического познания.
Применительно к современной отечественной юриспруденции речь идет в лучшем случае лишь о процессе становления некоторых из них (например, философии права, социологии права, правовой кибернетики, правовой статистики, юридической политологии) в качестве отдельных дисциплин. Научные же разработки в области юридической антропологии, психологии права, правовой логики, правовой информатики, правовой кибернетики находятся пока что на стадии утверждения самостоятельного научного направления юридических исследований.
Проблематика этих формирующихся отдельных дисциплин и самостоятельных научных направлений ранее по преимуществу исследовалась (в той или иной мере) в рамках общей теории права и государства. И, отпочковываясь от последней, они продолжают осуществлять в рамках юриспруденции не только свои узкодисциплинарные, но и общенаучные функции.
Сам процесс формирования новых юридических дисциплин и научных направлений является естественным и плодотворным направлением модернизации юриспруденции, существенным показателем ее соответствия современному уровню общенаучных достижений и ее способности к дальнейшему развитию.
Нашей юридической науке предстоит многое сделать в данном направлении. Необходимо при этом, конечно, учитывать как особенности и специфические научные задачи нашей юриспруденции на современном, постсоветском, этапе ее развития, так и опыт и тенденции развития юридической науки в зарубежных странах. Заслуживает внимания, в частности, следующее суждение ряда известных австрийских теоретиков права по затронутой проблеме: “Современная юридическая наука базируется на целом ряде таких дисциплин, как логика, семантика, теория коммуникации, аксиология, теория решений, кибернетика, социология, политология и т. д. При этом речь идет не только о применении результатов этих дисциплин, но, более того, о том, чтобы развить особенные основополагающие дисциплины для целей юридической науки. Так, например, нельзя просто привлекать имеющуюся логику дескриптивного языка, но сперва должна быть создана особая дисциплина, логика прескриптивного языка”[5].
Развитие междисциплинарных связей юриспруденции с другими науками на современном уровне науки — это, таким образом, не простое заимствование у смежных наук готовых знаний и их непосредственное использование в юридических исследованиях, а творческий процесс совершенствования и углубления специфического юридического познания с учетом познавательного опыта и достижений других наук. Только такой путь может привести к приращению юридических знаний, к действительному углублению и развитию общей теории права и государства, юриспруденции и юридической мысли в целом.
Раздел II. Происхождение и ранние формы права и государства
Глава I. Условия и предпосылки генезиса права
§ 1. Соционормативная культура первобытности
Доминирующей чертой первобытного бытия и сознания считается коллективизм, точнее, специфический природный коллективизм, в рамках которого еще нет места индивидуальному обособлению с соответствующими ему интеллектуальными формами, психологическими переживаниями. Сознание первобытной группы утверждает групповые ценности, скрепляет целостный уклад жизни. Коллектив является естественной сферой, где формируется и развертывается человеческое сознание, медленно и стихийно складываются представления о мире, которые с помощью традиционных форм социализации доводятся до каждого члена группы.
Коллективизм выступает в качестве универсального принципа жизни и мировоззрения, основы познавательного и деятельного отношения человека к миру. Всемогущий коллективизм в первобытном обществе проявляется безгранично, распространяясь на общество и природу, естественное и сверхъестественное, людей и богов, живых и мертвых. “Человеку, жившему в условиях первобытного строя, — писал А. Ф. Лосев, — были понятными и наиболее близкими только общинно-родовые отношения. На основании этой понятной ему действительности он и рассуждал о природе, обществе и обо всем мире... Вот почему небо, воздух, земля, море, подземный мир — вся природа представлялась ему не чем иным, как одной огромной родовой общиной, населенной существами человеческого типа, находящимися в тех или иных родственных отношениях и воспроизводящими собой первобытный коллективизм первой в истории общественно-экономической формации”[6]. Такова была естественная реакция человека на не познанный им мир, ценность и необходимость которой выражались в том, что люди, толком ничего не зная о мире, ощущали свою глубокую внутреннюю связь с ним, то есть они нашли наиболее удобный и подходящий для тех условий способ включения в универсум.
Едва ли современный тип рационально-логического мышления смог бы обеспечить подобное включение, он для этого слишком критичен, осторожен, слишком недоверчив к знаниям, полученным неэмпирическим путем. Очевидно, в первобытном обществе господствовал стиль мышления, включавший в себя возможность неосознаваемого человеком превращения абстрактного понятия, идеи в фантазию, миф. Нет пока твердо установившегося в литературе определения для древнего мышления. Этнограф Ю. И. Семенов предлагает обозначить его как магический. М. С. Каган, отталкивающийся от проблем первобытного искусства, считает возможным назвать древнейшую форму сознания художественно-образной[7]. Какое бы, однако, название ни закрепилось, очевидно во всяком случае, что она была необходимой и целесообразной для своего времени. Она не давала человеку горделивого чувства хозяина мира, не поддерживала каких-либо человеческих претензий господствовать над природой, жизненными условиями, но зато она была гарантией того, что человек, включенный в первобытный коллектив, а через него в целостный миропорядок, как он тогда представлялся людям, не окажется существом, отчужденным от своей среды, а следовательно, мизерным, потерянным, ничтожным. Феномен отчуждения человека развивается значительно позднее под воздействием социальных причин и, как это ни парадоксально, при наличии гораздо больших знаний человека о мире, чем те, которыми располагало древнее общество.
В первобытном мышлении иррациональная, образная фантазия никогда, по-видимому, полностью не вытесняла элементы строго логического познания. Сознание древнего человека, следовательно, не было всецело алогичным и антилогичным, как утверждал, например, Л. Леви-Брюль. Согласно его теории, первобытный человек приписывает объекту ряд мистических свойств и считается с ними куда больше, чем с реальными, физическими качествами предмета. Последние в его глазах вообще не имеют какой-либо цены, утверждал Л. Леви-Брюль, и здесь едва ли можно с ним согласиться, так же как и с более общим его тезисом, в соответствии с которым первобытное сознание было совершенно непроницаемым для опыта, безразличным к нему[8]. Данные, собранные современной наукой о первобытном обществе, содержат веские доказательства того, что наши предки с самого начала зорко присматриваются к окружающему миру, к физическим, вещественным качествам объектов, стараются приспособить их к процессу своей трудовой практики. Мыслительная и духовная деятельность являются здесь непосредственными порождениями материального действия человека. Труд представлял собой совершенно неизбежную и естественную эмпирическую сторону жизнедеятельности древних людей. Накопление элементов социального, производительного и иного опыта в дальнейшем привело к переходу от первоначальных форм мышления к новым, более высоким уровням его развития. Принято считать, что люди поэтапно шли от мифа к логосу, получив в качестве награды за выстраданный путь проб и ошибок совершенное рациональное познание, науку. Известный антрополог-структуралист К. Леви-Строс решительно опровергает эту схему, ставит под сомнение само существование каких-либо донаучных форм человеческого мышления. Знание древнего человека, если внимательно к нему присмотреться, уже несет на себе следы ментальной, логической обработки (с применением аналогии и обобщения, элементов анализа и синтеза); магия, утверждает К. Леви-Строс, — это робкая и невнятная форма науки, мифологическое мышление, хотя оно и привязано к образам, уже может быть обобщающим и, следовательно, научным[9]. Эти линии познания — мифологическая и научная — прошли через все этапы существования человечества, поэтому “вместо того, чтобы противопоставлять магию и науку, стоило бы расположить их параллельно, как два способа познания, не равных по теоретическим и практическим результатам (ибо при таком подходе верно, что наука достигает больших успехов, чем магия, хотя магия предуготавливает науку в том смысле, что и она иной раз преуспевает), но не по роду ментальных операций, которыми обе они располагают...”[10].
Мы видим, таким образом, что основной смысл и оправдание функциональной роли первобытного мышления в обществе, так же как и суть его исторического своеобразия, сводятся к фундаментальному факту, согласно которому образно-фантастический характер познавательного отношения человека к его среде приводит к созданию единственно возможной в тех условиях основы для единения субъекта и объекта, для соучастия человека в движении миров и стихий. “Здесь господствует принцип “все есть все” или “все во всем”[11]. Это естественно для так называемого стихийного коллективизма, т. е. первобытной нерасчлененности индивидуума и общества или индивидуума и природы, перенесенной на всю природу. Отдельный индивидуум мыслит себя носителем каких угодно сил, т. е. мыслит себя и все прочее магически. Современному человеку трудно понять эту универсальную нерасчлененность всех форм и сфер первобытной жизни, их слитность, растворение, растворение всего во всем: природного в общественном, общественного в природном, материального в духовном, духовного в материальном и т. д. Первобытный человек не отличал идеальное от материального, представлял всякое идеальное как материальное. Перед нами громадное и многозначительное явление — синкретизм (нерасчлененность, слитность и т. п.) первобытно-общинного жизненного уклада, прослеживаемый во всех аспектах и измерениях данного общества. Конечно, идея синкретизма применительно к древности сама по себе малоинформативна, она означает амальгаму явлений, которые в своем досинкретическом состоянии не определились, поэтому на вопрос, что с чем сливается, мы можем ответить исходя лишь из современных понятий и представлений. Если мы все же принимаем реальность первобытного синкретизма, то не столь загадочными и мистическими выглядят факты, что древний человек не всегда способен отделить естественное от сверхъестественного, считает их в одинаковой мере реальными, с легкостью переходит из одной сферы в другую, находит вполне обыденным делом общение с богами, духами, умершими предками, одухотворенными предметами, животными и т. д. Отсюда вытекает важнейший принцип соционормативной культуры первобытного общества: нормы и ценности поведения являются одинаковыми как для людей, так и для сверхъестественных сил, для животных и т. д.
Очень трудно определить этап в доисторическом развитии человечества, к которому можно было бы отнести возникновение первичных элементов социальной регуляции. Они не изобретены, не придуманы людьми, достигшими известного культурного уровня, но появлялись из постепенно усложнявшихся форм жизни, прогрессировали вместе с их совершенствованием. Не исключено, что корни древней соционормативной культуры уходят глубоко в до- и предчеловеческие состояния, которые предшествовали нынешнему homo sapiens. Этология — сравнительная наука, изучающая поведение человека и животных, — располагает богатейшими материалами, из которых следует, что биологические виды, живущие в стадах, колониях, сообществах, наследственно приобретают или вырабатывают навыки и определенные правила в обращении среди особей данного вида. Нет оснований думать, что древняя стадная обезьяна, из которой, согласно дарвиновскому учению, развился человек, была в этом отношении исключением. Как справедливо отмечал Ф. Энгельс, “нельзя выводить происхождение человека, этого наиболее общественного из всех животных, от необщественных ближайших предков”[12]. Успех эволюции человека стал возможным благодаря более высокой, чем у других видов, способности предгоминидов обеспечивать стадное существование через ритуализацию и регламентирование жизненных проявлений в области совместного труда по добыванию пищи, половых связей, отношений между старшими и младшими. В ритуалах, мифах и обычаях, в традициях, относящихся к соционормативной сфере, соединилось все: инстинктивное и .сознательное, природное и социальное, реальное и магическое. Огромное значение для антропогенеза и социогенеза имело то, что доминанты биологического и социального развития человека как вида совпали в основном и надолго. Современное положение человека в культурной и соционормативной среде — результат не столько вытеснения или подавления биологического начала социальным, как многие сегодня полагают, но скорее всего удачно (в общем и целом) сложившегося типа взаимосвязи этих начал, образовавших хотя и противоречивое, но устойчивое единство.
В древности проявлением соционормативного синкретизма выступает, в частности, слияние представления о предмете с нормой поведения по отношению к нему. Видимо, иначе не может быть там, где люди руководствуются не абстрактно-познавательным интересом к миру, но озабочены единственной целью включиться в него, где оценка и субъективное отношение к предмету познания часто уходят из-под рационально-логического контроля и активно действуют, не будучи в строгом смысле верифицированными. Исследования первобытного искусства и древней мифологии дали возможность широко и убедительно обосновать вывод о нераздельности представления о предмете и образа как выражения художественной связи субъекта с познаваемым объектом, об образной структуре первобытного мышления. Эту ситуацию можно дополнить еще одним моментом: синкретическо-мыслительная конструкция “представление—образ” в большинстве случаев имеет нормативную функцию, является по своему значению для человеческой деятельности социальной нормой. “В традиционном образе мышления дихотомии не существовало, ибо восприятие мира носило целостный характер. Оно касалось не только того, что было, но и того, что должно быть и почему оно должно быть таким, а не иным. Оно содержало объяснение мира, но в то же время силу закона”[13]. В со знании древнего человека все существующее имеет право на существование именно потому, что оно давно существует. Реальное бытие предмета “узаконивает” его в качестве будущего возможного бытия. Должное определяется сущим, а норма — фактом. Этот общий признак архаической культуры был установлен, в частности, и на материалах древних славян: “Как и наука, сознание человека архаической культуры стремится иметь целостную картину мира, сведение к которой отдельных явлений понимается как объяснение этих явлений. Как и мораль, эта картина мира имеет не только объясняющий, но и нормативный характер, ибо из наличного положения вещей для человека архаической культуры следует также и то, что должно быть”[14]. Можно говорить о нормативной структуре первобытного сознания столь же обоснованно, как и о его образномифологической структуре. Впрочем, такое дополнение ничего неожиданного в себе не заключает. Достаточно очевидно, что в первобытном обществе представления об окружающем мире носят характер образов, слитых воедино с переживаниями и волевыми импульсами.
Представление древнего человека в отличие от нашего не является чисто интеллектуальным фактом. Деятельность сознания мало дифференцирована, в нем еще невозможно отделить идею или мысленный образ объекта от чувств, эмоций, страстей и даже двигательно-моторных эффектов, вызываемых восприятием предмета. Первобытный человек не просто видит объект или мысленно представляет его, но вместе с тем верит, радуется или боится его, борется с ним, убегает от него или экстатически пляшет перед ним, то есть переживает объект как нечто требующее от него определенного поведения, как императивный факт. Представления первобытного коллектива — это по преимуществу нормативные представления, почти все они (если не все!) суть нормы поведения человека. Не случайно мы находим, что индивидуум окружен здесь таким плотным сплошным слоем социальных норм, какого уже не встретишь на последующих исторических этапах развития человечества. Многих исследователей родо-племенной организации поражала эта бросающаяся в глаза избыточность нормативного регулирования. “Гипертрофия нормы скорее, чем беззаконие, является характерной чертой примитивной жизни”, — утверждал Б. Малиновский[15]. Б. Спенсер и Ф. Гиллен, известные исследователи первобытного образа жизни австралийцев, писали: “Как и все древние племена, австралийцы по рукам и ногам связаны обычаем. Что делали их праотцы, то и они должны делать. Если во время церемонии их предки рисовали белую линию вокруг лба, то и они должны изображать эту линию. Всякое нарушение обычая в рамках известных границ встречало безусловное и часто суровое наказание”[16]. Русский путешественник и географ В. К. Арсеньев, изучавший быт и обычаи удэгейцев, удивлялся тому, как много у них было запретительных правил: “Множество примет и предрассудков. Мясо медведя и соболя нельзя жарить. Нельзя носить унты из бычьей кожи. Белку можно жарить только вверх головою, а рыбу — только вниз головою. Раны и язвы нельзя показывать женщинам и так далее”[17]. Жизнь каждого человека задолго до его рождения предопределена и расписана в массе традиций и норм, вплоть до самых мельчайших и интимнейших ее проявлений, в памяти хранятся тысячи всякого рода указаний обычая на все случаи жизни, в том числе и такие, которые, по общепринятым современным взглядам, нецелесообразно регламентировать заранее.
Конечно, все это в значительной мере усложняло жизнь древних людей. Е. А. Крейнович, который в 1926—1928 гг. работал на Сахалине и Амуре среди нивхов, делает интересное признание: “До изучения жизни нивхов я предполагал, что, чем ниже уровень хозяйственного и общественного развития народа, тем проще его жизнь. Однако теперь я убедился в том, что и хозяйственная, и общественная, и духовная жизнь нивхов чрезвычайно сложна. Огромная доля усложнения этой жизни обусловлена их анимистическими представлениями, от которых они не в состоянии пока еще избавиться. Эти представления опутывают всю жизнь каждого нивха и каждой нивхинки от рождения до самой смерти”[18]. Все это, естественно, сковывало индивидуальное развитие человека, не могло способствовать быстро и свободно найденным решениям, находчивости и импровизациям. Когда современный охотник встречает в лесу зверя, он стреляет в него с любой выгодной позиции; будет ли он его преследовать и как долго — это зависит от обстоятельств. У древних охотников дело обстоит намного сложнее. Они вообще не выйдут на охоту, если не исполнят весь цикл очистительных обрядов, ритуальных жертвоприношений, священных плясок и т. п. В процессе самой охоты они ведут себя так, как требуют их традиционные “законы охоты” Если животное смотрит в глаза охотнику, тот не должен его убивать. Если во время охоты разразилась гроза, это значит, что добычу следует оставить в лесу в жертву духам и т. д. Когда дело доходит до раздела добычи, то здесь опять-таки вступают в силу бесчисленные нормы и правила. Если охотник австралийского племени нар- ранга в совместной охоте убивал кенгуру, то человеку, находившемуся от него справа, он отдавал голову, хвост, нижнюю часть задней ноги, немного сала и часть печени, второму справа — нижнюю часть спины, левое плечо; человеку, находившемуся слева, — правое плечо, часть правого бока и. верхнюю часть левой ноги. Мать охотника получала ребра, сестра — бок и т. д. Если убит, например, страус, действуют иные правила, обязательная сила которых чрезвычайно велика. Нормы самого различного характера до предела заполняют жизнь первобытного коллектива, распространяются на все ее формы и проявления, не оставляя никаких пробелов или пустот.
Но возникает вопрос: является ли масса этих традиционных установлений собственно нормами, не сталкиваемся ли мы здесь с каким-то иным способом регулирования социальной деятельности, который еще не развился в норму? Мысль об отсутствии собственно нормативного начала в первобытном обществе высказал в свое время А. А. Богданов, который аргументировал ее следующим образом: высшая норма предполагает более или менее сознательную формулировку, возможность нарушения; консерватизм первобытного общества не нуждается в сознательной формулировке, потому что нет даже мысли о возможности нарушить обычай. Последний, говорит он, не есть известная всем норма или правило, но, скорее, тысячелетняя привычка, составляющая нераздельную часть человеческого существа[19]. Современные знания о первобытном обществе не позволяют считать правильным и обоснованным взгляд, который отрывает древний обычай от первобытного сознания, от его качеств и особенностей и, наконец, представляет всю процедуру следования предписаниям обычая как чисто рефлекторный, подсознательно-инстинктивный акт. Насколько можно судить по данным современной науки, поведение первобытного человека в отличие, скажем, от высших животных с самого начала контролируется его сознанием, процессами интеллектуального, рационального характера, которые постепенно отделяются, делаются самостоятельными по отношению к эмоциональной, волевой сфере.
Нормы поведения людей, устанавливаемые обычаями этого периода, конечно, не были только законами природы, хотя естественный, природный, биологический элемент в них присутствовал довольно ярко. Это были уже социальные обычаи и социальные нормы, и весь вопрос в том, каким образом можно охарактеризовать эту социальность. В свое время П. И. Стучка, возражая М. А. Рейснеру, который доказывал наличие права и правовых форм в первобытном обществе, очень неудачно определил обычаи общества как “чисто технические правила”, увидел в них простую социальную технику. Выходило, таким образом, что “технические правила” регулировали и семью в ее эндогамной и экзогамной форме, и отношения взаимной защиты, и кровную месть, и отношения между отдельными родами, и пользование принадлежащими родовому союзу орудиями производства, и зачатки первоначальной собственности. “Это все техника?!” — восклицал в данной связи М. А. Рейснер[20]. И действительно, все то, о чем говорил Стучка, не есть просто социальная техника. Вопрос о социальном характере первобытного обычая не получил разрешения в тогдашнем споре. Его нельзя считать решенным и в настоящее время. Применительно к первобытному обществу термином “обычай” зачастую оперируют без какой-либо попытки определить социальное явление, которое за ним стоит, ответить на вопрос, выражает ли обычай закон природы, социальную технику или, может быть, что-то третье. Но что именно?
На ранних стадиях природный и социальный, эмоциональный и интеллектуальный элементы нормы были слиты, но и тогда рациональное отношение к норме уже заметно проявлялось. Древний человек испытывал колоссальную потребность в объяснении своего поступка, ему нужна была не только “понятная формулировка” нормы поведения, но и ее определение, мифологическое обоснование в качестве единственно справедливой и священной. Отсюда — тесная связь обычая и мифа, высокая практическая значимость последнего в организации и сплочении первобытного коллектива. Человек в нем, конечно, отдает себе отчет в своих поступках, но на чисто мифологической, фантастической основе, так как никакой другой тогда не было. То, что он делал в согласии с обычаем, было исполнено для него глубоким смыслом, ибо, согласно преданиям и мифам, этого хотят от него божества или иные сверхъестественные силы, положившие основание его роду, в этом — их воля и условие, под которым они гарантируют роду свое покровительство и защиту. Миф не только указывал на норму поведения, но и придавал ей также особую действительность, святость, объяснял в яркой художественной форме, почему нужно соблюдать эту норму. Кроме того, миф сам по себе, минуя обычай и веления традиционных авторитетов, мог в силу своей образности осуществлять нормативную функцию. Так, древние предания африканских племен, по наблюдениям Б. Оля, возвеличивая деяния мифических героев, вызывали у людей желание подражать их поступкам и тем самым косвенно выступали в качестве нормы поведения: “На первый взгляд рассказы древнего цикла как будто лишены нравоучительного характера, но на самом деле их задача — дать во всех деталях образцы для поведения социального индивида”[21]. Все это дает основание выделить специфическую нормативную функцию древнего мифа как явление архаической культуры.
В первобытном обществе господствует не инстинкт и не бессознательная привычка вести себя определенным образом, но именно норма — интеллектуальный факт, продукт сознания, правда, еще очень несовершенного, фантастического, перевернуто и фрагментарно изображающего реальный мир. Во многих аспектах эти нормы отличаются от современных типов норм социального поведения. И тот же А. А. Богданов в основном верно указывал на некоторые моменты, представляющие их различие, хотя он и не считал первобытные нормы нормами. Речь идет прежде всего о том, что в основе древнего нормотворчества мы не находим четкого понимания различия и связи того, что есть, и того, что должно быть. “Данная, сложившаяся форма жизни и есть абсолютно-должное: ее консерватизм есть ее норма. Ничто не должно измениться, все должно быть, как было и как есть; такова “всеобщая норма” первобытной психологии’’[22]. Верно, конечно, что древний человек не ставил, да и не мог ставить себе цель создавать или вызывать посредством норм новые формы жизни. Функциональная роль нормативных установлений в этом обществе сводилась к одному — обеспечить стабильные, надежные условия, которые необходимы для сохранения и развития рода. Нужными считались те формы поведения, которые многократно испытывались и в отношении которых доказана их позитивная жизненная ценность. Понятно, что общество предпочитало здесь действовать наверняка, с соблюдением всех предосторожностей и гарантий. Оно требовало многократного репродуцирования оправдавшего себя способа действия и следило за тем, чтобы каждый индивид делал это по возможности более точно, без упущений и опасной отсебятины. Присущий всякой норме элемент должного в этом случае не заключает в себе ничего оригинального: повторяя в общем и целом сущее, он воспроизводит его по форме. Вообще говоря, на переднем плане в первобытной норме выступает сущностная связь между прошлым и настоящим, а не сущим и должным, как это характерно для социальных норм нашего времени. То есть в первобытной норме прошлое господствует над настоящим, формирует его по своему образцу, а связь сущего и должного относится как раз к механизму подобного формирования. Так или иначе, но мы неизбежно должны констатировать особую природу первобытных норм, характеризуемую тем, что некоторые современные юристы называют “нормативной силой фактического”, имея в виду ситуацию, когда факт требует многократного воспроизводства, сам для себя является нормой, сущее утверждается в нем как должное и, таким образом, сохраняет свою форму в настоящем. “Нормативная сила фактического”, нередко проявляющая себя и в современном обществе, — это истинная основа необычайного консерватизма и замкнутости социального строя первобытности. Она была, несомненно, весьма эффективной в смысле фиксирования и поддержания тех общественных порядков, которые уже были созданы, она оказывалась по-своему экономичной, ибо не допускала какой-либо утраты культурных достижений. Но с другой стороны, первобытная система норм замедляла инновационные культурные процессы, делала развитие крайне медленным и осторожным, оказывала чрезвычайное сопротивление всему новому, которое всегда пробивалось сквозь рутину традиционных норм и установлений с великими жертвами и мучениями.
Кроме этих глобальных тенденций существовало множество других общих и частичных закономерностей эпохи перехода от родового, неклассового общества к классовым, общественно-экономическим формам. В области нормативно-ценностных представлений и взглядов все они перекрещивались, накладывались друг на друга, так что наряду с новыми, жизнеспособными институтами и нормами существовали древние, наряду с оригинальными правилами поведения, отражающими актуальную социально-экономическую потребность, функционировало множество компромиссных, случайных, пережиточных. Таким образом, выделенный нами признак коллективности в представлениях о справедливости в первобытном обществе совершил вполне очевидную эволюцию в направлении развития процесса обособления индивида, становления личности внутри коллектива, выделения начал индивидуального, частного. В принципе таков же путь развития другого качества социальной справедливости родового общества, связанный с обеспечением равенства его членов. Рассматриваемая нами система медленно движется от равенства к социальному неравенству, увеличивающемуся по мере того, как растет значение частных форм жизнедеятельности в экономической и духовной сферах, в быту. Классовая организация общества явилась воплощением социального неравенства, его закрепления и оправдания. Однако условия, благодаря которым неравенство людей стало возможным, вызревали в недрах первобытного общества, и наиболее интенсивно они складывались на стадии его разложения.
Природный характер коллективизма, с которого человек начинал свое развитие, мог себя воспроизводить только в условиях равенства. Этому чисто природному равенству тогда не было альтернативы. Люди выделились из животного царства, писал Ф. Энгельс, “еще как полуживотные, еще дикие, беспомощные перед силами природы, не осознавшие еще своих собственных сил, поэтому они были бедны, как животные, и ненамного выше их по своей производительности. Здесь господствует известное равенство уровня жизни...”[23]. Родовой строй смог выжить и сохраниться только при условии отказа от всего того, что напоминает частное присвоение продукта труда. Даже там, где была физическая возможность осуществить трудовую операцию одним лицом — собирательство, охота на мелких и некрупных .животных и т. д., — продукт труда, добыча первоначально доставлялись в распоряжение коллектива и подлежали распределению между всеми его членами. Первобытное сознание, которое не обладало развитым понятием личности, расценивало индивидов в качестве равных, ничем не отличающихся друг от друга. Особая удача на охоте, выпавшая на долю индивида, приписывалась влиянию сверхъестественных сил, покровительствующих роду. Неудивительно, что для мышления первобытных людей не существовало никаких оснований исключать из потребления ту или иную группу лиц, не отличившихся особыми достижениями. Мысль о том, что можно поставить в заслугу не духам, но себе какой- то особый успех в охоте и рыбной ловле, вначале, по-видимому, не приходит им в голову. Различие между “моим” и “твоим”, которое, как известно, на протяжении уже нескольких тысячелетий играет огромную роль в организации человеческих отношений, остается для них непостижимым, и, следовательно, отсутствует база для взаимных счетов, претензий и упреков. В родовом обществе считается нормальным и справедливым, когда охотник, убивший животное, уступает добычу своим соплеменникам — как тем, которые участвовали в охоте, но не были столь удачливыми, так и тем, кто в охоте не участвовал совсем. Сам охотник, как правило, не выказывает никаких особых притязаний на добытый им трофей.
У многих австралийских племен существовало незыблемое правило: всю добычу делить поровну, причем дележ производили старики или лица, известные своим искусством разделять убитое животное на строго обусловленные или равные доли. Лишь некоторые племена считали допустимым предоставить отличившемуся охотнику честь самому разделить тушу принесенного им животного. Племена Юго-Западной Виктории имели очень строгие правила, рассчитанные на воспитание у членов общины отвращения к привилегиям отдельных лиц в части распределения пищи. Охотник, убивший зверя, и его ближайшие родственники здесь не только не пользовались какими-либо преимуществами по сравнению с другими, но и не получали даже равной с ними части, им, наоборот, выделялись меньшие и худшие куски[24]. Этот обычай, впрочем, уже отражает некоторый сдвиг в подлинном укладе первобытно-общинного строя, дальнейшее развитие которого зафиксировано в правилах распределения добычи, допускавших наряду с коллективным потреблением и в виде исключения из него индивидуальный способ присвоения. Соответствующая практика развивается еще очень робко и осторожно. Продукт, который поступает в распоряжение удачливого охотника сверх общей и равной для всех доли, есть своеобразная премия за выдающийся успех. Но и в ней вначале преобладает все тот же сверхиндивидуальный, ритуальный элемент, выражавшийся в том, что именно в такой форме род выражает почтение к своим соплеменникам, которым благоволят боги и добрые духи, оказывающие покровительство роду. Из огромной массы распределительных правил, характеризующих данный этап в развитии отношений дележа продукта, укажем на юкагирский обычай раздела добычи во время осенней “поколки” оленей, описанный Ф. Ф. Матюшкиным, участником экспедиции Ф. П. Врангеля по северным берегам Сибири летом 1821 г.[25]. Когда начинается осенняя тяга в лесах Севера и многие тысячи оленей идут сплошной массой, их настигают в момент переправы через реку и бьют короткими копьями (поколюгами). Охотники-юкагиры разделяются на две группы, одна из которых убивает, а другая вылавливает из реки и привязывает к лодкам туши оленей, не давая им уплыть вниз по реке. По окончании охоты производится дележ добычи по числу участвующих в этом деле людей. Но в общий раздел поступают лишь те олени, которые убиты и выловлены в реке. Что касается раненых оленей, достигших берега и там упавших, то они принадлежат тому охотнику, чья поколюга поразила животное. Эта своеобразная “зацепка” в обычном праве юкагиров приводила к тому, что многие из охотников довели свою ловкость до совершенства, научились соизмерять силу ударов так, что им доставались самые крупные и упитанные животные.
Существуют и другие группы обычаев распределения продуктов производства, в которых принцип индивидуального присвоения уже вполне утвердился, но в той или иной мере сочетается с интересами общины. Разбогатевшая внутри рода семья в традиционных формах оказывает поддержку соплеменникам, впавшим в нужду или не имеющим возможности добывать средства к жизни. Таковы, например, обычаи, связанные с ранними формами дарения, периодическими перераспределениями богатств внутри рода и между родами на празднествах “потлач” и т. д. Отмечая все эти детали и особенности нормативной сферы первобытного общества, мы подошли к проблемам соотношения коллективистских и индивидуальных ценностей в системах древних обычаев, а также положения, пределов и возможностей развития человека в глубокой древности. Со времен Просвещения и под влиянием его идеологических схем принято считать, что первобытность — это время, когда дух человеческой индивидуальности пребывал как бы в длительном инкубационном состоянии. Подавляемый и ограничиваемый коллективизмом, он медленно вызревал, обретал мощь для того, чтобы, вырвавшись из тисков традиционной системы, стать творческой силой цивилизации. Нормы древнего общества на протяжении тысячелетий человеческой эволюции безраздельно выражали ценности коллек^ тивизма. Он был природным, потому что задан природой в ёе физическом смысле, а также и умопостигаемой природой человека, природой вещей и т. п. Он был органичным, потому что определялся характером непосредственных связей между людьми в группе, складывался без помощи рационализированных оранизационно-управленческих методов.
Что же касается человека, то в процессе социогенеза или, во всяком случае, на его гипотетической начальной стадии он, согласно взглядам многих мыслителей-прогрессистов, полностью слит с коллективом, деперсонализирован, является скорее родовым, чем индивидуальным существом. Типичной в этом отношении позиции придерживались основоположники марксизма. “Человек обособляется как индивид лишь в результате исторического процесса. Первоначально он выступает как родовое существо, племенное существо, стадное животное...”[26] Но для какого периода времени действителен этот тезис? Определения “стадное животное” в большей мере заслуживает древняя обезьяна — предчеловек, но не сам человек, homo sapiens. Время, к которому относится существование предче- ловека и первобытного человека, охватывает ряд громадных археологических эпох. Справедливо отмечают, что с учетом времени эволюции жизни на земле люди палеолита, не говоря уже о неолите, представляются ненамного более первобытными, чем мы сами.
Несмотря на неопределенность понятий и другие трудности, следует, однако, признать, что принадлежность к первобытному коллективу, включение в него через механизмы природных связей есть то исходное положение, с которого человек начинает творить свою историю и культуру. “Чем дальше назад мы уходим в глубь истории, тем в большей степени индивид, а следовательно и производящий индивид, выступает несамостоятельным, принадлежащим к более обширному целому...”[27]. Это высказывание К. Маркса бесспорно. Нельзя же сегодня воспринимать всерьез естественно-договорные теории, согласно которым люди в одиночку или группами бродили по лесам и лугам, прежде чем они “договорились” учредить общество на основе взаимного уважения естественных прав и интересов друг друга. Не случайно проваливаются все теории, пытающиеся установить эволюционный или исторический приоритет индивидуального начала перед коллективным, общественным. Сомнительны те концепции социогенеза, согласно которым формы общественности и коллективизма складываются в результате вытеснения “зоологического индивидуализма” и жестокой борьбы между биологическим и социальным началом в предчеловеческом стаде. Есть все основания считать, что даже там господствовал не “зоологический индивидуализм”, а именно природный коллективизм, базирующийся на сложных общественных инстинктах.
Предчеловек не пришел в коллектив как бывший эгоист из-под палки, злобно огрызаясь. По биологической своей природе, по характеру преобладающих в ней естественных склонностей и инстинктов человек, как и многие другие биологические виды, есть “стадное животное”; индивидуалист и эгоист не имели шансов выжить, они как человеческие типы немыслимы в доисторические эпохи. Процесс социализации человека в первобытном коллективе не представлял из себя развития от индивидуального к коллективному, но скорее всего означал превращение чисто природной неосознанной коллективности в коллективность, основанную на социальном опыте, традиции, мифе, знании и т. те. Природный характер коллективизма, разумеется, не исключал индивидуалистических поползновений внутри группы, но в нормативной сфере они встречали различное отношение: одни из них действительно вытеснялись, преследовались, другие, напротив, поощрялись.
Столь же сложно и разнообразно отражался в нормативной сфере природный характер межгрупповых отношений. В обстановке более или менее враждебного противостояния различных коллективов выковываются первоначальные формы социального регулирования с целью поддержания их отношений на определенном уровне, не позволяющем одной группе возобладать над другой или другими. Обычаи межплеменного общения направляют агрессию и насилие в определенные каналы, указывают им рамки. Они были первой институциональной формой, в которой люди отрицали безграничное насилие, а также причиняемое им разрушение. В принципе всякая, даже самая элементарная, форма социальной регуляции (упорядочивания) абсолютно противоположна началу социальной деструкции, разрушению, и это очень важно для понимания того, почему нельзя выводить исторический генезис социальных нормативно-регулятивных систем, будь то мораль, право или даже религия, из человеческой склонности к насилию, агрессии, стремления одерживать верх над врагами.
Из предположения, согласно которому коллективное начало в древности подавляло и порабощало отдельного человека, исходил З. Фрейд, пытавшийся применить психоаналитическую теорию к проблемам первобытности, происхождения социальных и правовых норм. Древний коллектив, который он иначе как первобытной ордой и не называл, определяется психологией масс, древнейшей психологией человечества. Последняя характеризуется им описательно через такие признаки, как отсутствие сознательной обособленной личности, ориентация мыслей и чувств в одинаковых с другими направлениях, преобладание эффективности и бессознательной душевной сферы, склонность к немедленному выполнению внезапных намерений. В первобытной орде воля отдельного человека была еще слишком слаба, царили общая воля и стадные прирожденные инстинкты; никакие другие импульсы, кроме коллективных, там не осуществлялись[28]. Массу психологически и социально подобных друг другу особей, ничем не отличающихся и равных между собой, делает жизнеспособной только внешняя власть, то есть лидер (вождь, праотец). Если человека, утверждает З. Фрейд, называют стадным животным, то к этому нужно добавить, что он скорее животное орды или особь, предводительствуемая главарем орды[29]. Лидерство есть внешняя принудительная сила, которая способна вводить табу, систему запретов, компенсирующих утрату животных инстинктов. Нарушителя табу члены группы должны наказать или как-то искупить данное нарушение, чтобы не пострадать самим[30]. В том, собственно, и заключается “вклад” психоаналитической теории в проблему происхождения права, что процесс зарождения права как культурного феномена сводится к актам насилия, мучительному преодолению бессознательной агрессивности и эгоизма человеческого существа путем замещения вытесненных животных инстинктов поверхностными формами культурно-общественного реагирования. В известном письме к А. Эйнштейну “Неизбежна ли война?” (1932 г.) З. Фрейд высказывает некоторые итоговые мысли: право возникает из силы, оно по сути своей есть сила власти (лидерства, авторитета, влияния), направленная на подавление человеческой индивидуальности, если она отбивается от человеческой орды. “Мы видим, — писал З. Фрейд, — что право — это власть группы, сообщества. Право и в данном случае все еще сила, направленная против каждого отдельного человека, сопротивляющегося этой группе, оно работает силовыми средствами и преследует те же цели”[31]. Все, что говорит З. Фрейд, одинаково относится к древнему и современному праву; его концепция оперирует психологическими константами, полностью игнорируя какой-либо социальный прогресс. Человеческим стадом, по З. Фрейду, не только была первобытная орда, но и является всякое массовое современное движение, если оно слабоуправляемо и стихийно. Странным было то, как умудрился З. Фрейд открывать законы массовой психологии на опыте “первобытной орды”, ибо, как хорошо известно, древнее общество в отличие от современного индустриального никогда не было массовым, локальные группы являлись крайне немногочисленными (от нескольких человек до нескольких десятков и сотен), люди были на виду, знали друг друга в лицо, психология их отношений, конечно, мало напоминала психологию толпы, масс. Сомнительна и фрейдистская антитеза “орда — лидер”, она просто не опирается на исторический и этнографический материалы, так же как и выводы относительно сути табуирования и системы табу как “самого древнего неписаного законодательного кодекса человечества” Многочисленные несообразности и неувязки привели к тому, что современные антропологи и социологи в общем не приняли психоаналитические построения З. Фрейда, касающиеся первобытной коллективности, формирования нормативной сферы и права древнего мира.
В западной общественной науке антииндивидуалистический смысл трактовки первобытного коллективизма находит функциональное оправдание в том, что он позволяет оценить, какой поистине титанический цивилизационный рывок совершило человечество, когда индивид от тотальной зависимости и порабощения внешними силами пришел к нынешним либеральным ценностям свободы личности и прав человека. Но когда к изучению первобытности подключились исследователи из азиатских стран, с Африканского континента, они компетентно и убедительно оспорили старый тезис о несовместимости норм и ценностей традиционного коллективизма со свободным индивидуальным развитием и теми же правами человека. Сегодня многие признают, что и первобытный коллективизм был не таким уж беспросветным, как его часто изображали, что все древние культуры и цивилизации, каждая по-своему, обеспечивали возможности индивидуального развития[32]. Традиционные общества, их нормативно-регулятивные системы были в полной мере способны раскрывать на своем уровне творческий потенциал человека. Более того, из сравнительного анализа положения человека в традиционном и современном обществах, по признанию одного американского автора, можно делать выводы не в пользу последнего. “И вероятно, главный урок, который следует извлечь из изучения традиционной Африки, — пишет Колин Тернбул, — заключается в том, что, отказавшись от некоторых свобод, приняв определенные ограничения стиля жизни (всегда имея возможность выбрать иной стиль), можно достичь большей степени свободы и подлинного, искреннего человеческого общения”[33].
Представления о том, что первобытные люди были неотличимы друг от друга, поскольку “не оторвались еще от пуповины первобытной общности”[34], отражают давно прошедший этап в изучении первобытности. Сегодня картина представляется более яркой и разнообразной. Как бы сильно ни утверждало себя коллективное начало в системе норм, оно не могло не содействовать проявлениям специальных полезных способностей индивида в качестве охотника, воина, жреца, знахаря, художника, сказителя-поэта, знатока обычаев или мифов, оформителя празднеств — словом, мастера, умеющего делать то, что у других плохо получается. Оказалось, что личность в традиционном сообществе имеет сложную структуру, связанную с системой ценностей соответствующей культуры. Например, тип культуры эскимосов американские авторы А. Хипплер и С. Конн определяют как кооперативный с минимумом запретов и ограничений; он базируется не столько на поддержании ценностей и мифологии коллективизма, сколько на социализации и структуре личности, воспитываемой в духе “оптимистического фатализма” Эскимос мог делать все, что хочет, если нет риска встретить силовое сопротивление со стороны других, он должен избегать конфликта, если чувствует себя неспособным выйти из него победителем[35]. Очевидно, другой нормативный тип личности предполагают насильственные общества, где существовали широкая практика кровной мести, ритуалы человеческих жертвоприношений, каннибализм и охота за головами.
При внимательном изучении межличностных отношений внутри первобытной группы приходится отказываться от представления о древних людях как лишенных индивидуальности. Как и у всех людей, когда бы и где бы они ни жили, у древних всегда была возможность отличиться от себе подобных в трудовой, культово-обрядовой и особенно военной деятельности, где человеку, обладающему соответствующими качествами и способностями, сравнительно легко было стать лидером, предводителем, вождем. Кроме того, из огромного множества разновидностей первобытных групп лишь очень немногие были монолитными в смысле отсутствия внутренней структурной дифференциации. Община обычно подразделялась на подгруппы, крупные и мелкие образования, постоянные и временные объединения по полу, возрасту, верованиям, занятиям и т. д. Общинник одновременно должен быть членом семьи, более широкого кровнородственного объединения, жителем деревни; он входил в брачные группы, возрастные классы, мужские или женские союзы, секретные общества, промысловые или иные трудовые артели, наконец, в военные дружины. Иначе говоря, в первобытном обществе человек по необходимости выступал сразу в нескольких социальных ролях; их, может быть, было меньше, чем в современном обществе, но человек вкладывал в них “свою душу”, стремился наиболее полно выразиться в них, так же как и сейчас. Только при достаточно развитом индивидуальном самосознании человек мог успешно соединять и выполнять все эти роли. Но с другой стороны, ролевая деятельность требовала индивидуальной специализации, формировала личностное отношение ко всему. “То обстоятельство, что один и тот же индивид по-разному проявляет себя в качестве заботливого отца и ворчливого старика, доброго соседа и умелого писца, высокомерного богача и т. д., что он по-разному воспринимается различными людьми в различных общностях, несомненно, стимулирует процесс индивидуализации древневосточного человека, его осознание себя личностью, индивидуальностью”[36]. Наличие социальных ролей, получивших нормативное закрепление в обычаях, ритуалах, обрядах и т. д., давало возможность человеку, идентифицировавшему себя со своим коллективом, отличать себя индивидуально от других коллективов (“мы” и “они"), от других членов собственного коллектива (“я” и “они”).
В древнем обществе, как и в современном, человек в случае внутригруппового конфликта должен посредством личного решения занять определенную позицию, поддержать одних, выступить против других родичей или соседей, стать заинтересованным примирителем спора. То, что первобытная группа была гомогенной и сплоченной на основе коллективного сознания, разумеется, не исключало ни возможности конфликтов внутри группы, ни известной полезности их для укрепления групповой солидарности; такие конфликты часто имели оздоровительный эффект и при успешном разрешении способствовали консолидации коллектива вокруг победившего лидера или лидеров. Но конфликт — это своеобразная “школа”, которая преображает человека, делает его индивидуально значимым в группе, ответственным за выбор “личной позиции" Выбор этот является трудным и для современного человека, решающего в критических ситуациях “с кем он” и “против кого” Древний человек непрерывно находился в системе межгрупповых и внутригрупповых конфликтов, обострявших его чувства групповой принадлежности и индивидуальной ответственности за состояние собственного коллектива. В ситуациях, когда противопоставлены две разные группы А и В, позиция человека группы А жестко предопределена; если он не сумасшедший и не предатель (а предательство древнему обществу почти неизвестно), он выступает со своей группой против “врагов”, т. е. группы В. Когда речь идет о конфликте внутри группы А, например соседской общины, отдельного поселения, то надо учитывать, что человек может принадлежать к различным сегментам данной группы, например, к кровнородственному объединению внутри соседской общины, семье, которые, в свою очередь, могут подразделяться на более мелкие группирования согласно степени родства или иной близости людей. Мы видим то, что английский антрополог Э. Эванс-Притчард называл “релятивизацией групповых отношений и групп”, за которой стоят тенденции внутригруппового разделения и смешения, ситуационный характер формирования “оппозиций” внутри группы, когда группирования прямо зависят от фактических обстоятельств, возникают из самого конфликтного отношения[37]. Человек, который участвует в такого рода группированиях и оппозициях, — это уже не “механическая часть целого”, а до известной степени самоопределяющийся субъект.
Как бы то ни было, но человеческое “Я” уже довольно ярко отражалось в зеркале первобытной культуры и, что важно, в системах ее социальных норм. Изучив на австралийском материале проблемы отражения форм индивидуализации человека в соционормативной сфере первобытно-общинного строя, О. Ю. Артемова пришла к выводу, что социальные нормы играли здесь двойственную роль, обеспечивая и жесткий коллективизм, и условия для формирования индивидов с достаточно сложной и многосторонней внутренней организацией. Одни нормы как бы прикрепляли человека к коллективу, ограничивали его самостоятельность и волю в сфере родственных и семейно-брачных связей, религиозно-магической практики, отношений между людьми разных полов и возрастов. Вместе с тем выделяется нормативный комплекс, который включает стимулы личной инициативы, дифференцирует возможности поведения. Нормы, регулирующие отношения между мужчинами одной возрастной группы, отмечает О. Ю. Артемова, способствуют проявлению индивидуальных качеств и воли, побуждают мужчину проявлять личную инициативу, стремиться к индивидуальным достижениям. “Наилучшие возможности для самовыражения, для выбора индивидуальных решений имеют мужчины, составляющие группу “старших”[38]. Если культура австралийцев, народов, находившихся на палеолитической стадии развития, уже была способной формировать разнообразие человеческих типов и характеров, то намного дальше ушли в этом направлении другие культуры, социальная организация которых основывалась на заметной дифференциации отдельных групп и индивидов. То, что групповая дифференциация внутри некогда гомогенного коллектива содействовала развитию индивидуальных интересов, — это не было секретом для древнего общества, поэтому данные процессы имели нормативную поддержку в той мере, в какой это было нужно для устойчивого, равновесного соотношения коллектива и человека. Цели нормативной регуляции в таких системах легко себе представить: человек мог рассчитывать на все необходимые средства индивидуального самовыражения в рамках коллектива и порождаемой им идеологии при условии сохранения действительной, а позднее — хотя бы внешней, лояльности по отношению к ним.
Итак, первобытное общество живет в напряженном нормативном режиме, при котором средства внутренней и внешней регуляции человеческого поведения вырабатываются традиционным образом жизни, а нормативное сознание в действительности не отделено от осознаваемой практической деятельности. Царствуют традиция и обычай. Под традиционализмом М. Вебер понимал установку на повседневно привычное и веру в него как в непререкаемую норму поведения, а под традиционалистским авторитетом — господство, основанное на том, что действительно, мнимо или предположительно существовало всегда[39]. Традиции представляются как многообразные и разнородные линии преемственности между поколениями людей, передаточные механизмы, через которые опыт старших усваивается молодыми. Социализация в первобытных группах — это непосредственные контакты молодежи с людьми старшего возраста, в ходе которых происходит обучение, усвоение знаний, мифов, обычаев, передача опыта “взрослой жизни” Другого пути получить социальную и культурную информацию, выработанную далекими и близкими предками, кроме как непосредственно от старых мужчин и женщин, тогда просто не было. В древнейших группах старые люди, старики в современном понимании, встречались очень редко. По некоторым данным, модальная продолжительность жизни в древнем и среднем каменном веке равнялась 26 годам; в эпохи палеолита и мезолита люди доживали до возраста свыше 30 лет; в бронзовом веке число людей, перешагнувших довольно низкий тогда порог старости, не достигало и 2%[40]. Древний человек жил в неимоверно тяжелых условиях. Болезни косили детей, а взрослые чаще всего умирали, как свидетельствует археология, насильственной смертью на охоте, в военных стычках, в межгрупповых конфликтах, во время голода и стихийных бедствий. Но и плодовитость первобытных народов была очень высокая, так что переживший своих сверстников человек был тесно окружен детьми и молодыми соплеменниками, которым он представлялся культовой фигурой, “живым предком”. Традиционалистский авторитет воплощался именно в стариках, они были единственными носителями информации из прошлого и в этом качестве высоко ценились. Старость считалась синонимом опытности, мудрости, высокого авторитета. Отсюда широко распространенные обычаи почитания старших, привилегии стариков в семье и группе, отсюда геронтократия и патриархат, основанные на власти старших над младшими.
В заключение скажем несколько слов о древнем, первобытном человеке — субъекте культуры, вынесшем на своих плечах все трудности борьбы за выживание рода человеческого, подготовившего ценою собственных страданий, коллективного аскетизма и самоограничений благоприятные культурные условия, при которых цивилизованная личность может свободно проявлять себя, хотя, к сожалению, не всегда конструктивным образом. Когда сегодня древнего человека представляют существом диким, примитивным, не способным логически мыслить и лишенным собственного “я” (этим, как мы видели, грешит и западная наука), то это выражает не только непонимание первобытности, грандиозной эпохи, по сравнению с которой время цивилизации ничтожно мало, но и опасную утрату современной личностью многих подлинно человеческих черт, определявших в древности успешную культурную и социальную эволюцию человеческого рода. Это такие черты, как коллективизм, духовный универсализм и религиозность, умеренность и способность к самопожертвованию и т. д. Известный ученый Конрад Лоренц называл “семь смертных грехов цивилизованного человечества”, имея в виду потерю современным человеком именно тех эволюционно оправданных качеств, которые привели его, человека, в цивилизацию и без которых последняя обречена на гибель. Возможно, еще одним “смертным грехом” является неблагодарность и высокомерие “цивилизованного общества” по отношению к первобытности, которую до недавнего времени иначе как “дикостью”, “варварством” и не называли. Миф о “примитивности” древнего человека в двадцатом столетии стал понемногу рассеиваться благодаря углубленному изучению интеллектуальных аспектов родо-племенной организации. Исходя из материалов полевых исследований жизни филиппинского племени ифугао, американский этнограф Р. Бартон с восхищением отмечал высокий уровень умственного развития людей этого племени, которые как охотники за головами могли быть отнесены к бесспорно примитивным. “Значительную часть образования ифугао составляет знакомство со своей религией. Он должен выучить сотни богов с их различными функциями, пристрастиями и способами дурного воздействия на людей, так же как огромные сведения о ритуалах, магике и мифах. Поскольку нет книг и записей, он должен иметь память более превосходную, чем у белого человека”[41]. Многие ифугао, отмечал Р. Бартон, знают своих предков за 10 и даже 15 поколений, вдобавок — братьев и сестер предков. В памяти хранится мифология, такая же массивная, как и у древних греков. В голодное время богачи присоединяют к себе большое количество клиентов, раздавая рис, свиней, кур и т. п. Все это не записывается, но в памяти хранится скрупулезно[42]. Высокие требования к знаниям и индивидуальным способностям были условием выполнения некоторых особых функций вождя, жреца, посредника, миротворца и т. п. На это обратил внимание Б. А. Рыбаков, изучая древнерусское язычество: “Простой сельский волхв должен был знать и помнить все обряды, заговоры, ритуальные песни, уметь вычислить календарные сроки магических действий, знать целебные свойства трав. По сумме знаний он должен был приближаться к современному профессору этнографии с тою лишь разницей, что этнограф должен долго выискивать полузабытые пережитки, а древний колдун, вероятно, получал многое от своих учителей — предшественников”[43]. Представление о том, что современный человек превосходит древнего и должен, как говорят, постоянно выдавливать из себя “дикаря”, не во всем справедливо, подпитывает множество предрассудков. В ходе социогенеза и раннего общественного развития человек творил, начиная с простых форм; это были далеко не примитивные, но в общем целесообразные для тех условий формы экономики, социальной регуляции, религии, морали, права и т. д. Ни один гений современности, если бы поставить его на место людей древнего общества, не смог бы предложить ничего лучшего.
§ 2. Формирование нормативно-регулятивной системы права
Среди традиционных институтов, системно действовавших в первобытном обществе, выражавших его синкретическое состояние, следует в первую очередь выделить миф и обычай. Первый из них, помимо прочего, есть традиционная форма передачи произведений мысли и духовного творчества, а второй — традиционная форма передачи социальных норм от одного поколения к другому. Оба института — явления социальной морфологии, они относятся к области формы, которая в древних культурах осуществляет самые различные функции фиксирования, сохранения и передачи (трансляции) традиционных культурных ценностей. Они основополагающие, но, конечно, не единственные социальные формы, находившиеся в распоряжении древних. Рядом, а во временном отношении, может быть, даже впереди следует поставить ритуал — форму символического внешнего поведения, включающего в себя цепь последовательно совершаемых действий сигнально-знакового характера. Зашифрованный смысл такого поведения, как правило, понятен либо всем членам группы (экзотерический ритуал), либо ее посвященной части (эзотерический ритуал). Формой символического поведения выступает также религиозный обряд — комплекс действий, знаков, сигналов, визуальных и звуковых актов, заключающий в себе код общения людей со сверхъестественными сущностями, душами предков. Ритуализация и обрядовая сторона человеческого поведения играли и играют огромную роль в генезисе социальных норм. Все формообразующие явления древности взаимосвязаны: миф обосновывает и объясняет обычаи, обычай опредмечивает мифы, нормативные мифологические образы переходят в образные нормы, подтверждаемые мифологическим примером и актуализируемые ритуалом.
В обществе с достаточно развитыми социальными связями сфера общественных норм и регулятивных механизмов более или менее четко разделяется на отдельные, специфические нормативно-регулятивные системы: мораль, право, комплексы религиозных и политических норм, социально-технических нормативов, этикет и т. д. Но на первых этапах развития человеческой культуры такого разделения еще нет. Уровень и тип общественных отношений не давали необходимой основы для дифференциации социальных норм. Вспомним к тому же, что вся материальная и духовная жизнь первобытного общества, все известные ему способы познавательной и практической деятельности не отделены друг от друга, сливаются в единый сплошной поток жизни. Этот всеобщий синкретизм первобытной культуры находит свое яркое отражение в самых различных сферах.
Наиболее полно изученным фрагментом древнейшей синкретической действительности является синкретизм первобытного искусства, т. е. такое состояние последнего, когда “словесное творчество еще не отделено от музыкального, эпическое — от лирического, историко-мифологическое — от бытового”[44]. Другим научно реконструированным фрагментом древней синкретической действительности является синкретизм нормативной сферы первобытного общества. Для построения соответствующего понятия нет, пожалуй, нужды прибегать к аналогиям с синкретизмом первобытного искусства, ибо это не разные явления, но, в сущности, один и тот же общественный феномен, рассмотренный со специальных точек зрения. Та самая структура психической деятельности в древнем обществе, которую М. С. Каган предлагает назвать художественно-образной, обладает, по его мнению, следующими признаками: а) отражение объективной реальности в ее отношении к человеку, а не в ее независимом от субъективного восприятия бытии; б) нераздельность познания и оценивания воспринимаемых явлений; в) целостность интеллектуально-эмоциональных операций, не допускающая обособления мысли и ее самостоятельных действий. Совершенно ясно, что все эти факторы определяют не только эстетическую, но также этическую программу действия социальных ценностей в первобытном обществе, причем программы эти в достаточной степени еще не расчленены.
Синкретизм как явление первобытного общества характеризуется неразличимостью в едином, сплошном тексте культуры социальных форм (художественного постижения мира или регуляции общественного поведения), известных нам из позднейшей истории человечества. Главной особенностью социальной нормы, входящей в единую синкретическую нормативную систему, выступала ее неотделимость от практического действия, поступка, от общественного отношения. Различие, которое мы сейчас проводим между отдельными группами социальных норм — религиозными, моральными, правовыми и проч., — не имеет значения для практической организации поведения в первобытном коллективе. В нормативной сфере мы не смогли бы отделить собственно моральный элемент от религиозного, религиозный от правового, правовой — от социальной техники и т. п. Все специфические формы и способы социального регулирования еще не развились, не заявили о себе как о серьезных общественных явлениях. Поскольку в дальнейшем мы будем говорить в особенности о праве, сделаем несколько общих замечаний относительно данного предмета.
Первобытную синкретическую систему норм иногда, применяя современные критерии, называют моралью (типичны в этой связи работы известного этнографа С. А. Токарева), выдавая последнюю за некий первичный регулятор, из которого эволюционным путем отделились право, этикет, другие виды социальных норм. Даже простого перечисления норм, которыми руководствовались люди первобытного общества, достаточно, чтобы убедиться, что там присутствовали элементы различных типов регуляции — от жестких, обеспеченных строгим принуждением, до гибких, диспозитивных. Не могло все это быть только моралью, иначе сегодня пришлось бы изобретать для морали новое, невероятно широкое определение. Представители некоторых социологических направлений рассматривают древнюю нормативную систему как изначально и целостно религиозную, а мораль и право как системы, которые со временем “эмансипировались” от религии. “Все большее число социологов и историков сходятся в том, — писал Эмиль Дюркгейм в 1897 г., — что религия — наиболее первобытное из всех социальных явлений. Именно из нее путем последовательных трансформаций возникли все другие проявления коллективной деятельности: право, мораль, искусство, наука, политические формы и т. д. В принципе все религиозно”[45]. Но и это предположение, на проверку которого у юристов конца XIX — начала XX в. ушло много времени и сил, оправдалось лишь в известной мере. Историческая связь между религиозными и правовыми регуляторами оказалась более сложной и менее регулярной, чем это допускали Э. Дюркгейм и его школа.
Не продвигает решение этой проблемы и конструкция этнографа А. И. Першица о существовании в древнем обществе мононорм, которые не были правовыми или моральными, но представляли собой единые, внутренне недифференцированные правила поведения, в коих отсутствовали резкая дихотомия сущего и должного, элементы социальной оценки людей. Мононорматика выражала исключительно коллективные, общинные ценности и этим тоже отличалась от морали и права в современном их понимании. Последние, как полагает А. И. Першиц, возникли в процессе расщепления системы мононорм в эпоху разложения первобытного общества и классо- образования. Она дифференцировалась, с одной стороны, на мораль и право, с другой — на две разные классово обусловленные морали. Нормы как бы переходят из мононорматики в сферы права и морали[46]. Конструкция А. И. Першица мало что добавляет к принимаемой им гипотезе первобытного нормативного синкретизма, но порождает ряд вопросов. Почему мононорма трактуется как преходящее явление первобытности, тогда как это вполне реальный феномен современной культуры? Каждый, если это ему нужно, может выделить и исследовать единую норму, разложимую, на религиозный, моральный и правовой компоненты. Императивы типа “не убий”, “не кради”, “не лги” и т. п. соединяют в себе и религиозную заповедь, и моральную максиму, и правовое требование, являются тем, другим и третьим одновременно. В рамках общей нормативной философии современная мононорма (императив) может быть для определенных целей специальным предметом изучения, но другое дело, что нынешние нормативные отрасли знания — правовая, нравственная и религиозная философии — далеко разошлись, к их большому несчастью, и предпочитают отдельно заниматься соответствующими нормативными феноменами. Не стоит ли это в прямой связи с духовным кризисом цивилизации, вызванным трагическими расхождениями между религией, политикой, правом и моралью? Еще один вопрос: почему у А. И. Першица древняя мононорматика расщепляется на право и мораль? А где же была мощная и влиятельная религиознонормативная система, без которой все же трудно представить себе исторический генезис права или морали? Как формировались другие виды социальных норм, составляющих важнейшую часть сферы социально-нормативной регуляции как в древности, так и в наше время?
Как и другие нормативно-регулятивные системы, право еще не выделилось на первоначальных этапах развития человечества. Чтобы прийти к такому выводу, достаточно принять во внимание уровень материального бытия и особенности сознания в первобытном обществе. Ничего изначального и вечного в праве как общественном явлении нет. В ответ на старый тезис “где общество, там право”, можно сказать, что люди когда-то не знали права, что в их истории была “доправовая эпоха”, так же как “доморальная” и, возможно, небезоговорочно “дорелигиозная” Право в своей исторически первой форме обычного права возникает на определенной стадии развития общества, при появлении известных условий. Суть дела, если ее изложить коротко, состоит в следующем. Первобытнообщинный строй как таковой не знаком с правом, моралью как особыми способами социальной регуляции. Упорядочение общественных связей и единообразие в поведении людей достигается посредством единой системы норм, весьма детализированной по содержанию, но унифицированной по форме. Обычай не является в отдельности правовым или моральным, политическим или религиозным; он универсален и выполняет все необходимые для общества того периода нормативные функции. Он не противостоял коллективному сознанию как отличный от него социальный институт, но выступал как категория, непосредственно присущая сознанию, отражающему нормативный характер коллективных представлений.
Нужны были фундаментальные изменения в общественной жизни, прежде чем человек научился видеть в норме внешние требования к своему поступку, стал замечать, что он должен (обязан) действовать согласно правилу. Это означает, кроме всего прочего, что люди начинают интересоваться проблемой обоснования, оправдания или, как иногда говорят, легитимации норм. Иначе говоря, перед человеком возникает вопрос: почему я должен подчиниться этой норме, кто и какая сила требуют от меня именно такого, а не другого поведения? Возникают, стало быть, элементарные критические позиции в отношении единой системы норм, в результате чего оказывается, что она не такая уж единая, как представлялось людям раньше. Они научились теперь видеть противоречие между отдельными нормами, входящими в систему, различать их по источнику легитимации, т. е. от них уже не ускользает факт, что правила поведения, освященные авторитетом богов или духами предков, могут отличаться от образа действий, диктуемого хозяйственной целесообразностью, что два подобных курса поведения могут противоречить друг другу и что, наконец, между ними можно выбирать. Критическое и дифференцированное отношение к нормам соответствует времени разложения единой их сферы на отдельные социальные нормативно-регулятивные системы, вычленения морали, права, совокупности политических или религиозных норм и т. д. как самостоятельных общественных явлений.
Различие между тем, что человек должен делать, и тем, от чего ему предписывалось всячески воздерживаться, между “можно” и “нельзя” появилось очень рано, скорее всего уже в первобытном стаде. Столь же древними, по-видимому, являются если не сами понятия, то, во всяком случае, практические воплощения в поведении людей идей добра и зла, долга и ответственности, справедливости и несправедливости и т. д. Все эти и подобные им идеи развиваются эмпирически из существовавшей тогда единой и внутренне нерасчлененной системы нравов, обычаев, социальных традиций, поэтому древность нравственных ценностей, представлений о добре и справедливости ни в какой мере не может служить доводом в пользу тезиса, утверждающего мораль в качестве господствующей формы регуляции в первобытном обществе. Мораль, как право и другие социальные нормативно-регулятивные системы, появляется на том этапе общественного развития, когда люди, уже разделенные между собой по социальному признаку, по- разному оценивают вещи в свете указанных выше нравственных идей: то, что одни считают добрым и справедливым, в оценке других выступает как зло и несправедливость. Отсюда в масштабах общества возникает необходимость духовно или под угрозой принуждения навязать господствующую систему норм людям, несогласным с ней либо могущим стать в оппозицию к существующему порядку отношений. Новые методы обеспечения норм и утонченные (более или менее) способы их навязывания обретаются обществом на пути к самостоятельному развитию религиозной, моральной, правовой и иной регуляции.
Мораль и право возникают, стало быть, в результате социально детерминированного процесса распада и дифференциации единой системы норм первобытного общества — процесса, безусловно, многоэтапного, постепенного и весьма длительного по времени. У нас нет, разумеется, оснований говорить об абсолютной синхронности исторического генезиса морали и права. Самое большее, что можно сказать в этой связи, — это относимость данных процессов к одной и той же исторической эпохе разложения первобытности и классообразования. Тезис о том, что мораль как социальное явление возникает намного раньше права, что она существует уже в первобытном обществе, когда не было ни политики, ни права, ни даже религии, довольно распространен в этической и юридической литературе. Полагают, что мораль есть исторически первый способ социальной регуляции, принявший на себя основные функции по осуществлению интеграции человеческого общества; к морали постепенно добавлялись другие подсистемы социальных норм, в том числе и право[47]. Странно, что такие выводы не пытаются серьезно обосновывать посредством анализа имеющегося в настоящее время исторического и этнографического материала. Историческое первородство морали по сравнению с правом и политикой, не говоря уже о религии, остается более чем сомнительным. Возьмем, например, сферу обычаев различных народов, в которых выразилось в той или иной мере отношение к женщине, браку, семье. Почему мы должны считать, что моральные по своему характеру обычаи избегания (мужчине стыдно, когда сородичи видят его вместе с женой, ему стыдно брать на руки своего ребенка и т. д.) являются более древними, чем правовые по сути своей обычаи платного брака или приравнивания купленной жены к родовому наследственному имуществу? Или возьмем способы обеспечения моральных и правовых норм. Откуда следует, что угрызения совести в случае совершения морального проступка намного древнее, чем страх перед репрессией, наказанием? Современная наука находит оба этих явления как чисто эмпирические факты, включенные в единую социальную практику даже самых “отсталых” племен. Прежде чем эти способы оказались исторически инкорпорированными в моральную и правовую системы регуляции, они были найдены и отшлифованы в единой нормативной практике первобытного общества, развивались в качестве феноменов его культуры.
И наконец, еще один аргумент против попыток в историческом плане оторвать и изолировать мораль от других нормативно-регулятивных систем, изобразить моральную норму как своего рода пранорму. Он связан с указанием на природу и характер первобытного сознания, которое не могло в силу своей специфичности относиться к первобытным нормам как к морали (как к праву и т. д.), потому что такое отношение предполагает, во-первых, известное обособление нормы от цели действия, т. е. значительную дистанцию между обязательной нормой и замыслом поступка, между которыми должно быть место критике нормы и сознанию возможности как подчиниться, так и не подчиниться ей. То, что такая дистанция в первобытном обществе не существует, если брать, конечно, период, соответствующий подлинному укладу этого общества, доказывается безусловной обязательностью всякого обычая независимо от его целесообразности, полезности, практической отдачи. Если обычай есть, он должен, несмотря ни на что, исполняться, и родовые органы строго следят за этим. Когда все обычаи, между которыми много устаревших, бесполезных, ставших уже бессмысленными, оцениваются одинаково, когда отсутствует возможность в процессе реализации нормы отличать правильное от неправильного, едва ли можно всерьез говорить о наличии в таком обществе морали (права и т. д.). Во-вторых, общественное сознание может относиться к морали как к морали лишь в том случае, если оно берет ее в отличие от других нормативно-регулятивных систем. Иначе говоря, чтобы знать, что такое мораль, человек должен знать, что такое политика, право, религия, что между ними общего и чем отличаются они друг от друга. Задача отграничения и выделения морали в рамках общественной организации очень трудна для современной науки (вспомним хотя бы нынешнее состояние вопроса о разграничении морали и права в обществе), и она, конечно, была не по силам первобытному общественному сознанию, не говоря уже о том, что практика функционирования отдельных и самостоятельных нормативно-регулятивных систем не существовала в качестве предмета его отражения.
Всякая попытка обозначить совокупность действующих в первобытном обществе норм, обычаев и традиций как “мораль” представляется небезупречной и в методологическом отношении, ибо она существенно деформирует понятийные границы данного явления. То же самое в принципе относится и к теориям, которые распространяют понятие права на всю нормативную сферу первобытного общества. Примером в этой связи могут служить взгляды некоторых английских антропологов и юристов. По мнению Д. Дриберга, первобытное право включает в себя все правила поведения, которые регулируют действия индивидов и коллективов. Наиболее часто, однако, этот взгляд связывают с именем Е. Хартлэнда, утверждающего, что “примитивное право” есть поистине вся совокупность обычаев племени. На первобытной стадии культуры право есть существенное выражение жизни племени, и здесь едва ли что- нибудь ускользает из его сферы[48]. Близок по сути дела к такой постановке вопроса и Б. Малиновский, когда он пишет, что “право и порядок пропитывают племенные обычаи примитивных рас, они направляют весь однообразный курс их повседневного существования”[49]. С учетом подобных взглядов на первобытную нормативность выдвигались общетеоретические конструкции, согласно которым всякая развитая соционормативная культура, к какой бы эпохе она ни относилась, может быть в целом определена как право. Ж. Гурвич в свое время обосновывал широкую категорию социального права в отличие от юридического права. По его теории, любая социальная норма, достигшая определенной степени эффективности, есть норма права для той культуры и социальной среды, которые ее признают и в принципе соблюдают[50]. Вся совокупность общественных норм, включая религиозные и даже социально технические, провозглашается социальным правом. Но критики этой теории резонно считают смешение норм права с другими видами социальных норм неприемлемым, поскольку при этом теряются специфика и особая регулятивная природа каждого из видов социальных норм, а сами правовые явления утрачивают относительную самостоятельность, которой они обладают в социальной среде[51]. Тем не менее использование термина “право” применительно к огромным комплексам разнородных социальных норм часто встречается в этнографической, антропологической и социологической литературе.
Гипотеза религиозного происхождения социальных норм и права в ряде отношений представляется довольно обоснованной, опирается на солидный фактический материал, но и к ней, как показывают современные научные обсуждения соответствующих проблем, надо относиться осторожно. Для определения связи права с религией важно то, как мы понимаем религиозный феномен в обществе. С нормативной точки зрения в нем можно выделить собственно религию (религиозную мифологию) и магику, или магию, различающиеся между собой по характеру отношения человека к сверхъестественному. Религия основана на признании человеком активности сверхъестественного агента — душ предков, божеств, демонов и т. п., — к которому обращаются за помощью, защитой, с просьбой о ниспослании благ, сил, успокоения и т. д. По определению Дж. Фрэзера, религия есть умилостивление и умиротворение сил, стоящих выше человека, сил, которые, как считается, направляют и контролируют ход природных явлений и человеческой жизни[52]. Магия основывается на активности самого человека, способного с помощью сверхъестественной силы приносить людям пользу или причинять им вред (“белая” и “черная” магия). Магия, опиравшаяся на сущности божественные, творившая божественное “чудо”, была (и есть) частью религиозного культа, но если она обращалась к темным, дьявольским силам и несла зло, то она преследовалась жрецами, и не было в древних обществах страшнее греха и преступления, чем колдовство. Религия и магия могли оформиться как особые явления на известном этапе развития первобытного бытия и сознания, они предполагают опыт, который мог накапливаться лишь в условиях религиозной жизни. В первобытной культуре, отмечал Б. Малиновский, магия никогда не считалась природной силой, действующей вне и независимо от человека; “это специфическая и уникальная власть, которая принадлежит только человеку и обнаруживает себя только в магическом искусстве, изливается человеческим голосом и передается волшебной силой обряда”[53]. Объектом магии является не сама природа, а человеческое отношение к ней и человеческие действия с природными явлениями.
Магическое искусство направлено к практическим целям, и в этом смысле оно “сродни науке” Такие видные антропологи, как А. Рэдклифф-Браун, Б. Малиновский, К. Леви-Строс и др., находили основания сближать магическое мышление с научным, ибо оно также основано на стремлении причинно связывать естественные факты (магические действия с желаемыми последствиями), пользуется методом проб и ошибок, нуждается в особом техническом оформлении, собственных “технологиях” и т. д. По словам того же Б. Малиновского, “между магией и наукой имеются некоторые сходства, и мы вправе, вслед за Джеймсом Фрэзером, назвать магию псевдонаукой”[54]. Согласно мыслительным законам магии (магической логике), между вещами существует таинственная, мистическая связь, благодаря которой импульсы, получаемые при воздействии на один объект, посылаются через невидимый эфир на другой объект и производят в нем желаемые изменения. Магическая логика нормативна, на что впервые обратил внимание Д. Фрэзер. Система магии включает в себя большое число позитивных и негативных предписаний, то есть норм. Первые представляют собой правила, необходимые для достижения нужного эффекта, указания относительно того, как надлежит поступать, а вторые — это запреты, исполнение которых избавляет человека от наступления вредных или нежелательных последствий. Совокупность негативных предписаний магического характера, по Д. Фрэзеру, это и есть система табу; табуирование является негативным приложением практической магии. Правило позитивной магии гласит: “Поступай так- то, чтобы произошло то-то и то-то”, правило табу гласит: “Не делай того-то, чтобы не случилось то-то и то-то”[55]. Табуированию подлежат действия и вещи, определенное воздействие на которые может повлечь за собой смерть человека, болезнь или какое-то несчастливое событие. Они, собственно, и выступают как негативные санкции, которые следуют за нарушением табу, негативных магических предписаний.
Табу всегда действует как магический запрет, выражая иллюзорную суть магии. Последняя же (это следует еще раз подчеркнуть) есть превратное убеждение первобытного человека в существовании определенных таинственных связей и взаимовлияний между природой и человеком, осуществляемых с применением соответствующих средств и приемов[56]. Ничего нет более далекого от истины, чем предположение, будто система табу как явление истинно человеческое была заведомой мистификацией, то есть обманом, к которому прибегали “умные” люди (вожди, жрецы, колдуны и т. п.), чтобы к собственной выгоде опутать профанов сетью выдуманных обременительных запретов. Между тем исследователи часто приписывают табу некие немагические, утилитарные цели. Фрейдистская концепция табу, о которой говорилось выше, подменила мыслительные магические законы психоаналитической механикой, при помощи которой главари первобытного стада делают людей управляемыми и послушными, избавляются от анархического проявления природных человеческих инстинктов. У эволюционистов преобладают методы поиска социальных корней табу, ибо за каждым случаем запрета, полагают они, стоят реальные причины и целесообразность. Так, по мнению отечественного этнографа Е. А. Крейновича, система табу у нивхов представляет выражение борьбы различных человеческих групп за существование и базируется на двух видах противоречий: а) между старшими и младшими поколениями, б) между мужским и женским полом. Древние охотники каменного века, используя устрашающие религиозные запреты, лишили молодежь и женщин права употреблять в пищу определенные части медвежьей туши и закрепили это право за собой. Хотя добычу скорее всего приносили молодые, сильные и ловкие охотники, право на лучшие доли все равно оставалось за стариками. Чтобы не погибнуть, они должны были через систему табу и страх перед его нарушением подчинить себе молодых охотников. Отправившись на охоту в лес или море, мужчины-нивхи, замечает Е. А. Крейнович, притесняют посредством табу своих женщин, оставшихся в селении. Пока мужья находятся в море, жены должны поддерживать в очаге огонь, не давать ему погаснуть. Считалось, что хозяин огня помогает охотникам на промысле. Охотники, находясь в море, прыгают с льдины на льдину, чтобы попасть острогой в тюленя, поэтому женщины должны осторожно обращаться с посудой. Если жена разобьет чашку, раковину или что-нибудь другое, то льдина, на которой находится ее муж, треснет и охотник утонет[57]. Но даже эти примеры подтверждают сомнительность прагматического понимания табу. Бесспорно то, что система табу могла использоваться и, несомненно, широко использовалась в интересах отдельных групп в коллективе, но она не могла быть инструментом борьбы за частный комфорт, власть, пищу, за узкогрупповое или индивидуальное выживание. Если бы это было так, то явление табу не представляло бы интереса с точки зрения исторического генезиса социальных норм и права.
В процессе формирования правового способа регуляции табу процедуры и приемы табуирования, несомненно, имели большое значение. Они несли в себе определенные элементы нормативной культуры, способствовали выработке и закреплению поведенческих стереотипов. Многими своими сторонами система табу уже входила в ту специфическую практику древних культур, которую мы имеем основания называть правовой. Речь идет о технологии запрещения и запрета, воспринимаемого как сакрально-магическая неизбежность, о возбуждении эмоций обязанности и долга, их религиозном переживании, о санкционировании запретов, при котором акцент переносится с физического наказания, применяемого сравнительно редко, к наказанию сакральному, подавляющему психику нарушителя табу, обреченного ждать смерти, болезни, утрат и несчастий. Для гомогенной группы с коллективистскими традициями, где принуждение и насилие практически несистемны, негативная магическая санкция была истинной находкой, чуть ли не идеальным средством сдержать тех, кто склонен нарушать социальные нормы по слабости или легкомыслию. Американский этнограф Р. Бартон, оставивший превосходное исследование права филиппинского племени ифугао, считал табу наряду с обычаем источником права данного племени[58]. У ифугао слово “табу” означает буквально “плохой образ жизни”, “злой поступок”; его часто относят к режиму владения рисовыми полями, вещами, к семейно-брачным отношениям. Чужому человеку запрещено проходить через рисовое поле, когда там зреет урожай; в присутствии родственников противоположного пола нельзя затрагивать интимные темы, вести разговор о взаимоотношениях полов, размножении и т. д.
Хотя нормативная функция табу в отдельных обществах, подобных ифугао, могла быть очень значительной, все же считать табу одним из источников древнего права в целом нет оснований. Все виды нормативных требований в древности неизменно принимали форму обычая, традиционного поведенческого стереотипа, передаваемого от старших поколений младшим. Табу не являлось исключением; все религиозные и нерелигиозные, магические и немагические, позитивные и негативные предписания только через обычай становятся действующими социальными нормами. Обычай — единственный и универсальный источник древнего права, морали, системы религиозных норм; обойти его было невозможно. Древняя правовая система по форме своей была обычным правом. Табу, т. е. магическая норма, могло войти в него, лишь приняв эту форму. Но большая часть табу, как известно, не имела отношения к праву. С другой стороны, правовые запреты древности только в сравнительно малой своей части прошли через табуирование. Например, строго соблюдаемые запреты на вступление в брак и половые связи, базировавшиеся на эндогамной или экзогамной системах, ничего магического в себе не заключали, а запреты и ограничения, принятые в хозяйственной жизни, в меновых операциях и т. п., основывались, конечно, на элементарной целесообразности, житейской логике. Целесообразный запрет мог иметь одновременно и магическую санкцию, но это не превращало его в табу. К тому же, как показывает этнографический материал, в древнем обществе существовали различные виды табу. Самый распространенный из них устанавливал стабильное негативное предписание (“не делай”, “не бери”, “не прикасайся”), был совершенно независим от воли религиозно-магических авторитетов и полностью слит с обычаем. В другом случае обычай указывал на право авторитетов табуировать (определять как табу) предметы, вещи, отношения, когда они сочтут это нужным. Так, жрецы могли объявить табу, наложить знак запрета на дерево в роще, чтобы сделать его плоды своими и недоступными для профанов. Такой способ регуляции посредством табу и характер злоупотребления им напоминает современные правовые институты лицензирования, квотирования, дискреционной власти чиновников что-то одним разрешать, а другим запрещать.
В орбиту древних правовых отношений, помимо табу как сакрального предписания, запрета, были вовлечены и другие магико-религиозные феномены, например зароки, заклятия, проклятия. Под зароком до сих пор еще понимают своеобразный запрет или ограничение, которое человек добровольно накладывает на себя, чтобы дать обществу информацию о собственных моральных качествах или жизненных проблемах. Так, человек, на котором лежали обязательства по кровной мести, мог дать обет не стричь волос, не умывать лица, не появляться в родном доме, пока не отомстит за убитого родича. Общинник, которому вероломный сосед не возвратил нечто взятое в долг, может объявить, что будет сидеть у дома обидчика и ждать уплаты долга хоть до самой смерти. Главная цель зароков, которые человек налагал на себя, — показать характер, твердый, надежный, честный или суровый, непреклонный в отношении врагов. В древнем обществе это был еще один способ борьбы человека за индивидуальность. Заклинания были магическими актами, с помощью которых человек стремился по сверхъестественным каналам воздействовать на поведение другого человека в нужном направлении — привязать к себе, оттолкнуть, пресечь злое поведение, враждебные замыслы или колдовские действия. И наконец, проклятие или ритуальное проклятие — это священный эмоциональный призыв к сверхъестественным силам покарать врага, обрушить на его голову всяческие страдания и несчастья. Хорошо известно, что заклинания и проклятия широко применялись в древнем судопроизводстве, были составной частью судебных обрядов и ордалий. Наверное, табу, зароки, заклинания и проклятия не исчерпывают всего богатства магико-религиозных средств древних культур, но при всей их действенности и яркости не они все же определяли магистральный путь развития правового способа регуляции.
Еще и сегодня есть суеверные люди, которые строят свои поступки, сообразуясь с хорошими и плохими приметами, гаданиями и приворотами, легко подвергаются иррациональному воздействию, внушению и страху. Но нынешнее поведение, диктуемое магическими позитивными и негативными предписаниями, не представляет в отличие от древности какой-то особой системы или группы социальных норм и непосредственно не связано с правом, моралью и даже религией. Почему же тогда в древности магическая норма, и в особенности табу, была таким важным фактором социального поведения? Ответ надо искать в анализе древней “языческой” религиозности, который буквально пропитан магикой. Это давало человеку известные преимущества: он был не столько слугой или рабом божества, проводником и интерпретатором его воли, сколько стороной во взаимоотношениях со сверхъестественными силами, с которыми можно договариваться, обмениваться (жертвоприношения в обмен на благо), устанавливать долговременные обязательства в части покровительства, помощи людям против их врагов. Магическая техника носила квазиправовой характер сговора, договора, сделки людей с божествами и, хотя все это снижало сакральную ценность культа (языческие религии в конце концов утратили всякую святость), дли
тельное время нормативно-религиозное и нормативно-правовое начала были достаточно едиными и согласованными. Интересно, что до сих пор противники метафизического понимания права используют зту “связь”, чтобы установить истоки юридического мировоззрения, правовой идеологии в магико-фантастическом восприятии мира древними людьми, в их сакральных переживаниях и ритуалах.
Примечательна в этом отношении позитивистская позиция скандинавского юридического реализма и так называемой упсальской школы права (А. Хегерстрем, В. Лундстедт, К. Оливекрона и др.). Основатель “школы” А. Хегерстрем посвятил несколько работ изучению сознания “примитивных народов”, чтобы показать, как из религиозных верований, древних магических формул возникали контуры современного юридического мировоззрения, определялась идеальная природа его понятий[59]. Древний человек представлен не столько как мыслящее существо, animal sapiens, сколько как существо измышляющее, фантазирующее, верующее и надеющееся, animal mysticum. Скандинавские реалисты утверждают, что право является мистическим как вследствие своего исторического происхождения, так и по своей актуальной сущности. Магический образ мышления, отмечал К. Оливекрона, был общей чертой примитивного права: “Цепь развития никогда не прерывалась. Мы не можем сказать, что здесь кончается магика и начинается рациональное мышление. Современное мышление в вопросах права далеко от того, чтобы быть полностью рациональным”[60]. Таким образом, А. Хегерстрем и его последователи находят причину иллюзорности современных юридических идей (речь идет об идеях естественного права, справедливости и т. п.) в древней магике, в мистической природе человеческого духа, в склонности людей полагаться на иррациональные построения, собственные фантазии и суеверия. Позднее на недостаток рационализма в праве и атавистический характер человеческих требований социальной справедливости ссылался Ф. Хайек: нормы распределения по справедливости, зародившиеся в примитивных общинах охотников и собирателей, — продукт наивного мышления, и если в наше время люди все еще требуют справедливости, то это “признак незрелости нашего ума, показывающий, что мы еще не переросли эти примитивные понятия”[61]. Так что древние магические связи права и религии, как мы видим, не забываются и могут находить теоретическое преломление в самых неожиданных вариациях.
Итак, выводы, которые мы должны сделать из предыдущего изложения, сводятся к тому, что ни одна из нынешних крупных нормативно-регулятивных систем — право, мораль, религия — не обязана другой своим историческим происхождением, а все они примерно в одних и тех же временных рамках, при наличии одних и тех же глобальных материальных и духовных предпосылок выросли из единой синкретической системы норм первобытного общества. Этот этап в жизни человечества был основательно подготовлен всем предшествующим развитием экономических отношений, родовых и семейно-брачных связей, социальной организации и общественного сознания. Оно привело к такому состоянию единой нормативной сферы, когда она, выражаясь фигурально, начинает прорастать; из нее медленно и постепенно пробиваются ростки различных типов социальной регуляции, одни из них появляются раньше, другие — позже, одни развиваются быстрее, другие — медленнее, одни достигают расцвета, тогда как другие только входят в силу, и т. д. У каждой нормативно-регулятивной системы теперь своя судьба, своя история и свои темпы развития, определенные не только общими социально-экономическими предпосылками и вытекающей отсюда общностью их социальной природы, но и присущей им спецификой, своеобразием их функциональной роли в обществе. Каким бы ни был разрыв во времени, как бы внушительно ни выглядел он на шкале истории, нужно, по-видимому, отдавать себе отчет в том, что возникновение различных нормативно-регулятивных систем, форм общественного сознания, политогенез и появление государства представляют собой не диахронический ряд мировых событий, а звенья растянувшегося во времени, разбросанного в пространстве, но в общем единого и синхронического процесса. Религиозный способ регуляции в истории ряда культур оформлялся первым, как бы прокладывая дорогу моральным и правовым нормам, предвещал и содействовал их появлению. Но искать в нем причины происхождения права и морали — значит допустить известную логическую ошибку — post hoc ergo propter hoc (после того, значит, по причине того). Однако такую ошибку часто допускали и допускают.
Особое значение имеет относительная слаженность тенденций и линий генезиса права, морали и религии, потому что они в любом обществе, не только в древнем, составляют ведущий нормативно-регулятивный блок, основу социальной регуляции. Как справедливо подчеркивал известный английский антрополог А. Рэдклифф-Браун, право, мораль и религия — это три способа контроля над человеческим поведением, которые в разных типах общества различным образом дополняют друг друга и образуют многообразные комбинации. В праве содержатся юридические санкции, в морали — санкции общественного мнения и совести, в религии — религиозные санкции. Один и тот же дурной поступок может подпадать под две или три санкции; области права, морали и религии разделены, однако как в древности, так и в наше время существуют сферы, где они пересекаются[62]. Исторически первые пересечения религии и права были синтезом соответствующих начал, характеризовались существованием сильных религиозно-правовых систем (ведизм, зороастризм, иудаизм и т. д.), но и тогда эти черты были присущи не всем культурам.
Теория сакрального происхождения права (Г. Мейн, А. Пост и др.), получившая широкое распространение в конце прошлого века, не была поддержана антропологами, историками и самими юристами. Е. Хоубел, автор ряда обобщающих трудов по антропологии права, указал на нерелигиозный в целом характер “примитивного права” Ритуалы и ордалии, условные проклятия и процессуальный формализм — это лишь небольшая часть права первобытных народов вообще[63]. Даже в наиболее религиозных древних системах социальной регуляции, отмечает Е. Хоубел, право самостоятельно и активно по отношению к обществу; более того, оно “как последняя надежда становится поддержкой религии, когда религиозные санкции отказываются работать, а табу постоянно игнорируются” С другой стороны, “магика, использование сверхъестественного для моральных целей, долго остается служанкой права, подтирающей места, где метла права метет недостаточно чисто”[64]. Подвергнув анализу древнейшие источники права, те самые, на материале которых была построена теория сакрального происхождения права, юристы пришли к выводам, опровергающим многие предположения Г Мейна или А. Поста. Например, относящиеся к середине V в. до н.э. законы критского города Гортин являются самым ранним древнегреческим правовым памятником, но они — образец “секулярного” права — не содержат религиозных и даже моральных норм. Правовые понятия гомеровской эпохи, судя по анализу “Илиады” и “Одиссеи”, по сути лишены какого-то сакрального смысла. “Вообще ни один греческий фрагмент права не содержит доказательств, поддерживающих религиозную теорию происхождения права"[65]. Если внимательно проанализировать нормы наиболее архаичных древневосточных кодексов и фрагментов (шумерские, хеттские законы, вавилонские юридические тексты, включая кодекс Хаммурапи), то окажется, что в них нет норм сакральной жизни вроде тех, которые содержатся в библейском Пятикнижии. В них совершенно отсутствуют религиозные санкции за проступки и преступления, что само по себе свидетельствует о значительной дистанции между правом и религией в обществе.
Исторические и этнографические данные свидетельствуют, что древнейшие процессы синтезирования религиозных и правовых начал были заторможены и прерваны в эпоху политогенеза, формирования первичных политических структур, предгосударств и ранних государств, с появлением писаного источника права — закона, о принудительном обеспечении которого заботился его создатель (король, царь или князь). Только применительно к таким обстоятельствам можно считать, что “право первоначально возникает и развивается как самостоятельная отрасль знания, в значительной степени независимо не только от религии, но также и от морали. Законодатели руководствуются прежде всего соображениями целесообразности и логики, хотя, конечно, их представления о целесообразном и логичном испытывают на себе влияние и морали, и религии”[66]. Все это, может быть, и верно, но относится не к первоначальному происхождению права как особого нормативного социального образования, а к возникновению политизированного источника права — закона, официально фиксированного, писаного нормативно-правового акта.
Глава 2. Ранние формы права и государства
§ 1. Проблема догосударственного права
Процессы происхождения и ранней истории права изучают, как известно, многие общественные науки: история первобытного общества и древнего мира, теория и история права, социология права, этнография, юридическая этнография (этноюриспруденция), социальная и юридическая антропология[67]. Как между этими науками, так и отдельными учеными, представляющими ту или иную названную науку, нет согласия по основным вопросам: возникло ли право в недрах первобытного общества или пришло позднее, вместе с государством, которое явилось “межевым знаком”, разделившим первобытность и период последующего цивилизованного развития человечества? Есть историки, юристы, социологи, антропологи, которые утверждают с различными оговорками, что право существовало в догосударственном, первобытном обществе, и есть историки, юристы, социологи, антропологи, которые тоже с оговорками отвергают возможность существования догосударственного права. Те и другие имеют дело с одними и теми же научными данными, исследуют примерно тот же самый материал. Почему же они приходят к противоположным выводам и ведут в связи с этим длительные дискуссии? Все дело в методологии и подходах, которые применяются к изучаемому материалу. Что касается теории права и государства, то пути решения соответствующих проблем здесь определены юридико-позитивистской методологией, точнее, этатистским позитивизмом в Европе и реалистической либо аналитической юриспруденцией в США и Англии. Юридический позитивизм устанавливает сущностную связь между государством и правом на понятийном уровне, исследует право инструментально и функционально как этатическое явление, а феноменологию государства делает принципом объяснения реальностей права. На протяжении почти двух столетий в юридической науке, русской и зарубежной, воспроизводятся юридико-позитивистские “аксиомы": “государство предшествует праву исторически и логически”, “право есть функция государства, и потому логически оно немыслимо без государства и до государства” (Г. Ф. Шершеневич). Юрист-позитивист никакого права, не исходящего от государства, не признает; проблемы первобытного общества, где не было еще государства, его не интересуют. Его позицию в противоположность юридическому плюрализму, о котором мы будем говорить ниже, можно назвать политика-монистической, потому что сущность права и его происхождение жестко связываются с наличием зрелых политических структур государства, а право, созданное государством, считается единственно возможной правовой системой в обществе. Легко убедиться, заглянув в соответствующие учебники, что история права сведена к истории государственного правотворчества, памятников и систем законодательства. Вне поля зрения современной позитивистской юриспруденции остаются многочисленные собранные этнографами, антропологами данные о правовых обычаях бесписьменных культур, сохранивших если не первобытный, то очень древний уклад жизни племен и народов, так же как и обильные исторические свидетельства о “правовом быте” безгосударственных или раннегосударственных обществ.
Историки, этнографы, антропологи, имеющие дело непосредственно с фактическим материалом и, казалось бы, свободные от методологических приоритетов юридического позитивизма, в большинстве своем поддержали вывод о невозможности существования права в первобытном обществе, хотя от них требовалось точно описать соответствующие факты, т. е. обычаи, нормы, институты, и ответить на вопрос, были ли они (или не были) элементами регуляции, к которым древний человек относился так или приблизительно так, как современный человек относится к праву. “В родовом обществе, — пишут отечественные этнографы, — системы права в строгом значении этого слова не существует. Поведением членов общества управляет не система законов, а обычай, причем спорные вопросы возникают по поводу тех или иных ситуаций чрезвычайно редко, потому что, по выражению Энгельса, “в большинстве случаев вековечный обычай уже все урегулировал”. Итак, первобытного права не было. Почему? Да потому опять- таки, что там нет государства и издаваемых от его имени законов. “Государство и право в истории — близнецы, рождающиеся вместе, — продолжают те же авторы. Государство — аппарат насилия одного класса над другим, а одним из главных орудий такого насилия выступает право”[68]. Исследуя нормативную сферу первобытности, А. И. Першиц исходил из того, что “нормы поведения в доклассовом и догосударственном обществе не могут быть отнесены к категории правовых: права еще не было”[69]. Его “еще не могло быть, так как еще не было институционализации власти”[70]. Многие этнографы, изучавшие социальную организацию безгосударственных народов, нормы, регулирующие имущественный статус группы или семьи, формы владения, брак и разводы, проступки и наказания, обменные отношения, займы и иные сделки, были вынуждены искать эвфемизмы, чтобы избежать термина “право” Но было немало исследователей, которые в таких случаях предпочитали называть вещи своими именами.
Процесс становления политических и правовых форм был чрезвычайно растянут во времени, его начало можно определить лишь приблизительно и отнести к эпохам, когда определяющую роль начинают играть такие социальные факторы, как частная собственность, наследование, обмен, экономический оборот. Общественное и иное развитие, будучи поступательным, совершается от простых форм к сложным. Эволюция есть постепенное накопление элементов, усложняющих явление. Если на какой-то момент взять ряд явлений одного типа, одной сущности, скажем, ряд правовых систем, существующих в XX в., то перед нами они предстанут как явления различной степени сложности, развитости. По сравнению со сложными, зрелыми правовыми системами малоразвитые покажутся нам простыми, исторически недоработанными — словом, примитивными. Но чтобы так судить, мы должны исходить из некоторой нормативной модели той же правовой системы, предположить, что эволюционист непостижимым образом создал, вычислил, сконструировал чистый, идеальный (веберовский) тип явления, взял его как образец при оценке всех реальных явлений данного типа. Он расценивает одну правовую систему как совершенную и зрелую, другую — как примитивную. Но весь вопрос в том, что гносеологического оправдания для идеального нормативного типа явления просто не существует, Выбор этого типа в общем произволен и зависит от предпочтений, ценностных представлений самого исследователя-эволюциониста. Скорее всего он будет руководствоваться своим личным опытом, ценностями своей культуры, своего народа, своего времени.
Общий взгляд на историю права, утвердившийся в XIX в. и в принципе не изменившийся до сих пор, является эволюционистским. Древние и последующие по времени правовые системы, включая современные, представляют право как единое явление истории и культуры. Первые ученые-юристы, обратившиеся к проблемам первобытности, считали возможным, говоря словами А. Поста, “открыть общую историю развития человеческого права, которая равно приложима ко всякому органическому образованию, возникшему в среде человеческой расы” “Множество обычаев — именно юридических обычаев — с удивительной однообразностью повторяются у всех народностей земного шара, и для множества из них совершенно исключена возможность, чтобы они путем рецепции попали туда, где мы их встречаем. Человеческий дух творит в области права с изумительной общей для всего человечества закономерностью, которая ставит вне сомнения господство всеобщих железных естественных законов”[71]. Некоторые юристы, стоявшие на позициях социологического эволюционизма (А. Кокурек, Д. Вигмор и др.), полагали даже, что в начале человеческой истории существовало некое единое общечеловеческое право, из которого потом разрослось ветвистое древо правовых систем разных времен и народов. Более мощное эволюционистское направление (Э. Тэйлор, Л. Морган, Г. Мейн, А. Пост, М. М. Ковалевский и др.) представляет историю права как разновременное, параллельное развитие правовых систем согласно общим закономерностям социальной эволюции, проявляющимся вследствие единообразия человеческой природы и схожести проблем, решаемых на одинаковых стадиях общественного развития. История права всегда повторяется, и те самые стадии, которые были достигнуты на Востоке много тысячелетий назад, в других частях мира достигаются позднее или в наше время. Полагают, например, что Кодекс Хаммурапи (1914 г. до н.э.) представляет стадию, которой Рим достиг в 196 г. до н.э., Англия — около 1250 г. н.э., а Абиссиния только сегодня[72]. Признание общечеловеческих критериев оценки развитости права дает возможность, исходя из идей единства человеческого рода, восхождения культуры по ступеням прогресса, выделять исторические этапы правого развития и соответствующие им типы правовых систем. В зависимости от стадии и с переходом от относительно простого к более сложному состоянию общества право принимает определенные новые черты, отличающие зрелую правовую систему от примитивной. Общества, находящиеся на одинаковых стадиях развития, имеют однотипные правовые системы. Их основные тенденции и институты, не представляя собой каких-то универсальных образцов правовой эволюции, тем не менее демонстрируют очевидное сходство и подобие. Изучив одну из них, можно с известной осторожностью делать выводы относительно других, восполнять пробелы в знаниях о давно исчезнувших правовых системах. На этой основе развиваются представления о культурно-исторической типологии права. Так, П. Г Виноградов, например, в основу своей классификации положил принцип организационного усложнения правовых систем: право племен, городов, церкви, договорных ассоциаций и коллективистских организаций[73]. Но одно время достаточно распространенной была схема Уильяма Сигла, который с точки зрения возрастающей социоэкономической комплексности выделил три типа права: примитивный, архаический и зрелый[74]. При этом примитивное право не есть в самом деле право, но представляет собой “бесформенную груду” норм, с помощью которых примитивные культуры решают конфликты, являющиеся эмбрионально правовыми.
Отношение к праву древних народов как “примитивному” установилось в прошлом веке. В том, что большинство традиционных культур, систем и институтов в различных регионах мира попали с легкой руки эволюционистов в разряд “примитивных”, нередко усматривают проявление “европоцентризма”, отождествления понятий “человеческая цивилизация” и “западная цивилизация” Чтобы избавиться от “дикости”, преодолеть отсталость, “примитивные” культуры должны усваивать опыт цивилизации, подтягиваться к Западу. Предлагается однолинейная схема человеческого цивилизационного развития, которая предполагает, что люди всех времен и континентов шли и продолжают идти одним маршрутом, одним путем, в начале которого находятся “примитивные” народы и культуры, а в “конце истории” как венец цивилизации возвышается западная либеральная культура. Общественные науки в немалой степени способствовали утверждению этой схемы. Об одной из них очень жестко писал африканский писатель и ученый Битек: “До сих пор социальная антропология представляла собой исследование незападных обществ западными учеными в интересах Запада”[75]. Под воздействием критики часть антропологов нашла в себе силы пересмотреть научно устаревшие эволюционистские представления, но, возможно, здесь были и другие причины. “Как это ни парадоксально, — писал К. Леви-Строс, — но чувство симпатии к этим народам, несомненно, побудило многих антропологов принять идею плюрализма, которая утверждает разнообразие человеческих культур и вместе с тем отрицает возможность классификации культур на “высшие” и “низшие”[76]. Но над созданием образа “примитивного общества” и “примитивного права’’, как известно, кроме антропологии, немало потрудилась и англо-американская правовая мысль.
Остановимся на некоторых определениях права, разработанных английскими и американскими юристами на основе или с учетом материалов по древним культурам. Как и европейский юридический позитивизм, аналитическая юриспруденция, юридический реализм и другие направления юридической мысли Англии и США устанавливают высокий предел развитости общества, в котором могут возникать и функционировать правовые институты. “Примитивное право”, утверждал Е. Хартлэнд, существовало задолго до писаных законов, регулируя отношения в низших культурах, сделавших еще очень незначительный прогресс. Так как люди должны были кооперироваться, заботиться о гармонии во взаимоотношениях, что, в свою очередь, предполагает “некоторый тип рудиментарной регуляции”, то ответом на эту потребность является древний обычай. Совокупность обычаев и есть “примитивное право”, простейшее образование, изучение которого мало что дает для познания цивилизации. Оно замечательно лишь тем, что представляет поистине всю целостность обычаев племени. Точно так же как имя на низшей стадии культуры есть часть самого индивида, примитивное право есть существенная часть племени. Каждый его институт одинаково освящен длительным применением, религией и инстинктивным повиновением членов племени. “Право есть проявление племенной жизни, такое же нераздельное, как и сама жизнь”[77]. Но вследствие такой широты “примитивное право” не может считаться юридическим феноменом; в нем есть лишь крупинки, зачаточные формы, которые только впоследствии смогут развиться в настоящее право с дифференцированной структурой и функциональной специализацией.
Уильям Сигл солидаризировался с Хартлэндом, по крайней мере, по двум позициям: во-первых, “примитивное право” не есть право вообще, во-вторых, оно дано в обычае и только через обычай. Подобно тому как этатистский позитивизм выходит на определение права через феномен и понятие государства, позитивисты-аналитики используют в этом качестве суд и судебную деятельность. По определению У. Сигла, “критерий права в строгом смысле один и тот же как для примитивных, так и для цивилизованных обществ: а именно — существование судов”[78]. В этом он следует английской юридической традиции, для которой суд олицетворяет право. Согласно известному определению Д. Салмонда, право есть “не что иное, как совокупность норм, признаваемых и применяемых английскими судами при отправлении правосудия” Более того, по его мнению, действительные нормы права являются “вторичными” и “несущественными... Устройство правосудия вполне возможно без права вообще”1 2. Суды объявляют и вводят в силу нормы, которые постепенно складываются в систему права (corpus juris), связно и симметрично аранжированную, четкую и техничную. Вот почему появление судов, по Сиглу, было концом “примитивного права” и переходом к праву архаических обществ с определенной политической организацией. Данный процесс имел два источника: секуляризацию обычая и возникновение институтов возмездия за секулярные (нерелигиозные) проступки. Подобно тому как необходимость есть мать изобретений, писал Сигл, нарушение — мать права. Юридические институты, право в целом “имеют свое происхождение из патологии социальных отношений и расцветают только тогда, когда существуют частые нарушения социального равновесия”3. Не возникновение письменности или что-либо подобное, а появление судов завершает стадию “примитивного права” и возвещает приход эры права, так же как и самого государства. “В действительности суд, — писал У. Сигл, — дал начало государству, именно в судах впервые воспитывалось
1 Seagle W. The Quest for Law. N. Y., 1941. P 34.
2 Salmond J. Jurisprudence. L., 1920. P. 113; см. также: Aumann F. The Instrumentalities of Justice. Columbia, 1956. P. 3.
3 Seagle W. The Quest for Law. P. 35.
чувство этатизма со всеми его отклонениями и лояльностью. Суд был ответствен за этатистский миф, потому что через его служащих обычный человек приходил в контакт с властью”1. В целом же схема исторического развития права, по Сиглу, такова: обычаи существуют до появления судов (примитивная фаза), но в архаическую фазу они должны быть объявлены правом судами, и лишь с приходом профессиональных юристов правовые системы становятся зрелыми.
К основным положениям концепции У Сигла, по существу, присоединялся Р. Редфилд, подчеркивавший, что представляемый им подход не имеет цели найти у простых народов полного развития того, что можно обнаружить в письменных и сложных культурах. Но в простых обществах вполне возможно открыть образцы поведения, которые в рудиментарной форме представляют или предвосхищают право[79]. Нет и не было единого “примитивного права”, как и “примитивного общества” Дописьменные культуры были разнообразны в части норм, процедур, судов, форм и комбинаций поведения, предвещающих современные юридические институты. Из двух в принципе тождественных понятий “примитивное” и “рудиментарное” право Р. Редфилд предпочитает последнее, потому что рудименты права не только встречались в древности, но и присутствуют в простых группах современного общества — в семье, клубах, бандах и т. п. “Высокоразвитое государство с сильным правом выглядит таким огромным, что мы не всегда видим внутри него малые общества, представляющие в некотором отношении примитивное общество, имеющие свое собственное регулирование и свое собственное право”[80]. Но это уже не что иное, как плюралистический подход к изучению права, более основательно разработанный некоторыми антропологами.
Почти общей чертой антропологических определений права выступает широта понятийных рамок, позволяющая охватить понятием права чуть ли не все социальные нормы первобытности. Для определенных кросскультурных целей Лаура Надер предложила операциональную дефиницию, включающую в себя следующие элементы: все общества имеют нормы, регулирующие поведение, одни из них исполняются на основе личного предпочтения, другие — предписываются обществом; в определенных ситуациях, когда предписанные нормы нарушаются, общество поручает кому-либо наказывать нарушителя или соглашается с известными способами наказания[81]. Но в древности со всеобщего согласия сурово наказывались не только правовые, но и религиозно-ритуальные проступки, причем даже сильнее. Известный антрополог Е. Хоубел исходил из того, что “социальная норма является правовой, если ее нарушение или пренебрежение ею регулярно наталкиваются на угрозу или реальное применение физической силы индивидом или группой, которые обладают социально признанной привилегией это делать”[82]. Юридический элемент данного определения очевиден: это акцент на обеспечении нормы принудительной властью, признаваемой обществом, как сейчас говорят, легитимированной. В книге о праве индейцев- чейенов, которую Е. Хоубел написал в соавторстве с известным американским юристом, крупнейшим представителем правового реализма в США К. Ллевеллином, сделана попытка раскрыть понятие “правовой авторитет” как совокупность четырех элементов: способность вводить императивы, которые заставляют людей вести себя определенным образом; верховенство, которое выражается в том, что в случае конфликта с другими ценностями правовые императивы превалируют; системность, характеризующая право как организованный комплекс явлений; официальность, которая придает правовой системе публичный характер[83]. Кроме того, Е. Хоубел выделил наиболее общие функции “примитивного права”, согласно которым оно должно: а) определять отношения между людьми, устанавливать, какая деятельность дозволена или запрещена, чтобы обеспечить хотя бы минимальную интеграцию между индивидами и группами внутри общества; б) смирять насилие и направлять силу на установление порядка, распределять власть и определять, кто вправе осуществлять физическое принуждение с выбором наиболее эффективной санкции; в) избавляться от затруднительных случаев, когда они возникают; г) переопределять при изменении условий жизни отношения между индивидами и группами, т. е. достигать приспособляемости[84]. Принимая во внимание указанные определение и функции права, можно установить, что правовая система существует у самых разных народов — от эскимосов до ашанти.
Признак легитимированной принудительной власти в понятии права нисколько не выделяет какую-либо предполитическую власть, тем более власть государственную. Дело обстоит проще. “Где существуют подгруппы, которые являются отдельными единицами внутри социального целого, — писал Е. Хоубел, — там и есть политическая организация — система регулирования отношений между группами или членами различных групп внутри общества в целом”[85]. Так как практически нет сообществ без внутренних отношений обособленных подгрупп, то примитивная политическая организация и примитивное право, можно сказать, универсальны. Значительная часть западных антропологов в той или иной форме поддерживают взгляд на право как систему норм, которая держится на публичном авторитете и его общественном признании. А. Рэд- клифф-Браун, взяв за основу определение права Р. Паунда “право есть социальный контроль посредством систематического применения силы политически организованного общества”[86], признавал эмбриональную форму публичных правовых действий там, где старики могут объявить человека дурным и опасным, организовать его наказание без сопротивления родственников или при их участии, как это бывало, например, у эскимосов, когда неисправимого убийцу предавали смерти его собственные родичи. Право, вообще говоря, начинается с того, что группа родственников, отстаивающих родовой интерес в споре, уже способна признавать свою неправоту под воздействием аргументов, вытекающих из общей нормы.
Обратимся теперь к другой группе антропологических теорий права, которые во многих отношениях противоположны рассмотренным концепциям, подчеркивающим в понятии права ту или иную роль элементов внешнего, авторитарного социального контроля — принудительного обеспечения норм, конфликта, насилия, нарушения, судов, наказаний и т. п. Все они увязывают происхождение и функционирование раннего права с деятельностью политизированного авторитета, будь то предгосударственное образование, суд или просто вождь, наделенный признанной властью выносить свое решение по спорному делу. Против абсолютизации фактора суда и судебной деятельности возражал, например, М. Глукмен. Все общества, считает он, имеют системы принятых норм и в этом смысле у них есть право. Далеко не во всех обществах существуют суды или то, что можно назвать судебными институтами, но даже там, где они есть, большинство обязательств соблюдается помимо и вне судебной деятельности[87]. Подчинение нормам обеспечивается по преимуществу различными наградами и “внутренними санкциями самих социальных отношений” Механизм действия этих внутренних санкций мало интересовал юристов и антропологов, о которых мы говорили выше. Тем более важна и интересна концепция Бронислава Малиновского, определявшего право как бы “изнутри”, через его собственную обязывающую силу, способную действовать без подталкивания со стороны каких-либо принудительных авторитетов.
Сам Б. Малиновский едва ли претендовал на разработку общей теории права, но сформулированное им на основе антропологического материала определение права в качестве системы связывающих обязательств, рассматриваемых как право на одной стороне и признаваемых как обязанность на другой стороне[88], стало заметной вехой в развитии юридической антропологии. Б. Малиновский развил свое понимание права на материалах меланезийского общества (Тробриандские острова в южной части Тихого океана), где ему пришлось проводить собственные исследования. Анализируя социальную организацию тробриандцев, он обратил внимание на четкую, ритмичную и безотказно действующую систему регуляции хозяйственных связей между островитянами, несмотря на отсутствие простейших институтов внешнего социального контроля. Основной саморегулирующейся хозяйственной ячейкой выступает небольшая рыболовная артель — экипаж каноэ[89]. Лодка принадлежит одному лицу (хозяину), но обслуживается группой его сородичей, связанных сложной системой взаимных обязательств. “Сумма обязанностей, привилегий и взаимностей связывает собственников с объектом и друг с другом”[90]. Члены команды выступают как носители прав и обязанностей, характер которых строго соответствует четко разделенным функциям внутри ячейки. Экипаж каноэ, обменивая рыбу на растительную пищу, вступает как единый субъект в связи с другими группами, причем нормативная, или, как писал Б. Малиновский, юридическая сторона этих связей сводится также к взаимным обязательствам. Меновые связи являются устойчивыми, ритуализированными и происходят в форме взаимного дарения. Рыбаки, получая дар от земледельцев (и наоборот), должны отплатить его; никто не может отказаться от принятия или возвращения дара, скупиться или слишком долго задерживать отдарок. Каждый участник старается показать свою заинтересованность в продолжении дарообменных связей, желает быть высокоуважаемым и незаменимым партнером, поэтому экономические по сути дела отношения универсализируются, приобретая религиозно-ритуальный и нравственно-престижный смысл. Смысл системы ритуального межплеменного обмена островитян (“кольцо кулу”), по мнению Б. Малиновского, состоял не столько в материальной выгоде, сколько в поддержании социальных связей, социальной интеграции и солидарности[91]. Анализируя все эти явления, Малиновский приходит к выводу, что племенная социальная организация может давать образцы права очень высокого порядка. Оно не нуждается в принуждении, потому что ему следуют спонтанно. Критерий права Малиновский видит не в существовании централизованной принудительной власти, кодексов, судов и констеблей, а в реальной сумме обязательств, обязанностей, привилегий и взаимностей, которые связывают людей. Взаимный характер связи делает ее правовой. В определении права Малиновского почти полностью исчезают политический и внешне-принудительные моменты. В обеспечении правовой нормы акцент перенесен на внутреннюю ее санкцию.
Считают, что вклад Б. Малиновского в юридическую антропологию состоит прежде всего в понимании права с учетом “внутренней санкции социального отношения”(Л Надер). “Урок Малиновского учит тому, — писал М. Глукмен, — что социальный контроль в наиболее общем смысле, — или, как он говорит, право, — может быть понят в рамках анализа санкционируемого отношения”[92]. Если так, скажем мы, то это действительно очень важный вывод; получается, что право может стоять на собственном фундаменте, оно — базовый регулятор общества, ему нет необходимости тащиться вслед за экономикой, его не следует выводить оттуда или отсюда, рассматривать как производное от религии, как перелицованную мораль или адаптированную политику. Но что собой представляет эта внутренняя санкция социального отношения? Каждая из сторон при обмене услугами и функциями наблюдает за мерой исполнительности и честностью партнера. Поведение обозримо с различных сторон и в принципе контролируемо изнутри отношения. Такая форма социального контроля, отмечал Малиновский, нисколько не тяготит островитян. Совершая акты ритуального обмена по обычаю “кулу”, стороны рассчитывают, что их действия будут должным образом оценены, ибо целью для них является не только материальный интерес, но, может быть, в первую очередь укрепление дружбы, завоевание личного престижа. Каждый акт обмена — это “полукоммерческая сделка с определенными публичными церемониями” — поддерживается не только дуальной структурой отношения, внутренней симметрией, балансом взаимных предоставлений и услуг, но и психологическими механизмами, к которым можно отнести желание похвастаться, произвести впечатление на других своим богатством, щедростью, дружелюбием, получить признательность и расположение партнеров. В этом контексте любая нечестность, недобросовестность, жадность и просто угрюмый характер могли сыграть роковую роль; человек, не выполняющий своих обязательств или выполняющий их плохо, с откровенным нежеланием, выпадает из системы дарообменных отношений. Отказ партнеров иметь с ним дело — это и есть эффективное наказание, “внутренняя санкция социального отношения”.
В разных формах она встречается у многих народов. Описывая механизм исполнения обязательств у аборигенов Соломоновых островов, антрополог Ян Хогбин, разделявший правовую теорию Малиновского, писал: “Лицо, которое уклоняется от своих обязанностей, рано или поздно пострадает: я вспоминаю одного человека, который должен был жить в убогой лачуге, потому что никто не захотел помочь ему, когда его старое жилье пришло в негодность, и в результате он должен был сам управляться как мог. Он всегда находил отговорки, когда другие люди строили дома, и они отплачивали ему отказом участвовать в его делах. Там же были два или три человека, имевшие очень маленькие садовые участки, потому что по причине лености в помощи другим они обрабатывали их без должной помощи"[93]. Эффективное действие этой санкции в определенных обществах ставило неуживчивых, своекорыстных и излишне самолюбивых людей в явно некомфортабельные условия, подобные тем, которые антропологи Поль и Лаура Боханнан отмечали у африканского племени тив. “Страх остаться в одиночестве являлся очень острым среди тив. Человек, который пререкается со своими сыновьями и братьями, вскоре находит себя одиноким, без занятий, неспособным обрабатывать свои поля. Плохой характер, грубость, скупая натура “портят компанию”[94]. Так что указанная Малиновским форма социального контроля через внутреннюю санкцию социального отношения представлена вполне реальными и распространенными институтами, которые могут быть отнесены не столько к типу права, сколько к типу социальной психологии.
Внутренние санкции, награды и наказания включены в самую ткань отношения; тот, кто разочарован в ожиданиях, сильно обижен, не желает сотрудничать, добровольно покидает систему отношений либо выталкивается из нее. Но это не легко и не быстро происходит, система имеет достаточный запас прочности, а люди — запас терпения. Если присмотреться, пишет Б. Малиновский, то есть постоянные задержки в сделках, ворчание и упреки, сдержанные жалобы на партнера, но в целом партнерство продолжается и каждый выполняет свои обязанности[95]. Несмотря на эти “мелочи”, право в понимании Малиновского и его последователей возникает из спокойного и размеренного процесса взаимодействия и обмена. На меланезийских материалах он пытался оживить весьма соблазнительный идеал права, его самодовлеющую природу и механизмы, работающие как часы, без принудительного вмешательства извне, без авторитарных инстанций, насилия и наказаний. Оппоненты не без оснований расценивали подобное правопонимание как юридическую идиллию, мало совместимую с действительностью, что, впрочем, понимал и сам Малиновский. Неадекватность или, по крайней мере, неполнота такого правопонимания обнаруживается уже при слабых попытках его универсализации. Резко выступив против традиционных правовых концепций, подчеркивающих принудительный авторитет и насилие, Б. Малиновский, по выражению Е. Хоубела, проявил себя в некотором роде как “обскурантист права” Серьезным дефектом концепции Б. Малиновского Е.Хоу- бел считает отождествление права с отношением, из которого оно возникает, что не дает возможности пролить свет на природу социального контроля вообще, его действия в рамках культуры, приводит к игнорированию правовых фаз культуры. Но все же, признает Е. Хоубел, Б. Малиновский пробил кору юридического формализма в антропологии, внес позитивный вклад в теорию права, подчеркнув роль права в обществе и культуре[96]. Надо сказать, что принципиальный подход Б. Малиновского к праву был выработан не на основе умозрительных предположений или абстрактно логических гипотез, но на содержательном и многозначном эмпирическом материале. Он содержал безусловный и намеренный вызов “догме механического подчинения праву”, без которой современная юриспруденция и юридическая практика уже не способны обходиться. Работы Б. Малиновского породили надежды на возможность построения теории права на принципиально непринудительной основе, а также показали все трудности осуществления подобного проекта.
Особым типом антропологической теории права, претендующей на кросскультурный статус, является плюралистическая концепция Л. Посписила. Пытаясь навести мосты между юриспруденцией и антропологией, которые независимо исследуют сущность права собственными методами, он берет в основу постулат юридического реализма о том, что право может существовать только в конкретных решениях. Норма поведения, даже если она зафиксирована в законе, записана в кодексе, относится к правовой сфере при условии, что ее применяют те, кто выносит решения. Лишь в этом случае норма в действительности осуществляет социальный контроль в смысле определения права Р. Паунда. Существенной чертой правового решения в споре выступает то, что третья сторона (авторитет) обладает привилегией (исключительным правом) принимать его, пользуется признанной властью над спорщиками, т. е. юрисдикцией. И авторитет, и стороны в споре принадлежат к одной социальной группе, где, собственно, осуществляются юрисдикция и социальный контроль. Поэтому право как таковое, согласно Л. Посписилу, относится к специфическим группам с хорошо определенным членством. Само право как социальный и культурный институт должно удовлетворять четырем признакам: а) оно выражается в решениях политического авторитета; б) оно включает в себя отношения между двумя сторонами спора; в) оно характеризуется регулярностью применения; г) оно обеспечивается санкциями[97]. В любом обществе с четко выраженным лидерством существует право, отвечающее данным признакам. Коль скоро авторитет, осуществляя свою юрисдикцию, принимает решение, участники спора под воздействием убеждения или принуждения должны подчиниться его условиям. В этом состоит, собственно, политический момент понятия права.
Согласно определению Л. Посписила, правовую систему внутри себя общество создает лишь тогда, когда оно сегментировано, т. е. дифференцировано на подгруппы, разделено по частям. Основную ошибку юристов и некоторых антропологов он видел в традиционном понимании права как свойства общества в целом, в игнорировании социетальной структуры, сегментации общества на составляющие его подгруппы, где в основном развертывается правовая жизнь. Ошибкой считал Л. Посписил и то, что юридическая антропология стремится описывать право “примитивных” народов как хорошо интегрированную систему с некоторой непоследовательностью и противоречиями. “Я постулирую, что всякое человеческое общество имеет не единую последовательную правовую систему, но столько таких систем, сколько есть в нем функционирующих подгрупп”[98]. Эту свою позицию Л. Посписил называет кросс- культурной реалистической концепцией права или плюралистической теорией, поскольку она допускает внутри единого общества функционирование некоторого множества правовых систем. Ссылаясь на собственные исследования среди папуасов капауку, нунамиутских эскимосов и тирольских крестьян, он утверждает, что решение по спорам, которые выносят лидеры подгрупп, удовлетворяют всем четырем признакам понятия права, поэтому “каждая функционирующая подгруппа общества имеет свою собственную правовую систему, которая в определенных отношениях необходимо отличается от правовых систем других подгрупп”[99]. В каждом обществе, примитивном и современном, действуют правовые системы различного уровня, они составляют иерархию, отражающую включенность соответствующих подгрупп в единое целое. Человек подчинен правовым системам тех подгрупп, членом которых он является; например, папуас капауку выступает одновременно членом своего собственного домохозяйства, “сублиниджа, линиджа, политической конфедерации” (терминология Л. Посписила) и, возможно, других политически и легально организованных подгрупп.
Выделяются, таким образом, правовые уровни, через которые люди и их группы включаются в правовые связи. Возьмем ли мы племя или современную нацию, они никогда не представляют собой амальгаму людей, но, скорее, мозаику из подгрупп определенного типа с различным членским составом и степенью включенности в целое. Соответственно включенности и типу групп правовые системы могут рассматриваться как принадлежащие к различным правовым уровням, накладывающимся один на другой, причем система более широкой группы применяется к членам всех конституирующих ее подгрупп[100]. Индивид обычно подвержен действию'нескольких правовых систем одновременно, которым он подчиняется по-разному. Это дает возможность объяснить, почему в одном обществе человек есть прежде всего член своей родственной группы или деревни и во вторую очередь — племени, а в другом он в основном контролируется более широким социальным (племя) и политическим (государство) единством. В конечном счете Л. Посписил приходит к следующему выводу: “Всякий глубокий анализ права примитивных или цивилизованных обществ может быть достигнут только его связью с соответствующими социетальными структурами и правовыми уровнями и с полным признанием плюральности правовых систем в обществе”[101].
Плюралистический подход к праву не является принципиальным открытием Л. Посписила; до него в этом направлении высказывались немецкий юрист О. фон Гирке, австрийский юрист Е. Эрлих, юрист-реалист К. Ллевеллин, социолог М. Вебер и другие, но ему, безусловно, принадлежит заслуга системного развития идеи до уровня юридико-антропологической теории кросскультурного значения. Она претендует на универсализм, до которого редко поднимаются многие юридические и антропологические концепции права. Там, где существует хотя бы простой, как в семье, способ авторитарного разрешения споров, конфликтов с элементами подчинения и принуждения, там есть и всегда было право определенного уровня. Подобное расширение понятия права, разумеется, не находит широкой поддержки среди антропологов, не говоря уже о юристах, однако принцип плюрализма, примененный к юридической реальности, позволяет находить аргументы против традиционной этатизации правовых отношений и догмы механического подчинения праву.
Подводя итоги рассмотрению англо-американских юридических и антропологических концепций, мы должны констатировать по крайней мере две бросающиеся в глаза тенденции. Во-первых, все они, за редким исключением, не стремятся представить некие общие закономерности, выработать теорию происхождения права вообще; они в лучшем случае являются продуктом сравнительного анализа некоторого числа “примитивных правовых систем”, причем антропологи, естественно, работают с этнографическим материалом при слабом использовании данных древней истории, а у юристов на первом месте оказываются общие схемы, проникнутые в той или иной мере историзмом, но главным образом выражающие методологические установки влиятельных юридико-позитивистских теорий: “норма права — это команда авторитета, власти” (аналитическая юриспруденция), “право дано в решениях по спорам и в действиях суда”(юридический реализм), “право есть социальный контроль” (Р. Паунд) и т. п. Во-вторых, все рассмотренные концепции допускают широкие возможности существования догосударственного права, потому что “примитивное право” рассматривается, как правило, в сочетании с “примитивным политическим авторитетом”, способным применять санкции за нарушения норм. Там, где для обеспечения правовых норм европейские правоведы требуют сильного государства, наиболее развитой формы политической власти, англосаксонские юристы удовлетворяются догосударственным судом (впрочем, для них и современный суд есть нечто большее, чем государственная структура или само государство); политическими феноменами могут быть и эфемерная конфедерация племен, и власть вождя, старейшины решать споры между родственниками. В целом англо-американские концепции допускают существование права на очень ранних стадиях развития человечества. Это было “примитивное” (“эмбриональное”, “рудиментарное” и т. п.), но все-таки право.
Перекинув взгляд в Европу, мы увидим, что здесь мнения ученых по вопросу о существовании права в догосударственную эпоху поляризованы более четко, чем в Англии и США. Если не вдаваться в детали, то суть в том, что все юридические теории, поднимавшие проблемы исторического генезиса европейско-континентальной (романо-германской) модели правовой системы, можно при известном обобщении и с некоторой условностью разделить на две группы, одна из которых жестко связывает происхождение права с государством, другая признает существование определенных форм права и правовых систем в обществах, где государства еще нет или оно только что начинает зарождаться. Решающим был вопрос: что такое право? Когда право определяют как совокупность норм, установленных государством в форме закона (законодательства) и обеспеченных его принудительной силой, когда в праве видят орудие политического господства и инструмент социально-классового принуждения, тогда, перенося такое понимание на первобытность, мы получаем заранее определенный вывод о невозможности существования права до появления государства. Но подобное этатизированное правопомание сегодня подвергается критике с различных точек зрения. Оно монистично, т. е. сводит конечный критерий определения права к государству, что вызывает, в свою очередь, признание в обществе только одной правовой системы, той, которая исходит от государства, представляет собой гомогенное целое, как бы единый блок. Плюралистический подход к праву является ответом на этот монизм. Такое понимание формально, т.е. ограничивает определение права указаниями на форму его установления (закон) и обеспечения (принуждение) и оставляет открытым вопрос, что такое право по своему содержанию. Неудовлетворенность формальным отношением к праву стимулирует поиски его субстанциальных определений. Наконец, это понимание изначально политизировано, т. е. в его основу берутся не собственно юридические, а политические элементы. У права здесь нет своей сущности, она подменена сущностью политической; право — та же политика, как прямо писал Р. Иеринг. Монизм формально догматической и политизированной юриспруденции был продуктом эпохи образования крупных национальных государств в Европе (XVI— XVIII вв.), но юридико-теоретическое оформление получил лишь в XIX столетии.
В трактовке сторонников этатистского подхода историческое происхождение права представлено как сознательно организованный, субъективный процесс: право, собственно, не возникло из общественных структур и отношений, оно было создано, сконструировано, введено волевым порядком господствующей верхушкой государства, заинтересованной в подавлении, эксплуатации и манипулировании массами. Исторически право навязывалось обществу с помощью войны, насилия и принудительного умиротворения. Теории насильственного происхождения государства и права включали следующие положения:
а) государство — результат политического развития древнего общества (политогенеза), итог эволюции политически-властных структур, усиливающихся посредством организации захватнических войн, завоеваний и продолжающегося насилия;
б) государство есть порядок, создаваемый перевесом силы власть имущих, обеспечиваемый принудительными мерами, оно представляет собой систему господства сильной социальной группы над более слабыми;
в) чтобы удержать в рамках известного порядка социально дифференцированное общество, государство устанавливает право, проистекающее из политической власти сильнейшего и существующего неравенства в обществе;
г) исторически и логически государство первично по отношению к праву, которое представляет собой форму государственной политики;
д) право есть силовой инструмент государства, оно не может существовать, не опираясь на насилие.
Перед нами теоретическая схема, у основания которой стояли многие политические мыслители прошлого. Жесткая политизация исторического генезиса права и самого права была характерна для взглядов таких представителей теории насилия, как австрийский социолог Людвиг Гумплович или германский юрист Рудольф Иеринг. Последний выводил право из власти сильнейшего, видел в нем не что иное, как “придаток” политической власти, а само право определял как “политику власти”, “обеспечение жизненных условий общества в форме принуждения”[102]. Основатель крупнейшего социологического направления в теории права Р. Иеринг выдвинул тезис о сущностной связи государства и права через силу, принуждение. Право — это вторая природа государства, суть его — в дисциплине и принуждении. Л. Гумплович был убежден, что "властвование искони и повсюду устанавливается завоевателями, .которые благодаря превосходству сил своих покоряют оседлое население[103]. Победители образовывали правящий класс, а побежденные и порабощенные — низший класс, утверждал он. Насилия не могут быть продолжительными, всякая война должна рано или поздно стихнуть, более слабые должны прекратить бесполезное сопротивление и принять власть сильных. Тогда-то и возникает необходимость в праве для обеспечения мирного и постоянного порядка на условиях, угодных правящему классу: “Порядок, устанавливаемый силой одних, слабостью и инертностью других, превращается с установлением мирных отношений в правовой порядок”[104]. Право, согласно Л. Гумпловичу, основывается на неравенстве сил, потому что равные силы, по его предположению, всегда одержимые страстью к завоеваниям и покорению, должны либо уничтожить друг друга, либо, что вероятнее, вступить в союз и подчинить себе третью, слабейшую силу. Право, таким образом, есть не что иное, как упорядоченное неравенство, форма государственного строя. “Ошибочно считать право равным распределением благ; безумство верить, что может существовать право, равное для всех. В действительности право возникает только в государстве; государство же есть организация неравенства, а право есть выражение, норма, которая фиксирует это неравенство”[105]. Подобные представления о происхождении государства и права в смягченной, непрямолинейной форме и в ином концептуальном контексте вошли во многие крупные современные доктрины. Насилию как фактору политогенеза и правообразования придавалось большое значение в широко известном марксистско-ленинском учении о государстве и праве, хотя здесь уже было показано, что право возникало в силу общественной необходимости, а не просто сопровождало появление политических и иных социальных форм, что правовые начала, близкие к экономической сфере, были в некоторых древних обществах чрезвычайно активными, пролагали путь политическим формам и государству.
Краткое освещение юридических теорий, рассматривающих право как независимое от государства явление и подчеркивающих самостоятельность процессов его возникновения, можно было бы начать с естественноправовых доктрин, точнее, некоторых из них, уделявших пристальное внимание изучению связей между естественным и позитивным правом. Но тут есть определенные сложности. Мы должны войти в область философии права, где с историческими аргументами и социологическими фактами мало чего можно добиться, где генезисные проблемы получают, как правило, умозрительные, метафизические решения: все происходит от Бога, разума, из природы человека, природы вещей и т. п. Поэтому вклад естественноправовых учений в проблему исторического происхождения права в целом весьма скромен, хотя очевидно, что с естественноправовой точки зрения право при известных условиях предшествует государству, стоит над ним, но скорее логически, чем исторически, идеально, чем реально. В этом отношении более четко обозначенными были позиции исторической школы права в Германии (Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта и др.), которая последовательно отрицала элементы произвольности и субъективизма в процессах происхождения права. Право рождается из “народного духа”, оно вырастает из жизни, формируется спонтанно и медленно, подобно тому как создается язык народа. Главный принцип существования права — саморазвитие. Юридические формы не меняются согласно человеческой воле, индивиды могут быть пассивными носителями юридических установок, но не их создателями. Другой важной чертой исторической школы в интересующем нас плане было отрицательное отношение к закону, законодательству, кодексам, официальным формам права. Предпочтение безусловно отдавалось “народному обычаю” — подлинному праву. Таким образом, право всегда есть, но только оно у народа, а не у государства. Представители исторической школы выступали против универсализации права, которое не представляет собой продукт мировой истории, но есть итог органического национального развития; в их концепциях заложены начала плюрализации и деполитизации правовой сферы.
Проблемами происхождения права с увлечением занимались французские солидаристы. Связанный с именем Э. Дюркгейма солидаризм предполагает взгляд на общество как состояние взаимной потребности людей друг в друге, сплоченности и сотрудничества. Осуществление принципа социальной солидарности и соответствующих ему социокультурных традиций характерно для нормального человеческого общества, а что касается вражды и конфликтов, проявлений индивидуального и группового эгоизма, то это — отклонения от нормального состояния, нарушение равновесия, которые могут быть преодолены нормативными средствами. Наиболее крупная соли- даристская теория права была разработана Леоном Дюги, который исходил из принципа солидарности как “взаимозависимости, соединяющей людей в силу общности потребностей и разделения труда членов одной и той же социальной группы” Внутри каждой группы, считал Л. Дюги, нет никаких прав коллектива в отношении индивида, так же как наоборот, но есть социальные нормы, требующие солидарного поведения и дисциплины, поддерживаемой всеми членами группы. Люди связаны не правами (последние скорее разъединяют группу), а взаимным долгом и обязательствами. Норма — органический закон социальной жизни; она — не моральная, а именно правовая норма, потому что применяется только к внешним выражениям человеческой воли и необязательна для внутреннего мира человека. Кроме того, она делает обязательными для людей только те акты, которые имеют социальную ценность и ведут к социально значимым последствиям. Социальная норма, постоянно подчеркивал Л. Дюги, не может обосновывать субъективных прав в пользу индивида или в пользу группы, она несет в себе лишь долг солидарности. “Таким образом, никто не имеет в социальном мире другого полномочия, кроме выполнения задачи, возлагаемой на него социальной нормой или, если угодно, положением, занимаемым им в системе взаимозависимости, соединяющей членов одной социальной группы”[106]. Такое положение вещей не выдумано законодателем или мудрым реформатором, оно дано солидарной природой общественности.
Еще Э. Дюркгейм считал древние традиционные общества показательными в смысле возможностей проверки солидаристских идей. В предисловии к русскому изданию книги Л. Дюги А. С, Алексеев писал: “В первобытных союзах общественная солидарность, благодаря простоте отношений, чувствуется непосредственнее и социальные нормы соблюдаются без содействия организованного принуждения. Лишь с усложнением общественных отношений возникают те общественные противоречия, которые вызывают нарушения социальных норм, наступают та борьба сил и тот социальный антагонизм, которые роковым образом ведут к фактическому преобладанию сильных над слабыми и к сосредоточению принудительной власти в руках первых”[107]. Право, по учению Л. Дюги, возникает до государства, зарождается с первыми признаками общественности. Оно самостоятельно существует в государстве, облекаясь в форму закона, становится под защиту организованной принудительной силы. Собственно, для защиты правовой организации отношений, дисциплины, основанной на принципе солидарности, возникает само государство.
В начале XX в. солидаристские идеи получили некоторое распространение и в России. Интересную интерпретацию дал им М. М. Ковалевский, соединявший, как известно, в одном лице юриста, социолога, историка и этнографа. Не борьба за жизнь, не конфликты и споры, не привычка жертвовать ближним ради собственного самосохранения вызывали процессы генезиса права. Борьба за существование в той степени, в какой она действительно имела место, в конце концов не воспрепятствовала, а, может быть, даже способствовала образованию права, благодаря тому что инстинкт самосохранения подсказывал людям мысли о сплочении, мирном сожительстве, солидарности, возбуждал сознание общности интересов и взаимной зависимости друг от друга. “На почве этой солидарности человеческих групп, предшествующих во времени образованию государства, и возникает право, еще ничем не отличающееся от нравственности, подобно ей имеющее религиозную окраску...”[108] Право, считал М. М. Ковалевский, зарождается вместе с первыми общественными союзами и отвечает одному с ними запросу на солидарность все более расширяющихся групп. Таким образом, идеи солидаризма, считал он, не расходятся с выводами сравнительного изучения права на различных ступенях общественности, которые сводятся у тому, что нормы права существовали гораздо ранее возникновения государства, они уже были, по мнению М. М. Ковалевского, в эпоху материнских, а затем патриархальных родов, т. е. “уже на низших ступенях общественности право совпадает с понятием нормы, приводящей свободу индивидуальных лиц в соответствие с требованиями общественной солидарности”[109].
Но конечно, не только солидаристские идеи в России начала XX в. позволяли утверждать широкую автономию права по отношению к государству. Еще в большей мере этому содействовали, например, “школа возрождения естественного права” и психологическая теория права Л. И. Петражицкого. Разделяя право на позитивное и интуитивное, он определял последнее как класс психических явлений, императивно-атрибутивных переживаний, постигаемых интроспективно и существующих независимо от внешних обстоятельств. Интуитивное право возникает, существует и приходит в движение по законам индивидуальной человеческой психики без помощи “посторонних авторитетов” Психические явления, объективированные в решениях судов, чиновников, законодателей и других носителей власти, имеют над- и межиндивидуальный характер, становятся позитивным правом, по отношению к которому государство играет чисто служебную роль[110]. Поскольку правовые эмоции объективируются различными способами, сфера позитивного права заполняется множеством нормативных систем. Л. И. Петражицкий предлагает ряд классификаций видов права: законное право, судебное право, обычное право, официальное и неофициальное право, книжное право и т. д., в свою очередь подразделяемые на подвиды. Отталкиваясь от реального состояния российского права своего времени, он, по сути, пришел к идее правового плюрализма. По словам Л. И. Петражицкого, “состав официального позитивного права русского государства, заключающего в себе множество народностей и племен, находящихся на весьма различных ступенях развития, со множеством разных национальных прав, религий и церквей, отличается чрезвычайной сложностью и пестротой не только по содержанию, но и по обилию и разнообразию “источников”, видов и разновидностей позитивного права”[111]. Плюрализм российского права тогда был достаточно очевидным.
Законодательство России шло значительно дальше западных государств, предоставляя обычному праву, несмотря на его древнее происхождение, широкую сферу действия. В этом легко убедиться, заглянув в свод законов. Русское крестьянство в то время в большинстве своем вело общинный образ жизни и, как полагали некоторые исследователи, имело свой особый “народный правопорядок”, собственное “народное”, “крестьянское” или “общинное право”[112]. От дореволюционного времени осталась обширная этнографическая и юридическая литература о действовавшем тогда на отдельных территориях государства обычном праве народностей, населявших многонациональную Россию. Российские этнографы и юристы того времени попытались на базе собранных материалов выделить и определить предмет “первобытного права”(западный термин “примитивное право” в России не привился), развернуть исследования по юридической этнографии[113]. Усилиями русских ученых был открыт огромный и разнообразный правовой мир, совершенно не вмещающийся в рамки юридико-позитивистских представлений о возникновении и развитии правовых систем.
В Западной Европе осмысление исторических судеб права продолжалось в тех направлениях, о которых говорилось выше. Официальная, политизированная юридическая наука не желала признавать правом то, что не могло рассматриваться в качестве социального контроля, осуществляемого государством нормативными средствами и в рамках проводимой им политики. Системы норм негосударственного происхождения, если даже трижды было доказано, что они осуществляют правовые функции в своих культурах и субкультурах, не считались правом и не принимались во внимание при историческом анализе юридических институтов. Историю западного права, ведут не от древнейших юридических текстов, не от известных греческих и римских памятников права, а с периода, последовавшего за рецепцией римского права в Европе. Крупный авторитет в области юридической компаративистики Р. Давид относил создание “романо-германской правовой семьи” к XII— XIII вв., полагая, что до этого времени могли существовать элементы, из которых создаются правовые системы, но тогда было еще рано говорить о системе и, может быть, даже о праве[114]. Американский юрист Г. Берман также считает, что западная традиция права зародилась в Европе XI—XII вв., но основы ее закладывали не государства, а католическая церковь; базовой европейской системой права выступило каноническое право — итог папской революции XI в., утверждения политической независимости римской церкви в качестве корпоративного юридического образования под эгидой папства[115]. Такая концепция, конечно, не добавляет лавров в венец государства как строителя правовой системы, но все же оставляет за рамками анализа процессов формирования западной правовой традиции политически несовершенный опыт более ранних обществ и культур в сфере правового регулирования.
В другом направлении — от политико-монистических позиций к правовому плюрализму — пошли представители ряда юридических школ в основном социологического плана. Первым в этой связи можно назвать Е. Эрлиха с его учением о свободном (“живом”) праве. Центр тяжести в развитии права как в древности, так и в наше время, утверждал он, находится не в законодательстве, не в юриспруденции, не в судебной практике, а в самом обществе. Применение закрепленной в законе нормы, дедуцирование решения из формальных законоположений должны быть заменены индуктивными приемами поиска решений на базе социальных данных и интуитивного чувства справедливости. В таком случае правоприменение и правотворчество перестают быть зависимыми от авторитета государства, а само право возникает везде, где в нем есть общественная необходимость. Открыто антиэтатистский характер носила социологическая теория права французского юриста Ж. Гурвича, который связал принципы плюралистического построения правовой сферы с целями поддержания равновесия между социальными группами, балансировкой отношений между государством, с одной стороны, и церковью, корпорациями, партиями, профсоюзами и т. д. — с другой. Правовые системы общественных структур обладают функциями сдерживать государственный централизм, поползновения к диктату и политическому произволу. Право, по Ж. Гурвичу, может обойтись без государства, правовые системы возникают для осуществления собственных функций и задач. Для плюралистов, вообще говоря, право — комплексная, гетерогенная, почти необозримая сфера. “В одно и то же время на одном и том же социальном пространстве могут сосуществовать несколько правовых систем; разумеется, прежде всего государственная, но наряду с ней и другие, независимые от нее и даже эвентуально соперничающие с ней. Такова исходная гипотеза юридического плюрализма, стремящаяся опираться на факты”[116]. Противостояние юридического монизма и юридического плюрализма, которое в последние десятилетия не без дальних расчетов поддерживается с той и другой стороны, всегда имеет определенный политический смысл. В любой своей форме юридический плюрализм создает препятствия политике укрепления и централизации государства, потому что он “основывается на том, что государство не имеет монополию на право”[117], и отдает юридические средства в руки наиболее могущественных секторов общества. Сегодня, когда на Западе, согласно некоторым теориям (обоснованным или нет — вопрос другой), государственная централизация и бюрократизм более или менее укрощены либеральными идеологиями, встает проблема совместимости юридического плюрализма с перспективами развития национальных государств, образовавшихся на территориях бывших колоний. Попытки обобщить концепции юридического плюрализма и сделать из них практические выводы наталкиваются на интересы этих еще недостаточно окрепших и не всегда единых государств при проведении политики интегрирования социальных структур для решения проблем национального масштаба.
Что касается советского периода в развитии нашей юридической науки, то в целом он прошел под знаком правового монизма, развенчания и неприятия альтернатив понимания права, сводимого к государственному законодательству. Установку на отрицание догосударственной истории права у нас считали когда-то проявлением “классового подхода” и верности марксистско-ленинскому учению о государстве. Но в действительности она была следствием догматизации некоторых марксистских положений, ответственность за которую лежит скорее на марксистах, чем на самом марксизме. Дело в том, что К. Маркс и Ф. Энгельс под влиянием Л. Моргана допускали существование права в догосударственном (“примитивном”) обществе[118], причем процесс возникновения права как нормативной системы регуляции общественных отношений был предметом ряда специальных марксистских конструкций, которые в свое время не были достаточным образом выделены и изучены.
Одна из них разделяет всю правовую историю на две стадии — варварскую и цивилизованную. Первая включает эпоху еще догосударственную, но уже затронутую процессами социального расслоения и классообразования, эпоху господства обычного права; на второй стадии оформляется и развивается цивилизованный способ осуществления права в форме закона. Как писали К. Маркс и Ф. Энгельс, “история права показывает, что в наиболее ранние и примитивные эпохи эти индивидуальные, фактические отношения в их самом грубом виде и являются непосредственно правом. С развитием гражданского общества, т. е. развитием личных интересов до степени классовых интересов, правовые отношения изменились и получили цивилизованное выражение. Они стали рассматриваться уже не как индивидуальные отношения, а как всеобщие. Вместе с этим благодаря разделению труда охрана сталкивающихся между собой интересов отдельных индивидов перешла в руки немногих, и тем самым исчез и варварский способ осуществления права”[119]. Оперируя такими понятиями, как “цивилизованное выражение правовых отношений” или “варварский способ осуществления права”, К. Маркс и Ф. Энгельс предвосхитили некоторые темы трудов Л. Моргана, более поздней работы Энгельса “Происхождение семьи, частной собственности и государства”, где проблема варварства и цивилизации стала предметом специального рассмотрения. Если с цивилизацией государство только возникает, то право лишь трансформируется, приобретая вместо варварского цивилизованное выражение правовых отношений.
Государство, когда оно появляется, активно формирует систему позитивного права, установленного в виде законов, административных распоряжений, судебных прецедентов, санкционированных обычаев и т. д. Но уже до возникновения государства как особой политической организации человечество накапливает известный правовой опыт регуляции общественных связей нормами обычного права, которые возникли и оформляются в эпоху классообразования и отражают сложную, запутанную и длинную практику этой догосударственной или предгосударственной стадии. Чисто внешнее различие между системами обычного и позитивного права заключается в том, что в первом случае нормы и институты права возникают органическим, стихийным способом, в порядке нормотворческой самодеятельности участников социального общения; во втором — они устанавливаются органами и лицами, на которых официально возложена такая функция и которые облечены специальной властью формулировать право (легислатура). Это различие, однако, не является абсолютным, оно постепенно стирается по мере исторической эволюции систем древнейшего обычного права в системы права положительного (позитивного), связанного с государством и законом. Но лишь некоторая часть правовых обычаев оказалась тогда инкорпорированной в законодательство или судебные прецеденты, другая их часть (как правило, большая) долго действовала и после возникновения государства, существовала параллельно с позитивными правовыми нормами, что определяло, например, сложную структуру правопорядка в рабовладельческом или феодальном обществах. Как важнейший шаг политического развития, отделяющий цивилизацию от варварства, государство застает известные наличные правовые формы, придает им качественно новый вид, заменяя в той или иной мере обычное право положительным (позитивным). С идеей Л. Моргана относительно вытеснения обычного права законодательством соглашался К. Маркс, о чем свидетельствует составленный им конспект книги “Древнее общество” в той части, где говорится о значении мер афинского законодателя Солона для разрушения старого порядка наследования всем родом. Мы приводим это место из книги Л. Моргана с сохранением разрядки К. Маркса: “Признав за владельцем абсолютное право собственности на его имущество при жизни, этот закон дал ему теперь сверх того право оставить это имущество по завещанию {кому угодно}, если у него не было детей; но право рода на имущество оставалось в силе, пока были дети, которые могли представить владельца в р о д е. Во всяком случае этот обычай (т. е. обычай завещания имущества) должен был существовать еще прежде, так как Солон только превратил в положительное право обычное”[120]. Мысль о том, что право по своему объективному содержанию, характеру и нормативным функциям существует до того, как оно воплощается в законе государства, что в древнем обществе это была первоначальная и единственная тогда форма его существования, многократно повторяется в книге Моргана. Первые законы греков, римлян, евреев после начала цивилизации, считал он, представляют собой главным образом правовое оформление того, что в результате предшествующего опыта уже получило свое воплощение в обычаях.
Новое, что приносит государство обществу в нормативнорегулятивной сфере, есть не право как общественный регулятор, оно уже было известно в форме обычая, но совершенно новая правовая форма — закон, законодательный акт, кодекс. В целях обеспечения норм оформляется организованная сила принуждения к исполнению правовых требований, действующая в государственных интересах. Здесь снова можно сослаться на Энгельса, который в полемике с Прудоном доказывал, что не экономические отношения возникают из идеи права, а наоборот. При этом Энгельс набрасывает довольно реалистическую схему возникновения права из материальных общественных структур: “На известной, весьма ранней ступени развития общества возникает потребность охватить общим правилом повторяющиеся изо дня в день акты производства, распределения и обмена. Это правило, вначале выражающееся в обычае, становится затем законом. Вместе с законом необходимо возникают и органы, которым поручается его соблюдение, — публичная власть, государство”[121]. Вот, стало быть, когда можно обоснованно употребить слово “вместе”: государство появляется вместе с законом, а не правом; закон возникает вместе с государством.
Все попытки проникнуть в тайны предыстории и ранней истории права, как мы видим, дают весьма относительные результаты. И те, кто поддерживает гипотезу о существовании древних догосударственных форм права, и те, кто решительно ее отвергает, своим категорическим решением провоцируют постановку новых проблем, на которые нелегко ответить. Не по “большинству голосов” исследователей, не под давлением собранного этнографического или антропологического материала, а также зафиксированных в исторической памяти фактов (из одних и тех же фактов можно вывести разные обобщения), а исходя из содержательных и формальных критериев, субстанциальных черт права, мы можем сделать следующие выводы.
— Право достаточно рано пришло в человеческое общество. Наряду и вместе с другими способами регуляции поведения оно выделилось из синкретической системы социальных норм, которая предположительно могла существовать в первобытном стаде и, возможно, в малочисленных изолированно живущих группах эпохи палеолита. Первые формы права (нет необходимости называть их рудиментарными, эмбриональными, ибо в каждом эмбрионе “генетически” закодировано соответствующее явление) появились, наверное, еще во времена, предшествующие расцвету первобытного общества, а в период разложения первобытно-общинного строя оно уже существовало и развивалось как обычное право.
— Правовое поведение есть архетип человеческого поведения, обнаруживаемый там, где необходима хотя бы минимальная организация общественных отношений через нормативные механизмы прав и обязанностей, обменных и распределительных стандартов, поощрений и наказаний, стимулов и запретов. Возможность приведения этих механизмов в действие посредством принуждения и силы является вторичным признаком права, потому что, во-первых, он проявляется небезусловно, а только в случаях нарушения нормы, а во-вторых, авторитет, осуществляющий принуждение, должен уже до этого быть правовым, т. е. обладать признанным исключительным правом (привилегией) применять санкции.
— Древние правовые нормы, передаваемые от одного поколения к другому в форме обычая, отличаются от современных тем, что они как должное не претендовали на действительность в силу абстрактно-ценностных качеств (блага, добра, справедливости), но стремились сущее поддержать как должное, превратить его в традицию. Высшее оправдание требований должного состояло в том, что так было и так есть
(нормативная сила фактического). Правовое развитие человечества, стало быть, начиналось со стихийного юридического реализма.
— Ранние обычно-правовые системы складывались объективно путем полностью не осознаваемого, медленно ползущего процесса закрепления определенных форм поведения и адаптации их к природной и культурной среде с минимумом риска и срывов. Системы обычно-правовых норм, поскольку они формируются бессознательно и стихийно, трудно коррелируются со своими “создателями”, определенными социальными группами. В культурах со сложно структурированной социальной организацией могли одновременно действовать, перекрывая друг друга, несколько обычно-правовых систем. В одних ситуациях группа руководствовалась собственными правовыми обычаями, а в других прибегала к обычаям, принятым более широкими социальными образованиями (союза племен, конфедераций, региональных единств). Бывало, что отдельные правовые системы контролировали обширные пространства, но, как правило, не монопольно и без окрытой борьбы с другими системами норм, функционирующими в том же пространстве.
— Процесс исторического генезиса права относительно самостоятелен. Своим существованием право не обязано ни религии, ни морали, ни политике, хотя с ними, если рассматривать их как нормативно-регулятивные системы, оно тесно связано. Правовой способ регуляции общественных отношений имеет собственные основы и свои задачи в обществе, но он теряет значительную часть своей силы в изоляции от других регулятивных форм; утрата связи с религией и моралью, как свидетельствует древняя и современная история, губительна для права, морали и особенно для политики.
— В рамках первобытного общества правовая эволюция, судя по всему, прошла ряд фаз. Глобальный переход от родовой общины к соседской вызвал полосу крупных изменений и обновления институтов обычного права, связанных с землевладением, имущественными отношениями, формирующейся публичной властью, отношениями личной зависимости и т. д. Мощными толчками модернизации обычного права в древности послужили поэтапное разделение общественного труда, появление социальных страт и зарождение первых городов. Вместе с тем долго сохранялись, и далеко не как пережитки, обычаи глубоко древнего происхождения, касающиеся кровной мести, брачных отношений, родового имущества и т. п. Родовые по своему характеру, они в условиях нового общественного структурирования продолжали действовать в пределах относительно узких кровнородственных групп.
— Обычное право выступало активным фактором политогенеза и образования государства. В основном через правовые механизмы (заем, аренда, залог, наем и другие обязательственные отношения) одни свободные общинники закабаляли других, превращали их в полусвободных или рабов; через присвоенное верхушкой право оставлять у себя добытые на войне богатства, порабощать пленных возникали привилегированные страты внутри общин, происходила социальная дифференциация, за которой неизменно следовало возникновение политических институтов и самого государства. С появлением авторизованной государством формы права — закона — эра господства обычного права заканчивается, хотя само оно на протяжении всей человеческой истории продолжало непрерывно существовать и, как известно, действует на своем месте и в наши дни.
§ 2. Формы раннего права и государства
Представленная здесь схема функционирования обычного права в культурных границах обществ, где нет государства или где оно еще не развилось, не развернуло достаточной законодательной деятельности и пока в основном полагается на традиционные способы регулирования, подтверждается материалами, находящимися в распоряжении общественных наук, которые изучают проблемы первобытности и древней истории. Эта схема расширяет горизонты теоретического правоведения, позволяет глубже понять и переосмыслить многие так называемые общие категории права. Отвергая эту схему, мы невероятно обедняем историю права, которая по временным рамкам, объему и разнообразию материала вполне сопоставима с историей религии. Обычное право появляется раньше государства, способствует, а иногда противодействует его образованию и на протяжении длительного времени не просто сосуществует с публичной властью и судами, но и работает вместе с ними, служит им, часто вынужденно, приспосабливается к новым политическим институтам. Происходило это не без противоречий и борьбы.
Появление органов централизованной публичной власти, базовой структуры государственности, вначале, по-видимому, слабо отразилось на действии обычно-правовых систем, они, как и раньше, продолжали делать свое дело, но со временем государство все дальше входило в сферу правового регулирования, пытаясь овладеть его инструментами, прежде всего такими, как суд, наказания, санкции, и т. п. Государственные суды не могли принести собственного права, они вначале руководствовались обычным правом с поправкой на волю царя или короля, возглавлявшего властную иерархию, а также осторожными и редкими прецедентами при решении новых, не урегулированных обычаем проблем. Несколько позже наступила эпоха “варварских правд” и древних “судебников”, которые внешне выглядели как запись обычаев, но в действительности представляли собой только их небольшую часть, приемлемую для государства, переработанную и дополненную нормами, выражающими политику власти. Ранние государства вели непрерывную борьбу за право, отголоски которой сохранились в отношениях современных государств к правовым системам. Из правовой сферы вытеснялись обычно-правовые нормы, которые считались устаревшими и вредными, усиливался авторитет писаного юридического акта, сужалась юрисдикция племенных, общинных судов в интересах судов государственных и т. п. Исход этой борьбы в пользу государства определился с появлением регулярного законодательства, после того как были настроены и приведены в соответствие друг с другом государственные подсистемы управления, судопроизводства и законодательства. Это могло произойти только на высокой ступени развитости государства, но лишь на данной стадии, довольно поздней для многих обществ, государству удается оттеснить на периферию (но не вытеснить) обычноправовые системы, установить свою гегемонию (но не монополию) в правовой сфере.
Иногда обычное право рассматривают как “своеобразную переходную форму от обычая к закону”[122]. Дело представляется таким образом: в догосударственном обществе действует обычай, который правом называть еще нельзя, лишь с появлением государства, получая санкцию последнего, он становится обычным правом, а за правовым обычаем идет уже закон. Обычай получает свои правовые качества опять-таки от государства, что похоже на чудо: государство своим жезлом прикасается к обычаю, и он превращается в правовой феномен. Такая конструкция нам представляется искусственной попыткой с политико-монистических позиций объяснить активную роль обычного права в период от появления первичных форм государственности (публичной власти) до сравнительно позднего появления закона. Те, кто придерживается подобных взглядов (а это в основном юристы), не раскрывают, что такое “государственное санкционирование обычая” Если имеется в виду молчаливое согласие власти с действием обычаев, то в таковом, скорее всего, никто не нуждался. В общинах разворачивалась традиционная правовая жизнь, ее участники заключали сделки, разрешали споры по взаимным претензиям и при этом мало интересовались, как относятся к их обычаям царь и его окружение. Многие обычаи к тому же не нравились властям, и, будь их воля, они бы отменили или предали их забвению, но приходилось терпеть и считаться с ними, потому что з£ этими обычаями стояли организованные общинные структуры, сила общественной традиции, с которой ранние государства предпочитали жить в мире. Нельзя рассматривать как “санкционирование” и отбор обычаев с целью их записи и кодификации (в “варварских правдах”, например), потому что здесь четко ставилась иная задача: переработать, переплавить обычай, соединив его с новыми нормами, отражающими политические установки государства, и тем самым подтолкнуть юридическую (судебную) практику в определенном направлении. Если судить по “варварским правдам” и древним судебникам, то под такую “переработку” попала лишь ничтожно малая часть старых правовых обычаев. За понятием “санкционирование обычая”, похоже, не стоят сколько-нибудь достоверно устанавливаемые исторические институты и процессы.
В целом неисторично и предположение, согласно которому право возникло в результате замены одних обычаев другими. “Первоначально право складывается как совокупность новых обычаев, к исполнению которых (в отличие от прежних обычаев, соблюдавшихся добровольно, в силу привычки) обязывают нарождающиеся государственные органы, прежде всего органы, отправляющие судебные функции. При решении конкретных дел суды, исходя из интересов правящей знати, в одних случаях применяют старые обычаи, в других случаях отказывают в их применении, в третьих — вводят новые правила, которые тем самым становятся общеобязательными. Так складывалось обычное право — форма выражения права в нарождающемся эксплуататорском обществе”[123]. Если обычное право зарождалось именно так, то есть согласно преднамеренной программе деятельности государства и его судебных органов, то почему мы должны называть такое право “обычным”, а не “государственным”? Какое же это обычное право, если его “делает” государство, основываясь на материальных соображениях и собственной пользе? К тому же представление о том, что государство сразу же после своего возникновения способно делать все, что ему заблагорассудится, устанавливать угодные ему порядки, ломать и перестраивать общество, которое остается и долго еще будет традиционным, мягко говоря, не согласуется с историей.
Некоторые историки-юристы утверждают, что до появления государства даже частная собственность не может считаться юридическим институтом[124]. Но тогда какой это институт? На это отвечают: мы имеем здесь просто фактические отношения между людьми. Можно ли себе представить частную собственность, возникающую на поздних этапах разложения первобытно-общинного строя, просто фактическим отношением? Суть частной собственности не в том, что человек держит вещь и не выпускает ее из своих рук. Она в том, что общество признает за человеком право на ту вещь, которую он держит, а это значит — он может пользоваться ею сам, передавать другому, уступать, дарить, т. е. делать ее предметом оборота, меновых актов. Это право — конституирующий момент частной собственности, без которого она не может состояться как экономический и социальный феномен. Частная собственность не может существовать фактически, не существуя юридически. Свое право она приносит с собой. Государство лишь находит адекватные формы закрепления и интерпретации права частной собственности в интересах господствующих сил. Очевидно, что политико-монистические установки заводят проблему происхождения права в тупик. Выход — в признании того, что правовые обычаи возникают именно как правовые, что обычное право — это никакая не переходная форма, а фундаментальное явление, проходящее через всю правовую историю.
Возникает еще один очень сложный вопрос: можно ли применительно к данному обществу, в котором функционирует обычное право, утверждать, что его члены относятся к обычному праву как к праву, отличают ли они его от религии, морали и т. д., чувствуют ли различие между особыми типами социальной регуляции? Большинство этнографов, как правило, не ставили перед собой такой вопрос, и возможности его решения в нашем веке кажутся почти утраченными. И все же там, где данные проблемы ставились, исследователи отмечали сложный, дифференцированный подход изучаемой культуры к действующим социальным нормам. В отдельных обществах отношение людей к обычному праву как праву, не совпадающему с моральными и религиозными нормами, прослеживается достаточно определенно. С учетом современных исследований интеллектуального аспекта древних культур (К. Леви-Строс и др.) можно себе представить, что североамериканский индеец, папуас, полинезиец, нивх, нанаец и т. д. были способны видеть разницу между поступком, за который им было стыдно перед товарищами, и поведением, вследствие которого они могли лишиться привычных условий жизни в коллективе, части или всего имущества и даже жизни. Нет оснований считать их нечувствительными к этой разнице. А вместе с ней в- сознание людей входит элементарная основа для разделения морали и права, может быть, еще не слишком четко осмысленного, но уже имеющего практическое значение для социального регулирования.
В результате изучения жизни филиппинского народа тирурей, живущего в горах Юго-Западного Минданао, С. Шлегель приходит даже к выводу, что их язык и логика улавливают и выражают нормативное содержание обычая в отличие от простой привычки человека, например, носить усы или пересчитывать по утрам свиней[125]. Там, где уже появляется особое слово для обозначения права, оно, как и в современном обществе, обрастает массой значений, отсылающих нас к другим типам социальной регуляции, в особенности к морали. В качестве примера можно указать на многозначность слова “право” (mulao) у африканского народа баротсе. Под этим словом, пишет М. Глукмэн, баротсе понимают: 1) то, что в другом контексте лучше перевести как обычай, традиционное обращение, манера, привычка, внутреннее пристрастие или техническая норма ремесла; 2) специально установленные правила и указания их советов; 3) решения этих советов, действующих как суды по разбору частных споров; 4) указания лиц, облеченных властью, своим подчиненным; 5) традиционные нормы и институты, признаваемые многими племенами, так называемые законы племен (или наций); 6) традиционные нормы и практика по отношению к отдельному племени или группе племен; 7) общие идеи о справедливости, правде и честности, равенстве и истинности, которые должны быть известны вождям и судьям и которые называются “законами человечества или бога”; 8) определенные моральные посылки относительно приличных отношений между людьми, одни из них — общие для всех людей (“законы человечества”), другие приняты в обращении со своими; 9) законы человеческой природы (“законы бога”), имеющие моральное значение и нарушаемые не только аморальным действием, но и мыслью о таковом[126]. Такая многозначность в известной мере объясняется спецификой связи и совместного функционирования всех нормативнорегулятивных систем, вследствие чего смысл, вкладываемый в понятие права современным обществом, никогда не может стать политически или морально нейтральным, сколько бы этого ни требовали юридический позитивизм и сторонники “чистого” понимания права.
Но, собственно, какие основания имеются у современных юристов считать обычное право правом, можно ли выделить профилирующие качества, общие для правоотношений, складывающихся на основе как обычая, так и закона? Речь идет, собственно, о наиболее общих и стабильных признаках права как социокультурного явления, в какое время и в какой бы форме оно ни существовало — в древнейших или нынешних культурах.
а) Мы уже отмечали, что в принципе возможно чисто эмпирически определить такие признаки через анализ содержания конкретного типа социальной регуляции. Но для этого нужно сопоставить и сравнить, скажем, моральное отношение и правоотношение в рамках одного и того же общества. Этнографический материал дает нам представление о существовании у первобытных народов норм и отношений морали, социальной сферы морального регулирования. Сюда относятся, например, нормы, поощряющие развитие у членов общества высокоценимых нравственных качеств — твердости характера, храбрости, выносливости, трудолюбия, щедрости, готовности в любую минуту прийти на выручку родича и т. д. Довольно рано появляются нормы половой морали, устанавливающие относительную разобщенность мужчин и женщин в быту, дистанцию между полами, нормы половой стыдливости и т. д. У некоторых племен считалось неприличным мужчинам и женщинам принимать совместно пищу. Для этих, как и для многих других моральных ситуаций, вообще говоря, характерна тесная связь, иногда слитость моральной нормы и нравственной оценки лица, в отношении которого совершается поступок. Моральная оценка никогда не бывает одинаковой в применении к хорошим или плохим, с точки зрения действующего субъекта, людям. Ему предоставляется решать, что хорошо или плохо в моральных поступках партнера и в соответствии с этим определять ответные действия.
Что касается правовой нормы, то уже в древнем обществе она обнаруживает известную самостоятельность по отношению к нравственной оценке субъектов действий, что позволяет ей “автоматически” действовать в условиях разноречивости общественного мнения и неопределенности нравственной реакции на поступок. По наблюдениям Д. Перестиани, относящимся к обществу кипсигов (Кения), люди племени могут быть единодушными в приверженности к каким-то определенным ценностям, но вполне могут расходиться по вопросу, соответствует ли данный поступок этим ценностям. Иначе говоря, нравственная оценка поведения иногда довольно резко варьируется, что затрудняет применение моральных санкций, тогда как на применение правовой санкции различия в оценках поступка не влияют. У кипсигов, сообщает Д. Перестиани, существует большая свобода добрачных половых связей при соблюдении определенных правил и традиционной техники, которые должны предотвращать раннюю беременность девушки. Когда молодой человек пренебрегает этими правилами, старики качают головами, женщины сердятся, мужчины-воины подшучивают и т. д. Но если он все же сделал девушку беременной, реакция лишь одна — отец молодого человека платит соответствующий штраф. Другой пример: два воина подрались и один ранил другого. Мнения вокруг этого самые различные, одни порицают причинителя раны, другие оправдывают. Однако, если раненый через несколько дней умер, дело принимает для его соперника ясный и серьезный оборот: он убил и обязан отвечать за кровь[127]. Наиболее четко, пожалуй, моральный и правовой элемент отделяются в долговом, заемном взаимоотношении и в отношениях дарения. У папуасов капауку существует обычай делать подарки лучшему другу. Их моральный кодекс не дозволяет требовать возвращения дара, но предполагает, что лучший друг, со своей стороны, должен предоставить ответный дар. Право, наоборот, позволяет в любое время требовать возврата подаренного. Даритель, согласно обычному праву, может заявить претензии даже наследникам лучшего друга, если тот при жизни не предоставил ему удовлетворительного отдарка. Та же самая контрадикторность моральной и правовой позиции наблюдается и в части возврата займа. Заем в целях покупки жены, согласно праву, может быть потребован кредитором в любое время, мораль, напротив, поощряет неопределенно длительное долговое обязательство, и во всяком случае считается неприличным заявлять это требование раньше, чем жена родит первого ребенка[128]. В этом случае трудно себе представить, чтобы папуасы практически не проводили различия между моралью и правом.
Моральные нормы поведения людей неотделимы, таким образом, от содержания нравственной оценки действий и личности партнеров. Правоотношения базируются на другой основе. Выше уже отмечалось, что долговое отношение, например, никогда не может быть моральным, но только правовым, потому что процесс его реализации абстрагируется от деталей и частностей личных взаимоотношений между контрагентами, не стоит в жесткой зависимости от обоюдных нравственных оценок. Должник, предположим, ненавидит своего кредитора, испытывает к нему глубокое отвращение и брезгливость как к холодной и мерзкой твари, он может призывать на его голову все проклятия, но долг он все-таки возвращает и непременно с приростом, если была такая договоренность. Вот в этом “все-таки” и кроется одно из существенных отличий морального регулирования от правового, безразлично, осуществляется ли последнее посредством обычая или закона. Общества эпохи разложения первобытно-общинного строя и формирования классов знают и чувствуют подобное различие в способах регуляции. Имущественные права супругов стабильны и постоянны и не меняются вместе с метаморфозами моральных взаимоотношений между ними. Еще резче проявляется этот момент в отношениях родителей и детей, где моральный элемент, очевидно, контролируется правовым в интересах рода или коллектива. Можно было лишить непочтительного сына родительской любви и доверия, но лишить его прав наследственных, имущественных и иных было трудно в одних обществах и невозможно в других. У себеев, например, если отец отказывается предоставить сыну скот для внесения брачного выкупа за первую жену, вопрос решается старейшинами рода, и последние могут позволить молодому человеку захватить животных у отца без его согласия[129]. Аналогичную ситуацию Р. Бартон отмечает у калинга: “Дети знают свои права, силу обычая и общественного мнения, а влияние родственных групп настолько сильно, что, если бы даже родители захотели лишить детей их прав, они не смогли бы это сделать. Но родители не захотят, конечно, этого...”[130]. Мы видим, таким образом, как в догосударственном обществе постепенно возникает гарантирующая система, способная решительно настаивать на своих требованиях, несмотря на все случайности и превратности моральных взаимоотношений между людьми. Эта система есть право, а эта способность — специфический признак правовой регуляции, выделяющий право в ряду религии, морали и т. д. как надличностный и формальный феномен.
б) Обычное право эпохи разложения родового строя и классообразования в своей структуре уже отражает типичное для всякой правовой системы соотношение материального и процессуального моментов. Если мы возьмем системы моральных и политических норм, то они более или менее однородны по своему составу: они предписывают или запрещают определенный образ действия, указывают человеку, что он должен или не должен делать по существу. Поскольку подобные нормы выражают оригинальные интересы социальных субъектов, связанные с обладанием известными благами или с отказом от них, постольку их можно, согласно юридической традиции, называть материальными нормами в отличие от процессуальных, которые складываются в связи с первыми для их обеспечения в случаях нарушения или спора. Эти нормы ничего не предоставляют субъекту в смысле расширения их жизненных возможностей, но облегчают путь к достижению благ, которые уже предоставлены материальной нормой. Реакция по поводу неисполнения лицом религиозных или моральных правил в большинстве случаев выливается в свободные и спонтанные формы, существенно зависит от личного усмотрения участников соответствующей социальной связи. В праве такая реакция строго регламентирована, нормирована, и в этом состоит еще одно очень важное отличие правового типа социальной регуляции от других. Раздвинув рамки нормативной институционализации общественных отношений, право ставит себя перед необходимостью организовать собственную структуру таким образом, чтобы в ней наряду с нормами, определяющими границы и возможности поведения субъекта, присутствовали нормы, которые обеспечили бы эти возможности, гарантировали их реализацию, установив надлежащий порядок и процесс. Словом, право характеризуется сочетанием и точной увязкой в рамках единой системы материальных и процессуальных норм. Насколько можно судить по данным современной науки, зарождение примитивных процессуальных форм, упорядочивающих конфликтную ситуацию спора или наложения наказаний за действия, близкие преступлению или являющиеся таковыми, относится к весьма ранним стадиям человеческого общества.
В течение очень длительного времени судьба правовой процессуальной формы была крепко связана с практикой религиозного ритуала, с волшебством и магикой, использованием сверхъестественных сил в качестве агентов в деле наказания или арбитров в споре. Это несколько затрудняет специальный юридический анализ отношений, хотя и не мешает нам видеть, что там, где случаются инциденты и споры, люди знают, к кому следует обращаться за их разрешением и в какой форме. Посмотрим, например, как ведут себя виандоты — индейцы Северо-Восточной Америки, близкие к ирокезам территориально и по социальной организации, — в случаях убийства и кровной мести. Если убийца и убитый принадлежат к одному роду, но к разным семьям, вопрос решает родовой совет по жалобе главы обиженной семьи, но обращение может быть сделано и в совет племени. Там, где инцидент происходит между представителями различных родов, вождь рода, к которому принадлежит убитый, должен был организовать и исполнить следующие формальные действия: приготавливается деревянная дощечка, на которой изображается тотем или геральдическая эмблема потерпевшего рода, а также иероглифы, излагающие суть обвинения. С этой дощечкой вождь появляется перед вождем рода обидчиков и указывает ему на преступление, объясняя иероглифы, которые его обозначают. После этого собирается совет рода убийцы и, обсудив вопрос, проверив доказательства, признает вину и предлагает компенсацию. Если он этого не сделает, потерпевший род имеет право убить любого сородича убийцы. Каждая из сторон может обратиться в совет племени. Характерно, однако, что всякое обращение может быть сделано только в обязательной форме предоставления обвинительной дощечки. Несоблюдение этой формы или явные ошибки в заполнении дощечки, отсутствие необходимых реквизитов расцениваются как сверхъестественное доказательство невиновности убийцы и знак к освобождению его от мести и ответственности[131]. Мы сталкиваемся здесь с древнейшими процессуальными институтами. С одной стороны, практически существуют специальные обычаи, нормы, правила, регламентирующие процесс от момента нарушения права до его восстановления, т. е. процессуальные нормы, а с другой — они еще не выделились в сознании людей в специфическую категорию, отличную от материального права, а потому и нарушение формальностей превращается в довод при решении вопроса по существу. Известно, однако, что четкая дифференциация материального и процессуального элементов в праве была достигнута сравнительно в позднее время и судебные системы многих ранних государств, включая феодальные, не обладали четким пониманием подобного различия.
Для нас важно, кроме того, проследить, каким образом возникали эти формальности, первичные процессуальные формы, которые отличают правовой тип регуляции от других уже на определенных завершающих стадиях развития первобытного общества. В этой связи религиозная ритуализация и сакральная обрядность, на которые мы сослались выше, объясняют далеко не все. Как бы тесно обычное право рассматриваемых обществ ни было связано с религией, оно всегда обнаруживает собственные закономерности, идет по своему пути развития. Существуют глубокие социальные причины возникновения процессуальной формы, лежащие в области целесообразной деятельности коллектива как экономической и общественной единицы. Самая первая по своей важности функция обычая в родственном коллективе — не допускать спора и раскола между родственниками. “Я хочу подчеркнуть, — пишет М. Глукмен об африканском племени баротсе, — какие трудные задачи ложатся на тех, кто обязан разрешать споры между родственниками. Многие авторы обсуждают правовые процессы в родо-племенных обществах в таких выражениях, как восстановление социального баланса или равновесия, обеспечение согласия обеих сторон с компромиссным решением и, главным образом, примирение сторон. Это есть основная цель судей баротсе во всех делах, которые возникают между родственниками, ибо преобладающая ценность общества — это то, что жители деревни не должны отрываться друг от друга и что родственники должны быть едиными”[132]. Если спор все- таки возникает, его нужно уладить как можно скорее и наиболее безболезненным образом. Лучше всего, если ссорящиеся примиряются без какого-либо посредничества, в порядке самоинициативы. Если два человека сильно повздорили или подрались, они в течение нескольких дней избегают друг друга, пытаясь справиться со своими чувствами, привести себя в порядок, и, когда затем вновь встречаются, делают вид, будто ничего не произошло. Любой родич мог вмешаться в ссору и положить ей конец. Однако представим себе, что эффективный механизм самодисциплины внутри рода начинает мало- помалу отказывать, потому что в обществе, где возникает частная собственность, совершаются сделки, где растет богатство, сосредоточенное в одних руках, обнаруживаются весьма серьезные поводы для споров, а сами споры нередко перерастают в резкий и глубокий конфликт. Здесь формируются вполне официальные способы разрешения споров с участием вождя или родового совета, но их использование допускается лишь после того, как исчерпаны возможности примирения и соглашения между самими спорщиками. Можно констатировать в таком обществе наличие органа или лица, функции которых близки к судебному рассмотрению имущественных споров, но обращение к ним обставлено рядом формальностей, отбивающих охоту часто пользоваться этой “судебной машиной”. Родовые и общинные органы ждут, что спорящие стороны образумятся, сами придут к согласию, что все уладится само собой. Старейшины африканского племени тив, входящие в официальную судебную ассамблею, никогда по своей воле не вмешиваются в конфликт, стараются его не замечать и ждут, пока он в особом порядке не будет предъявлен на их рассмотрение[133]. Такой порядок обычно был связан с формальностями, обременительными процедурами, требующими часто больших усилий и материальных затрат. Интересен, например, “барабанный спор”, обычай племени тив, представляющий собой архаическую и своеобразную форму “подачи искового заявления” Два человека, между которыми случился спор, сами или с помощью нанятых лиц по ночам поют песни под аккомпанемент барабана, излагающие суть их претензий друг к другу, содержащие взаимные упреки и обвинения. К ним присоединяются, образуя хор, родственники и сочувствующие жители деревни. Песнопения повторяются регулярно в течение недели или больше, пока деревенские судьи не “замечают” спора и не приступают к его рассмотрению[134]. У африканцев-кипсигов имеется авторитетное лицо для решения споров — пойот, но к нему не обращаются непосредственно. Спорщики идут к одному из старейшин, и тот пытается их примирить. Если это не удается, он посылает их к пойо- ту. В просьбе спорщиков созвать совет старейшин пойот отказывает до тех пор, пока не исчерпает всю силу убедительности в попытке прекратить конфликт. Лишь в крайнем случае дело может быть вынесено на совет[135]. Родовые и общинные органы пытаются разными способами исключить спор из жизни группы, не поощряя заядлых спорщиков и лиц, слишком настаивающих на своих правах. Установление процессуальных формальностей было одним из таких способов, посредством которого общество стремилось укрепить свое единство.
в) Право тем еще отличается от других нормативно-регулятивных систем, что оно формализует связь между актом нарушения нормы и действием по применению санкций к нарушителю. Оно дает возможность строить довольно надежные ожидания в части поведения участников общественных отношений благодаря тому, что, например, причинение ущерба и его возмещение, преступление и наказание и т. д. заранее связаны в единую наперед известную цепь событий, образуют сознательно сконструированный и выверенный по действующим масштабам справедливости блок действий. Чтобы установить наличие или отсутствие права в том или ином древнем обществе, нужно исследовать в числе других и вопрос, имеются ли здесь относительно устойчивые, повторяемые в сходных ситуациях связи между преступлением и наказанием, причинением имущественного вреда и возмещением, реституцией, и т. д. Стереотип данной связи есть нечто, по характеру своему относящееся к области права и только к ней. Откуда человек может знать, что тот или иной способ действия является в рамках общества поощряемым, вознаграждаемым либо наоборот — преступным или противоправным? Мы можем сказать: из кодексов и законов, которые определяют, квалифицируют наши действия как положительные или отрицательные, т. е. приписывают им юридические качества, с которыми связываются поощрения и взыскания, награды и наказания. В древнем обществе не было кодексов и законов, тем не менее люди знали, какие санкции по характеру (позитивные и негативные) и по виду (всеобщее порицание, смертное наказание, изгнание из рода и т. п.) положены за определенные поступки. Такого рода знания берутся не из природы с ее причинно- следственными связями и не из ценностного познания действительности, а из того, что часто называют законами воздаяния, возмездия. О том, что преступление должно быть наказано и как оно должно быть наказано, мы судим не на основе каких-либо особых определений или понятий (как того требуют, скажем, юристы-аналитики), но исходя из реального и типичного плана ряда взаимно ориентированных действий, первичных и ответных, из конфигурации их связи. Если мы видим, что определенное действие, направленное против лица или его имущества, регулярно вызывает применение к обидчику известных санкций со стороны общества, то можно считать такое действие одним из видов правонарушения. В опыте обычно-правовых систем мы видим немало таких правонарушений; общество и тогда выступало как правовое единство, достигшее согласия в том, какие санкции полагаются за определенные действия.
Наличие более или менее сформировавшихся представлений о нарушениях и санкциях позволило связать их в своеобразный и стабильно применяемый “ценник” (“прейскурант”) с указанием “что полагается за что” Это еще один специфический признак права как типа социального регулирования, и в данном отношении правовой характер обычаев рассматриваемых нами обществ в целом очевиден. Уголовно-правовой сектор обычного права хотя и не был четко выделен внутри системы, все же существовал и приобретал все большее значение с постепенной эволюцией общества к его классовому делению. На вопрос, существовали ли в родовом коллективе преступления и наказания, почти все исследователи отвечают утвердительно, хотя и предостерегают против возможной модернизации этой проблемы. Следует, очевидно, с большим вниманием отнестись к предположению специалистов по древнему обществу о том, что преступления и наказания были, по всей видимости, очень ранним явлением: “Нельзя исключить такую возможность, как коллективное устранение из общества отдельных индивидов, которые чрезмерно проявили свой эгоизм и не мирились с новой необходимостью совместно добывать пищу и более или менее справедливо распределять ее”[136]. На более поздних стадиях в развитии человеческого общества отмечается уже вполне определившееся, сознательно негативное отношение людей к проступкам, нарушающим целостность и единство рода, затрудняющим нормальное функционирование его институтов. На родовые органы ложится ответственная функция принимать меры в случае нарушения обычаев рода.
г) Анализ имеющихся фактических материалов дает основание в целом утверждать, что обычаи в той части, в какой мы выделили их как правовые, были действительно правом общества, переживающего эпоху распада первобытно-общинного строя и классообразования. Они были таковыми и по способу (порядку) обеспечения норм. Это очень важная плоскость обсуждения проблемы, ибо к ней обращаются едва ли не в первую очередь, когда хотят найти разграничительную линию между правом как особым типом социальной регуляции и другими функционирующими в обществе нормативно-регулятивными системами. Главный аргумент, обычно выдвигаемый в доказательство отсутствия права в первобытных обществах, в том числе и тех, которые находятся на предгосударственных стадиях развития, состоит в утверждении, что там не было специального аппарата, способного принуждать к соблюдению правовых норм, т. е. государства с его функцией проводить в жизнь нормы права, опираясь на специально образованный для этого репрессивный аппарат. Но дело в том, что обычное право, как мы уже это показали, может существовать и без него, используя механизм обеспечения норм, сформированный в самом обществе. Более того, мы склонны думать, что этот механизм не устраняется с приходом раннего государства и лишь дополняется и достраивается государственно-принудительными структурами, действующими в случаях неисполнения или нарушения норм. Основная нагрузка в работе по обеспечению реализации правовых норм, в сущности, падала на общественные, а не государственные механизмы. Это особенно наглядно в организации правомерного поведения.
Древние системы обычного права опираются на традиции, обеспечивающие исполнение обычаев всеми членами коллектива. Среди способов обеспечения норм есть и принудительные, и, хотя они не отделены еще от методов гарантирования религиозных и моральных обычаев, в них присутствует специфический элемент права. Сошлемся в этой связи на слова американского историка ирокезского общества, точнее, племени сенека: “Нет ни тюрем, ни полиции. Образцы поведения обеспечиваются посредством остракизма и общественного преследования. Озабоченный тем, чтобы включиться в порядок вещей, добиться уважения и внимания своих товарищей, преступник сам исправляет свои манеры, прежде чем какой-нибудь разгневанный воин убьет его как врага общества. В самом деле, каждое лицо может убить или изувечить нарушителя племенного обычая, который вызвал к себе общественную ненависть. Даже вождь мог быть убитым после троекратного предупреждения женщин. Такие расправы не были местью. Это был способ обеспечения социальной интеграции племени; он поддерживал единообразие, устраняя антисоциальное. Такова сфера примитивной юриспруденции у сенека, и доктрины старого порядка сохраняются у людей сенека до сих пор”[137]. Возможность осуществить кару в отношении преступного лица и признание за некоторыми лицами, советами или судами права карать и являются специфическими правовыми моментами порядка обеспечения норм. В них мы видим нечто, безусловно, нетождественное чисто моральному фактору воздействия на поведение людей.
Государство возникает и конституируется как представительство общественных интересов, как сила, стоящая над обществом, но уже с самого начала оно выступало как система организованного политического господства одних людей над другими, или, по терминологии марксизма-ленинизма, классового господства. Как бы то ни было, но ранние, так же как и более поздние, формы государства, будучи общественными институтами, редко выражали действительные общественные интересы. Приспособленные к реальной общественной жизни эластичные обычаи, рассчитанные на добровольное принятие людьми, в государственной практике оказывались во многом непригодными. Обращение верховной власти к подданным — чем дальше, тем больше — выливается в резкие, категорические формы. Развиваются императивный стиль и язык законов. Постепенно нормы органически возникавшего и стихийно функционировавшего обычного права вытесняются нормами, выражающими государственную волю, что существенно изменило соотношение объективного и субъективного моментов в сфере правового регулирования. Мы присутствуем как бы при зарождении идеалистической по своему существу юридической идеологии, иллюзий относительно того, что для создания правовой нормы достаточно одного лишь государственного волеизъявления, что закон основывается на воле, и притом, на оторванной от действительной жизни “свободной воле” Толчком к формированию подобной идеологии, далеко не утратившей своего значения и в наши дни, послужили, как мы видим, исторические факты превращения государства в активную силу, организующую правопорядок на основе торжественно провозглашенных и облеченных в обязательную форму законов.
В ряде существенных аспектов отношение раннего государства к обычному праву было инерционным в том смысле, что долго сохраняются обычно-правовые институты, связанные по своему происхождению и функционированию с родоплеменными властными (или, как часто говорят, потестарными) структурами. Они могли даже получить поддержку со стороны раннегосударственных органов, но только в том случае, если они укладывались в их политику или хотя бы не противоречили ей. Очень многое зависело от того, как уживались и взаимодействовали новое, раннегосударственное образование и старая, уходящая родо-племенная потестарная система, которая и была традиционной силой, обеспечивающей обычное право в группах, которые более или менее прочно объединены в рамках раннего государства. Время было переходное, и различные типы власти, формы властвования сосуществовали в нем, представляя одни — еще не потерявшее силы прошлое, а другие — процессы становления будущего. Едва ли верно представлять политогенез как последовательную смену трех властных типов: вождество — раннее государство — зрелое государство; трудно согласиться с тем, что “отличия раннего государства от вождества содержат больше количественных, чем качественных моментов”[138]. Понятие “вождество” (аналог термина “chiefdom”, часто используемого в социальной антропологии) означает организацию неполитической или предполитической власти, представленную вождем либо вождями, их советами и т. п. Считается, что вождество непосредственно перерастало в раннее государство путем усиления сугубо властных признаков (больше власти — ближе к государству), по мере того как политизируется власть в древнем обществе. Но в большинстве случаев государство в древних культурах создавалось отнюдь не родо-племенными вождями, советами старейшин, призванными блюсти старые устои, а усилиями военной верхушки, разбогатевшей знати в обход и в противоборстве с традиционными структурами власти.
В отечественной литературе выделяют три главных пути политогенеза: военный, аристократический и плутократический[139]. Самым распространенным считается путь военный, при котором государства создавались через усиление военной организации племен, через военно-демократические и военно-иерархические формы, сплочение военных лидеров союзных племен под руководством энергичного вождя-героя для ведения захватнических войн с целью добычи рабов и богатства. Аристократический путь характеризуется постепенным превращением знати, родо-племенной верхушки, монополизировавшей экономические, сакральные и военные функции, в политически организованную силу — публичную власть, тогда как рядовые общинники становились политически и экономически зависимым, эксплуатируемым слоем людей. Наконец, плутократический путь демонстрирует способ формирования политической организации на основе объединения социальной группы вокруг “большого человека”, от которого она экономически зависит. Для большинства древних культур такой путь вообще маловероятен, он, скорее всего, относится ко времени ранней феодализации, и там он осуществляется в условиях уже возникших первичных государственных форм. На стадии разложения родо-племенного строя фигура плутократа совершенно не вписывается в общественную жизнь, трудно себе представить, чтобы один человек мог завладеть всеми ресурсами группы, включая землю, мог стать настолько богатым, чтобы поставить всех своих соплеменников в материальную зависимость от себя.
Следовательно, родо-племенные потестарные структуры, в том числе и развитые вождества, могли содействовать процессам государствоообразования в условиях так называемого аристократического пути возникновения государства. Но путь этот был поистине неисповедимым. Он предполагал социальный раскол не только общества, но и его верхушки, он ставил в двусмысленное положение обычное право, которое пытались использовать в своих интересах противоборствующие страты общества и группировки внутри них. Кроме того, путь этот нигде не был представлен в чистом виде, повсюду или почти повсюду дорогу к власти прокладывают оружием, формируются промежуточные структуры “военной демократии” и “военной олигархии”, свою неизменную роль цграют экономическая власть и богатство. Все это накладывало особый отпечаток на характер раннего государства, определяло признаки, отличающие его, во-первых, от организации власти в родо-племенных структурах и, во-вторых, от зрелого классового государства. Наличие публичной власти — вот что прежде всего характеризует раннее государство в противоположность старым властным органам. В центре публичной власти стоит царь, король, князь и т. п., т. е. лицо, за которым признается право представлять “политические” интересы союзного единства групп вовне, самостоятельно принимать решения, касающиеся дел союза племен или иных групп и осуществлять в рамках обычного права контроль за исполнением этих решений. В структуру публичной власти необходимо входят проточиновники, люди, которые помогают царю выполнять его функции, находятся у него на службе, специализируются по определенным видам “управленческой” деятельности. Другой исключительно важной чертой раннего государства по сравнению с родо-племенной властью является то, что новые властные структуры требуют материальной поддержки от тех племен и общин, которые являются или которых они считают своими подданными. В раннем государстве еще не было регулярных налогов и узаконенных повинностей в пользу публичной власти, они появились позднее, в эпоху зрелого государства, но уже существовали формы данничества и такой комплексный многофункциональный институт, который из древнерусской истории известен как полюдье. Речь идет о военных рейдах царя (князя) в пределах своих владений с целью сбора дани, а заодно и рассмотрения споров, улаживания всяких недоразумений, установления различных договоренностей. Полюдье, как показал Ю. М. Кобищанов, автор крупного исследования об этом институте, получило в свое время широчайшее распространение именно как явление ранней государственности. “При полюдье, — пишет он, — носитель раннегосударственной власти (вождь — жрец, священный царь) или его заместитель (наследник престола, близкий родственник, наместник, посланец и т. д.) обходил по традиционному маршруту подвластные ему общины, княжества и пограничные земли, осуществляя здесь свои привилегии и выполняя свои главные функции”[140]. Интересна правовая природа полюдья: оно было явно “незаконным” с точки зрения общинного обычного права (известный инцидент с древнерусским князем Игорем косвенно об этом свидетельствует), поэтому общинники не чувствовали себя обязанными и со своей стороны не стремились платить дани, участвовать в военных походах или в строительных работах, затеваемых князем. Чтобы добиться этого, князь должен был проявлять “вооруженную инициативу” Но с другой стороны, полюдье основывается на “ряде” — договоре между публичной властью и общинными авторитетами, на соглашении, пусть иногда навязанном, но все же скрепленном формулой согласия. Нормы такого договора уже были элементами нового права, поначалу не вступающими в заметное противоречие с обычно-правовыми установлениями внутри общины.
Признаками раннего государства можно считать его структурную неустойчивость, хрупкость, относительно слабую укорененность в экономике и социальных отношениях. Отсюда необычайная подвижность и легкая транзитивность этой политической формы; она могла постепенно развиться в зрелое государство, но чаще всего вследствие попятных движений она распадалась, и вновь возвращались старые родо-племенные формы властвования, те же “вождества” Почему это происходило? Мы уже говорили о том, что процесс государствообразования едва ли можно себе представить как эволюцию потестарных родо-племенных или общинных структур, или, как говорят, “вождеств”, в раннее государство. Последнее не создавалось на базе одного племени или одной общины, если это и случалось, то исключительно редко. В типичном варианте раннее государство есть переходный продукт политической интеграции нескольких или многих соседних племен и общин, в основе которой лежал комплекс экономических, религиозных, военно-оборонительных или захватнических интересов. Таким образом, раннему государству предшествует не одно “вождество”, а множество “вождеств”, которые никуда не исчезают с появлением этого государства, но образуют внутри него иерархию, где место каждого определялось престижем и силой соответствующей группы. Они, эти традиционные формы власти, более стабильны, чем публичная власть, чувствуют себя уверенно, за ними стоят обычное право и консерватизм привычного уклада жизни. В рамках раннего государства как союза племен или конфедерации общин существует непрерывное скрытое либо явное соперничество между властными элитами отдельных групп, идет борьба против централизаторских устремлений и деспотизма публичной власти. Родовые старейшины и лидеры общин, как правило, консолидировали вокруг себя всех недовольных новыми структурами власти, выступали их оппонентами и противниками, и хотя новоявленные цари пытались, конечно, перетянуть их на свою сторону, заинтересовать в преимуществах нового порядка вещей, это не всегда удавалось. Людей тянуло к старому; как только центральная власть ослабевала или для нее наступали тяжелые времена, центробежные силы активизировались, разваливая раннее государство. Судьба последнего во многом зависела от личной харизмы царя, его энергии, воли, способностей военачальника и дипломата, умеющего ладить с “местными баронами” того времени, ловко использовать противоречия между ними. Для самых ранних государств было правилом то, что они погибали после смерти своего “создателя”, которому не посчастливилось найти талантливого продолжателя своего дела. Роковые последствия могли иметь раздоры внутри правящей верхушки, царского семейства (при наследственной царской власти), соперничество между сакральными и политическими группировками и многое другое. В итоге лишь немногим ранним государствам суждено было превратиться в зрелые.
Ситуация напряженности и беспрерывной внутренней борьбы устойчиво характеризует всю раннюю историю государственности вплоть до Средневековья. Основываясь на материалах изучения королевств Западной Европы эпохи раннего Средневековья, А. И. Неусыхин приходит к понятию “варварского” государства, не идентичному государству развитого, зрелого типа. “Варварское” государство, по мысли А. И. Неусыхина, есть, в сущности, прочно осевший в определенной области или стране племенной союз, в рамках которого существует более или менее устойчивая королевская власть, единоличная или чаще всего опирающаяся на иерархическую систему княжеской, герцогской власти[141]. Знать уже обособлена в обществе и отделяется от простонародья, существует имущественное и социальное расслоение, основная масса населения отстранена от управления общественными делами, которые фактически переходят в руки элиты. Вместе с тем нет еще резких антагонистических классовых противоречий и существующая политическая структура наряду с интересами знати выражает и общеплеменной интерес. Осуществление политической власти в значительной мере носит традиционный, ориентированный на родо-племенные ценности характер. Последующие исследования показали, что конструкция “варварского”, или раннего (по современной терминологии), государства выходит за рамки европейского исторического опыта и отражает общую закономерность формирования политической организации. К таким государствам, кроме раннефеодальных королевств Западной Европы V—VII вв., относят, например, Гану VII—XI вв., государственные образования Восточной Африки XIX в., скифов VI—IV вв. до н. э., “номовые государства” древнего Шумера и т. д. По мнению академика Б. Д. Грекова, данный этап развития политической организации восточные славяне пережили в VI—VIII вв.[142] Русское государство, по мнению Б. А. Рыбакова, родилось на рубеже VIII—IX вв. “Период VI— IX вв., — пишет он, — можно назвать предфеодальным, так как в это время окончательно дозревали высшие формы родоплеменного общества в виде прочно организованных союзов племен и постепенно изживали себя основные ячейки родового строя — маленькие разрозненные и замкнутые родовые коллективы, хозяйственная необходимость которых была обусловлена примитивной техникой подсечного земледелия”[143]. Состояние предгосударства, или раннего государства, есть, по-видимому, широко представленная в истории народов стадия их политического развития.
Раннее государство, как мы видели, существует в условиях, при которых оно в лучшем случае ограничивается поверхностным и спорадическим вмешательством в правовую сферу. Это, собственно, отличает его от зрелого государства, одним из важнейших признаков которого является развитая законодательная власть, осуществляемая монархом или парламентом. В самом деле, законодательство можно охарактеризовать в качестве серьезного, требующего высокого уровня социального и культурного развития средства политической стратегии, долгосрочного фактора, обеспечивающего общественный порядок, и, наконец, специального юридического метода стабилизации системы политического господства. Законодательный процесс и его формальные процедуры надежно и прочно обеспечивают правящей верхушке возможность интерпретировать в своих интересах все социальные факты, события и проблемы. Господствующие классы в Древней Греции и Риме виртуозно пользовались подобными средствами и возможностями, тогда как в “варварских” государствах элита не могла широко развернуться в этой сфере; нет достаточно развитой легислатуры в ее современном понимании, т. е. аппарата, способного творить правовые нормы, выражающие волю государства. Это не значит, конечно, что там королевская власть не издавала никаких нормативных актов или не было советов или лиц, на которых возлагались подготовка данных актов и представление их на усмотрение короля (царя, князя и т. д.). Напротив, в наиболее развитых “варварских” обществах отмечается значительная правовая активность власти, но она пока еще в большей своей части базируется на нормативном материале обычного права. Все известные ныне правовые памятники, так называемые “варварские правды”, суть не что иное, как частичная запись, систематизация, компиляция правовых обычаев. В них, конечно, отражалось господствующее положение правящих слоев общества, но лишь в той степени, в какой оно вошло в традицию, стало исторически закрепленным фактом. Хотя классовый интерес элиты давно и четко обособился, существуют большие трудности в смысле его законодательного закрепления. Дело опять-таки в своеобразной ситуации социального равновесия, которая характерна для ранних государств; силы, оберегающие традиции, многие из которых возникли еще в недрах первобытнообщинного строя, весьма значительны и велики, тогда как элита еще недостаточно могущественна, чтобы отважиться на откровенное нарушение этих традиций в своих интересах.
Высокий престиж обычного права, “неписаного закона” в раннегосударственном обществе сохранялся очень долго. Так было и в Древней Греции, где довольно рано появилось “новое” писаное право, распространявшееся на сферу судебной и административной деятельности. Но оно неспособно было охватить все “правовое пространство”, в котором издревле царил обычай, и потому оставляло ему немалый простор для действия. Оратор Лисий в IV в. до н.э. ссылался в одной из своих судебных речей на Перикла, советовавшего судьям применять к преступникам против религии не только писаные законы, но и неписаные, “которые отменить еще никто не был властен, против которых никто не осмеливался возражать”[144]. Ранние государства в Европе были не в одинаковой мере развитыми, если оценивать их по критерию совершенства правовой формы, но сами народы, организованные в первичные государства, в отличие от греков и римлян, считавших себя центром мира, ощущавших культурное превосходство над ойкуменой, не стремились делать сравнения, не испытывали каких-либо переживаний в связи со своей “отсталостью”, они считали безотносительно ко всему свои обычаи лучшими и гордились ими. Античный автор Валерий Максим рассказывает о древнефракийском царе, который, узнав, что афиняне дали ему аттическое гражданство, т. е. ввели в свое право, воскликнул: “И я дам вам право моего народа!” (Et ego illis шеа gentis jus dabo!). Относительно этого сообщения Т. Д. Златковская замечает: “Употребленный Валерием Максимом термин “jus gentium”, скорее, можно рассматривать как указание на существование у фракийцев закрепленных устной народной традицией племенных обычаев, чем на существование кодифицированного права”[145]. Конечно же, царь говорит об обычаях своего народа, но обратим внимание, с каким пафосом он о нем говорит, не сомневаясь в высокой ценности своего “отдарка”. Привязанность и любовь к своим обычаям есть общая черта древних народов, традиционных обществ. Если бы предоставить всем народам на свете выбирать самые лучшие из всех обычаи и нравы, рассуждал историк Геродот, то каждый народ, внимательно рассмотрев их, выбрал бы свои собственные; каждый народ убежден, что его обычаи и образ жизни некоторым образом наилучшие.
В ранних государствах, развившихся из союза племен или общин, ни сам царь, ни кто-либо другой по его поручению не мог отменять норм обычного права и обычаев вообще, потому что они, как считали люди, идут от далеких предков, освящены религией и, самое главное, относятся к тому социальному уровню (племени, общине), который действует на основе достаточно широкого традиционного самоуправления. “Отношение общества к обычаю было таково, что радикальные изменения в принятой норме не допускались. Да и традиционный образ жизни варваров, менявшийся более на поверхности, чем по существу, исключал какие-либо серьезные сдвиги в праве. Обычное право — право консервативное”[146]. Любая попытка перекраивать обычаи могла дорого обойтись даже родо-племенным и общинным авторитетам, не говоря уже о царе, который вообще не выступал в качестве субъекта обычного права племени или общины.
Можно, однако, предположить, что царь мог идти другим путем: устанавливать новое право в виде законов, заменяющих, вытесняющих или обесценивающих нормы обычного права. Но такой путь долгое время был невозможен вследствие открытого сопротивления любым правовым новшествам, вводимым публичной властью, со стороны родо-племенной и общинной верхушки, жречества и самих общинников, для которых эти новшества неизменно оборачивались самой худшей стороной. Грубые и прямолинейные попытки заменить обычное право законом в “варварском” обществе были обречены на провал, всякие новые нормы воспринимались с подозрением, многие из них просто отталкивались правосознанием подавляющей части членов общества. Историк А. Я. Гуревич, в работах которого проблема права в “варварском” обществе получила наиболее полное в нашей литературе освещение, приходит к следующему выводу: “Никто, ни император, ни другой государь, ни какое-либо собрание чинов или представителей земли, не вырабатывает новых законоположений... Следовательно, не выработка новых законов, но отбор в старом праве наиболее мудрых и справедливых предписаний — так понимается задача законодателя”[147]. Но подобное положение характерно не только для европейской раннегосударственной истории. Известная китайская “Книга правителя области Шан” (IV в. до н.з.) начинается с рассказа о том, как царь Сяо Гун рассуждал со своими советниками о том, может ли он изменять древние неписаные законы: “Ныне я хочу изменить законы, дабы добиться образцового правления... Но опасаюсь, что Поднебесная осудит меня”[148].
Неприязнь к новому в праве отмечается везде, где раннее государство накладывалось на сеть самоуправляющихся общин со своими обычно-правовыми системами. При записи и обработке норм обычного права была, конечно, возможность внести в них новое социальное содержание, но это требовало от публичной власти большой осторожности и такта. Любая вновь создаваемая правовая норма (в законе, судебном прецеденте, публичном договоре) требовала обоснования ссылкой на традиции и прошлые авторитеты, на древний обычай, позднее — на тексты Священного Писания, на Бога или прославленных императоров и т. д. Законодатель давал понять, что новое не так уж ново, оно уже было, действовало, доказало свою справедливость, а не является выдумкой, плодом фантазии. Если, однако, новое законоположение представляется законодателю необходимым, вся его забота сводится к тому, чтобы преподнести новинку как можно более тонко и тактично. Очень интересно проследить эту тенденцию по текстам записей норм обычного права, и в особенности по их преамбулам. Относительно самого знаменитого древнейшего правового памятника — “кодекса” или Законов Хаммурапи — следует сказать, что это вовсе не кодекс, он не представляет собой даже слабой попытки систематизировать действовавшее в Вавилоне право. По мнению некоторых исследователей, Законы Хаммурапи в контексте всех имеющихся ныне сведений о древневавилонской правовой системе есть не что иное, как “серия поправок” к действовавшему тогда в форме обычаев общему праву[149]. Но примечательно то, как в преамбуле к законам эти поправки и переделки, исходящие от царской власти, преподносятся обществу: “Пролог есть религиозное введение в форме панегирика, написанного поэтическим языком и называющего Хаммурапи царем Вавилона, принесшим справедливость своему народу и мир соседним землям”[150]. Таким образом, подправленные властью обычно-правовые нормы, совершенно нерелигиозные по своему содержанию, доводятся до людей в сакральной форме, со ссылками на авторитет самых почитаемых вавилонских богов (“Мардук повелел мне дать справедливость людям”). Такой путь изменения права и правовых норм был в то время, по-видимому, самым реальным.
Одна из первых “варварских правд”, Салическая правда (V—VI вв.), провозглашается от имени “славного народа франков”, который еще во времена “варварства” по внушению Божию искал ключ к знанию согласно со своими обычаями. Говорится ц. о том, что “салический закон был продиктован начальниками этого народа, которые тогда были его правителями”. Публичная власть представлена скромнее: короли Хлодвиг, Хильдеберт и Хлотарь лишь исправили то, “что оказалось в этом уложении неудобным”[151]. Из текстов законов англосаксонского короля Уитреда (VII в.) явствует, что для их принятия король вместе с архиепископом Британии созвал совет наиболее уважаемых людей: “...И все степени духовенства этого народа были единодушны с верными мирянами; тогда составили старейшие с общего согласия в дополнение к существующему праву кентцев законы...”[152]. И здесь, как мы видим, король неплохо защитился от упреков в правовом своеволии. Там, где новшество слишком заметно и нет возможности прикрыться авторитетом общественности, законодатель (а это, как правило, государь, хорошо знающий силу своей власти) надевает личину скромности, подчеркивает свои сомнения и неуверенность. В законах англосаксонского короля Альфреда Великого (IX в.), представлявших собой обработку традиционного права, есть такая тирада: “Не решился я предать записи большое количество собственных своих постановлений, ибо неизвестно мне, придутся ли они по душе тем, кто будет после нас”[153]. Примеры такого рода можно найти и в более поздних кодификациях, включающих нормы обычного права. Грузинский законодатель царь Вахтанг VI (последняя четверть XVII — начало XVIII в.), устанавливая размеры удовлетворения за кровь, признается, что попал в затруднительное положение, став перед вопросом: кому следует оказывать большее почтение — царю или католикосу, светскому или духовному властителю? Он решает наконец уравнять их перед лицом права, добавляя: “Если мы ошибаемся, то кто лучше нас знает, пусть тот напишет иначе, не осуждая нас”[154]. Крайняя осмотрительность, осторожность, деликатное отношение к старому обычному праву — важная особенность растянутого во времени периода становления государственности, на котором высшая суверенность королевской (или царской) власти в области законотворчества еще не была достигнута. Раннее государство вводит новшества в традиционные системы права маленькими дозами под благовидным предлогом и с различными оговорками. По словам Р. Давида, в Европе XII—XIII вв. “право существовало независимо от приказов властей; суверен не был уполномочен ни создавать, ни изменять право. Суверен выполнял чисто административные функции: он мог вмешиваться только в целях организации и облегчения отправления правосудия, помогать формулированию права, которое он не создавал”[155]. В области частного права роль законодательства была незначительной вплоть до Нового времени. Здесь, как подчеркивал Р. Давид, дальше модернизации обычаев власти не шли; французские короли были заинтересованы в сохранении обычаев, и даже абсолютные монархи не считали себя свободными в возможности изменять нормы частного права. В правовую жизнь общества закон входил без всякого шума и триумфа, скорее, он внедрялся медленно, с большой осторожностью: “Первые шаги законодательного права были скромными... Скромное происхождение законодательного права является общей чертой всех правовых систем. В Риме, который еще в античные времена в совершенстве развил правовую норму в ее общей и обезличенной форме, законодательное право прокладывало себе путь робко и постепенно”[156]. Согласно Институциям Гая, законом считалось только то, что “народ римский одобрил и постановил”; приравнивание сенатского постановления к закону оспаривалось, а что касается указов императора в форме декретов, эдиктов или рескриптов, то за ними признавали силу законов, но только потому, что сам император действует на основе закона и во исполнение его. Рим экспериментировал с правовыми формами, направляя нормативную деятельность государства по преимуществу в исполнительную сферу[157]. Процесс формирования современного способа правовой регуляции посредством закона как ведущей формы права растянулся на многие эпохи, а в некоторых регионах мира он, собственно, не завершился до наших дней.
Выработка новых правовых форм совпала в самом начале истории ранних государств с двумя величайшими культурно-историческими процессами — появлением письменности (литературы) и распространением будущих мировых религий на Востоке и Западе. По мнению некоторых исследователей, среди причин, подталкивавших наиболее развитые культуры к изобретению различных систем письменности, выделяются нужды правового оборота. Если в Египте искусство письма совершенствовалось под эгидой религии (верховный бог Тот считался создателем письменности), то в Месопотамии оно служило практическим целям, и уже древнейшие пиктографические таблички были, скорее всего, мнемотехническим средством при заключении сделок и взаимных расчетах. Изобретение письменности в этом регионе приписывают шумерам (середина 4-го — начало 3-го тыс. до н.э.), точнее, шумерским храмовым чиновникам, управлявшим общественными работами, отвечавшим за регистрацию хозяйственных операций, торговых сделок и т. д. Оставшиеся от того времени таблички с клинописью в большинстве своем имеют хозяйственно-юридический характер. Они свидетельствуют о глубине и серьезности правовых отношений в обществе, поражают своим разнообразием. Здесь квитанции об уплате налогов, земельные описи, акты о купле-продаже, об аренде, документы о займах, прошения, закладные, договоры о сотрудничестве, брачные контракты, заявления о разводе, инвентарные списки и т. п. Табличка представляла собой простейший юридический документ, позволявший фиксировать не только факт заключения договора, но и особые его условия, наконец, засвидетельствовать согласие сторон на сделку, о чем мог говорить специальный знак, отпечаток пальца, ногтя, амулета или печати контрагента на табличке. По словам одного из востоковедов, нужды частноправового оборота и недоверчивость заимодавца привели в Месопотамии к открытию письма. Если так, то за правом как цивилизационным явлением можно признать еще одну заслугу. Как бы то ни было, но с появлением письменности возникает писаный юридический акт, по крайней мере, в двух видах: нормативный акт, содержащий общие правовые нормы, и акт индивидуальный, т. е. юридический документ (письменный договор, деловые расписки, регистрация юридических фактов, хозяйственный учет, судебные записи и т. д.). Нетрудно представить, какие громадные изменения в правовой сфере повлек за собой писаный юридический акт, какие выгоды и технические удобства привнес он в правовую жизнь того времени. По эффективности эти изменения возможно сравнить с компьютеризацией современной юридической практики. Но, как и нынешняя компьютеризация, письменность в свое время не переделала сути права, не затронула “внутренний нерв” правовой системы, логика развития которой определяется общественной и культурной средой, глубинными тенденциями своего времени.
Возникновение писаного права еще не означало возникновения законодательного права, которое приходит значительно позже. Закону не принадлежит честь быть первым записанным юридическим нормативным актом, скорее, в этой роли выступил, как мы уже говорили, правовой обычай. Уже в древности определился набор писаных форм (источников) права, которые известны из современной юриспруденции. Письменной фиксации требовали прежде всего нормативные публичные договоры, часто заключавшиеся тогда между царями (королями), светской и церковной властью, сеньором и вассалами и т. д. В договорах формулировалась часть нового права, которое вводилось государством, иногда вместе с церковью, помимо или в обход обычаев. В качестве правовой формы, отличающейся от правового обычая, публичный договор известен с глубокой древности. Есть сведения, относящиеся к хеттской культуре XV—XIV вв. до н.э., согласно которым цари хеттов заключали договоры с народом, где определялись обязанности народа перед царской властью, формы вознаграждений и пределы наказаний, обязательные для царя. По типу этих договоров, как считают, сконструирован библейский Ветхий Завет, договор Бога с народом Израиля. Довольно рано стали записываться судебные решения, которые затем брали за образец при решении аналогичных дел в судах. Письменно фиксируемый судебный прецедент также появляется раньше писаного закона. Многие известные древние судебники являются не просто записями обычаев, которыми руководствовались суды, а именно судебными прецедентами, в основе которых могли находиться актуализированные, переработанные обычаи. Ярким примером этому служит памятник древнеиранской зороастрийской культуры “Сасанидский судебник. Книга тысячи судебных решений”, составленный в VI—VII вв. в результате неполной инкорпорации образцовых решений, применяемых сасанидскими судами.
Запись норм обычного права действительно была заметной формой правовой активности раннего государства, но проводилась она фрагментарно, отрывочно, субъективно. Кроме социально-классовой несовместимости обычаев с порядками, насаждаемыми в ранних государствах, действовали и другие факторы, сдерживающие отношение государства к обычному праву. Последнее в своей неписаной форме представлялось людям, живущим в общинах, в самоуправляющихся сообществах, самым настоящим правом, а “варварские правды”, например, не были оригинальным законотворчеством, но и не являлись уже оригинальным обычным правом. В “правдах” аутентичность права той эпохи утрачивалась, люди ощущали в них элементы подтасовок и фальсификации, допущенных при записи обычно-правовых норм. Безусловно прав А. Я. Гуревич, отмечавший, что “самый акт записи обычая, сохранявшегося до того лишь в памяти его знатоков, “законоговорителей”, “лагманов” (как их называли в Скандинавии), знаменовал начало процесса обособления обычного права от народа”[158]. Фиксация обычного права лишала его живого начала, делала неподвижным. Не случайно почтительная настороженность и страх перед “писаным актом”, перед юридической бумагой до сих пор остаются приметной чертой отношения многих людей к праву и судам. Интересно, что обычаи, никогда не подвергавшиеся записи и обработке, оказывались сплошь и рядом более живучими, чем записанные обычаи и “варварские правды”, от которых государство на определенных этапах отказывается в пользу закона и регулярного законодательства. Вспомним историческую судьбу давно ушедшей из юридической жизни “Русской правды” в сравнении с укоренившимися в быте народа правовыми обычаями, которые регулировали земельные, имущественные, семейные и иные отношения в рамках крестьянской общины и действовали в России еще в начале XX в.
Смена стадий в правовой истории произошла не с возникновением письменности или утверждением какой-либо религиозной системы, а с появлением закона как формы (источника) права, исходящего от государства или, если формулировать более широко, выходя за рамки европейской модели права, то с установлением в обществе доминирующей роли форм государственного правотворчества и права. Античное предание отодвигает время возникновения закона в глубокую древность. Диодор Сицилийский приписывал "изобретение” закона легендарному царю Менесу (Мину), основателю первой древнеегипетской династии эпохи Раннего царства (3 тыс. лет до н.э.), но историческая наука не располагает данными, подтверждающими этот факт: “До тех пор, пока не будут обнаружены сами свитки законов, не может быть полной уверенности в том, что реконструируемые нормы египетского права отражают именно “законы” (hp), а не нововозникающие обычаи”[159]. Проблема истории права в период ранних государств заключается в необходимости отличать закон от переходных правовых форм, в основе которых лежал переработанный обычай, включаемый в “кодексы” (“правды”), публичные договоры, судебные прецеденты. В строгом смысле слова законом является писаный юридический акт, который: а) содержит правовые нормы общего действия; б) принят с соблюдением установленных формальных процедур; в) выражает верховную (независимую, суверенную) волю государства, не нуждается в чьем-либо утверждении и одобрении; г) обладает высшей юридической силой в системе правовых отношений, которые находятся “под законом”; д) опирается на организацию государственного принуждения, включая монополию государства на легитимное применение физического насилия к правонарушителям. Наличие одного или двух отдельно взятых признаков может дать кому-то основания называть нормативный акт законом, но для юриста эта категория должна отвечать всем перечисленным выше требованиям. Египетские фараоны эпохи Среднего и Нового царств уже были в состоянии издавать указы, которые являлись своего рода “командами суверена”, выражали их непререкаемую волю: “Писец взял в руки письменный прибор и свиток и записал то, что сказал ему его величество” Но если при этом призываются кары небесные на головы нарушителей воли фараона, то, хотя мы и знаем, что такое религия в Древнем Египте, можно определенно сказать, что указ фараона — еще не закон. Не являлись законами в строгом смысле и более поздние рескрипты императоров, облеченные в правовую форму решения коллегий, волевые установки, за которыми не стоит подлинная мощь и авторитет государства. Не было тогда системы организованных и поддерживаемых государством общественных отношений, которые делают юридический акт законом.
В развитой политической системе государство творит закон по своему образу и подобию, закон есть не только выражение государственной воли, что хорошо известно, но и зеркальное отображение того, чем в действительности является государство для общества. Кто покушается на закон, бросает вызов самому государству. Если оно ослабевает, лишается хотя бы части гегемонистских позиций в политической сфере, то первой жертвой неуважения к государству, наступления на него является, как правило, закон. Мы видим, таким образом, что закон появился в звездные часы государственности, которые пережила Европа (в меньшей степени англосаксонский мир) в период образования национальных государств, сосредоточения в их руках эффективных средств политического и юридического контроля над обществом. В законе государство представляется таким, каким оно желает себя видеть, в нем воплощается “чистая идея государства” Высокое положение закона в современном обществе достигается посредством политического установления различных государственных “монополий” — монополии издавать закон, предоставленной полномочным государственным органам, монополии самого закона регулировать важнейшие виды общественных отношений и т. д. В каждый закон вкладывается мощный заряд государственной энергии, который приводит его в движение через политические механизмы. Поэтому закон, в сущности, есть форма права, сконструированная и поддерживаемая политическими методами, он — сплав политического и юридического начала с возможным преобладанием первого. Беззаконие в современных обществах далеко не всегда кризис правовой формы, а прежде всего политическое неустройство, симптом кризиса государства, теряющего свои позиции в обществе. Однако эти вопросы, связанные с будущим государственной цивилизации, открывают уже другую тему, важную для дальнейшего развития права.
В итоге нашего рассмотрения представляется возможным сделать некоторые общие выводы.
— Взаимоотношения ранних форм государства и раннего права не могут быть подведены под какую-то единственную, действительную для всех исторических эпох, для всех куль- тур универсальную схему. Они в высшей степени зависимы от особенностей той или иной стадии социально-культурного развития общества. Было время, когда обычно-правовые системы функционировали в догосударственном обществе, черпая свою силу и действенность непосредственно из общественных структур. В период становления государства (ранних государств), который по времени был очень растянутым и по характеру разнообразным, преобладал обычно-правовой способ регуляции при настойчивых и постоянно усиливающихся попытках публичной власти активно включиться (через суды и административный аппарат) в правовую жизнь общества и доминировать в ней. Соединение и переплетение различных форм правового регулирования, исходящих от общества и государства, от крупных и влиятельных объединений (прежде всего религиозных), выражающих традиционную самодеятельность народа, являются отличительной чертой раннегосударственных обществ.
— Современный способ правового регулирования посредством закона становится возможным при установлении высшего политического контроля государства над обществом, признании за государством ряда политических монополий, одной из которых является монополия издавать законы. К этому своему расцвету государственность шла долгим путем борьбы и противоречий. По сравнению с другими формами права закон, за которым стоит политизированная воля государства, имеет значительные преимущества, определяющие эффективность юридических норм. Но с ним связана опасность абсолютизации волевого элемента в праве и его отрыва от материального фактора, проникновения субъективизма в правовую сферу. Рождается иллюзия, будто право, сведенное к совокупности законов и законодательству, есть субъективно-волевой феномен. На крутых исторических поворотах за эту ошибку приходится расплачиваться.
— Эпоха длительного господства обычно-правовых систем на догосударственных и раннегосударственных стадиях есть неотъемлемая часть единой истории правового развития человечества. Фундаментальный опыт этой эпохи должен найти соответствующее отражение в общем понимании права, в современных подходах к праву как социальному феномену, ведущему нормативному регулятору. “Общую концепцию права, — пишет известный западный теоретик права С. Йоргенсен, — нельзя сводить к современной, развитой государственной системе. Право во все времена выполняло функцию поддержания мира и позволяло обществу жить в тех обстоятельствах, которые превалируют на данный момент. Поэтому нормы и правила, применяемые в безгосударственных обществах или во взаимоотношениях между государствами, также должны охватываться широким пониманием права”[160]. Огосударствленное, политизированное право ныне заблудилось в “дебрях цивилизации”, и самый лучший способ вывести его на верный путь — это возвращение к общественным истокам, формам организации социальной жизни на началах стабильности и гармонии, равновесия и саморегуляции, человеческого взаимопонимания, взаимопомощи и сотрудничества.
Во всем многообразии форм и систем право возникает из объективного общественного развития, в первую очередь из условий и потребностей материальной и духовной жизни. Воля законодателя пуста, если не имеет под собой объективной основы. Искусство законодателя состоит в том, чтобы найти право в самой жизни и адекватно выразить его в законе. В исторически образовавшейся связке государства и права последнее не сливается с первым, не теряет самостоятельности и собственных корней в обществе, которые всегда способны дать ростки новых форм социальной саморегуляции. Современное политизированное общество должно вновь овладеть культурой права, научиться доверять его автономной силе, использовать его исторические традиции.
Раздел III. Сущность, понятие и ценность права
Глава 1. Основные концепции правопонимания
§ 1. Типология правопонимания
Для юриспруденции как науки о праве и государстве исходное и определяющее значение имеет лежащий в ее основе тот или иной тип понимания (и понятия) права. Именно тип правопонимания определяет парадигму, принцип и образец (смысловую модель) юридического познания, собственно научно-правовое содержание, предмет и метод соответствующей концепции юриспруденции.
Это обусловлено научно-познавательным статусом и значением понятия в рамках любой (в том числе и юридической) последовательной, систематически обоснованной, развитой и организованной теории. Как в семени дано определенное будущее растение, так и в понятии права в научно-абстрактном (сжатом и концентрированном) виде содержатся определенная юридическая теория, теоретико-правовой смысл и содержание определенной концепции (и типа) юриспруденции. Если, таким образом, понятие права — это сжатая юридическая теория, то юридическая теория — это развернутое понятие права. Ведь только юридическая наука в целом (как совокупное понятийно-теоретическое знание о праве) и есть систематическое и полное раскрытие понятия права в виде определенной теории.
История и теория правовой мысли и юриспруденции пронизаны борьбой двух противоположных типов правопонимания. Эти два типа понимания права и трактовки понятия права условно можно обозначить как юридический (от ius — право) и легистский (от lex — закон) типы правопонимания и понятия права[161].
Упрощенно говоря, различие этих двух типов правопонимания состоит в следующем. Согласно легистскому подходу, под правом имеется в виду продукт государства (его власти, воли, усмотрения, произвола), право — приказ (принудительное установление, правило, норма, акт) официальной (государственной) власти, и только это есть право. Здесь право сводится к принудительно-властным установлениям, к формальным источникам так называемого позитивного права (законам, указам, постановлениям, обычному праву, судебному прецеденту и т. д.), т. е. к закону (в собирательном смысле) — к тому, что официально наделено в данное время и в данном месте законной (властно-принудительной) силой.
Такое легистское отождествление права и закона (позитивного права) является принципом и смыслом так называемого “юридического позитивизма” (и неопозитивизма), который, по существу, является не юридическим, а именно легистским позитивизмом. Легистское (позитивистское) правопонимание присуще разного рода этатистским, авторитарным, деспотическим, диктаторским, тоталитарным подходам к праву.
Для юридического типа правопонимания, напротив, характерна та или иная версия (вариант) различения права и закона (позитивного права). При этом под правом (в той или иной форме) имеется в виду нечто объективное, не зависящее от воли, усмотрения или произвола законоустанавливающей (государственной) власти, т. е. определенное, отличное от других социальное явление (особый социальный регулятор и т. д.) со своей объективной природой и спецификой, своей сущностью, отличительным принципом и т. д.
В рамках самого юридического (антилегистского) типа правопонимания можно выделить два разных подхода: 1) естественноправовой подход, исходящий из признания естественного права, которое противопоставляется праву позитивному (сам термин “позитивное право” возник в средневековой юриспруденции); 2) развиваемый нами (с позиций общей теории правопонимания) либертарно-юридический подход, который исходит из различения права и закона (позитивного права) и под правом (в его различении и соотношении с законом) имеет в виду не естественное право, а бытие и нормативное выражение (конкретизацию) принципа формального равенства (как сущности и отличительного принципа права).
При этом принцип формального равенства трактуется и раскрывается в рамках либертарно-юридического подхода как единство трех основных компонентов правовой формы (права как формы отношений): 1) абстрактно-формальной всеобщности нормы и меры равенства (равной для всех нормы и меры), 2) свободы и 3) справедливости. Как составные моменты принципа формального равенства (а поэтому и компоненты правовой формы отношений) все элементы данного триединства (равная мера, свобода и справедливость) в рамках развиваемого нами формально-юридического правопонимания носят чисто и последовательно формальный характер. Ведь право как форму отношений не следует смешивать с фактическим содержанием этих отношений. Важно также отметить, что названные элементы не только дополняют, но и предполагают, подразумевают друг друга, ибо являются лишь различными проявлениями (разными аспектами и формами проявления) единого правового начала — принципа формального равенства (а вместе с Тем и правовой формы отношений).
Поскольку только таким образом понимаемое право является всеобщей и необходимой формой свободы, мы называем свой формально-юридический подход либертарной (или либертарно-юридической) теорией права.
С точки зрения общей теории правопонимания естественноправовой подход и либертарный формально-юридический подход как различные формы юридического правопонимания представляют собой этапы и ступени возникновения, углубления и развития теоретического подхода к праву, исторического прогресса в области теоретико-правовой мысли.
Либертарный подход предполагает (и включает в себя) все возможные формы различения и соотношения права и закона — от разрыва и противостояния между ними (в случае антиправового, правонарушающего закона) до их совпадения (в случае правового закона). Та же логика действует и применительно к отношениям между правом и государством, которое с позиций юридического правопонимания трактуется во всем диапазоне его правовых и антиправовых проявлений (от правонарушающего до правового государства).
Согласно либертарно-юридическому (формально-юридическому) правопониманию, право — это форма отношений равенства, свободы и справедливости, определяемая принципом формального равенства участников данной формы отношений. Везде, где есть (действует) принцип формального равенства (и конкретизирующие его нормы), там есть (действует) право, правовая форма отношений. Формальное равенство как принцип права и есть правовое начало, отличительное свойство и специфический признак права. В праве нет ничего, кроме принципа формального равенства (и конкретизаций этого принципа). Все выходящее за рамки этого принципа и противоречащее ему является неправовым и антиправовым.
Для сторонников естественноправовых идей естественное право (в его религиозной или светской трактовке с позиций теологии, этики, юриспруденции или философии права) — это единственное настоящее, исходно подлинное право, коренящееся в объективной природе — в природе бога или человека, в физической, социальной или духовной природе, в “природе вещей” и т. д. Оно воплощает собой начала разумности, нравственности и справедливости. В отличие от него позитивное право рассматривается ими как отклонение (а зачастую как отрицание) от естественного права, как искусственное, ошибочное или произвольное установление людей (официальных властей).
Согласно такому подходу, собственно правом (правом по его смыслу, сущности и понятию) является именно и только естественное право.
С точки зрения развиваемой нами общей теории правопонимания (различения права и закона, юридического и легистского типов правопонимания и т. д.) естественноправовому подходу присущи как достоинства (наличие некоторых моментов юридического правопонимания, правда, без должного теоретического осознания и выражения), так и недостатки (смешение права с неправовыми явлениями — моралью, нравственностью, религией и т. д., отсутствие четкого критерия отличия права от всего неправового, трактовка равенства, свободы и справедливости не как специфических формально-правовых понятий, свойств и характеристик, а как фактически-содержательных моральных феноменов или смешанных моральноправовых, нравственно-правовых и т. д. явлений).
В связи с нашей формально-юридической трактовкой права (и пониманием права как специфической формы отношений, т. е. как формального предмета) следует особо подчеркнуть принципиальное значение различения (и несмешения) формального и фактического. Дело в том, что по логике вещей только формальное может быть всеобщим, обладать свойством всеобщности, тогда как никакая фактичность (фактическое содержание) не может быть всеобщностью и всякое фактическое — это, по определению, нечто частное. Поэтому, будучи только формальным предметом (специфической формой, особой формальностью), право может обладать качеством всеобщности, быть абстрактно-всеобщей формой отношений и т. д.
Естественноправовой юридичности (из-за смешения формального и фактического при трактовке естественного права) как раз и недостает надлежащей формальности (и все общности), а легистской формальности (и всеобщности) — необходимой юридичности (собственно правового начала, правовых свойств).
Таким образом, наш подход является формально-юридическим в том смысле, что правовую форму отношений (и в целом право как форму отношений) мы последовательно отличаем (и “очищаем”) от всего неформального, от всего фактического, от всего фактически-содержательного, от всякого фактического содержания, предполагаемого и опосредуемого правовой формой. Тем самым при трактовке права (и правовой формы) преодолевается такой существенный недостаток естественноправового подхода (который, кстати говоря, верно отмечают и позитивисты), как смешение права и неправовых явлений, правовой формы и фактического содержания, формального и фактического, формально-правового и фактически-содержательного.
Вместе с тем мы — в отличие от позитивистов — в русле различения права и закона трактуем правовую форму (право как форму) не как пустую (“чистую” в кельзеновском смысле) форму, годную для любого произвольного содержания (нормативного и фактического), а как специфическую форму, обладающую особыми формализованными (формально-содержательными) характеристиками и свойствами, отличающими право от неправа, правовую форму от неправовых форм. Иначе говоря, наш формально-юридический подход — это содержательное понимание, определение и толкование права, но оно формально-содержательно (содержательно в плоскости формальных свойств и характеристик, формализованных смыслов и значений), а не фактически-содержательно.
Право (правовая форма, принцип формального равенства) в нашей трактовке обладает такими формально-содержательными (но не фактически-содержательными) свойствами и характеристиками, как формально-всеобщая равная мера, свобода, справедливость. Именно благодаря обладанию этими формально-содержательными характеристиками (компонентами), выражающими смысл принципа формального равенства, форма приобретает свое правовое свойство, свое специфическое качество именно правовой формы, отличной от всякой другой формы, от форм моральных, религиозных или принудительно-приказных (силовых, произвольных) отношений и т. д.
Такая формально-юридически специализированная и квалифицированная форма выражает специфику и существо правового типа отношений и правового способа регуляции. Правовая форма (и право в целом), таким образом, это не просто форма приказа и долженствования, не пустая и всеядная форма, допускающая любое (в том числе и произвольное) фактическое содержание, как это имеет место у легистов (особенно последовательно — в неопозитивистском “чистом учении о праве” Г. Кельзена), а юридически определенная форма, включающая в себя и выражающая свойства и требования права и тем самым отвергающая все антиправовое.
В рамках нашего формально-юридического подхода под “формальным” имеется в виду формальность (формальные характеристики) права в его разграничении с законом (позитивным правом), а не позитивистски трактуемая формальность закона (позитивного права), когда полностью отрицаются объективные (не зависящие от официальной власти) свойства и вместе с тем отличительные особенности правовой формы. Под “юридическим” же имеется в виду не естественное или позитивное право, не “юридическое” в естественноправовом или легистском толковании, а либертарно понимаемое право в его различении с законом (позитивным правом), т. е. “юридическое” — в смысле нашей трактовки принципа формального равенства.
Вместе с тем в контексте нашего формально-юридического подхода удержаны, учтены в преобразованном виде и развиты дальше (с позиций более абстрактной, более последовательной и в этом смысле более “чистой” юридической теории правопонимания) моменты (элементы) как естественноправового юридизма, так и легистского формализма.
Представители легистского правопонимания, односторонне (хотя зачастую и верно) критикуя недостатки естественноправового подхода, отрицают в принципе неприемлемые для них положения и достижения естественноправовой мысли в плане юридического (антилегистского) правопонимания.
Сторонники естественноправового подхода, в свою очередь, в силу противопоставления естественного и позитивного права концентрируют внимание прежде всего на своей трактовке непозитивного и антипозитивного (естественного) права и критике позитивистского правопонимания, во многом игнорируя его контрдоводы (в том числе и резонные) и достижения.
Либертарно-юридическая теория различения права и закона и соответствующего правопонимания свободна от антагонизма между легизмом и юснатурализмом и включает в себя (в качестве надлежащим образом трансформированных моментов формально-юридического правопонимания) релевантные достижения обоих подходов. Эта теория, отвергая как легистское сведение права к закону, так и разделение права на естественное и позитивное, вместе с тем признает и учитывает познавательно значимые положения и позитивистских, и естественноправовых учений о праве и законе. По-своему преодолевая недостатки этих учений и удерживая их достижения, либертарная теория трактует различение права и закона как необходимое основание для адекватного понимания смысла их соотношения и, в конечном счете, их надлежащего синтеза в искомой форме правового закона (т. е. позитивного права, соответствующего объективному смыслу и принципу права).
Такая формально-юридическая концепция правового закона, сформулированная с позиций либертаризма, недостижима с позиций легизма или юснатурализма, которые по своим исходным основаниям закрыты для подобного синтеза и соответствующего синтетического (юридически содержательного и вместе с тем — строго формального) правопонимания.
§ 2. Легизм
В основе легистского правопонимания и легистской концепции юриспруденции лежит понятие права как приказа, как принудительных установлений государства, как совокупности (системы) обязательных правил (норм), предписанных официальной властью.
С легистских позиций, сводящих с самого начала право к закону и отождествляющих их, по сути дела невозможно сказать что-либо содержательное о законе (позитивном праве), поскольку с этой точки зрения в принципе безразлично (да и невозможно выявить), формой выражения какого именно содержания (правового или произвольно-противоправного) является закон. Тут существование закона (публично-властная его данность) в роли права предшествует той правовой сущности (и того правового содержания), выражением чего этот закон как носитель права должен быть.
Для легизма и “юридического позитивизма” весьма характерны пренебрежение правами человека и гражданина, апология власти и гипертрофия ее нормотворческих возможностей. В этом смысле легизм представляет собой нормативное выражение авторитарного правопонимания. Пафос и устремления легизма — подчинение всех властно-приказным правилам и установлениям. Здесь повсюду господствует взгляд на человека как на подчиненный объект власти, а не свободное существо.
У истоков такого подхода к праву в Новое время стоит Гоббс с его концепцией всемогущего государства и трактовкой права как приказа власти. “Правовая сила закона, — подчеркивал он, — состоит только в том, что он является приказанием суверена”[162]. Под “законом” здесь имеется в виду все действующее (позитивное) право. В дальнейшем такое понимание права было взято на вооружение представителями различных направлений легизма.
В конкретно-историческом плане становление и развитие “юридического позитивизма” было связано с победой и укреплением буржуазного строя, с возвышением роли государства и увеличением в этих условиях удельного веса и значения государственных нормативных актов в системе источников права[163] и т. д.
В идейном отношении “юридический позитивизм” отразил изменившееся юридическое мировоззрение победившего класса буржуазии, уже добившегося официального признания в законе (“позитивации”) своих правовых притязаний, идеологию защиты официального, наличного законопорядка против всякого рода критически и оппозиционно (“непозитивно”) звучащих требований и представлений о “естественном”, “должном”, “идеальном”, “разумном”, “справедливом” и т. п. праве.
К основным идеям и положениям “ юридического позитивизма” относятся трактовка права как творения власти, властная принудительность как, в конечном счете, единственная отличительная особенность права, формально-логический и юридико-догматический методы анализа права, отрыв и “очищение” права от общественных отношений, а юриспруденции — от “метафизических” положений о природе, причинах, ценностях, сущности права и т. д. Подобные представления в XIX в. развивали Д. Остин, Ш. Амос и др. в Англии; Б. Виндшайд, К. Гербер, К. Бергбом, П. Лабанд, А. Цительман и др. в Германии; Кабанту и др. во Франции; Е. В. Васьковский, А. X. Гольм- стен, Д. Д. Гримм, С. В. Пахман, Г. Ф. Шершеневич в России. В XX в. этот подход представлен такими направлениями “юридического” неопозитивизма, как “реформированная общим языковедением юриспруденция” В. Д. Каткова, “чистое учение о праве” Г. Кельзена, “концепция права” Г Харта и т. д.
Так, Дж. Остин характеризовал право как “агрегат правил, установленных политическим руководителем или сувереном”, и подчеркивал: “Всякое право есть команда, приказ”[164]. Так же и Ш. Амос утверждал, что “право есть приказ верховной политической власти государства с целью контроля действий лиц в данном сообществе”[165]. Г. Ф. Шершеневич придерживался аналогичных воззрений. “Всякая норма права, — писал он, — приказ”[166]. Право, по его оценке, — это “произведение государства”, а государственная власть характеризуется им как “тот начальный факт, из которого исходят, цепляясь друг за друга, нормы права”[167].
Своим приказом государственная власть порождает право — таково кредо данного типа правопонимания. С этой точки зрения все, что приказывает власть, есть право. Отличие права от произвола тем самым в принципе лишается объективного и содержательного смысла и имеет для приверженцев такого подхода лишь субъективный и формальный характер: явный произвол, санкционируемый определенным субъектом (органом государства) в определенной форме (в форме того или иного акта — закона, указа, рескрипта, постановления, циркуляра и т. д.), признается правом. В легистско-позитивистской трактовке за приказом государственной власти признаются магические возможности. Получается, что подобным приказом решаются задачи не только субъективного характера (формулирование норм законодательства), но и объективного плана (формирование, создание самого права), а также собственно научного профиля (выявление специфики права, его отличия от иных социальных норм и т. д.).
Как приказ власти и принудительный порядок трактуют право и неопозитивисты, несмотря на их декларации об “очищении” юриспруденции от прежних этатистских представлений о праве как продукте государства и их попытки формально-логическим образом обосновать, будто отстаиваемое ими принудительно-приказное право получает свою действительность не от государства, а от гипотетической основной нормы (Г. Кельзен) или от некоего фактического “последнего правила” — “высшего правила признания” (Г. Харт)[168].
В силу такой позитивистско-прагматической ориентированности легистская юриспруденция занята уяснением и рассмотрением двух основных эмпирических фактов: 1) выявлением, классификацией и систематизацией самих видов (форм) этих приказаний (принудительно-обязательных установлений) официальной власти, т. е. так называемых формальных источников действующего права (позитивного права, закона) и 2) выяснением мнения (позиции) законодателя, т. е.’ нормативно-регулятивного содержания соответствующих приказаний власти как источников (форм) действующего права.
Легизм (во всех его вариантах — от старого легизма и этатистского толкования права до современных аналитических и нормативистских концепций юридического неопозитивизма), отождествляя право и закон (позитивное право), отрывает закон как правовое явление от его правовой сущности, отрицает объективные правовые свойства, качества, характеристики закона, трактует его как продукт воли (и произвола) законоустанавливающей власти. Поэтому специфика права, под которым позитивисты имеют в виду закон (позитивное право), неизбежно сводится при таком правопонимании к принудительному характеру права. Причем зта принудительность трактуется не как следствие каких-либо объективных свойств и требований права, а как исходный правообразующий и правоопределяющий фактор, как силовой (и насильственный) первоисточник права. Сила власти здесь рождает насильственное, приказное право.
Истина о праве, согласно легизму, дана в законе, выражающем волю, позицию, мнение законодателя (суверена, государства). Поэтому искомое истинное знание о праве носит здесь характер мнения, хотя и официально-властного мнения.
По логике такого правопонимания, одна только власть, создающая право, действительно знает, что такое право и чем оно отличается от неправа. Наука же в лучшем случае может адекватно постигнуть и выразить это воплощенное в законе (действующем праве) властно-приказное мнение.
Теоретико-познавательный интерес легизма полностью сосредоточен на действующем (позитивном) праве. Все, что выходит за рамки эмпирически данного позитивного права, все рассуждения о сущности права, идее права, ценности права и т. д. позитивисты отвергают как нечто метафизическое, схоластическое и иллюзорное, не имеющее правового смысла и значения.
Особо остро позитивисты критикуют естественноправовые учения. Причем к естественноправовым они относят все концепции различения права и закона, все теоретические рассуждения о праве, расходящиеся с положениями закона. Позитивистская гносеология тем самым, по существу, отвергает теорию права и признает лишь учение о законе, законоведение, предметом которого является позитивное право, а целью и ориентиром — догма права, т. е. совокупность непреложных основных положений (устоявшихся авторитетных мнений, позиций, подходов) о действующем (позитивном) праве, о способах, правилах и приемах его изучения, толкования, классификации, систематизации, комментирования и т. д.
Конечно, изучение, комментирование, классификация и иерархизация источников позитивного права, выявление их нормативного содержания, систематизация этих норм, разработка вопросов юридической техники, приемов и методов юридического анализа и т. д., т. е. все то, что традиционно именуется юридической догматикой (догмой права) и относится к особой сфере профессиональной компетентности, мастерства и “ремесла” юриста, представляют собой важную составную часть познания права и знания о действующем праве. Но позитивистское ограничение теории права разработкой догмы права, по существу, означает подмену собственно научного исследования права его формально-техническим описательством, сведение правоведения к законоведению.
Позитивистская гносеология закона (действующего права) при этом ориентирована не на познание сущности закона, не на получение какого-то нового (отсутствующего в самом фактически данном законе) знания о действующем праве, а на адекватное (в юридико-догматическом смысле) описание его как собственно уже познанного и знаемого объекта. Все знание о праве, согласно такому правопониманию, уже официально дано в самом позитивном праве, в его тексте, и основная проблема позитивистского учения о праве состоит в правильном толковании текста закона и надлежащем изложении имеющегося в этом тексте официально-правового знания, мнения и позиции законодателя.
С этим связан и повышенный интерес позитивистов (особенно представителей аналитической юриспруденции) к лингвистическим и текстологическим трактовкам закона при явном игнорировании его правового смысла и содержания. При таком подходе юридическая гносеология подменяется легистской лингвистикой, согласно которой разного рода непозитивистские понятия, идеи и концепции (типа сущность права, идея права, естественное право, неотчуждаемые права человека и т. д.) — это лишь ложные слова, языковые иллюзии и софизмы, результат неверного словоупотребления.
Подобные взгляды уже развивал ярый позитивист И. Бентам, оказавший заметное влияние на становление аналитической юриспруденции (Д. Остин и др.). Естественное право — это, согласно его оценке, словесная фикция, метафора, а неотчуждаемые права человека — химера воображения.
Начатое Бентамом “очищение” языка юриспруденции от подобных “обманных” слов было продолжено последующими позитивистами, особенно последовательно — в кельзеновском “чистом” учении о праве.
Дальше всех в этом направлении пошел русский дореволюционный юрист В. Д. Катков. Реформируя юриспруденцию с помощью “общего языковедения”, он даже предлагал вовсе отказаться от слова “право” и пользоваться вместо него словом “закон”, поскольку, как утверждал он, в реальности “нет особого явления “право”[169].
Юридическое правопонимание признает теоретико-познавательное и практическое значение лингвистического, текстологического (герменевтического), структуралистического, логико-аналитического, юридико-догматического направлений, приемов и средств исследований проблем права и закона. Но в рамках юридического подхода к праву речь идет не о сведении права к закону и теории права к учению о законе и догме позитивного права, а об использовании всей совокупности гносеологических приемов, средств и возможностей в процессе всестороннего познания права для получения достоверного и истинного знания о праве и законе.
В аксиологическом плане легизм — в силу отождествления права и закона (позитивного права) и отрицания объективных, независимых от законодателя и закона свойств и характеристик права — отвергает, по существу, собственно правовые ценности и признает лишь ценность закона (позитивного права). Причем признаваемая позитивистами “ценность” закона (позитивного права) на самом деле лишена собственно ценностного смысла. Позитивистская “ценность” закона (позитивного права) — это его официальная общеобязательность, властная императивность, а не его общезначимость по какому-либо объективному (не властно-приказному) основанию.
Характерен в этом отношении радикально-позитивистский подход Кельзена, согласно которому право ценно только как приказание, как норма. В таком смысле (как приказ, как норма) право характеризуется им как форма долженствования.
“Нельзя сказать, как это часто делается, — утверждает Кельзен, — что право не только представляет собой норму (или приказание), но что оно также составляет или выражает некую ценность (подобное утверждение имеет смысл только при допущении абсолютной божественной ценности). Ведь право составляет ценность как раз потому, что оно есть норма...”[170].
Но эта “норма” у Кельзена — чистое долженствование- приказание, но не норма равенства, не норма свободы, не норма, справедливости. Она ничего из формально-правовых характеристик права в себе не содержит. Кельзеновская норма (и вместе с тем форма права) — это “чистая” и пустая форма долженствования, пригодная для придания императивно-приказного статуса и характера любому произвольному позитивно-правовому содержанию.
§ 3. Юснатурализм
Согласно юснатурализму (естественноправовому подходу), право по своей природе, смыслу, сущности и понятию — это естественное право. Но на вопрос о том, что такое само естественное право, различные естественноправовые концепции дают разные ответы.
Как традиционное, так и “возрожденное” естественное право лишено надлежащей содержательной и понятийной определенности и общезначимости[171]. Ведь никогда не было, нет и в принципе не может быть какого-то одного-единственного естественного права, а было и есть множество различных (отдельных, особенных) естественных прав, точнее говоря, их концепций и версий. Так что под общим наименованием и единым термином “естественное право” подразумеваются различные (по своему содержанию, сущности и понятию) варианты естественного права, различные смыслы, вкладываемые его прошлыми и современными сторонниками и противниками в это устоявшееся и широко используемое собирательное понятие.
Плюрализм естественноправовых учений отражает, следовательно, плюрализм (особенных) естественных прав и их понятий, причем каждое из этих конкурирующих между собой учений претендует на истинность именно своей версии особенного естественного права, своего понимания (и понятия) того, что есть естественное право.
Но поскольку разные естественноправовые учения (и лежащие в их основе разные понятия естественного права) наряду с различиями имеют и нечто существенно общее, что, собственно говоря, и позволяет отличать “естественное право” в целом (и естественноправовые концепции) от “позитивного права” (и позитивистских концепций), встает вопрос об универсальном определении естественного права, т. е. об определении общего понятия естественного права (в логико-теоретическом, а не в собирательно-техническом значении). А для этого прежде всего необходимо сформулировать (т. е. реконструировать теоретическую абстракцию естественного права, его основной идеи и принципа — из материала отдельных учений об особенных вариантах естественного права) универсальный принцип естественного права, который в концентрированной форме выражает его специфику и суть (а вместе с тем и общее понятие).
Мы уже отмечали, что с точки зрения общей теории правопонимания различение естественного права и позитивного права (а такое различение — один из существенных моментов искомого общего понятия естественного права) — это частный случай, вариант (хронологически первый, фактически наиболее распространенный, но в силу своего древнего происхождения архаичный, теоретически недостаточно развитый, “нечистый”) общей теории различения права и закона. Согласно естественноправовому различению права и закона, право (и присущие или приписываемые ему свойства) объективно в особом смысле — в смысле его естественности, принципиально противополагаемой искусственности позитивного права (а вместе с тем его субъективности, произвольности и т. д.).
Наряду с этим естественноправовое различение естественного права и позитивного права одновременно включает в себя их противоположную ценностную оценку: положительную — естественного права, отрицательную — позитивного права.
Из сказанного можно сделать вывод, что обращенное к сфере права принципиальное противопоставление “естественного” “искусственному”, соединенное с их противоположной нравственной оценкой, составляет смысл и суть понятия естественного права в его различении и соотношении с позитивным правом.
Постоянным компонентом этой естественноправовой схемы и вместе с тем смысловой основой традиционных представлений о вечном и неизменном естественном праве (в отличие от изменчивого позитивного права) является именно принцип противопоставления в области права “естественного” “искусственному”, включающий в себя их ценностную оценку и приоритет “естественного” над “искусственным”
Это и есть всеобщий (универсальный) принцип естественного права.
В рамках этого принципа “искусственное” уже дано в виде позитивного права, поэтому “естественное” (естественное право) трактуется как предданное (богом, разумом, природой вещей, природой человека и т. д.), предпозитивное (допозитивное, надпозитивное). Причем предданность (той или иной безусловно авторитетной, надчеловеческой инстанцией) “естественного” в пространстве и времени мироздания имеет одновременно онтологическое, гносеологическое и аксиологическое значение: “естественное” (естественное право) изначально, безусловно правильно и нравственно, словом, хорошо, а “искусственное” — плохо и как отклонение от “естественного” (в силу присущих людям ошибок, произвола и т. д.) подлежит вытеснению или исправлению и приведению в соответствие с “естественным”
Смысловое содержание универсального принципа естественного права, а вместе с тем и общего понятия естественного права включает в себя следующие моменты.
Во-первых, данный принцип, определяя право как сферу своего применения и действия, отрицает правовой смысл принципа позитивного права и утверждает наличие естественного права как собственно права в исходном, безусловном и подлинном смысле этого явления и понятия.
Во-вторых, этот принцип — в своем противопоставлении естественного и позитивного права — обозначает противоположность двух качественно разных сфер — противоположность “естественного” (включая естественное право) и “искусственного” (включая позитивное право). Причем “естественное” (включая естественное право), согласно такой положительной качественной оценке, — это нечто по своему бытию, смыслу и значению исходное, объективное, безусловное, подлинное, не зависящее от человека, а “искусственное” (включая и позитивное право) — нечто вторичное, производное, субъективное, условное, неподлинное, зависящее от человеческого усмотрения и в целом негативное по качеству (как уклонение, отрыв и противоположность “естественному”).
В-третьих, естественное право (как правовое выражение “естественного”) и позитивное право (как правовое выражение “искусственного”), согласно естественноправовому принципу, выступают как взаимосвязанные противоположности
(и как подразумевающие друг друга парные категории). В этом плане естественное право — в его соотношении с позитивно данным правом — представляет собой предданное (препозитивное, допозитивное и надпозитивное) право, которому (в силу безусловного примата и определяющего характера “естественного” в его соотношении с “искусственным”, включая и правовой аспект такого соотношения) должно соответствовать позитивное право, чтобы иметь правовой характер.
В-четвертых, универсальный естественноправовой принцип (и соответственно универсальное понятие естественного права) — это принцип (и понятие) универсальной модели естественного права, которая выступает как универсальный образец для всех отдельных видов естественного права.
Обозначаемая универсальным естественноправовым принципом общая модель естественного права (в его различении и соотношении с позитивным правом) является исходно объективной, абсолютной, безусловной ценностной моделью, а не только объяснительной схемой и конструкцией долженствования. Однако конкретное содержание ценностей этой ценностной модели (т. е. какие именно конкретные ценности составляют содержание этой модели — справедливость, равенство, достоинство человека, истина или что-то другое), а вместе с этим и определение конкретной границы (линии раздела) между ценностями естественного права и антиценностями позитивного права остаются за рамками универсального естественноправового принципа (и, следовательно, вне общего понятия естественного права).
Все эти аспекты, остающиеся за рамками универсального естественноправового принципа (а вместе с тем и вне общего понятия и общей формы естественного права), относятся к сфере того или иного отдельного (особого) естественного права и зависят, следовательно, от усмотрения автора соответствующей концепции этого отдельного естественного права.
Отдельное естественное право при этом представляет собой не конкретизацию универсальной модели естественного права (поскольку эта модель не имеет определенного правового принципа, правовой формы и правового содержания для отдельного естественного права), а реализацию этой модели, ее воплощение в виде особенного естественного права с определенной формой и определенным содержанием.
Универсальный естественноправовой принцип (и равным образом — универсальное понятие и универсальная модель естественного права) в силу своей абсолютной ценностной природы воплощает собой всеобщую абстракцию ценности, но не сводится к какой-то одной определенной ценности (например, справедливости, равенству, разумности, истинности, достоинству человека и т. д.) либо к какой-то конкретно определенной их совокупности. Абстракция безусловной и абсолютной ценности естественного права вообще, т. е. абстрактной идеи естественного права, остается здесь (на уровне универсального принципа, понятия и модели естественного права) совершенно не конкретизированной в виде определенных правообразующих ценностей, хотя вместе с тем ни одна из возможных таких ценностей и не отрицается.
Выбор определенной ценности (например, справедливости, если брать самый распространенный случай) и содержательная трактовка ее правообразующего смысла (как господства сильных — у Фрасимаха и Калликла, как той или иной формы равенства — у Платона, Аристотеля, римских юристов и т. д.) осуществляется на уровне отдельной концепции естественного права.
Поэтому, например, справедливость (или любая другая определенная ценность, скажем, равенство, достоинство человека, разумность и т. д.) — это не универсальный естественноправовой принцип (и, следовательно, не составной момент универсального понятия естественного права), а принцип отдельного естественного права, абстрактно допускаемый универсальным принципом (и универсальным понятием) естественного права.
Если бы, гипотетически говоря, справедливость была бы универсальным принципом естественного права, тогда все другие ценности (равенство, истинность, разумность, свобода, достоинство человека и т. д.) необходимо было бы трактовать как модификации (формы выражения и проявления) той же самой справедливости, а не как равноценные принципы того же самого естественного права, у которого по определению не может быть двух принципов и двух понятий. Последовательное продвижение в этом гипотетическом направлении привело бы, как об этом свидетельствует изложенная нами общая теория различения права и закона, к преодолению самого естественноправового подхода как частного случая (теоретически неразвитого, искаженного исходными ценностными оценками, отягощенного своими архаическими истоками и т. д.) такого различения.
Резюмируя изложенные положения о специфике и сущности естественного права, можно сформулировать следующее определение общего (универсального) понятия естественного права: естественное право — это везде и всегда наличное, извне предданное человеку, исходное для данного места и времени право, которое как выражение объективных ценностей и требований человеческого бытия является единственным и безусловным первоисточником правового смысла и абсолютным критерием правового характера всех человеческих установлений, включая позитивное право и государство.
Данное определение подразумевает и охватывает все версии естественного права — как традиционные, так и современные, как представления о вечном и неизменном естественном праве, так и концепции естественного права с меняющимся содержанием — словом, абсолютистские и релятивистские, содержательные и формальные конструкции естественного права, онтологические, гносеологические и аксиологические интерпретации его ценностного содержания, императивного характера, естественноправовые учения теологические и светские, рационалистические и интуитивистские, исходящие из природы вещей, природы человека и т. д.
Можно, конечно, памятуя об уже сказанном, сформулировать и более краткие дефиниции общего понятия естественного права. Так, можно сказать, что естественное право — это право, извне предданное человеку и приоритетное по отношению к человеческим установлениям. Или: естественное право — это правовая форма выражения первичности и приоритета естественного над искусственным в человеческих отношениях.
Типичное и существенное для любого естественноправового подхода различение “естественного” и “искусственного” (с безусловным возвышением первого над вторым) своими корнями уходит в архаическое отрицание культуры, недостаткам и опасностям которой (антитрадиционность, новизна, чреватость ошибками и заблуждениями, динамичность, условность, зависимость от человеческой воли и произвола, постоянная изменчивость и т. д.) противопоставлялись достоинства традиционного, раз навсегда данного человеку природой (т. е. не выдуманного человеком, неискусственного, докультурного) порядка жизни.
Эти архаические представления, в которых “естественное” и “искусственное” символизировали соответственно положительное (“хорошее”) и отрицательное (“плохое”) начала в порядке человеческой жизни, были отражением (и остатком) огромной силы естественного притяжения (влияния природы на весь строй социализировавшейся жизни людей) в трудном и долгом процессе выделения и отделения социального от при
родного. Возникновение и становление социума — в его различении и соотношении с природой — не было и не могло быть простым отрывом или прямым переходом от одного к другому. Этот стихийный и опасный путь к неизвестному будущему мог и должен был (уже в силу инстинкта самосохранения) протекать лишь с преодолением тотального сопротивления уже известного прошлого, испытанного на выживаемость, а потому хорошего и правильного. От добра же, как говорится, добра не ищут.
Архаическое противопоставление идеализируемого “естественного” произвольному “искусственному”, продиктованное потребностями выживания социализируемого (т. е. денатурализируемого, культуризируемого, “искусственного”) человека, тем самым предстает как объективно необходимая форма защиты (своеобразные “сдержки и противовесы” природы против культуры) “естественного” (вне человека и в нем самом) от опасностей и угроз “искусственного” Эти представления, воспринятые и трансформированные в естественноправовых воззрениях, в различных модификациях сопровождают всю историю человечества. Они заметно актуализировались в XX в., когда вновь, но уже на перезрелой стадии цивилизации, все “естественное” (природа и человечество) оказалось перед смертельной угрозой со стороны “искусственного” (опасности тоталитаризма, глобальной ядерной и экологической катастрофы и т. д.).
Причина живучести и приспособляемости к различным эпохам и ситуациям архаичного по своим истокам естественноправового принципа противопоставления “естественного” и “искусственного” в сфере права кроется, в конечном счете, в том, что эта противоположность (и вместе с ней диалектика “естественного” и “искусственного”) внутренне присуща всему процессу формирования и развития человечества. Хотя содержание и конфигурация этих противоположностей (и смысл того, что “естественно”, а что “искусственно” в ту или иную эпоху, в том или ином социуме и т. д.) социально-исторически изменяется, однако сама противоположность (как факт и принцип) остается.
Таким образом, между естественноправовой и реальноисторической формами соотношения “естественного” и “искусственного” имеется заметное соответствие и сходство, можно сказать, определенная изоморфность. Поэтому естественноправовой принцип противопоставления (соотношения и т. д.) “естественного” и “искусственного” затрагивает противоречивую суть человеческого бытия и цивилизации, по-своему выражает одно из существенных противоречий в развитии человечества. Этим, кстати говоря, обусловлен тот значительный вклад, который естественноправовая мысль (с характерной для нее разработкой проблем права в глобальном контексте человеческого бытия в мире, назначения и судеб человечества и т. д.) внесла в становление и развитие не только юриспруденции, но также социальной философии и философии истории.
Процессы “ возрождения” и модернизации естественного права в XX в. вновь продемонстрировали большой обновленческий потенциал естественноправового подхода.
Одним из важных (в социально-политическом и идейномировоззренческом отношениях) направлений такого обновления естественного права, во многом содействовавшего его послевоенному “ренессансу”, стала антитоталитарная переинтерпретация естественноправовых идей и ценностей. Ведущая роль представителей естественного права в правовой критике тоталитаризма и тоталитарного законодательства, активная разработка с таких антитоталитаристских (во многом с либерально-демократических) позиций проблем естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека, ценности права, достоинства личности, правового государства и т. д. заметно повысили престиж естественноправовой идеологии в широком общественном мнении послевоенной Европы, усилили ее теоретические позиции и практическое влияние во многих сферах политической и правовой жизни (конституционное и текущее законодательство, правоприменительный процесс, правосудие и т. д.).
В целом для “возрожденного” естественного права характерен заметный поворот к реальным и конкретным аспектам правовой практики, свидетельствующий о чуткости естественноправовой мысли к актуальным проблемам действительности и способности предложить свои ответы и решения, в которых традиционная ориентация на апробированные ценности гибко сочетается с новейшими веяниями, ожиданиями и тенденциями, с духом времени.
В этом плане сформулированная неокантианцем Р. Штаммлером концепция “естественного права с меняющимся содержанием” была конгениальна двойственной традиционалистско-обновленческой (охранительно-критической, архаично-модернистской, консервативно-прогрессистской) ориентации естественноправовой мысли с ее глубинными представлениями о развитии как постоянном процессе (и человеческом призвании и долге) актуализации вечного и неизменного в этом преходящем и изменчивом мире.
Концепция “естественного права с меняющимся содержанием” (непосредственно и в различных последующих вариациях) содействовала существенной методологической, гносеологической и общетеоретической модернизации естественноправового подхода в XX в., особенно во второй его половине.
Заметный вклад в послевоенный “ренессанс” естественноправовых идей внес и другой влиятельный неокантианец — известный немецкий юрист Г. Радбрух. Право (в его различении и соотношении с законом) у него представлено в понятиях “идея права”, “надзаконное право”, а не посредством понятия “естественное право”, как у некоторых других кантианцев. Но его философско-правовая критика юридического позитивизма и настойчивые призывы к восстановлению в юриспруденции “идеи права” и концепций “подзаконного права” существенно содействовали послевоенному “ренессансу” естественного права в Западной Европе.
В этом плане особую роль сыграла работа Радбруха “Законное неправо и надзаконное право” (1946), которая вызвала широкую дискуссию в ФРГ и ряде других стран, способствовала консолидации идей и усилий всех тогдашних противников юридического позитивизма и дала заметный толчок активизации естественноправовых исследований.
Юридический позитивизм, подчеркивал Радбрух в этой своей работе, ответствен за извращение права при национал- социализме, так как он “своим убеждением “закон есть закон” обезоружил немецких юристов перед лицом законов с произвольным и преступным содержанием”[172]. Трактовка юридическим позитивизмом власти как центрального критерия действительности права означала готовность юристов к слепому послушанию в отношении всех законодательно оформленных установлений власти. Правовая наука тем самым капитулировала перед фактичностью любой, в том числе и тоталитарной, власти.
Такому подходу Радбрух противопоставляет неокантианскую трактовку справедливости как содержательного элемента идеи права и сущности понятия права. При этом у Радбруха речь шла не о материальном, а о формальном принципе справедливости, смысл которого раскрывался им через принцип равенства. “Так как справедливость, — писал Радбрух, — указывает нам именно на то, чтобы обходиться так: “равное равно, неравное неравно”, но ничего не говорит нам о точке зрения, по которой ее следует охарактеризовать как равное или неравное, она определяет лишь отношение, но не способ обхождения”[173].
Такое понимание справедливости и равенства, лежащее в основе правопонимания Радбруха, и определяет в его подходе отличие права от “законного неправа” “Установление, — пишет он, — которому не присуща воля к тому, чтобы обходиться так: “равное равно, неравное неравно”, может быть позитивным, может быть целесообразным, даже необходимым и поэтому также и абсолютно законно признанным, но ему должно быть отказано в имени “право”, так как право есть лишь то, что по меньшей мере имеет своей целью служить справедливости”[174].
Позитивное право, которое расходится со справедливостью, не является действительным правом, поэтому ему, согласно Радбруху, надо отказать в послушании. “Если законы, — подчеркивал он, — сознательно отрицают волю к справедливости, например произвольно отказываются от гарантий прав человека, то такие законы не имеют действия, народ не обязан к послушанию им, и юристам тоже надо найти мужество отрицать их правовой характер"[175].
Для “обновления права” и возрождения юридической науки, подчеркивал Радбрух, необходимо вернуться к идее над- законного (надзаконодательного) права. “Юридическая наука, — писал он в работе “Обновление права”, — должна вновь вспомнить о тысячелетней мудрости античности, христианского средневековья и эпохи Просвещения, о том, что есть более высокое право, чем закон, — естественное право, божественное право, разумное право, короче говоря, надзаконное право, согласно которому неправо остается неправом, даже если его отлить в форму закона”[176].
Эта идея “надзаконного права” как отрицание юридического позитивизма для многих была идентична признанию естественного права и существенно содействовала расширению круга сторонников его “возрождения”
В аксиологической плоскости естественное право (и традиционное, и “возрожденное”) трактуется его сторонниками как воплощение объективных свойств и ценностей “настоящего” права, как должный образец, цель и критерий для оценки позитивного права и соответствующей правоустанавливающей власти (законодателя, государства в целом), для определения их естественноправовой значимости, ценности. При этом естественное право понимается как уже по своей природе нравственное (религиозное, моральное и т. д.) явление и исходно наделяется соответствующей абсолютной ценностью.
В понятие естественного права, таким образом, наряду с теми или иными объективными свойствами права (принципом равенства людей, их свободы и т. д., которые, правда, трактуются не формально-юридически, а фактически-содержательно), включаются и различные моральные (религиозные, нравственные) характеристики. В результате такого смешения права и морали (религии и т. д.) естественное право предстает как симбиоз различных социальных норм, как некий ценностно-содержательный, нравственно-правовой (или морально-правовой, религиозно-правовой) комплекс, с позиций которого выносится то или иное (как правило, негативное) ценностное суждение о позитивном праве и позитивном законодателе (государственной власти).
При таком подходе позитивное право и государство оцениваются (в ценностном плане) не столько с точки зрения собственно правового критерия (тех объективных правовых свойств, которые присутствуют в соответствующей концепции естественного права), сколько, по существу, с этических позиций, с точки зрения представлений автора данной концепции о нравственной (моральной, религиозной и т. д.) природе и нравственном содержании настоящего права. Совокупность подобных нравственно-правовых свойств и содержательных характеристик естественного права в обобщенном виде трактуется при этом как выражение всеобщей и абсолютной (также и в аксиологическом плане) справедливости естественного права, которой должны соответствовать позитивное право и деятельность государства в целом.
Понятие естественноправовой справедливости наполняется при таком подходе определенным, особым для каждой концепции фактически-материальным и, следовательно, ограниченным и частным нравственным (или смешанным нравственно-правовым.) содержанием. Иначе говоря, здесь мы имеем дело с материально-содержательной, фактически-содержательной (т. е. на уровне эмпирических явлений и фактического содержания), а не с формально-содержательной, формально-логической (на уровне теоретических абстракций принципов, норм и форм долженствования) трактовкой понятия и смысла справедливости и права в целом.
Уже в силу такого совмещения (и смешения) в естественноправовой (и в любой нравственно и вообще фактически-содержательно трактуемой) справедливости формальных и содержательных (материальных, фактических) компонентов она по определению не является принципом в специальном смысле этого понятия как теоретической категории и формального предмета. Поэтому различные естественноправовые концепции справедливости — вопреки их претензиям на нравственную (или смешанную нравственно-правовую) всеобщность и абсолютную ценность — на самом деле имеют относительную ценность и выражают релятивистские представления о нравственности вообще и нравственных ценностях права в частности.
Таким образом, в рамках естественноправового подхода, включая сферы юридической онтологии и аксиологии, смешение права и морали (нравственности, религии и т. д.) сочетается и усугубляется смешением формального и фактического, должного и сущего, нормы и фактического содержания, идеального и материального, принципа и эмпирического явления. При этом трактовка понятия права и правовой ценности закона (позитивного права) и государства подменяется их нравственной (моральной, религиозной) оценкой с позиций того или иного (неизбежно-релятивного, частного, особенного) нравственного или смешанного нравственно-правового представления о смысле естественного права. Подобные представления в наиболее концентрированном виде представлены в конструкциях естественноправовой справедливости как выражении нравственных или нравственно-правовых начал, свойств и ценностей “подлинного” права.
Эти недостатки, разумеется, не умаляют такие несомненные заслуги и достижения естественноправового подхода в области правовой теории и практики, как постановка и разработка проблем юридической аксиологии (в тесной связи с вопросами юридической онтологии и гносеологии), идей свободы и равенства людей, естественноправовой справедливости, прирожденных и неотчуждаемых прав человека, господства права, правового ограничения власти, правового государства и т. д.
Что же касается отмеченных недостатков естественноправового подхода, то они присущи не только концепциям традиционного и современного юснатурализма, но и различным собственно философским учениям прошлого и современности, которые в своем правопонимании так или иначе исходят из идей и конструкций естественного права. В этой связи можно назвать учения Канта, Гегеля, В. С. Соловьева, Р. Марчича и других представителей морально-нравственного учения о праве, его трактовки как “нравственного минимума”, части морального порядка, выражения нравственной (моральной, религиозной) справедливости и т. д.
Так, в кантовском моральном учении о праве, находящемся еще под заметным влиянием естественноправовых представлений, речь идет именно о моральной, а не о правовой ценности позитивного права и государства. Сама идея республиканизма (этой кантовской версии правового государства) обосновывается Кантом как максима морального сознания, как требование морального категорического императива.
Нравственная трактовка права и государства содержится и в философии права Гегеля, которая мыслилась им как последовательная философская разработка естественного права. При этом примечательно, что мораль трактуется Гегелем как некое особенное право, а позитивное право (“право как закон”) и государство относятся им к сфере нравственности, т. е. рассматриваются как нравственные явления, как формы объективации нравственной идеи[177]. Три раздела “Философии права” Гегеля посвящены соответственно абстрактному праву, моральности и нравственности. Причем свою трактовку нравственности, включая позитивное право и государство, Гегель характеризует как “этическое учение об обязанностях, т. е. такое, как оно объективно есть, а не такое, как оно якобы содержится в пустом принципе моральной субъективности, который ничего не определяет”[178].
В конечном счете Гегель характеризует государство и позитивное право, соответствующие понятию права (представляющие собой формы объективации понятия права), как действительность нравственной идеи.
В естественноправовых концепциях основные теоретикопознавательные усилия направлены на утверждение той или иной версии естественного права в его разрыве и противостоянии (в качестве “подлинного” права) действующему позитивному праву.
При таком подходе вне поля внимания остаются сама идея правового закона (как мы ее понимаем и трактуем с позиций либертарного правопонимания и общей теории различения права и закона) и в целом аспекты взаимосвязи естественного и позитивного права, проблемы приведения действующего права в соответствие с положениями и требованиями естественного права и т. д. В этом смысле можно сказать, что представителей юснатурализма интересует не столько действующее право и его совершенствование в соответствии с требованиями естественного права, сколько само естественное право и его утверждение в качестве исходно данного природой (божественной, космической, физической, человеческой и т. д.) “истинного права”, которое по такой логике также и действует естественно.
Отсюда и присущее юснатурализму представление о двух одновременно и параллельно действующих и конкурирующих между собой системах права — подлинного, истинного, естественного права и неподлинного, неистинного, официального (позитивного) права.
Этот дуализм и параллелизм двух одновременно действующих (хотя, конечно, действующих по-разному) систем права лишь отчасти преодолевается в тех философско-правовых концепциях, которые в целом остаются в рамках естественноправовых представлений, но под естественным правом имеют в виду идею права, философское понятие права, “правильное право” и т. д. В этих философских концепциях, хотя идея права и т. д. не выступает в качестве действующего права, как в традиционном юснатурализме, но и не доводится до понятия правового закона (правовой концепции и конструкции действующего позитивного права).
С учетом недостатков естественноправовой трактовки понятия права следует признать правомерность ряда критических положений, высказанных представителями легизма в адрес естественноправовой доктрины. Речь идет о таких недостатках, как смешение права и морали, формального и фактического при трактовке естественного права, абсолютизация относительных нравственных ценностей, которым должно соответствовать позитивное право и государство, и т. д.
Наиболее последовательной в этом плане является кельзеновская критика естественного права[179]. Важнейшей функцией “естественноправового учения как учения о справедливости”, согласно Кельзену, является “этико-политическая функция”, т. е. ценностное (морально-политическое) оправдание или осуждение позитивного права. В этой связи Кельзен, отстаивая чистоту правоведения, обоснованно критиковал смешение сторонниками естественноправовых учений права с моралью и иными социальными нормами и их требования о моральности права, нравственном содержании права и т. д.
Однако эти сами по себе верные положения сочетаются у Кельзена с традиционными позитивистскими представлениями о том, что “справедливость есть требование морали”[180] и поэтому от позитивного права нельзя требовать, чтобы оно было справедливым, что у права может быть любое произвольное содержание.
§ 4. Юридический либертаризм
Равенство представляет собой определенную абстракцию, т. е. является результатом сознательного (мыслительного) абстрагирования от тех различий, которые присущи уравниваемым объектам. Уравнивание предполагает различие уравниваемых объектов и вместе с тем несущественность этих различий (т. е. возможность и необходимость абстрагироваться от таких различий) с точки зрения соответствующего основания (критерия) уравнивания.
Так, уравнивание разных объектов по числовому основанию (для определения счета, веса и т. д.) абстрагируется от всех их содержательных различий (индивидуальных, видовых, родовых).
В этом русле сформировалась математика, где составление и решение уравнений играет ключевую роль и где равенство, “очищенное” от качественных различий, доведено до абсолютной абстракции количественных определений.
Правовое равенство не столь абстрактно, как числовое равенство в математике. Основанием (и критерием) правового уравнивания различных людей является свобода индивида в общественных отношениях, признаваемая и утверждаемая в форме его правоспособности и правосубъектности. В этом и состоит специфика правового равенства и права вообще.
Правовое равенство в свободе как равная мера свободы означает и требование соразмерности, эквивалента в отношениях между свободными индивидами как субъектами права.
Правовое равенство — это равенство свободных и независимых друг от друга субъектов права по общему для всех масштабу, единой норме, равной мере. Там же, где люди делятся на свободных и несвободных, последние относятся не к субъектам, а к объектам права и на них принцип правового равенства не распространяется.
Правовое равенство — это равенство свободных и равенство в свободе, общий масштаб и равная мера свободы индивидов. Право говорит и действует языком и средствами такого равенства и благодаря этому выступает как всеобщая и необходимая форма бытия, выражения и осуществления свободы в совместной жизни людей. В этом смысле можно сказать, что право — математика свободы‘.
Причем можно, видимо, допустить, что математическое равенство как логически более абстрактное образование является исторически более поздним и производным от идеи правового равенства. Последующее, более интенсивное (чем в праве) развитие и научная разработка начал равенства в математике породили представление, будто идея равенства пришла в право из математики.
Подобная трактовка встречается уже у пифагорейцев, чьи серьезные занятия математикой сочетались с увлечениями цифровой мистикой и экстраполяцией математических представлений о равенстве на общественные явления, включая и право. Сущность мира (физического и социального), согласно пифагорейцам, есть число, и все в мире имеет цифровую характеристику и выражение. Трактуя равенство как надлежащую меру в виде определенной (числовой по своей природе) пропорции, они в духе своей социальной математики выражали справедливость (т. е. право с его принципом равенства) числом четыре.
Такая экстраполяция числовых (математических) представлений о равенстве на общественные отношения отражала неразвитые воззрения о праве и, по существу, игнорировала специфику равенства в социальной жизни людей как именно формально-правового равенства свободных людей. Обладая этим принципом формального равенства, право само по себе является специфической социальной математикой (в смысле учения о равенствах и неравенствах в общественных отношениях).
В социальной сфере равенство — это всегда правовое равенство, формально-правовое равенство. Ведь правовое равенство, как и всякое равенство, абстрагировано (по собственному основанию и критерию) от фактических различий и потому с необходимостью и по определению носит формальный характер.
По поводу равенства существует множество недоразумений, заблуждений, ошибочных и ложных представлений. В их основе в конечном счете лежит непонимание того, что равенство имеет рациональный смысл, логически и практически возможно в социальном мире именно и только как правовое (формально-правовое, формальное) равенство.
Так, нередко (в прошлом и теперь) правовое равенство смешивается с разного рода эгалитаристскими (фактически уравнительными) требованиями, с уравниловкой и т. д. или, напротив, ему противопоставляют так называемое “фактическое равенство” Подобная путаница всегда так или иначе носит антиправовой характер. Ведь “фактическое равенство” имеет рациональный смысл лишь как отрицание (а именно как отрицание формального, правового равенства), но как утверждение (как нечто позитивное) оно, “фактическое равенство”, — величина иррациональная, “фантазм” типа “деревянного железа”, вербальная конструкция, подразумевающая нечто совершенно иное, чем равенство.
“Фактическое равенство” — это смешение понятий “фактическое” и “нефактическое” (формальное) и противоречие в самом понятии “равенство” Ведь “равенство” имеет смысл (как понятие, как регулятивный принцип, масштаб измерения, тип и форма отношений и т. д.) лишь в контексте различения “фактического” и “формального” и лишь как нечто “формальное”, отделенное (абстрагированное) от “фактического”, подобно тому как слова отделены от обозначаемых вещей, цифры и счет — от сосчитываемых предметов, весы — от взвешиваемой массы и т. д.
Именно благодаря своей формальности (абстрагированности от “фактического”) равенство может стать и реально становится средством, способом, принципом регуляции “фактического”, своеобразным формальным и формализованным “языком”, “счетом”, “весами”, измерителем всей “внеформальной” (т. е. “фактической”) действительности. Так обстоит дело и с формально-правовым равенством.
История права — это история прогрессирующей эволюции содержания, объема, масштаба и меры формального (правового) равенства при сохранении самого этого принципа как принципа любой системы права, права вообще. Разным этапам исторического развития свободы и права в человеческих отношениях присущи свой масштаб и своя мера свободы, свой круг субъектов и отношений свободы и права — словом, свое содержание принципа формального (правового) равенства. Так что принцип формального равенства представляет собой постоянно присущий праву принцип с исторически изменяющимся содержанием.
В целом историческая эволюция содержания, объема, сферы действия принципа формального равенства не опровергает, а, наоборот, подкрепляет значение данного принципа (и конкретизирующей его системы норм) в качестве отличительной особенности права в его соотношении и расхождении с иными видами социальной регуляции (моральной, религиозной и т. д.). С учетом этого можно сказать, что право — это нормативная форма выражения свободы посредством принципа формального равенства людей в общественных отношениях.
Исходные фактические различия между людьми, рассмотренные (и регулированные) с точки зрения абстрактно-всеобщего правового принципа равенства (равной меры), предстают в итоге в виде неравенства в уже приобретенных правах (неравных по их структуре, содержанию и объему прав различных индивидов — субъектов права). Право как форма отношений по принципу равенства, конечно, не уничтожает (и не может уничтожить) исходных различий между разными индивидами, но лишь формализует и упорядочивает эти различия по единому основанию, трансформирует неопределенные фактические различия в формально-определенные неравные права свободных, независимых друг от друга, равных личностей. В этом, по существу, состоят специфика и смысл, границы (и ограниченность) и ценность правовой формы опосредования, регуляции и упорядочения общественных отношений.
Правовое равенство и правовое неравенство (равенство и неравенство в праве) — однопорядковые (предполагающие и дополняющие друг друга) правовые определения и характеристики и понятия, в одинаковой степени противостоящие фактическим различиям и отличные от них. Принцип правового равенства различных субъектов предполагает, что приобретаемые ими реальные субъективные права будут неравны. Благодаря праву хаос различий преобразуется в правовой порядок равенств и неравенств, согласованных по единому основанию и общей норме.
Признание различных индивидов формально равными — это признание их равной правоспособности, возможности приобрести те или иные права на соответствующие блага, конкретные объекты и т. д., но это не означает равенства уже приобретенных конкретных прав на индивидуально-конкретные вещи, блага и т. д. Формальное право — это лишь правоспособность, абстрактная свободная возможность приобрести — в согласии с общим масштабом и равной мерой правовой регуляции — свое, индивидуально-определенное право на данный объект. При формальном равенстве и равной правоспособности различных людей их реально приобретенные права неизбежно (в силу различий между самими людьми, их реальными возможностями, условиями и обстоятельствами их жизни и т. д.) будут неравными: жизненные различия, измеряемые и оцениваемые одинаковым масштабом и равной мерой права, дают в итоге различия в приобретенных, лично принадлежащих конкретному субъекту (в этом смысле — субъективных) правах. Такое различие в приобретенных правах у разных лиц является необходимым результатом как раз соблюдения, а не нарушения принципа формального (правового) равенства этих лиц, их равной правоспособности. Различие в приобретенных правах не нарушает и не отменяет принципа формального (правового) равенства.
Сравним для иллюстрации три разные ситуации. Допустим, в первой ситуации право приобрести в индивидуальную собственность землю или мастерскую имеют лишь некоторые (докапиталистическая ситуация), во второй ситуации — все (капиталистическая ситуация), в третьей ситуации — никто в отдельности (социалистическая ситуация). В первой и второй ситуациях все, кто наделен соответствующим правом, являются формально (юридически) равными, обладают равной правоспособностью независимо от того, приобрели ли они в действительности право собственности на соответствующие объекты, стали ли они реально собственниками какого-то определенного участка земли, конкретной мастерской или нет. Одно дело, конечно, иметь право (правоспособность) что-то приобрести, сделать и т. д., другое дело — реализовать такую формальную, абстрактно-правовую возможность и приобрести реальное право на определенное благо. Но право — это лишь равный для различных людей формализованный путь к приобретению прав на различные вещи, предметы, блага, а не раздача всех этих вещей и благ поровну каждому.
Но в правовом упорядочении различий по единому основанию и общему масштабу как раз и присутствует признание формального (правового) равенства и свободы всех тех, на кого распространяется данная правовая форма отношений. Так, во второй ситуации все формально равны и свободны, хотя реально приобретенные права на соответствующие объекты (средства производства) у разных лиц различны. В первой (докапиталистической) ситуации в соответствующую сферу правового равенства и свободы допущены лишь некоторые; отсутствие же у остальных соответствующего права (правоспособности) означает непризнание за ними формального (правового) равенства и свободы. Здесь, в первой ситуации, само право (формальное равенство, правоспособность, пользование правовой формой и т. д.), а вместе с ним и свобода представляют собой привилегию для некоторых индивидов против остальной части общества.
В третьей (социалистической) ситуации нет ни правовых привилегий (права-привилегии) первой ситуации, ни различий в правах на соответствующие объекты, поскольку в отношении к этим объектам как средствам производства никто вообще не имеет права (ни правоспособности, ни тем более реально приобретенного права) на индивидуальную собственность. Отсутствие у индивида определенного права — это вместе с тем отсутствие и соответствующей индивидуальной свободы. Здесь, следовательно, в рассматриваемом отношении вообще отсутствует правовой принцип формального равенства и свободы индивидов, и общество в данной третьей ситуации не конкретизируется на индивидов — субъектов права. Общественные (в том числе и хозяйственные) отношения регулируются здесь иными (неправовыми) средствами и нормами.
Формы проявления равенства как специфического принципа правовой регуляции носят социально-исторический характер. Этим обусловлены особенности таких форм в различных социально-экономических формациях, на разных этапах исторического развития права, изменения объема и содержания, места и роли принципа правового равенства в общественной жизни.
Вместе с тем данный принцип — при всем историческом многообразии и различии его проявлений — имеет универсальное значение для всех исторических типов и форм права и выражает специфику и отличительную особенность правового способа регулирования общественных отношений свободных индивидов. Везде, где действует принцип формального равенства, есть правовое начало и правовой способ регуляции: где действует право, там есть данный принцип равенства. Где нет этого принципа равенства, там нет и права как такового. Формальное равенство свободных индивидов тем самым является наиболее абстрактным определением права, общим для всякого права и специфичным для права вообще.
С принципом формального равенства связано и понимание права как формы общественных отношений.
Специфика правовой формальности обусловлена тем, что право выступает как форма общественных отношений независимых субъектов, подчиненных в своем поведении, действиях и взаимоотношениях общей норме. Независимость этих субъектов друг от друга в рамках правовой формы их взаимоотношений и одновременно их одинаковая, равная подчиненность общей норме определяют смысл и существо правовой формы бытия и выражения свободы.
Правовая форма свободы, демонстрируя формальный характер равенства, всеобщности и свободы, предполагает и выражает внутреннее сущностное и смысловое единство правовой формальности, всеобщности, равенства и свободы.
Для всех тех, чьи отношения опосредуются правовой формой, как бы ни был узок этот правовой круг, право выступает как всеобщая форма, как общезначимый и равный для всех этих лиц (различных по своему фактическому, физическому, умственному, имущественному положению и т. д.) одинаковый масштаб и мера. В целом всеобщность права как единого и равного (для того или иного круга отношений) масштаба и меры (а именно меры свободы) означает отрицание произвола и привилегий (в рамках этого правового круга).
Необходимая внутренняя взаимосвязь правового равенства и всеобщности правовой формы очевидна: правовая мера всеобща лишь в тех пределах и постольку, пока и поскольку она остается единой (и, следовательно, равной) для различных объектов измерения (регуляции), в своей совокупности образующих сферу этой всеобщности, т. е. круг различных отношений, измеряемых общей (единой) мерой. Всеобщность эта, следовательно, относительна, она ограничена пределами действия единой меры в различных отношениях. Само равенство здесь состоит в том, что поведение и положение субъектов данного общего круга отношений и явлений подпадают под действие единой (общей, равной) меры.
Такая формальность — внутренне необходимое, а не случайное свойство всякого права. Форма здесь не внешняя оболочка. Она содержательна и единственно возможным способом точно и адекватно выражает суть опосредуемых данной формой (т. е. охватываемых и регулируемых правом) отношений — меру свободы индивидов по единому масштабу. Своим всеобщим масштабом и равной мерой право измеряет, “отмеряет” и оформляет именно свободу индивидов, свободу в человеческих взаимоотношениях — в действиях, поступках — словом, во внешнем поведении людей. Дозволения и запреты права как раз и представляют собой нормативную структуру и оформленность свободы в общественном бытии людей, пределы достигнутой свободы, границы между свободой и несвободой на соответствующей ступени исторического развития.
Свобода индивидов и свобода их воли — понятия тождественные. Воля в праве — свободная воля, которая соответствует всем сущностным характеристикам права и тем самым отлична от произвольной воли и противостоит произволу. Волевой характер права обусловлен именно тем, что право — это форма свободы людей, т. е. свобода их воли. Этот волевой момент (в той или иной, верной или неверной интерпретации) присутствует в различных определениях и характеристиках права в качестве волеустановленных положений (Аристотель, Гроций и др.), выражения общей воли (Руссо), классовой воли (Маркс и марксисты) и т. д.
С позиций излагаемого либертарного правопонимания очевидно, что свобода индивида, свобода его воли подразумевает свободу и той воли (всеобщей воли свободных индивидов — граждан государства), которая представлена в праве и правовом законе. Индивид, по логике правового типа отношений и смыслу правовой формы свободы, свободен и обладает свободой воли не только как адресат действующего права, но и как его творец (совместно с другими свободными индивидами). Действительная и полная правосубъектность индивидов предполагает и их законотворческую правосубъектность, их соучастие (в той или иной форме) в законотворчестве, их право на участие в установлении правового закона. Свобода возможна лишь там, где люди не только ее адресаты, но и ее творцы и защитники. Там же, где люди лишь адресаты действующего права, вместо права как формы свободы людей действуют навязываемые им свыше принудительные установления и приказы отчужденной от них насильственной власти (деспотической, диктаторской, тоталитарной).
Свобода при всей кажущейся ее простоте — предмет сложный и для понимания, и тем более для практического воплощения в формах, нормах, институтах, процедурах и отношениях общественной жизни.
В своем движении от несвободы к свободе и от одной ступени свободы к более высокой ступени люди и народы не имеют ни прирожденного опыта свободы, ни ясного понимания предстоящей свободы.
Поскольку свобода всегда связана с борьбой за освобождение от прежнего гнета, она прежде всего ассоциируется у большинства с самим процессом высвобождения от прошлого, со свободой от чего-то (или свободой против чего-то). При таком негативном восприятии свободы кажется, будто освобождение от некоторого известного по прошлому опыту гнета — это освобождение на все будущее от всего негативного и достижение абсолютной свободы и счастья. Подобные иллюзии, абсолютизирующие некую относительную ступень и форму будущей свободы, не только типичны, но, видимо, и социально-психологически необходимы для надлежащей мотивации активной борьбы за нее против прошлого.
При этом даже среди участников процесса освобождения от старого царит разнобой в представлениях о позитивном смысле грядущей свободы, в ответах на вопросы типа: свобода для чего? свобода к чему? какая именно свобода? Конкретные представления по этому кругу проблем формируются позже, так сказать, постфактум.
Отмечая различные значения, придаваемые слову “свобода”, Монтескье в работе “О духе законов” писал: “Нет слова, которое получило бы столько разнообразных значений и производило бы столь различное впечатление на умы, как слово “свобода” Одни называют свободой легкую возможность низлагать того, кого наделили тиранической властью; другие — право избирать того, кому они должны повиноваться; третьи — право носить оружие и совершать насилие; четвертые — видят ее в привилегии состоять под управлением человека своей национальности или подчиняться своим собственным законам. Некий народ долгое время принимал свободу за обычай носить длинную бороду. Иные соединяют это название с известной формой правления, исключая все прочие”[181].
Тем, кто высвободился из тисков прежней несвободы, свобода кажется вольницей, мягким, податливым материалом, из которого можно лепить все, что душа пожелает и воображение подскажет. Пафос такого настроения удачно выражен в поэтической строчке В. Хлебникова: “Свобода приходит нагая” Но такой она только грезится. На самом деле свобода приходит в мир и утверждается в нем в невидимом, но прочном одеянии права. Это, конечно, более скучная материя — правопорядок, дозволения и запреты, правонарушения, ответственность и т. д. Но такова действительность свободы.
Какой-либо другой формы бытия и выражения свободы в общественной жизни людей, кроме правовой, человечество до сих пор не изобрело. Да это и невозможно ни логически, ни практически.
Люди свободны в меру их равенства и равны в меру их свободы. Неправовая свобода, свобода без всеобщего масштаба и единой меры — словом, так называемая “свобода” без равенства — это идеология элитарных привилегий, а так называемое “равенство” без свободы — идеология рабов и угнетенных масс (с требованиями иллюзорного “фактического равенства”, подменой равенства уравниловкой и т. д.). Или свобода (в правовой форме), или произвол (в тех или иных проявлениях). Третьего здесь не дано: неправо (и несвобода) — всегда произвол.
Отсюда и многоликость произвола (от “мягких” до самых жестких, тиранических и тоталитарных проявлений). Дело в том, что у права (и правовой формы свободы) есть свой, только ему внутренне присущий, специфический принцип — принцип формального равенства. У произвола же нет своего принципа; его принципом, если можно так выразиться, являются как раз отсутствие правового принципа, отступления от этого принципа, его нарушение и игнорирование. Бесправная свобода — это произвол, тирания, насилие.
Фундаментальное значение свободы для человеческого бытия в целом выражает вместе с тем место и роль права в общественной жизни людей. Наблюдаемый в истории прогрессирующий процесс освобождения людей от различных форм личной зависимости, угнетения и подавления — это одновременно и правовой прогресс, прогресс в правовых (и государственно-правовых) формах выражения, существования и защиты этой развивающейся свободы. В этом смысле можно сказать, что всемирная история представляет собой прогрессирующее движение ко все большей свободе все большего числа людей. С правовой же точки зрения этот процесс означает, что все большее число людей (представители все новых слоев и классов общества) признаются формально равными субъектами права.
Историческое развитие свободы и права в человеческих отношениях представляет собой, таким образом, прогресс равенства людей в качестве формально (юридически) свободных личностей. Через механизм права — формального (правового) равенства — первоначально несвободная масса людей постепенно, в ходе исторического развития преобразуется в свободных индивидов. Правовое равенство делает свободу возможной и действительной во всеобщей нормативно-правовой форме, в виде определенного правопорядка.
Об этом убедительно свидетельствует практический и духовный опыт развития свободы, права, равенства и справедливости в человеческих отношениях.
Между тем повсеместно довольно широко распространены представления о противоположности права и свободы, права и справедливости, права и равенства. Они обусловлены во многом тем, что под правом имеют в виду любые веления власти, законодательство, которое зачастую носит антиправовой, произвольный, насильственный характер.
Нередко свобода противопоставляется равенству. Здесь можно выделить несколько направлений критики равенства (по сути дела правового равенства) с позиций той или иной концепции свободы.
Так, уже ряд софистов младшего поколения (Пол, Калликл, Критий) отвергали правовое равенство с позиций аристократических и тиранических представлений о свободе как праве “лучших” на привилегии и произвол, как праве сильных господствовать над слабыми и т. д. Аналогичный подход в XIX в. развивал Ф. Ницше. Религиозно-аристократическую концепцию “свободы личности” (в духе апологии неравенства и критики равенства) обосновывал в XX в. Н. А. Бердяев[182].
В отличие от аристократической критики правового равенства “сверху” (в пользу элитарных версий свободы) марксистское отрицание правового равенства и права в целом идет “снизу” (в целях всеобщего прыжка в коммунистическое “царство свободы”, утверждения “фактического равенства” и т. д.).
В наши дни широко распространено представление, будто “суть перемен, которые идут в России и в посткоммунистических странах” (т. е. их “модернизация”), состоит “в переходе от логики равенства к логике свободы”[183]. Тут социализм с его уравниловкой (т. е. антиподом права и равенства) предстает как царство равенства, от которого надо перейти в царство свободы без равенства.
В этих и сходных противопоставлениях свободы и равенства данным явлениям и понятиям, по существу, придается (в силу ошибки, социальных интересов и т. д.) произвольное значение.
Если речь действительно идет о свободе, а не о привилегиях, произволе, деспотизме, то она просто невозможна без принципа и норм равенства, без общего правила, единого масштаба и равной меры свободы, т. е. без права, вне правовой формы. Свобода не только не противоположна равенству (а именно правовому равенству), но, напротив, она выразима лишь с помощью равенства и воплощена в этом равенстве.
Свобода и равенство неотделимы и взаимно предполагают друг друга. С одной стороны, исходной и определяющей фигурой свободы в ее человеческом измерении является свободный индивид — необходимая основа правоспособности и правосубъектности вообще; с другой стороны, эту свободу индивидов можно выразить лишь через всеобщий принцип и нормы равенства этих индивидов в определенной сфере и форме их взаимоотношений.
Право не просто всеобщий масштаб и равная мера, а всеобщий масштаб и равная мера именно и прежде всего свободы индивидов. Свободные индивиды — “материя”, носители, суть и смысл права. Там, где отрицается свободная индивидуальность, личность, правовое значение физического лица, там нет и не может быть права (и правового принципа формального равенства), там не может быть и каких-то действительно правовых индивидуальных и иных (групповых, коллективных, институциональных и т. д.) субъектов права, действительно правовых законов и правовых отношений и в обществе в целом, и в различных конкретных сферах общественной и политической жизни.
Эти положения в полной мере относятся и к такой существенной сфере жизнедеятельности общества, как экономика и производство, как отношения собственности в целом. Сама возможность наличия начал свободы, права, равенства людей в сфере экономической жизни общества с необходимостью связана с признанием правоспособности (а следовательно, и свободы, независимости, самостоятельности) индивида в отношениях собственности, т. е признания за индивидом способности быть субъектом права собственности на средства производства.
Здесь особо следует подчеркнуть то обстоятельство, что именно отношения по поводу средств производства образуют содержание, смысл и суть экономических отношений. Там, где сложились и действуют правовые формы экономических отношений, где, следовательно, признано и функционирует право собственности индивида на средства производства, там и другие (непроизводственные) объекты, включая предметы личного потребления, вовлекаются в сферу правовых отношений собственности, становятся объектом права собственности. Но собственность на предметы потребления носит вторичный, производный характер, зависящий от наличия или отсутствия, признанности или непризнанности в соответствующем обществе права собственности индивидов на средства производства.
Индивид как субъект права собственности (и прежде всего на средства производства) — исходная база и непременное предварительное условие для возможности также и других, неиндивидуальных (групповых и т. д.) субъектов права собственности (“юридических лиц”).
В целом право собственности — это свобода индивидов и других субъектов социальной жизни, причем свобода в ее адекватной правовой форме и, что особо важно подчеркнуть, свобода в такой существенной сфере общественной жизни, как отношение к средствам производства, экономика в целом.
Исторический прогресс свободы и права свидетельствует о том, что формирование и развитие свободной, независимой, правовой личности необходимым образом связаны с признанием человека субъектом отношений собственности, собственником средств производства. Собственность является не просто одной из форм и направлений выражения свободы и права человека, но она образует собой вообще цивилизованную почву для свободы и права. Где полностью отрицается право индивидуальной собственности на средства производства, там не только нет, но и в принципе невозможны свобода и право.
В логике таких взаимосвязей собственности, свободы и права коренятся глубинные причины несовместимости социализма (всеобщий запрет частной собственности, ее обобществление и т. д.) с правом и свободой. Этой же логикой определяется фундаментальное значение десоциализации собственности во всем процессе перехода от тоталитарного социализма к началам права и свободы.
Понимание права как равенства (как общего масштаба и равной меры свободы людей) включает в себя с необходимостью и справедливость.
В контексте различения права и закона это означает, что справедливость входит в понятие права, что право по определению справедливо, а справедливость — внутреннее свойство и качество права, категория и характеристика правовая, а не внеправовая (не моральная, нравственная, религиозная и т. д.).
Поэтому всегда уместный вопрос о справедливости или несправедливости закона — это, по существу, вопрос о правовом или неправовом характере закона, его соответствии или несоответствии праву. Но такая же постановка вопроса неумел стна и не по адресу применительно к праву, поскольку оно (уже по понятию) всегда справедливо и является носителем справедливости в социальном мире.
Более того, только право и справедливо. Ведь справедливость потому, собственно, и справедлива, что воплощает собой и выражает общезначимую правильность, а это в своем рационализированном виде означает всеобщую правомерность, т. е. существо и начало права, смысл правового принципа всеобщего равенства и свободы.
И по смыслу, и по этимологии справедливость (iustitia) восходит к праву (ius), обозначает наличие в социальном мире правового начала и выражает его правильность, императивность и необходимость.
Латинское слово “юстиция” (iustitia), прочно вошедшее во многие языки, в том числе и в русский, переводится на русский язык то как “справедливость”, то как “правосудие”, хотя, по существу, речь идет об одном и том же понятии — о справедливости, включающей в себя и правосудие (и в исходном значении суждения по праву, и в производном значении судебного решения спора в соответствии с правом, справедливо). Кстати, все эти аспекты правового смысла справедливости нашли адекватное отражение в образе богини справедливости Фемиды с Весами Правосудия. Используемые при этом символические средства (богиня с повязкой на глазах, весы и т. д.) весьма доходчиво выражают верные представления о присущих праву (и справедливости) общезначимости, императивности, абстрактно-формальном равенстве (повязка на глазах богини означает, что абстрагированный от различий равный правовой подход ко всем, невзирая на лица, — это необходимое условие и основа для объективного суждения о справедливости).
Справедливо то, что выражает право, соответствует праву и следует праву. Действовать по справедливости — значит действовать правомерно, соответственно всеобщим и равным требованиям права.
Внутреннее единство справедливости и правового равенства (общезначимости и одинаковости его требований в отношении всех, включая и носителей власти, устанавливающих определенное правоположение) хорошо выражено в комментариях знаменитого римского юриста Ульпиана к одному преторскому эдикту. Замечателен по своей справедливости прежде всего сам эдикт, кодифицированный Сальвием Юлианом в V первой половине II в. Смысл эдикта — в формулировании одного из существенных требований принципа равенства в сфере правотворчества и правоприменения, который звучит так: “Какие правовые положения кто-либо устанавливает в отношении другого, такие же положения могут быть применены и в отношении его самого” (D. 2.2).
Более развернуто это требование в приводимом Ульпианом фрагменте эдикта выражено следующим образом: “Магистрат или лицо, занимающее должность, облеченную властью, установив какое-либо новое правовое положение по делу § против другого лица, должен применить то же правовое положение, если его противник предъявит требование. Если кто-либо достигнет того, что (в его пользу) будет установлено какое-либо новое правовое положение магистратом или лицом, занимающим должность, обеспеченную властью, то это же правовое положение будет применено против него, когда впоследствии его противник предъявит требование” (D. 2.2.1).
Комментируя данный эдикт, Ульпиан замечает: “Этот эдикт устанавливает положение величайшей справедливости и не может вызвать чье-либо обоснованное неудовольствие: ибо кто отвергает, чтобы по его делу было вынесено такое же решение, какое он сам выносит для других или поручает вынести... Понятно, что то право, которое кто-либо считает справедливым применить к другому лицу, должно признаваться действительным и для самого себя...” (D. 2.2.1).
Другой, не менее важный аспект единства справедливости и равенства как выражения соразмерности и эквивалента зафиксирован в традиционном естественноправовом определении справедливости как воздаяния равным за равное.
В обобщенном виде можно сказать, что справедливость — это самосознание, самовыражение и самооценка права и потому вместе с тем правовая оценка всего остального, внеправового.
Какого-либо другого принципа, кроме правового, справедливость не имеет. Отрицание же правового характера и смысла справедливости неизбежно ведет к тому, что за справедливость начинают выдавать какое-нибудь неправовое начало — требования уравниловки или привилегий, те или иные моральные, нравственные, религиозные, мировоззренческие, эстетические, политические, социальные, национальные, экономические и т. п. представления, интересы, требования. Тем самым правовое (т. е. всеобщее и равное для всех) значение справедливости подменяется неким отдельным, частичным интересом и произвольным содержанием, партикулярными притязаниями.
С этой проблемой под несколько другим углом зрения мы уже сталкивались при рассмотрении разных направлений критики принципа правового равенства (и права в целом) с позиций неправовой (и антиправовой) свободы.
При отрицании правовой природы справедливости, по существу, мы имеем дело с тем же самым, но уже применительно к справедливости, т. е. с неправовой (антиправовой или внеправовой) справедливостью. По логике такого подхода получается, что право как таковое (право вообще, а не только антиправовой закон) несправедливо, а справедливость исходно представлена в том или ином внеправовом (социальном, политическом, религиозном, моральном и т. п.) начале, правиле, требовании.
Здесь, следовательно, справедливость права, если таковая вообще допускается, носит производный, вторичный, условный характер и поставлена в зависимость от подчинения права соответствующему внеправовому началу. И поскольку такие внеправовые начала лишены определенности принципа правового равенства и права в целом (объективной всеобщности правовой нормы и формы, единого масштаба права, равной меры правовой свободы и т. д.), они неизбежно оказываются во власти субъективизма, релятивизма, произвольного усмотрения и частного выбора (индивидуального, группового, коллективного, партийного, классового и т. д.). Отсюда и множественность борющихся между собой и несогласуемых друг с другом внеправовых представлений о справедливости и праве, односторонних претензий того или иного частного начала на всеобщее, присущее праву и справедливости.
С позиций правовой всеобщности (формально-определенной всеобщности правового равенства, свободы и справедливости), в равной мере значимой для всех независимо от их моральных, религиозных, социальных, политических и иных различий, позиций и интересов, все эти внеправовые начала с представленными в них особыми потребностями, требованиями и т. д. — лишь особенные сферы в общем пространстве бытия и действия права и правовой справедливости, специфические объекты, а не субъекты справедливой правовой регуляции.
Право (и правовой закон) не игнорирует, конечно, все эти особенные интересы и притязания, и они должны найти в нем свое надлежащее (т. е. именно справедливое) признание, удовлетворение и защиту. А это возможно только потому, что справедливость (и в целом право, правовой подход и принцип правовой регуляции) не сливается с самими этими притязаниями и не является нормативным выражением и генерализацией какого-либо одного из таких частных интересов. Напротив, справедливость, представляя всеобщее правовое начало, возвышается над всем этим партикуляризмом, “взвешивает” (на единых весах правовой регуляции и правосудия, посредством общего масштаба права) и оценивает их формально-равным, а потому и одинаково справедливым для всех правовым мерилом.
Например, те или иные требования так называемой “социальной справедливости" с правовой точки зрения имеют рациональный смысл и могут быть признаны и удовлетворены лишь постольку, поскольку они согласуемы с правовой всеобщностью и равенством и их, следовательно, можно выразить в виде требований самой правовой справедливости в соответствующих областях социальной жизни. И то, что именуется “социальной справедливостью”, может как соответствовать праву, так и отрицать его. Это различие и определяет позицию и логику правового подхода к соответствующей “социальной справедливости”
Так в принципе обстоит дело и в тех случаях, когда правовой справедливости противопоставляют требования моральной, нравственной, политической, религиозной и иной “справедливости”
В пространстве всеобщности и общезначимости принципа правового равенства и права как регулятора и необходимой формы общественных отношений свободных субъектов именно правовая справедливость выступает как критерий правомерности или неправомерности всех прочих претензий на роль и место справедливости в этом пространстве. Отдавая каждому свое, правовая справедливость делает это единственно возможным, всеобщим и равным для всех правовым способом, отвергающим привилегии и утверждающим свободу.
§ 5. Специфика правовой регуляции в контексте либертарного правопонимания
Историческое развитие и смена различных типов и форм общественной жизни сопровождались существенными изменениями также и в системе социальной регуляции. Отмирали одни и возникали другие виды социальных норм, изменялись соотношение, взаимосвязи и формы взаимодействия социальных норм (моральных, религиозных, правовых, политических, эстетических и т. д.), их реальное содержание, место, роль и значение в системе социальных регуляторов, механизмы их функционирования, способы и средства их защиты и т. д.
Важную роль в системе социальной регуляции со времени его появления стало играть право. При всей своей относительной самостоятельности право, как и другие виды социальных норм, осуществляет свои специфические регулятивные функции не изолированно и обособленно, а в едином комплексе и тесном взаимодействии с другими социальными регуляторами.
Выявление особенностей различных социальных норм является вместе с тем необходимой предпосылкой для уяснения специфики права, смысла, содержания и характера соотношения правовых и неправовых норм в рамках выполняемых ими функций социальной регуляции, объективных оснований и критериев известного “разделения труда” и “сфер влияния” между ними и т. д. Системная целостность всех видов социальных норм, в своей совокупности обеспечивающих надлежащую регуляцию общественных отношений и нормальную жизнедеятельность общества, — это определенный способ соединения их своеобразия, их особенных свойств и возможностей. Поэтому поиски оптимальных вариантов сочетания правовых форм воздействия с регулятивными возможностями других социальных норм являются одной из центральных задач всей социальной политики.
В процессе взаимодействия и взаимовлияния различных видов социальных норм (правовых, этических, эстетических, религиозных и т. д.) каждый из них, сохраняя свою специфику, выступает в качестве регулятора особого рода. Наряду с общими чертами социальные регуляторы имеют и свои специфические особенности, отражающие принципиальное отличие одного вида социальных норм от других. Без таких особенностей нельзя было бы вообще говорить о различных видах социальных норм и способах регуляции.
Так, отличительная особенность всякой религии состоит в вере в бога как сверхъестественное существо. Эта особенность религии как формы общественного сознания определяет специфику религиозных норм и их своеобразие в качестве социального регулятора. Отсюда и такие характеристики религиозных предписаний и запретов, как их божественное происхождение (их данность непосредственно богом или пророками, служителями культа и т. д.), религиозные средства их защиты (посредством сверхъестественных наград и наказаний, религиозно-церковных кар и т. п.).
Видовое отличие эстетических норм заключается в том, что они выражают правила (критерии, оценки) красоты и прекрасного (в их противопоставлении безобразному).
Сложившиеся в данной культуре формы, типы и образы прекрасного и безобразного (по преимуществу в области искусства, но также и в сфере быта и труда, в религии, идеологии, политике, морали, праве и т. д.), приобретая нормативное значение (в качестве положительного и возвышенного или, наоборот, негативного и низменного образца и примера), оказывают существенное воспитательное и регулятивное воздействие на чувства, вкусы, представления, поступки и взаимоотношения людей, на весь строй и образ их личной и публичной жизни. Эстетически одобренные вкусы, ценности, идеалы, формы и примеры (во всех сферах общественной жизни, включая и правовую) образуют в рамках сложившейся культуры то “поле прекрасного”, которое в качестве притягательного образца и масштаба оказывает воздействие также и на формы бытия и реализации иных социальных норм, на способы функционирования других видов соционормативной регуляции.
Отличительная особенность морали состоит в том, что она выражает автономную позицию индивидов, их самостоятельное решение того, что есть добро и зло, долг и совесть, правильное и неправильное в человеческих поступках, взаимоотношениях и делах. Принцип морали — принцип автономной саморегуляции индивидом своих отношений к себе и к другим, к миру своего поведения (внутреннего и внешнего).
В этических явлениях присутствуют два момента: 1) личностный момент (автономия индивида и самосознательная мотивация им правил морального поведения и моральных оценок); 2) объективный, внеличностный момент (сложившиеся в данной культуре, социальной группе, общности нравственные воззрения, ценности, нравы, формы и нормы человеческих отношений). Первый из отмеченных моментов относится к характеристике морали, второй — нравственности. Когда говорят о морали социальных групп, общностей и общества в целом, речь, по существу, идет о нравственности (о групповых и общесоциальных нравах, ценностях, воззрениях, отношениях, нормах и установлениях).
В сфере этических отношений мораль выступает в качестве саморегулятора поведения индивида, его осознанного, автономного мотивированного способа участия в социальной жизни и общественных отношениях. Нравственные нормы выступают в качестве внешних регуляторов поведения. Там, где индивид принял, усвоил и превратил в свою внутреннюю установку коллективные нравственные представления, ценности, нормы и руководствуется ими в своем поведении, имеет место сочетание и согласованное действие обоих регуляторов — морального и нравственного.
Особым видом социальных норм являются корпоративные нормы, т. е. нормы, принимаемые общественными объединениями и корпорациями. Они регулируют отношения между их членами или участниками (если речь идет о корпорациях и общественных объединениях, которые состоят из участников и не имеют членства).
Закрепленные в уставе и иных документах общественного объединения (политической партии, профсоюза, органа общественной самодеятельности и др.) нормы (о порядке формирования и полномочиях руководящих органов, внесения изменений и дополнений в устав, о правах и обязанностях членов и участников объединения и т. д.) распространяются лишь на членов и участников данного общественного объединения и обязательны только для них. Нарушение этих корпоративных норм влечет применение соответствующих санкций, предусмотренных уставом организации (от предупреждения, выговора до исключения из организации).
Корпоративные нормы (по своему регулятивному значению, сфере действия, кругу адресатов и т. д.) — это групповые нормы внутриорганизационного характера. У них нет всеобщности и общезначимости права и общеобязательности закона. По своей сути корпоративные нормы — это не продукт правотворчества самих общественных объединений, а лишь форма и способ использования и реализации конституционных прав граждан на объединение, причем создание и деятельность общественных объединений, включая их нормотворчество, должны осуществляться на основе и в рамках закона, в соответствии со всеобщими требованиями права и правовой формы общественных отношений (соблюдение принципа правового равенства, добровольности, взаимосвязи прав и обязанностей и т. д.).
Показательно в этой связи, что согласно Федеральному закону Российской Федерации “Об общественных объединениях” (принят Государственной Думой 14 апреля 1995 г.), члены и участники общественных объединений — физические и юридические лица — имеют равные права и несут равные обязанности. Нарушение общественным объединением этих и целого ряда иных требований закона может повлечь за собой (по решению суда) приостановление его деятельности и даже его ликвидацию.
Все эти социальные регуляторы (право, мораль, нравственность, религия и т. д.) нормативны, и все социальные нормы имеют свои специфические санкции. Причем специфика этих санкций обусловлена объективной природой и особенностями этих различных по своей сути видов социальных норм, разных типов (и форм) социальной регуляции.
Таким образом, не особенности санкций исходно определяют различие социальных норм (права, морали, религии и т- д.), как трактуют данную проблему легисты, а, наоборот, объективные по своей природе сущностные различия разных видов социальных норм, их специфические свойства обусловливают и особенности санкций за их нарушение.
Специфика права, его объективная природа и вместе с тем его отличие от других видов социальных норм и типов социальной регуляции представлены в принципе формального равенства. С позиций такого либертарно-юридического подхода именно объективная специфика права как всеобщей и необходимой формы равенства, свободы и справедливости определяет своеобразие санкции закона (его общеобязательность, государственно-властную принудительность и т. д.), а не официальная принудительность обусловливает и порождает эту специфику права, его отличительные сущностные свойства и характеристики.
Либертарно-юридическая теория различения права и закона (позитивного права) направлена как против легизма (юридического позитивизма), так и против смешения права с моралью, нравственностью и другими видами неправовых социальных норм. Здесь еще раз следует напомнить, что формальное равенство, свобода и справедливость — это, согласно либертарному правопониманию, объективные, сущностные свойства именно права, а не морали, нравственности, религии и т. д. Это особенно важно подчеркнуть потому, что как легизм, с одной стороны, так и юснатурализм и разного рода иные моральные (нравственные, религиозные и т. д.) учения о праве — с другой, игнорируют правовую природу названных сущностных свойств права, например, считают требования справедливости, свободы, равенства моральными, нравственными, религиозными требованиями.
Именно в русле такого подхода легисты сводят право к закону и трактуют принудительность как сущность права и его отличительную особенность. По такой логике получается, что посредством принуждения (принудительной санкции) официальная власть может неправо (и вообще все неправовые социальные нормы) по своему усмотрению и произволу превратить в право. С помощью принуждения (приказа власти), согласно легизму, решаются, таким образом, задачи не только субъективного характера (формулирование норм законодательства), но и объективного плана (формирование, создание самого права), а также собственно научного профиля (установление и выяснение специфики права, его отличия от иных социальных норм и т. д.).
Прошлые и современные приверженцы легистско-позитивистского подхода, отождествляя право и закон, сводят проблему социального смысла и роли права к вопросу о принудительно-регулятивном значении норм законодательства. Праву при этом придается узкое технико-инструментальное значение: оно выступает лишь как официальное наказательное орудие и силовое средство для осуществления социального управления, регламентации и контроля. Причем выбор тех или иных форм и направлений правовой регуляции оказывается, согласно такому подходу, результатом произвольного решения законодателя, а соотношение и взаимодействие различных социальных норм — волюнтаристски манипулируемой технологией, приноровленной к целям той или иной концепции социальной инженерии.
Такой односторонний инструментально-технический взгляд на право, игнорируя его объективную социальную природу, сущность и функции, закрывает путь к выяснению действительного места и роли права в соционормативной системе, его подлинной специфики и социальной ценности, его объективно обусловленных и общественно необходимых связей с другими социальными нормами и т. д.
Субъективистская манипуляция арсеналом социальных норм, сопровождаемая искусственной поддержкой и активизацией одних регуляторов и произвольным подавлением или вытеснением других, может в лучшем случае привести лишь к кратковременному удовлетворению тех или иных социорегулятивных потребностей и целей. Но, по существу, и в более или менее долгосрочной перспективе подобное субъективноволевое оперирование социальными нормами (ставка на регулятивно “сильные”, силовые нормы, игнорирование социальной ценности, объективных границ и специфики различных видов норм, подмена регуляторов и перекладывание регулятивных функций одних норм на другие и т. д.) неизбежно приводит к их деградации и атрофии, к девальвации выражаемых в них ценностей и регулятивных возможностей, к нарушению и бездействию системных связей различных видов социальных норм общества, к развалу единого механизма социальной регуляции и постепенному распаду всего соционормативного порядка.
Лишь с учетом объективной природы и своеобразия различных видов социальных норм, их специфических свойств и качеств возможно эффективное воздействие на процесс социальной регуляции. Отсюда очевидно первостепенное значение проблемы специфики права (в соотношении с другими видами социальных норм) для конкретизации представлений о его действительном месте в соционормативной системе и его подлинной роли как регулятора особого вида.
При характеристике взаимодействия права с другими социальными нормами необходимо учитывать, что формальное равенство, будучи принципом права, имеет важное значение с точки зрения всех иных (неправовых) видов социальных норм, всех других типов социальной регуляции, но (и в этом суть дела!) не в качестве их собственного принципа.
Различные виды социальных норм (право, мораль, религия и т. д.) обладают собственным специфическим принципом, выражающим их природу, специфику, сущность и понятие. Так что соотношение (связь, взаимодействие, противодействие, борьба и т. д.) различных видов социальных норм, различных социальных регуляторов — это соотношение разных принципов.
Мораль, нравственность, религия, эстетика и т. д. в их взаимодействии с принципом равенства (в том или ином его проявлении и значении), по существу, имеют дело с правовым началом и принципом. При этом можно выделить два взаимосвязанных аспекта такого взаимодействия: 1) соответствующее моральное, религиозное, эстетическое и т. д. отношение (понимание, восприятие, оценка, притязание, применение) к данному правовому принципу и 2) признание и выражение в праве данного отношения-притязания (морального, религиозного и т. д.) с учетом специфических особенностей и требований самого принципа правового равенства (формально всеобщая равная мера, свобода, справедливость).
В первом аспекте мы имеем дело с моральными, религиозными и т. п. формами осознания права (и правового равенства) и соответствующими притязаниями на их правовое признание. Здесь коренятся истоки различных прошлых и современных представлений и концепций так называемого морального права, нравственного права, религиозного права и т. д Во втором аспекте речь идет о правовой форме осознания и выражения этих видов правопритязаний; сюда относятся многообразные, исторически изменявшиеся направления, формы и способы правового признания и закрепления (и, следовательно, вовлечения в сферу действия принципа правового равенства) прав и свобод людей в области морали, религии, эстетики и т. д.
Характер и формы распространения принципа правового равенства на эти области духовной жизни, способы правовой защиты соответствующих запросов и интересов людей и условий для их надлежащего удовлетворения относятся к числу существенных характеристик исторически достигнутой ступени прогресса права и свободы, развития форм общественного сознания и видов социальной регуляции.
Утверждение принципа господства права предполагает законодательное признание, закрепление и защиту всех юридически значимых аспектов свободы человека как духовной личности, как свободного, независимого и автономного субъекта во всех сферах общественной жизни (правовой, моральной, нравственной, эстетической, религиозной и т. д.).
Соответствующие современные требования в этом плане нашли свое надлежащее выражение в Конституции Российской Федерации (ст. 2, 28, 29 и др.), согласно которой человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, свобода мысли и слова, свобода массовой информации, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Причем никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
Весьма существенными в плане конституционно-правового закрепления моральной, нравственной, религиозной и в целом духовной свободы и автономии личности являются также положения Конституции (ст. 21—25) о защите государством достоинства личности, о праве каждого на свободу и личную неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, право на тайну переписки и иных форм сообщений, на неприкосновенность жилища и т. д. В этом ряду следует отметить и такое важное в моральном и нравственном отношении положение Конституции (ст. 51), как признание за каждым права “не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников”.
Очевидно, что такое правовое (посредством Конституции и текущего законодательства) признание, закрепление и защита свободы личности в соответствующих областях общественной жизни (в сфере морали, нравственности, религии и т. д.) является необходимым условием нормального бытия и функционирования не только всех этих неправовых социальных норм и регуляторов, но и самого права в общей системе социальных норм и социальной регуляции данного общества.
Либертарно-юридический подход к проблеме соотношения и взаимодействия права с другими видами социальных норм — с учетом правовых притязаний морали, нравственности, религии и т. д. и адекватного (соответствующего специфике права и смыслу принципа правового равенства) правового типа, способа и формы удовлетворения этих притязаний (в меру их правомерности) — обеспечивает определенную системную взаимосогласованность и единство различных социальных регуляторов по правовому критерию с точки зрения принципа свободного действия всех этих регуляторов (и видов социальных норм) по единому, всеобщему и общезначимому правовому основанию.
В условиях развитости, самостоятельности и отдифференцированности друг от друга различных видов социальных норм (морали, нравственности, религии и т. д.) именно правовой принцип согласования их совместного бытия и действия способен придать этому разнообразию социальных норм (и регуляторов) определенное системное единство. В историческом плане определяющее значение права во всей соционормативной системе соответствует такой эпохе (а именно буржуазной) социального и духовного развития, когда правовое сознание (юридическое мировоззрение) начинает играть ведущую роль в системе форм общественного сознания, как ранее такую роль играли мифология (в эпоху становления соционормативной регуляции), потом религия (в древности и средние века), а затем, в Новое время, — моральные (нравственные) и политические воззрения.
Эта историческая смена ведущей роли разных форм общественного сознания и соответственно различных видов социальных норм (и регуляторов) нашла свое преломление также в процессе прогресса представлений о праве и развития концепции юридического правопонимания — от мифологических, религиозных, моральных, нравственных трактовок естественного и искусственного (позитивного) права до более развитых в теоретико-юридическом смысле концепций различения и соотношения права и закона.
Очевидные недостатки разного рода теологических, моральных, нравственных и т. д. трактовок права состоят в смешении различных видов социальных норм (и регуляторов), в игнорировании специфики права, в теологизации и этизации учения о праве, в подмене права религиозными или этическими феноменами, в предъявлении действующему праву (закону) неадекватных (неправовых) требований и т. д.
Особо широко распространенными продолжают оставаться представления о том, будто право должно быть моральным, нравственным (в подобных этических требованиях к праву мораль и право, как правило, отождествляются). Но подобное требование, если оно выходит за рамки рассмотренного нами правового способа удовлетворения правомерных правопритязаний морали (или нравственности), означает по сути дела, что право должно быть не правом, а моралью, что содержание закона (позитивного права) должно быть не правовым, а моральным.
Но подобное моральное правопонимание неизбежно деформирует существо не только права, но и морали, поскольку морализация права неизбежно сопровождается юридизацией морали. И в том и в другом случае праву и морали приписывается произвольное содержание и значение.
В разного рода моральных (нравственных) учениях о праве различение права и закона (позитивного права) подменяется различением морали и закона. И моральный подход к праву в лучшем случае ведет через его моральную трактовку и оценку к моральному обоснованию и оправданию морально “правильного” права, т. е. морального закона (морального позитивного права).
Между тем ясно, что искомой истиной и целью теоретически развитого юридического правопонимания является именно правовой закон, достижение которого возможно лишь на основе различения права и закона и с учетом специфики различных видов социальных норм.
Глава 2. Сущность, понятие и ценность права: проблемы юридической онтологии, гносеологии и аксиологии
§ 1. Сущность и понятие права
Последовательное преодоление недостатков естественноправового подхода (в сфере юридической аксиологии так же, как и в вопросах юридической онтологии и гносеологии) ведет не к позитивизму и легизму, а к теоретически более развитой форме юридического правопонимания и соответствующего определения понятия права и ценностно-правового значения закона (позитивного права) и государства.
По своей сущности право — это формальное равенство. Различные определения понятия права, представляющие собой разные направления конкретизации смысла принципа правового равенства, выражают единую (и единственную) сущность права. Причем каждое из этих определений предполагает и другие определения в общесмысловом контексте принципа правового равенства. Отсюда и внутренняя смысловая равноценность таких внешне различных определений, как: право — это формальное равенство; право — это всеобщая и необходимая форма свободы в общественных отношениях людей; право — это всеобщая справедливость и т. д. Ведь всеобщая формально-равная мера так же предполагает свободу и справедливость, как последние — первую и друг друга.
Эти определения права через его объективные, сущностные свойства выражают в целом природу, смысл и специфику права, фиксируют понимание права как самостоятельной сущности, отличной от других сущностей. Эти объективные сущностные свойства права присущи уже праву в его различении с законом, т. е. не зависят от воли законодателя, логически предшествуют закону как правовому явлению и представляют собой исходный сущностный компонент правового закона (т. е. позитивного права, соответствующего правовому принципу формального равенства).
К этим исходным сущностным определениям права (или к определениям сущности права) в процессе так называемой “позитивации” права, его выражения в виде закона добавляется новое определение — властная общеобязательность того, что официально признается и устанавливается как закон (позитивное право) в определенное время и в определенном социальном пространстве.
Но закон (то, что устанавливается как позитивное право) может как соответствовать, так и противоречить праву, быть (в целом или частично) формой официально-властного признания, нормативной конкретизации и защиты как права, так и иных (неправовых) требований, дозволений и запретов. Только как форма выражения права закон (позитивное право) представляет собой правовое явление. Благодаря такому закону принцип правового равенства (и вместе с тем всеобщность равной меры свободы) получает государственно-властное, общеобязательное признание и защиту, приобретает законную силу. Лишь будучи формой выражения объективно обусловленных свойств права, закон становится правовым законом. Правовой закон — это и есть право, получившее официальную форму признания, конкретизации и защиты — словом, законную силу, т. е. позитивное право, обладающее объективными свойствами права.
Правовой закон — это адекватное выражение права в его официальной признанности, общеобязательности, определенности и конкретности, необходимых для действующего позитивного права.
Реальный процесс “позитивации” права, его превращения в закон, наряду с необходимостью учета объективных свойств и требований права, зависит от многих других объективных и субъективных факторов (социальных, экономических, политических, духовных, культурных, собственно законотворческих и т. д.). И несоответствие закона праву может быть следствием правоотрицающего характера строя, антиправовой позиции законодателя или разного рода его ошибок и промахов, низкой правовой и законотворческой культуры и т. д.
В борьбе против правонарушающего закона в процессе исторического развития свободы, права и государственности формировались и утвердились специальные институты, процедуры и правила как самой законотворческой деятельности и в целом процесса “позитивации” права), так и авторитетно- 'о, эффективного контроля за соответствием закона праву (система сдержек и противовесов в отношениях между различны- ли властями, общесудебный, конституционно-судебный, прокурорский контроль за правовым качеством закона и т. д.).
В общеобязательности закона (позитивного права) есть два различных, но взаимосвязанных момента — официально-властный и правовой.
Первый момент состоит в том, что закон как установление официальной власти наделяется ее поддержкой и защитой, обеспечивается соответствующей государственной санкцией на случай нарушения закона и т. д. С этой точки зрения кажется, будто общеобязательность закона — лишь следствие произвольного усмотрения власти, обязательности его велений, приказов, установлений. Здесь же лежат корни легизма, согласно которому обязательный приказ власти и есть право.
Второй момент состоит в том, что закон наделяется общеобязательностью (принудительной силой) только потому, что он выступает именно как право, а не просто как какое-то иное общеобязательное, но неправовое установление и явление. Ведь власти (и легисты) не только говорят об общеобязательности закона, но и одновременно утверждают, что это и есть право.
В этой претензии закона быть правом проявляется то принципиальное обстоятельство, что у закона (позитивного права) нет своей собственной сущности, отличной от сущности права. Кстати говоря, у общеобязательных установлений и актов власти нет даже собственного наименования и единого общего названия, почему и приходится обозначать их с помощью разного рода добавочных прилагательных (“позитивное”, “действующее”, “официальное”, “установленное” и т. д.) к слову “право” (в контексте нашего подхода мы обозначаем их обобщенно и условно как “закон”).
С позиций признания правовой природы и сущности закона ясно, что общеобязательной силой должен обладать только правовой закон. Иначе пришлось бы признать, что ничего собственно правового нет, что с помощью силы и насилия можно всякий произвол превратить в право. Но объективная природа права проявляется и там, где ее отрицают: даже тиранические, деспотические, тоталитарные акты выдаются их авторами и апологетами за “право” и “справедливость”
Возможность злоупотребления понятием права и формой закона в антиправовых целях, разумеется, не обесценивает роль и значение закона как правового по своей природе явления, как необходимой общеобязательной формы выражения и действия права в социальной жизни людей.
Двуединая задача здесь состоит в том (в достижении такого состояния и результата), чтобы только праву придавалась законная (официально-властная, общеобязательная) сила и вместе с тем чтобы закон был всегда и только правовым.
В контексте различения и соотношения права и закона общеобязательность закона обусловлена его правовой природой и является следствием общезначимости объективных свойств права, показателем социальной потребности и необходимости властного соблюдения, конкретизации и защиты принципа и требований права в соответствующих официальных актах и установлениях. И именно потому, что, по логике вещей, не право — следствие официально-властной общеобязательности, а, наоборот, зта обязательность — следствие права (государственно-властная форма выражения общезначимого социального смысла права), такая общеобязательность выступает как еще одно необходимое определение права (а именно — права в виде закона) — в дополнение к исходным определениям об объективных сущностных свойствах права. Смысл этого определения состоит не только в том, что правовой закон обязателен, но и в том, что общеобязателен только правовой закон.
Основное различие между исходными определениями права, фиксирующими объективные свойства права, и этим дополнительным определением состоит в том, что объективные свойства права не зависят от воли законодателя, тогда как общеобязательность правового закона, подразумеваемая объективной природой права, зависит и от воли законодателя (от официально-властного опосредования между требованиями права и формой их конкретного законодательного выражения, от властных оценок и решений), и от ряда объективных условий (степени развитости социума, наличия условий, объективно необходимых для появления и действия правовых законов, и т. д.).
Применительно к праву в его совпадении с законом (т. е. к правовому закону, к позитивному праву, соответствующему принципу и требованиям права) все названные определения права (права в его различении с законом и права в его совпадении с законом) имеют субстанциальное значение, раскрывают различные моменты сущности правового закона и, следовательно, входят в его общее (и единое) понятие.
Из сказанного ясно, что в принципе возможны дефиниции понятия права в его различении с законом и дефиниции права в его совпадении с законом (т. е. дефиниции правового закона, позитивного права, соответствующего объективным требованиям права), но логически невозможно единое понятие (и соответствующая дефиниция) права в его различении с законом и антиправового (правонарушающего) закона.
Поэтому, говоря ниже об общем (и едином) понятии позитивного права и соответствующих дефинициях, мы везде имеем в виду правовой закон, т. е. позитивное право в его совпадении, но не в расхождении и противоречии с объективными свойствами и требованиями права. Здесь везде мы оперируем правовыми определениями и правовыми понятиями, подразумевающими объективную правовую природу и характер соответствующих феноменов.
Сочетание различных определений позитивного права, соответствующего объективным требованиям права, в одном понятии означает их объединение (совмещение, уплотнение, синтез, конкретизацию) по одному и тому же основанию, поскольку речь идет о различных проявлениях и определениях единой правовой сущности. Причем эти различные определения права (в силу их понятийного и сущностного единства) не только дополняют, но и подразумевают друг друга. Именно это дает логическое основание в дефиниции (по необходимости краткой) общего понятия такого позитивного права (т. е. правового закона) ограничиваться лишь некоторыми основными определениями (характеристиками), резюмирующими в себе и одновременно подразумевающими все остальные определения сущности права.
Из смысла излагаемой концепции различения и соотношения права и закона вытекает, что даже самая краткая дефиниция общего понятия такого позитивного права (правового закона) должна включать в себя, как минимум, два определения, первое из которых содержало бы одну из характеристик права в его различении с законом, а второе — характеристику пр'ава в его совпадении с законом. С учетом этого можно сформулировать ряд соответствующих дефиниций. Так, позитивное право, соответствующее объективным требованиям права (закон в его совпадении с правом), можно определить (т. е. дать краткую дефиницию его общего понятия) как общеобязательную систему норм формального равенства; как равную меру (или масштаб, форму, норму, принцип) свободы, обладающую законной силой; как справедливость, имеющую силу закона. В более развернутом виде общее понятие такого позитивного права (правового закона) можно определить как общеобязательную форму равенства, свободы и справедливости. То же самое юридическое правопонимание на более привычном языке можно выразить так: право — это официально установленная и обеспеченная государственной защитой система норм, соответствующая принципу формального равенства.
Все эти (и возможные в этом ряду другие) дефиниции по своему смыслу равноценны, поскольку определяют одно и то же понятие позитивного права, соответствующего объективной природе и требованиям права. Различия этих дефиниций (акцент на тех или иных субстанциальных определениях права), зачастую диктуемые актуальными целями и конкретным контекстом их формулирования, не затрагивают существа дела, тем более что одни субстанциальные определения права (и соответствующие дефиниции) подразумевают и все остальные, прямо не упомянутые.
Не следует забывать, что речь идет лишь о кратких дефинициях, а не о полном и всестороннем выражении понятия права, на что может претендовать лишь вся наука о праве.
Важно, что эти дефиниции выполняют свое основное назначение, включая в общее понятие позитивного права субстанциальные характеристики права и в его различении с законом, и в его совпадении с законом.
Приведенные дефиниции носят общий характер и распространяются на все типы и системы позитивного права (прошлые и современные, внутригосударственное и международное), правда, лишь в той мере и постольку, в какой и поскольку последние соответствуют объективной природе и требованиям права и действительно позитивируют право, а не произвол. Поэтому данные дефиниции выступают также как масштаб и критерий для проверки и оценки правового качества различных практически действующих систем и типов позитивного права, для определения того, действительно ли в них речь идет о позитивации права или формы права и закона используются в антиправовых целях, для прикрытия произвола и насильственных установлений тирании, деспотизма и тоталитаризма.
Изложенная либертарная формально-юридическая концепция понятия права позволяет раскрыть те объективные сущностные свойства права, лишь наличие которых в законе (позитивном праве) позволяет характеризовать его как правовое явление, т. е. как явление, соответствующее сущности права, как внешнее проявление и осуществление правовой сущности.
Понимание закона (позитивного права) в качестве правового явления включает в себя и соответствующую трактовку проблемы общеобязательности закона, его обеспеченности государственной защитой, возможности применения принудительных мер к правонарушителям и т. д. Такая специфика санкций закона (позитивного права), согласно юридической гносеологии, обусловлена объективной природой права (его общезначимостью и т. д.), а не волей (или произволом) законодателя. А это означает, что подобная санкция (обеспеченность государственной защитой и т. д.) правомерна и юридически обоснованна только в случае правового закона.
Необходимость того, чтобы объективная общезначимость права была признана, нормативно конкретизирована и защищена государством (т. е. дополнена его официально-властной общеобязательностью), выражает вместе с тем необходимую связь права и государства. Государство, по смыслу юридико- либертарного правопонимания, выступает как правовой институт, как институт, необходимый для возведения общезначимого права в общеобязательный закон с надлежащей санкцией, для установления и защиты правового закона. Насилие, согласно такому подходу, правомерно лишь в форме государственной санкции правового закона.
Право и государство, согласно развиваемой нами юридико-либертарной теории, — это всеобщие и необходимые формы соответственно нормативного и институционального (организационно-властного) бытия, признания, выражения и осуществления свободы людей в их социальной жизни.
Исторически свобода (свободные индивиды) появляется в процессе разложения первобытного общества и его дифференциации на свободных и несвободных (рабов). Право и государство, пришедшие на смену нормам и институтам власти первобытного общества, как раз и представляют собой необходимую (и пока что до сих пор единственно возможную) форму нормативного и институционального признания, выражения и защиты этой свободы в виде правосубъектности индивидов в частных и публично-властных делах и отношениях. Последующий всемирно-исторический прогресс свободы (от рабства к феодализму и капитализму, а затем и к постсоциалистическому и посткапиталистическому цивилизму) — это одновременно и прогресс необходимых правовых и государственных форм бытия, закрепления и осуществления, этой свободы.
Такая внутренняя связь и смысловое единство права и государства как необходимых абстрактно-всеобщих форм свободы и лежат в основе общего формально-юридического понятия права, включающего в себя также и либертарно-юридическое понятие государства как правового явления и института, как правовой формы организации публичной власти свободных людей. Это понятийное единство права и государства, в свою очередь, определяет единство предмета юриспруденции в ее юридико-либертарном понимании и толковании.
§ 2. Юридическая онтология, гносеология и аксиология
Внутреннее единство юридической онтологии, гносеологии и аксиологии обусловлено тем, что в их основе лежит один и тот же принцип формального равенства, понимаемый и трактуемый нами как исходное начало юридической онтологии (что есть право?), аксиологии (в чем ценность права?) и гносеологии (как познается право?).
В онтологическом плане (при ответе на вопрос: что есть право?) мы утверждаем, что право есть формальное равенство, причем это формальное равенство включает в себя такие компоненты, как абстрактно-всеобщая равная мера, формальность свободы и справедливости. Право как форма (правовая форма общественных отношений) и есть в онтологическом плане совокупность этих формальных свойств и характеристик права — равенства, свободы и справедливости.
При этом право как форму, правовую форму фактических отношений (а вместе с тем и формальные компоненты этой правовой формы — равенство, свободу, справедливость) нельзя смешивать с самими фактическими отношениями, с фактическим содержанием общественных отношений, опосредуемых и регулируемых правовой формой. Так что равенство, свобода и справедливость, согласно нашей трактовке, — это правовые формальности, а не фактичности, это формально-содержательные (а не материально-содержательные, не эмпирические) компоненты, свойства и характеристики права и правовой формы.
Как в онтологическом, так и в аксиологическом и гносеологическом отношениях весьма существенно то обстоятельство, что абстрактно-всеобщая равная мера, свобода и справедливость только в их формальном (формально-правовом) выражении и значении, т. е. только в качестве особых форм выражения и проявления общего смысла принципа формального равенства (и не противореча ему), могут войти в единое, внутренне согласованное и непротиворечивое понятие права.
В гносеологическое плане эта концепция выступает как необходимая теоретико-познавательная модель теоретического постижения и выражения знания и истины о законе (позитивном праве) в виде определенного понятия права.
Таким образом, данная концепция выражает процесс познавательного перехода от простого мнения о праве (как некой субъективной властной его давности в виде фактического закона) к истинному знанию — к знанию истины о праве, к понятию права, т. е. к теоретическому (понятийному) знанию об объективных (не зависящих от воли и произвола властей) свойствах, природе, сущности права и формах (адекватных и неадекватных) ее проявления.
В центре либертарного правопонимания стоят проблемы связи права и закона, понимания и трактовки объективных свойств права как сущностных свойств закона и критерия правового качества закона, вопросы разработки понятия правового закона (и законного права, т. е. права, наделенного законной силой) и т. д. С позиций данного подхода искомой истиной о праве и законе является объективное научное знание о природе, свойствах и характеристиках правового закона, о предпосылках и условиях его утверждения в качестве действующего права.
Такой юридико-гносеологический подход позволяет выявить различие и соотношение объективного по своей природе процесса формирования права и субъективного (властно-волевого) процесса формулирования закона (актов позитивного права) и проанализировать позитивизацию права как творческий процесс нормативной конкретизации правового принципа формального равенства применительно к конкретным сферам и объектам правовой регуляции. И лишь в таком смысле уместно говорить о законодательстве как о законотворчестве.
Согласно юридико-либертарной аксиологии, ценность действующего (позитивного) права и реально наличного государства определяются по единому основанию и критерию, а именно с позиций правовых ценностей (права как ценности). Причем речь идет именно о правовых ценностях (в их . формально-юридических значениях и определениях), а не о моральных, нравственных, религиозных и иных неправовых ценностях. Ведь только таким образом определенные правовые ценности — в силу абстрактной всеобщности права (принципа формального равенства, правовой формы отношений) — носят по определению всеобщий и общезначимый (и в этом смысле абсолютный, а не относительный) характер. Право тем самым в своем аксиологическом измерении выступает не как неформализованный (формально-фактический) носитель моральных (или смешанных морально-правовых) ценностей, что характерно для естественноправового подхода, а как строго определенная форма именно правовых ценностей, как специфическая форма правового долженствования, отличная от всех других (моральных, религиозных и т. д.) форм долженствования и ценностных форм.
Такое понимание ценностного смысла правовой формы долженствования принципиально отличается и от позитивистского подхода к данной проблеме. В противоположность позитивистскому обесценению права (в качестве приказа власти) в либертарной концепции права правовая форма как форма равенства, свободы и справедливости качественно определенна и содержательна, но содержательна и определенна в строго формально-правовом смысле, а не в смысле того или иного фактического содержания, как это характерно для естественноправового подхода. Поэтому такая качественно определенная в формально-правовом плане форма права представляет собой форму долженствования не только в смысле общеобязательности, властной императивности и т. д., но и в смысле объективной ценностной общезначимости, в смысле ценностно-правового долженствования.
Данная концепция правовой (формально-правовой) трактовки фундаментальных ценностей человеческого бытия (равенства, свободы, справедливости) в качестве основных моментов правовой формы долженствования четко очерчивает и фиксирует ценностный статус права (круг, состав, потенциал права как ценности, специфику права как ценностно-должного в общей системе ценностей и форм долженствования и т. д.). С этих позиций правовых ценностей может и должно определяться ценностное значение всех феноменов в корреспондирующей и релевантной праву (праву как должному, как цели, как основанию требований, источнику правовых смыслов и значений) сфере сущего.
Эту сферу сущего, ценностно определяемого с позиций правового долженствования, составляют — в рамках либертарно-юридической аксиологии (с учетом специфики ее предмета, профиля и задач) — закон (позитивное право) и государство во всех их фактических проявлениях и измерениях, во всем их реальном существовании.
В либертарной концепции речь, следовательно, идет об оценке (ценностном суждении и оценке) с позиций права правового смысла и значения закона (позитивного права) и наличного, эмпирически реального государства, об их правовом качестве, об их соответствии (или несоответствии) целям, требованиям, императивам права как ценностно-должного. Право при этом выступает как цель для закона (позитивного права) и государства. Это означает, что закон (позитивное право) и государство должны быть ориентированы на воплощение и осуществление требований права, поскольку именно в этом состоят их цель, смысл, значение. Закон (позитивное право) и государство ценны лишь как правовые явления. В этом ценностно-целевом определении и оценке закон (позитивное право) И государство значимы лишь постольку и настолько, поскольку и насколько они причастны праву, выражают и осуществляют цель права, ценны в правовом смысле, являются правовыми.
Таким образом, ценность закона (позитивного права) и г°сУДарства, согласно развиваемой нами концепции либертарно-юридической аксиологии, состоит в их правовом значении н смысле. Цель права как должного в отношении закона (позитивного права) и государства можно сформулировать в виде следующего ценностно-правового императива: закон (позитивное право) и государство должны быть правовыми. Правовой закон и правовое государство — это, следовательно, правовые цели-ценности реального закона (позитивного права) и государства.
В этой аксиологической плоскости такое соотношение должного и сущего выражает идею необходимости постоянного совершенствования практически сложившихся и реально действующих форм позитивного права и государства, которые как явления исторически развивающейся действительности разделяют ее достижения и недостатки и всегда далеки от идеального состояния. К тому же в процессе исторического развития обновляется, обогащается и конкретизируется сам смысл правового долженствования, весь комплекс правовых целей-ценностей-требований, которым должны соответствовать законы и государство.
Абсолютный характер цели и требования правового закона и правового государства не означает, конечно, будто сегодня эта цель (и требуемые ею правовой закон и правовое государство) по своему смысловому содержанию и ценностному объему та же, что и сто лет назад или будет сто лет спустя. Яркой иллюстрацией таких изменений является, например, весьма радикальное развитие и существенное обновление за последнее столетие представлений о правах и свободах человека, их месте и значении в иерархии правовых ценностей, их определяющей роли в процессе правовой оценки действующего законодательства, деятельности государства и т. д.
Важно, однако, и то, что при всех подобных изменениях и конкретизациях иерархии, объема и смысла правовых ценностей речь идет не об отрицании, отказе или отходе от правовой цели-ценности (от требования правового закона и правового государства), а о ее обновлении, углублении, обогащении, усложнении и конкретизации в контексте новых исторических реалий, новых потребностей, новых проблем и новых возможностей их разрешения.
Раздел IV. Право и права человека в нормативной системе общества
Глава 1. Право в системе социального регулирования
§ 1. Понятие социальной нормы
Исследование места права в системе социального регулирования следует, на наш взгляд, начинать с понятия социальной нормы, выявления ее места в общественных отношениях и социальной деятельности людей. Нормативная структура — один из важнейших признаков социального регулирования, поэтому рассмотрение природы нормативности будет способствовать раскрытию как общих признаков всех видов нормативного регулирования, так и специфики каждого из социальных регуляторов, поможет лучше понять закономерности взаимодействия права с моралью, политикой, религией. Такой подход помогает точнее выявить принципы воздействия социального регулирования на сознание и поведение людей, поскольку ни один из социальных регуляторов не действует изолированно, все виды социальных норм тесно взаимодействуют друг с другом.
Понятие нормы, нормативности неотделимо от социальной деятельности людей, от их общественных отношений, способов их бытия. Норма не есть нечто стоящее вне общественных отношений, над ними; она органично вплетена в деятельность людей и выражает наиболее типичные, устойчивые связи и общественные отношения. Поэтому исследование социальной нормы сопряжено с анализом общественных отношений, деятельности индивидов как способа их социального бытия, с личностным подходом к природе нормативности.
Социальное взаимодействие людей объективно проявляется в повторяющихся актах производства, обмена, распределения, в потребности упорядочить многообразные общественные связи и отношения. Такая потребность появляется одновременно с возникновением труда и обмена на самых ранних этапах развития общества. Общими правилами охватываются Многократно повторяющиеся связи и устойчивые формы отношений. Многократная повторяемость определенных актов Деятельности, явлений и событий — особая черта исторического процесса, выявляющая внутреннюю закономерность их развития. Одной из форм этой закономерности является нормативность явлений, процессов, связей, которая выражает объективно необходимые способы взаимодействия явлений и событий как результата практической деятельности людей.
Нормативность выступает не только формой объективно необходимых связей и способов взаимодействия людей, но и формой развития всех природных процессов. Процесс взаимодействия людей охватывает как их отношения между собой (производство, обмен, потребление), так и их отношения к природе (развитие производительных сил). Поэтому закономерные связи, возникающие в процессе этого универсального взаимодействия, приобретают универсальную форму нормативности, которая органически присуща всему процессу естественно-исторического развития общества.
Таким образом, социальные нормы — это повторяющиеся и устойчивые общественные связи, возникающие в процессе деятельности людей по обмену материальными и духовными благами и выражающие потребность социальных систем в саморегуляции.
Следует отметить, что в социальной норме неизменно присутствуют не только объективные, но и субъективные качества, поскольку потребность общества в самоподдержании и устойчивости субъективно осознается классами, группами, индивидами; результатом такого осознания является стремление взять под защиту одну группу норм, сохранить или “перекрыть” действие других норм, приспособить определенные нормативные системы к наиболее оптимальному обслуживанию общих, классовых или групповых интересов. Такое субъективное осознание играет чрезвычайно важную роль в установлении в обществе ценностных эталонов и стандартов, усилении воздействия социальных норм на сознание и поведение людей, распространении и усвоении социального опыта, понимании универсальной зависимости индивидов, преодолении противоречий между классами, социальными группами и индивидами. Анализ процесса исторического становления социальных норм позволяет выделить их различные виды. Каждый из этих видов преследует цель воздействия на поведение, деятельность людей, но осуществляет его своими специфическими способами, которые и являются критериями различения разных видов социальных норм — права, морали, политики, религии, обычаев и традиций.
Поскольку основной предмет нашего исследования — право, мы будем рассматривать все иные социальные нормы с точки зрения их общего и специфичного в соотношении с правом.
§ 2. Правовые и политические нормы
Данные виды социального регулирования деятельности, поведения людей очень тесно связаны между собой, поскольку они опосредуют отношения собственности и государственной власти, являющиеся эпицентром государственно-правовой структуры общества. Взаимодействие этих норм приобретает весьма разнообразные формы: взаимоподдержки, противоборства, солидарности, блокирования. Это определяется конкретно-историческими условиями, соотношением классовых сил, состоянием общественного сознания, массовой психологии, культуры общества.
Поэтому оно гибко и подвижно, меняется под воздействием конкретной ситуации, выдвижения на передний план тех или иных приоритетов, интересов, потребностей. Однако при всем динамизме и подвижности правовых и политических норм остается неизменным их тесное взаимодействие и взаимовлияние. Это объясняется прежде всего единством источника, определяющего генезис и бытие правовых и политических норм, — отношений собственности. Эти отношения обусловливают и содержание права, и содержание политики. Именно по поводу собственности возникают правовые и политические связи между людьми, в отношении к собственности наиболее ярко проступают интересы и потребности классов, социальных групп, индивидов.
Норма права выражает объективно обусловленную меру и форму свободы: “В самом зародыше юридических отношений право уже является выражением свободы, и это отношение становится все яснее с дальнейшим движением: ступени развития свободы суть вместе и движение права”[184]. Известно, что правовые нормы возникают на определенном этапе исторического развития, когда образование новых общественных отношений приводит к перераспределению собственности внутри общества, к ее сосредоточению в руках небольшой его части, т. е. в условиях расслоения общества на классы, формирования частной собственности. Различные социальные позиции классов по отношению к средствам производства определяют характер отношений собственности, раскрывающих степень реальной свободы индивидов, вытекающей из их связи с собственностью.
Формирование отношений собственности неотделимо от становления политических отношений, образования государственности. Эти отношения требуют создания политической власти в лице специальных органов и институтов, которые придали бы официальный, всеобщий, “цивилизованный” характер интересам и воле экономически господствующего класса посредством законодательного их закрепления.
Отношения собственности являются основой правовых и политических отношений, ибо тот, кто обладает собственностью, обладает и политической властью. Возникнув из отношений собственности, правовые нормы становятся в результате законотворческой деятельности государства юридическими, а политические нормы, как бы абстрагируясь от своей первоосновы (собственности), выступают как нормы, регулирующие отношения классов, сословий, социальных групп и партий по поводу политической власти.
Право и политика нормативно структурированы. Нормативная природа права не подвергается сомнению. Однако и вся политическая сфера нормирована, хотя эта нормативность выступает не столь формально определенно, как в праве. Политические нормы не всегда фиксируются в официальных документах. Они могут содержаться в политических взглядах, идеях политических мыслителей и лидеров, их представлениях о характере и структурах государственной власти, формах и методах ее деятельности, регулировании отношений между классами и социальными группами по поводу власти. Политические нормы включены в массовое общественное сознание, социально-психологические настроения общества.
В области политического сознания вырабатываются те общие принципы, ценностные ориентиры, нормы, которые выступают в качестве необходимого условия осуществления политического процесса, политических связей и отношений, институализации политической системы. Эти принципы, ориентиры, нормы являются прежде всего осознанием и выражением классового, сословного, группового интереса, отношения к политической реальности.
Интересы группируют вокруг себя все системы ценностно-нормативной ориентации — политические, эстетические, религиозные. Но политическая ценностно-нормативная система наиболее концентрированно выражает эти интересы, поскольку она непосредственно регулирует отношения, связанные с политической властью. Эти отношения определяют характер взаимодействия классов, социальных групп, индивидов во всех иных сферах жизнедеятельности людей в классовом обществе.
По мере своего развития политические нормы становятся наиболее активным выразителем интересов и потребностей классов и группировок. Это определяет их доминирующую роль в социальной регуляции поведения людей, их стремление подчинить себе все иные формы воздействия на общественные отношения — право, нравственность, искусство. В процессе исторического развития по мере культурного прогресса общества, расширения сферы демократии и свободы меняется степень влияния различных видов социальных норм, происходит высвобождение их из-под пресса политических установлений.
Констатируя единый источник происхождения политических и правовых норм, следует отметить различия в способах их последующего учреждения. “Нормоустанавливающий субъект” юридических норм — государство, система его органов, которые облекают социальные нормы в формально определенные юридические предписания. “Нормоустанавливающие субъекты” политических норм различны. Так, в восточных деспотиях политические нормы формулировались жрецами; в античных полисах появились выдающиеся мыслители-политики и философы, которые выдвигали свои системы норм и принципов об отношениях к государству и политической власти; в феодальном обществе, где политическое сознание было неотделимо от религии, активную роль в создании политических норм играла церковь. Наряду с этим в политическую жизнь включались корпорации, ордены, союзы, формулируя свои притязания на участие в государственной власти.
В период буржуазных революций возникают политические партии, становящиеся как бы посредниками между индивидом и государством. Они создают свои программы, в которых намечаются пути к усилению влияния на государственную власть либо к обретению этой власти.
Соотношение между правовыми и политическими нормами меняется в период буржуазно-демократических революций, выдвинувших идеи формального равенства, справедливости, прав человека, правового государства. Принцип приоритета Права над государством, ограничения всевластия государства Правами человека — величайшая общечеловеческая ценность. В новой ситуации правовые нормы приобретают первенство перед политическими, сдерживая и обуздывая органически присущие политической власти стремления утверждаться вне- Правовыми мерами. Примат права над политикой — это нормальная ситуация, которая должна быть характерной для всех Цивилизованных государств.
Первенство политических норм перед правовыми порождает насилие и создает почву тоталитарным режимам. Тоталитаризм неизбежно возникает там, где политика, политические нормы не имеют правовой опоры, где право не является ограничителем политической власти, где права человека не выступают в качестве средства контроля за ее осуществлением.
Поэтому проблема соотношения правовых и политических норм — это не абстрактный анализ общего и особенного в этих социальных регуляторах, а вопрос о характере политического режима, сущность которого определяется тем, признает или не признает он господство в обществе правовых начал, принципов и норм.
Приоритет права над политикой, политической властью — непреложный принцип современной культуры. “Существование нормы права, возвышающейся над правителями и управляемыми и обязательной для них, — писал Л. Дюги, — есть необходимый постулат. Подобно тому как вся геометрия покоится на эвклидовом постулате, точно так же и вся жизнь современных народов покоится на этом постулате нормы права. Право не есть политика силы, как учил Иеринг, оно не есть дело государства, оно предшествует ему и возвышается над ним: оно является границей государственной силы, и государство есть не что иное, как сила, отданная на служение праву”[185].
В политических нормах в отличие от правовых неизменно присутствует конкуренция идей и программ. Среди политических норм нет нормы, обладающей силой высшего авторитета, способной сдерживать противоборство интересов и целей различных политических групп. Такая сила находится вне политических норм — это право, правовые принципы, правовые нормы.
§ 3. Правовые и моральные нормы
В системе социального регулирования важная роль принадлежит праву и морали. Назначение правовых и нравственных норм, возникающих непосредственно в общественных отношениях и фиксирующих специфические способы взаимодействия людей, состоит в целенаправленном воздействии на поведение людей, обеспечивающем интересы классов, социальных групп, индивидов либо общества в целом. Вместе с тем это различные социальные регуляторы, каждый из которых обладает своей спецификой. Выявление общего и специфичного в праве и морали имеет большое познавательное и практическое значение для изучения способов их воздействия на сознание и поведение людей, форм их взаимовлияния и взаимодействия.
Рассматривая взаимосвязи права и морали, общее и специфичное в этих системах социальной регуляции, необходимо прежде всего ответить на вопрос: вытекает ли их общность из характера общественных отношений, или каждая из этих систем имеет свою сферу общественных отношений, определяющую специфику возникающих в данной сфере социальных норм? Ответ на поставленный вопрос является необходимым условием раскрытия сущности права и .морали.
При анализе взаимодействия правовых и политических норм раскрывалась природа общественных отношений, порождающих правовые формы взаимодействия людей, — их социальные связи по поводу собственности и политической власти. И это определяет широкий диапазон действия правовых норм. Вне правовых характеристик оказываются сравнительно небольшие сферы общественных отношений, регуляторами которых в “чистом” виде выступают нормы морали, религии, неправовые обычаи и традиции.
Возникая в сфере отношений собственности и политической власти, правовые нормы имеют тенденцию выходить далеко за их пределы, охватывать все более широкие области социального взаимодействия людей. Поэтому правовые нормы действуют в самых широких параметрах практической деятельности людей, оставляя “свободным” сравнительно небольшой круг общественных отношений (отношения дружбы, взаимопомощи, любви, сострадания и т. д.). Именно к этому кругу отношений сводят подчас действие моральных регуляторов.
На наш взгляд, эта позиция неверна, поскольку мораль и за пределами данной сферы отношений имеет самое широкое поле действия. Мораль — система исторически определенных взглядов, норм, принципов, оценок, убеждений, выражающихся в поступках людей, регулирующих их отношения друг к ДРУГУ > к обществу, определенному классу, государству и поддерживаемых личным убеждением, традицией, воспитанием, силой общественного мнения всего общества, определенного Класса либо социальной группы. Критериями таких норм, оценок, убеждений выступают категории добра, зла, честности, благородства, порядочности, совести. С таких позиций даются Моральная интерпретация и оценка всех общественных отношений, поступков и действий людей.
Мораль возникает иэ социальной потребности в согласовании поведения индивида с интересами социального целого, в преодолении противоречия между интересами личности и общества. Такой подход к оценке функций морали в обществе позволяет показать ее “универсальный” и “всепроникающий” характер.
Действительно, моральное регулирование предстает в относительно “чистом” виде в сравнительно узкой сфере межличностного общения (дружба, любовь, взаимопомощь), хотя и здесь оно исторически никогда не действовало изолированно от религиозных норм, обычаев, традиций и т. д. Однако, выделяя относительно самостоятельное поле действия моральных норм, мы не должны забывать о важнейшем их свойстве — универсальности, способности проникать в самые различные сферы общественных отношений, в том числе экономические, политические, трудовые и т. д. И это понятно, так как моральные нормы ориентированы на категории добра, чести, совести, долга, достоинства, личной ответственности и т. д.[186] Данные категории в той или иной интерпретации выступают в качестве критериев оценки поведения людей во всех сферах их деятельности.
Таким образом, и право, и мораль обладают способностью проникать в самые различные области общественной жизни. Ни право, ни мораль не ограничиваются предметно обособленной сферой социальных отношений. Они связаны с поведением людей в широких областях их социального взаимодействия. Учитывая это, а также принимая во внимание “универсальность” морали, ее “вездесущий”, “всепроникающий” характер[187], можно сделать вывод о том, что нельзя разграничивать право и мораль по предметным сферам их действия. Они действуют в едином “поле” социальных связей. Отсюда общность, тесное взаимодействие норм права и морали.
Общность права и морали определяется не только единством сфер их деятельности, единством социального назначения, но и их структурной характеристикой. Правовая и моральная системы — многомерные образования. Поэтому их социальное действие раскрывается в единстве всех входящих в них элементов: общественных отношений, общественного сознания, норм. Такой подход к характеристике социального регулятора представляется плодотворным, поскольку он позволяет раскрыть его реальную жизнь, которая развертывается лишь в системе общественных отношений. С данных позиций норма выступает не просто как знаковый символ, но и как нормированная социальная деятельность.
Все элементы правовой и моральной систем возникают не поэтапно, не последовательно; процесс их возникновения предполагает диалектику деятельности, сознания, закономерностей повторения “связного ряда форм общения” Поэтому, выделяя в правовой системе правовые отношения, правосознание, правовые нормы, а в моральной системе — нравственные отношения, моральное сознание, нравственные нормы, мы неизменно должны учитывать сложную диалектику взаимодействия элементов внутри каждой системы. Вместе с тем,'выявляя общее в указанных системах, следует учитывать, что общественные отношения, входящие в данные системы, в своей основе не подлежат предметному разграничению. Правосознание и правовые нормы, нравственное сознание и нравственные нормы действуют в едином поле общественных отношений, отражая различные их стороны специфическими для каждого из этих регуляторов средствами. Единство общественных отношений с необходимостью определяет общность правовой и моральной систем. Констатация такого единства не означает игнорирования специфики каждой из этих систем, определяемой их ориентацией на различные стороны поведения и сознания людей.
В моральной системе весьма трудно отграничить нравственное сознание от моральных норм, поскольку мораль — неинституциализированная система. Она не имеет специальной “нормоустанавливающей инстанции”, специализированных официальных форм выражения. Моральные нормы фиксируются в моральном языке в виде требований, предписаний, направленных на преодоление противоречий между личностью и обществом, а также в отношениях между индивидами. В зависимости от конкретно-исторических условий они могут иметь самые различные формы выражения: это и религиозные заповеди, и определенные обычаи, традиции, ритуалы, и устные предания, легенды, пословицы, поговорки.
Разграничение правовых взглядов и правовых норм также, на наш взгляд, нельзя свести к простой формуле: правовые взгляды предшествуют образованию норм, которые издает или санкционирует государство. Легко различать правовое сознание и законодательные предписания. Однако правовая норма и принцип правосознания, суждение, ценностный ориентир не столь просто поддаются разграничению в различных социально-экономических формациях.
Поэтому мы можем отметить, что общее в правовой и ^оральной системах определяется не только общностью входящих в них общественных отношений, но и характером взаимодействия внутренних структурных элементов этих систем, прямыми и обратными связями между отношениями, сознанием, нормами, диалектикой взаимопереходов одних элементов в другие.
Общее в праве и морали обусловлено также и тем, что и правовые, и моральные нормы всегда являются фиксацией сущего и формулированием на его основе должного. В связи с тем что формирование этих норм начинается в общественных отношениях, они фиксируют ту реальность, которая их породила. Однако назначение социальных норм заключается не только в фиксации сущего, но и в формулировании должного, желаемого, необходимого с точки зрения общества, класса, социальной группы, индивида.
Формирование должного всегда связано с оценкой фактического поведения, выражающей субъективную заинтересованность класса, общества, социальной группы в определенных эталонах, нормах для обеспечения своих интересов. Однако право и мораль выдвигают нетождественную систему оценок социальной реальности. Общественные отношения оцениваются с различных позиций, критериями оценок выступают различные категории. Моральные оценки универсальнее, шире и богаче по своему содержанию. Каковы критерии моральных оценок?
Универсальные категории морали — добро и зло. Еще Кант отмечал, что единственные объекты практического разума, которые выступают в форме моральных императивов, — это объекты доброго и злого. “Доброе же или злое всегда означает отношение к воле, поскольку она определяется законом разума — делать нечто своим объектом”[188].
Через призму категорий добра и зла оцениваются и другие моральные понятия — “совесть”, “честь”, “честность”, “порядочность” и др. Эти понятия выступают движущей пружиной развития моральных норм и моральных отношений, выражаясь в богатой палитре конкретных нравственных ориентаций, требований, запретов, предписаний. С возникновением государства и права эти оценки распространились и на мир государственно-правовых явлений. В области политики, государства, права практически нет отношений, которые были бы за пределами оценок с позиций добра и зла и основанных на них иных моральных категорий. Рассматривая взаимоотношения права и морали, можно отметить, что все правовое подлежит моральным оценкам, и прежде всего классификации в категориях добра и зла. Такое оценочное отношение — одна из форм связи правовых и моральных систем.
Выше уже отмечалось, что у морали есть “чистое” поле действия (межличностные отношения дружбы, любви, взаимопомощи и т. д.). А есть ли у права сфера действия, не подлежащая моральным оценкам? Нам представляется, что право в целом полностью подлежит моральным оценкам (позитивным либо негативным, одобряющим либо осуждающим). Природа права как явления, возникающего и функционирующего в процессе социального взаимодействия людей, в реальных общественных отношениях, определяет его нравственное содержание, поскольку практически не существует социальных связей, которые в конечном счете не подлежали бы моральным оценкам, а стало быть, и моральному регулированию.
Разумеется, в любой правовой системе можно встретить нормы, включающие организационные, технические правила, не несущие этической нагрузки. Законодательное установление формы протокола судебного заседания или порядка нотариального засвидетельствования документов не затрагивает каких-либо моральных ценностей. Однако введение любых юридических правил и предписаний преследует цель упорядочения общественных отношений, внесения четкости и определенности во взаимоотношения субъектов права, что не может быть безразлично для морали.
Итак, правовая система в целом подлежит моральным оценкам: вся правовая действительность может быть рассмотрена сквозь призму добра, зла, совести, чести в их исторически изменчивой интерпретации.
Право и мораль как социальные регуляторы неизменно имеют дело с проблемами свободной воли индивида и его ответственности за свои действия. Право и мораль как важнейшие элементы ценностной ориентации человека не могли бы ни возникнуть, ни существовать, если бы человек не был наделен свободной волей. Они обращены к разуму и воле человека, помогая ему адаптироваться к сложному и изменчивому миру общественных отношений.
Право и мораль всегда обращены к свободной воле индивида. Вместе с тем они выступают как “мерила” этой свободы, определяя границы свободного поведения личности. Но в этой общности уже заложены свойства, определяющие специфику Права и морали. Право выступает в качестве формальной конкретно-исторически обусловленной меры свободы. “Право по своей сущности и, следовательно, по своему понятию — это исторически определенная и объективно обусловленная форма свободы в реальных отношениях, мера этой свободы, формальная свобода”[189].
Право в силу своей природы очерчивает свободу внешних действий человека, оставаясь нейтральным по отношению к внутренним мотивам его поведения. Иное дело мораль, которая не только определяет границы внешней свободы, но и требует внутреннего самоопределения личности. И в этом смысле мораль — не формальный определитель свободы.
Различие характера свободы в правовой и нравственной сферах определяет и различия в характере правовой и нравственной ответственности. Различия в правовой и моральной ответственности состоят в характере мотивации; в различии правовых и моральных санкций и оценочных категорий, лежащих в их основе; в различии субъектов, применяющих эти санкции.
Как видно из изложенного, право и мораль как социальные регуляторы имеют много общего: единство сфер действия и функционального назначения, одинаковые структурные элементы, категории свободы и ответственности. Наряду с этим правовые и нравственные регуляторы обладают своей спецификой.
Специфика права — выражение формального равенства и его связь с государством. Как уже отмечалось, правовые нормы возникают непосредственно в общественных отношениях, однако институциализированный характер, “цивилизованное” выражение они получают в законодательстве государства. Институциализированный характер права является важным признаком, отличающим его от норм морали.
Моральные нормы, возникающие в процессе жизнедеятельности людей, не имеют специальной “законополагающей инстанции” Трансляция социально-нормативного опыта осуществляется в ходе межличностного и массового взаимодействия людей, передается от поколения к поколению. Таким же образом осуществляется и социальный контроль, который в институциализированных регулятивных системах выполняют учреждения.
Связь права с государством и в генезисе, и в бытии — наиболее существенный признак права, определяющий его специфику и позволяющий разграничить его с моралью. Право и государство являются ответом на объективную потребность защиты интересов господствующего класса. Мораль — более древняя форма социального регулирования, существовавшая еще в доклассовом обществе.
Проводя различия между правовыми и моральными санкциями, следует учитывать конкретно-исторические условия, в которых действуют эти социальные регуляторы. Большая жесткость правовых санкций по сравнению с моральными — это не универсальное отличие, существовавшее во все эпохи и во всех обществах. Степень жесткости моральных санкций, как и правовых, была различной в разные периоды у различных народов; кроме того, моральные запреты нередко становились правовыми, а правовые — моральными.
Нельзя рассматривать в качестве абсолютного и такой признак отличия правовых санкций от моральных, как формальная их определенность. Исследования этнографов показывают, что зачастую моральные запреты имели фиксированную шкалу санкций.
Специфика правовых санкций состоит не в их жесткости и формальной определенности, а в способах обеспечения, которые неразрывно связаны с государством, располагающим особым набором средств и институтов, способных принуждать к соблюдению правовых норм.
В отличие от права мораль располагает иным “защитительным” механизмом — силой общественного мнения, социально-психологических стереотипов, традиций и привычек духовно-практической жизни людей.
Таким образом, специфика права наиболее ярко проявляется в его связи с государством, в институциализированных формах его существования, выражающих принцип формального равенства, в государственно-властных способах его фиксации и обеспечения. Но эта специфика ни в какой мере не снимает исторически непреходящие связи права и морали, общность их существенных признаков, определяемые единством сфер общественных отношений, единством их функционального назначения как регуляторов общественных отношений, единством структурных элементов, образующих правовую и нравственную системы, единством должного и сущего, оценочных и ценностных свойств правовых и нравственных норм, а также категориями свободы и ответственности.
Тесная связь права и морали, однородность ряда их свойств дают основания для важных выводов, главным из которых является органическая необходимость морального измерения права. Тесная связь правовых и моральных норм наиболее убедительно проявляется в том, что мораль выступает в качестве ценностного критерия права. Оценка правовых систем в категориях морали — один из важнейших аксиологических критериев права. Нравственные нормы подключены ко всем этапам формирования и социального действия права, и оценка правовых норм в моральных категориях, “нравственное измерение права” — важный фактор совершенствования правовых систем.
§ 4. Право и религия
Взаимоотношение права и религии наиболее ярко раскрывает путь становления социальных норм, огромное влияние религии на формирование запретов, дозволений, предписаний, приобретавших впоследствии правовой характер. Оно раскрывает признаки цивилизаций, в основе которых лежат те или иные религиозные системы. “Религиозные и философские основы цивилизации влияют на определение правовых начал”[190], на социальные нормы, нормативный срез всей культуры человечества.
На ранних этапах развития “нормы права вначале не отделялись от религиозных и были с ними тесно связаны. Древнейшие нормы права были в то же время и религиозными законами; и только потом правовые нормы отделяются от чисто религиозных”[191]. Отделение правовых норм от религиозных произошло тогда, когда стали различать “преступление и грех” Это различие выработалось позднее в римском праве[192].
Тесная связь права и религии характерна практически для всех правовых систем народов мира. По сути дела нет ни одной системы древнего писаного права, не включавшей религиозных предписаний и ритуальных правил. Например, в законодательном акте рабовладельческой эпохи — Законах XII таблиц есть немало элементов, которые могут быть отнесены к религиозному ритуалу. Особенно же сильное влияние религии носило законодательство древних восточных государств: Законы Моисея, древнее право персов, Законы Хаммурапи и др.
Хотя религия возникает позднее первичных форм социальной регуляции (мононорм, обычаев), она быстро проникает во все поры регулятивных механизмов. Это ясно прослеживается на развитии одной из древнейших правовых систем — индусском праве. Индусская религия, представлявшая собой систему педантично разработанных правил, детально регламентирующих всю общественную жизнь, предписывала определенный образ жизни и поведения, исключала возможность критической оценки обычаев и традиций[193].
Неразрывное единство религиозных и правовых предписаний характерно для нормативных систем мусульманских государств. Тесная взаимосвязь правовых и религиозных предписаний ислама, религиозная основа мусульманского права объясняются прежде всего общим для всех нормативных положений ислама происхождением. Так, основными источниками мусульманского права, как и неюридических норм ислама, признаются Коран и Сунна, “в основе которых якобы лежит божественное откровение и которые закрепляют прежде всего основы веры, правила религиозного культа и морали, определяющие в целом содержание мусульманского права в юридическом смысле”[194]. Мусульманское право нередко называют главным звеном ислама, наиболее ясным выражением мусульманской идеологии, нацеленным на защиту основных ценностей, среди которых первое место отводится религии.
Ярко выраженная идеализация, обожествление власти и закона прослеживаются в религиях Египта и Вавилона[195].
Шумерские законодатели настойчиво подчеркивали божественный характер своей власти и своих законов, их соответствие неизменным божественным установлениям и справедливости. Под заметным влиянием мифологии развивалась древняя политическая и правовая мысль Китая (так, много внимания небесному происхождению этических и правовых правил поведения уделено в “Шу цзин” — “Книге истории”, повествующей о событиях XXIV—VIII вв. до н.э.).
Как видно из приведенных примеров, в государствах, где влияние религии было особенно сильным, дифференциация социальных регуляторов происходила замедленными темпами. Даже такие характерные для классового общества нормы, как нормы права, оказались тесно вплетенными в единую нормативную систему с преобладающими в ней религиозными постулатами.
Нормативные системы Древней Греции и Древнего Рима также были далеко не свободны от религиозных влияний. Но в этих государствах отсутствовали такие завершенные религиозные доктрины, как в буддизме или исламе (имеется в виду, разумеется, дохристианская эпоха). Например, в Древней Греции не было культовой общности, религия опиралась в основном на культовые мифы. Этим объясняется возникновение на самых ранних стадиях развития государственности атеистического свободомыслия (в трагедиях Эсхила, в эпосе Гомера и т. д.). В римской религии, испытавшей на себе сильное влияние греческой религии, в образованных кругах почитание богов также отступало перед свободолюбием, сильным воздействием греческой передовой культуры[196].
Религии этих обществ не подавляли личность в такой степени, как буддизм, мусульманство, поэтому личность выступала в них более обособленно и индивидуализированно. В меньшей мере они тормозили дифференциацию социальных норм, их трансформацию. Так, одна из важных категорий греческого права, “дикайон”, выражавшая ранее справедливость как моральную категорию, постепенно стала категорией правовой. В праве Афин уже были детально регламентированы права и обязанности полноправных граждан и ограниченных в правах иностранцев.
В Римском государстве на основе равенства свободных была создана одна из совершеннейших форм права классового общества, состоявшего из товаропроизводителей и основанного на частной собственности. Эта система права по мере дальнейшего развития общественных отношений совершенствовалась, пополнялась новыми институтами.
На этих примерах видно, что чем менее общество сковано религиозными доктринами, тем четче отделена правовая система от морали и религии, тем больше возникает условий для индивидуализации личности, ее участия в общем культурном прогрессе.
Однако общая тенденция тесной связи права с божественной природой, религией на этом не обрывается. Она продолжается в веках, получая новое звучание и новые импульсы в период феодализма. Переход к феодальной эпохе был связан с четким оформлением мировых религий, поэтому в этот период получает развитие каноническое право, все более утверждаются нормы шариата (мусульманского права). Спецификой этих правовых систем было то, что они не ограничивались рамками одного государства, а носили экстерриториальный и персональный характер, т. е. распространяли свое действие на всех верующих вне зависимости от того, где они находились, и на все страны, где соответствующая религия была господствующей. Церковная юрисдикция имела очень широкое распространение в XII и XIII вв. Влияние церкви и канонического права в той или иной мере проявлялось во всем христианском мире[197].
Борьба нового (бюргерского) сословия, сформировавшегося в недрах феодализма, против существующего строя неизбежно затронула и идеологическую его основу — религию. Буржуазные революции, разрушившие сословные ограничения для буржуазии, осуществлялись под воздействием “юридического мировоззрения”, сменившего теологическую идеологию средних веков.
Оценивая реальную значимость юридического мировоззрения с исторических позиций, можно ясно увидеть, что новый подход к праву был связан с его важностью и необходимостью для развития товарного капиталистического производства, для удовлетворения потребностей нового класса — буржуазии. Вместе с тем возвеличение права новой идеологией — юридическим мировоззрением — явилось тем крупным историческим актом, который внес переворот в традиционное теологическое мышление средневековья, возвысил роль человеческого разума и создаваемых им институтов в утверждении прав человека.
Тенденция в соотношении права и религии, обозначившаяся в период феодализма, находит проявление и в современном мире. Системы традиционного права (индусского, мусульманского) органично проникнуты религиозными началами и принципами. Правовые системы стран Западной Европы все более обособляются от религиозных догм, однако они никогда не противостоят друг другу, и некоторые нормы права по- прежнему находят в религии нравственные опоры. И это закономерно, поскольку христианские религиозные запреты и дозволения несут в себе кристаллизованный опыт социального общения людей, выработанный тысячелетиями, они выражают заряд человеческой мудрости, представляя собой в конечном счете элементарные нормы человеческого общежития и взаимодействия людей.
Таким образом, соотношение права и религии имеет глубокие исторические корни. Оно различно в различных цивилизациях, различных мировых религиях, различных регионах мира. Соотношение религии и права устойчиво и неизменно в традиционных правовых системах. Оно достаточно подвижно и динамично в европейских странах христианской религии. По мере исторического развития этих стран право и религия как социальные регуляторы все более обособляются друг от друга. Но они при нормальном течении общественных процессов не противостоят друг другу, а в определенных ситуациях осуществляют взаимоподдержку. И это понятно, так как в этих системах социальной регуляции выражаются целесообразные формы человеческого общения и поведения. Разрушение религиозных основ, где бы оно не происходило, никогда не приносило пользы праву и правовому порядку, так как в конечном счете право и религия призваны закреплять и утверждать нравственные ценности, и в этом заложены корни их взаимодействия.
Глава 2. Права человека: сущность, понятие, нормативная форма
§ 1. Права человека как нормативная форма взаимодействия индивидов
Права человека являются нормативной формой взаимодействия людей, упорядочения их связей, координации их поступков и деятельности, предотвращения противоречий, противоборства, конфликтов. По своему существу они нормативно формулируют те условия и способы жизнедеятельности людей, которые объективно необходимы для обеспечения нормального функционирования индивида, общества, государства. Эти нормативы основаны на принципах свободы, равенства, справедливости. Такие права, как право на жизнь, свободу, достоинство, неприкосновенность личности, свободу мнений, убеждений, автономию личной жизни, право на участие в политических процессах и др., являются необходимыми условиями устроения жизни человека в цивилизованном обществе и должны быть безоговорочно признаны и охраняемы государством.
К содержанию прав человека необходимо подходить конкретно-исторически. Современный каталог прав человека, зафиксированный в международно-правовых документах, — результат длительного исторического становления эталонов и стандартов, которые стали нормой современного общества. Решающим этапом в развитии прав человека явились буржуазно-демократические революции XVII—XVIII вв., которые выдвинули не только широкий набор прав человека, но и принцип формального равенства, определивший универсальность прав человека, придавший им подлинно демократическое звучание. Права человека, основанные на формальном Равенстве, стали одним из главных ценностных ориентиров общественного развития, они оказали огромное влияние на характер государства, явились ограничителями его всевластия, способствовали установлению демократического взаимодействия между государственной властью и индивидом, освободив последнего от чрезмерной опеки и подавления его воли и интересов со стороны властных структур. Формирование правового государства было бы невозможно без утверждения в общественном сознании и практике прав человека.
Однако этому предшествовал процесс длительного и мучительного поиска способов взаимоотношений индивидов в государственно-организованном обществе как с властью, так и между собой. Этот поиск никогда не замыкался в сугубо правовом пространстве. Поэтому права человека изначально носили нравственно-этическое, духовно-культурное и религиозное наполнение. '
Права человека формировались из многократно повторяющихся актов деятельности людей, повторяющихся связей и устойчивых форм отношений. В процессе человеческой деятельности, включающей множество индивидов со своими интересами, потребностями, целями, неизбежны столкновение и противоборство этих зачастую разнонаправленных ориентиров поведения людей. Однако при всем разнообразии поступков и действий участников общественного взаимодействия кристаллизуются определенные устойчивые нормы, эталоны, ценности, которые способны упорядочивать процесс взаимодействия людей, сочетать интересы различных индивидов с учетом исторически складывающегося социального бытия с его способом производства, духовной культурой, государственностью. Каждый человек имеет притязания на определенный объем благ (материальных и духовных), получению которых должны содействовать общество и государство.
Объем этих благ исторически всегда определялся положением индивида в классовой структуре общества, в системе материального производства. Эти блага, которыми обладал индивид, условно могут быть названы правами человека. Такая условность определяется резкой поляризацией общества на различных этапах его развития (рабовладение, феодализм), своеобразием цивилизаций (европейской, азиатской и др.), которые не давали возможности правам человека обрести признак универсальности на основе принципа формального равенства, получить современное звучание.
Права человека, их генезис, социальные корни, назначение — одна из “вечных” проблем социально-культурного развития человечества, прошедшая через тысячелетия и неизменно находившаяся в центре внимания политической, правовой, этической, философской и религиозной мысли. В различные эпохи эта проблема, неизменно оставаясь политикоправовой, приобретала то религиозное, то этическое, то философское звучание в зависимости от социальной позиции находившихся у власти классов, заинтересованных в обосновании и оправдании существующего классово ограниченного распределения прав и обязанностей в обществе, от исторического этапа общественного развития. Права человека — сложное, многомерное явление. В значительной мере это связано с генезисом правовых норм, в которых сформулированы права человека.
Идеологическое, доктринальное обоснование прав человека — учение о естественных, прирожденных правах человека, которые независимы от усмотрения и произвола государственной власти; цель последней — обеспечение прав, изначально данных природой или творцом. Господствовавшие до появления естественноправовых идей этатистские воззрения ориентировали на подчинение индивида государству как верховной силе, наделенной правом распоряжаться судьбами людей по своему усмотрению. Естественноправовая концепция акцентирует внимание на автономии личности, ее индивидуальности.
Такой подход — революционный поворот в общественном сознании: индивид, ранее всецело подчиненный государству и зависимый от него, приобретает автономию, право на невмешательство государства в сферу свободы личности, очерченную правом, и получает гарантии государственной защиты в случае нарушения его прав и свобод.
Ценность естественноправового учения состояла в опоре на нравственные принципы и категории свободы, справедливости, человеческого достоинства и счастья.
Высоко оценивая роль естественноправовой доктрины в идеологическом обосновании буржуазных революций, становлении прав человека, нельзя сказать, что она была единственной и преобладающей в определении взаимоотношений личности и государства. Ей противостоял и в значительной мере продолжает противостоять позитивистский подход к природе прав человека и взаимоотношениям государства и личности. Согласно этому подходу, права человека, их объем и содержание определяются государством, которое “дарует” их человеку, осуществляя по отношению к нему патерналистские функции.
С таких противоположных позиций оценивались и оцениваются природа и сущность прав человека и взаимоотношения Индивида и государства. Противостояние этих позиций насчитывает столетия. Различные подходы к взаимодействию права и государства, взаимоотношениям человека и государства сохранились и в современном мире. Они не замыкаются в сфере научных дискуссий и находят свое отражение в конституциях современных государств. Так, в конституциях США, Франции, Италии, Испании воплощена надпозитивная (естественноправовая) концепция прав человека, в Конституции Австрии — позитивистская. Однако такие различия в конституционных записях не следует переоценивать, поскольку конституции развитых западных государств ориентированы на принципы правового государства, следовательно, на защиту и охрану прав человека.
Вместе с тем различия естественноправового и позитивистского подходов к природе прав человека требуют внесения определенной ясности. Прежде всего ограничение власти государства правами человека не должно вести к предельному умалению его роли, которая весома не только в охране прав и свобод человека, но и в придании им законодательной, т. е. общеобязательной, формы. Поэтому права человека не могут быть противопоставлены государству, которое должно брать на себя не только функцию их защиты и обеспечения, но и их законодательного формулирования. Особое значение имеет запись этих прав в конституции.
Практика государств, признающих естественноправовую доктрину происхождения прав человека, отнюдь не отвергает их позитивного оформления. И естественноправовая доктрина, и позитивистский подход в современном мире не выступают как антиподы, антагонисты. Естественноправовая доктрина акцентирует истоки происхождения прав человека как его неотъемлемых, неотчуждаемых свойств. Она ставит права человека превыше государства, пафос ее направлен на ограничение правами человека тоталитарных притязаний государства. Вместе с тем, не находя закрепления в позитивном законодательстве, права человека выступают весьма неопределенно, размыто, и это затрудняет осуществление государством функции их обеспечения и защиты.
В современном мире позитивистский подход в области прав человека неизбежно должен опираться на нравственные категории всеобщего блага, добра, для того чтобы законодательно выразить их в определенном каталоге прав человека. Обретая законодательное выражение, права человека получают дополнительную “энергию”, а государство, законодательно закрепляя их, обязывает себя гарантировать и обеспечивать права и свободы. Конституционная практика развитых государств в известной мере устранила противостояние естественноправового и позитивистского подходов к правам человека на основе конституционного закрепления основных прав и свобод, которое исключает подавление и насилие государства по отношению к личности, отстаивая ее автономию и приоритет прав человека по отношению к государству. Эта благоприятная тенденция снимает противостояние и крайность указанных доктрин — незащищенность естественных прав человека вне государственного закрепления и дистанцирование позитивистского учения от нравственных, личностных, социальных ценностей.
Таким образом, становление и развитие прав человека имеет длительную историю, сопровождается борьбой доктрин и традиций, характерных для той или иной страны. Несмотря на давность возникновения самой идеи прав человека, подлинный смысл они обретают только на основе принципов демократии, свободы, справедливости, равенства, признания самоценности человека. На такой основе стало возможным закрепление основных фундаментальных прав человека в конституциях демократических государств.
В этой связи возникает вопрос: что понимать под основными правами, можно ли отождествлять их с конституционными правами? Отсутствие строгости формулировок в ряде конституций несколько затрудняет ответ на этот вопрос. Однако, на наш взгляд, основные права индивида — это прежде всего конституционные права. Такая трактовка вытекает, например, из сопоставления ст. 17 со ст. 55 Конституции РФ, отмечающей, что перечисление в Конституции РФ основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. Вместе с тем в п. 2 ст. 17 речь идет только об основных правах человека, что позволяет подчеркнуть их особые свойства — неотчуждаемость и естественный характер (принадлежность каждому от рождения). Основные права являются субъективными правами. Это истина, которая сегодня очевидна, в ходе исторического развития неоднократно оспаривалось. Лишь в начале XX в. в результате долгих споров о понятии субъективного права вообще и основных прав в особенности выкристаллизовалось новое понимание основных прав как субъективных, и человек может ссылаться на них перед лицом властных структур.
В современном мире, когда проблема защиты прав человека вышла далеко за пределы каждого отдельного государства, возникла необходимость в создании универсальных международно-правовых стандартов, также являющихся основными правами человека. Эти основные права отражены в ряде важнейших международно-правовых актов, установивших общечеловеческие стандарты прав и интересов личности, определяющих ту планку, ниже которой государство не может опускаться. Это означает, что права и свободы человека перестали быть объектом только внутренней компетенции государства, а стали делом всего международного сообщества. Сегодня объем прав и свобод личности определяется не только конкретными особенностями того или иного общества, но и развитием человеческой цивилйзации в целом, уровнем и степенью интегрированности международного сообщества.
Принятие Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), Международного пакта о гражданских и политических правах (1966 г.), Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Первого факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах (1966 г.), Второго факультативного протокола к этому же пакту (1989 г.), Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и ряда других международных актов внесло коренные изменения в правосубъектность человека, который становится субъектом не только внутригосударственного, но и международного права. Эти международно-правовые акты определили тот универсальный набор основных прав и свобод, который в единстве призван обеспечить нормальную жизнедеятельность индивида.
Поэтому в современных условиях под основными правами человека, на наш взгляд, следует понимать права, содержащиеся в конституции государства и важнейших международно-правовых документах по правам человека. Если какое-либо основное право человека не вошло в конституцию государства, то оно должно быть признано в данном государстве независимо от его конституционного закрепления. Приоритет международного права по отношению к внутригосударственному в области прав человека является общепризнанным принципом международного сообщества.
Выделение категории основных прав человека отнюдь не означает отнесение иных прав к “второсортным”, менее значимым, требующим меньших усилий государства по их обеспечению. Речь идет о другом. Основные права и свободы составляют стержень правового статуса индивида, в них коренятся возможности возникновения других многочисленных прав, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека. Эти права очень важны для индивида, его взаимодействия с другими людьми, с обществом и государством. От основного права может отпочковаться значительное количество других прав индивида.
Основные фундаментальные права и вытекающие из них иные права и свободы обеспечивают различные сферы жизни человека: личную, политическую, социальную, экономическую, культурную. В соответствии с этим они и структурируются по группам и наименованиям. Однако эти права не только относятся к различным сферам жизнедеятельности, но и различаются по времени возникновения. Отсюда — появление понятия “поколения прав человека”
Первым поколением прав человека признаются те традиционные либеральные ценности, которые были сформулированы в процессе осуществления буржуазных революций, а затем конкретизированы и расширены в практике и законодательстве демократических государств: право на свободу мысли, совести и религии, право каждого гражданина на ведение государственных дел, право на равенство перед законом, право на жизнь, свободу и безопасность личности, право на свободу от произвольного ареста, задержания или изгнания, право на гласное и с соблюдением всех требований справедливости рассмотрение дела независимым и беспристрастным судом и ряд других. Эти права, реализующие так называемую “негативную свободу”, обязывают государство воздерживаться от вмешательства в сферы действия указанных прав.
Второе поколение прав человека сформировалось в процессе борьбы различных классов и сословий за улучшение своего экономического положения, за повышение культурного статуса (так называемые “позитивные права”), для реализации которых требуется организационная, планирующая и иные формы деятельности государства по обеспечению указанных прав.
В конце XIX — начале XX в. новый либерализм, оценив неблагоприятную ситуацию, связанную с резкой поляризацией буржуазного общества, выдвинул идею его социального реформирования, которое призвано было смягчить противостояние богатых и бедных в обществе. Такая идея неизбежно была связана с возникновением социальных, экономических и культурных прав — права на труд и свободный выбор работы, права на социальное обеспечение, на отдых и досуг, права на защиту материнства и детства, права на образование, права на участие в культурной жизни общества и др. В современном мире эти права выражены во Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте об экономических, социальных, культурных правах, Европейской социальной хартии, что явилось огромным шагом вперед в развитии прав человека, в расширении каталога этих прав, их обогащении.
Права первого поколения по своей природе отличаются от прав второго поколения. Это связано с позицией государства по отношению к этим правам. Права первого поколения в буржуазной политической и правовой мысли квалифицировались как гражданские, предполагающие право на защиту от какого-либо вмешательства, в том числе и государственного, в осуществление этих прав (прав члена гражданского общества), и политические права (права участника осуществления политической власти). Речь идет прежде всего о защите индивидуальной свободы, ограничение которой неизбежно обедняет сферу общественной жизни и культуры.
Иная природа у социальных прав. Для их осуществления государству недостаточно воздерживаться от вмешательства в данную сферу. Задача состоит в том, чтобы создавать социальные программы и вести всестороннюю созидательную работу, которая позволила бы гарантировать провозглашенные социальные, экономические и культурные права. Ряд современных государств не присоединился к Международному пакту о социальных, экономических и культурных правах, мотивируя свою позицию тем, что обозначенные в пакте права не являются субъективными, поскольку не могут быть защищены в суде. Хотя такого рода соображения не лишены оснований, тем не менее присоединение к пакту создает обязательства для государства совершенствовать свое внутреннее законодательство и организовывать в соответствии с ним свою деятельность. В конце XX в. государство не может не стремиться к тому, чтобы стать социальным. Это — закономерность развития современных государств, нашедшая закрепление в ряде конституций зарубежных государств (ФРГ, Франции, Испании, Италии, Португалии, Турции).
В период после второй мировой войны стало формироваться третье поколение прав человека. Природа прав третьего поколения составляет предмет дискуссий. На наш взгляд, особенность этих прав состоит в том, что они являются коллективными и могут осуществляться не отдельным человеком, а коллективом, общностью, ассоциацией. Так, право народов на развитие или их право на самоопределение является коллективным правом, осуществление которого зависит не от отдельного человека, а от общности. Разумеется, отдельный человек принимает участие в реализации таких прав, но это участие связано не с его личным статусом, а с его положением как члена какой-либо общности. Между индивидуальными и коллективными правами существует взаимосвязь, в основе которой должен лежать принцип, согласно которому осуществление коллективных прав не должно ущемлять прав и свобод индивида.
Такова природа таких коллективных прав, как право народа на самоопределение, право на развитие. Осуществление этих прав не должно ущемлять прав индивидов, принадлежащих к иной национальности или расе. Коллективные права какой-либо общественной организации (ассоциации) не могут основываться на подавлении или ограничении индивидуальных интересов.
§ 2. Правовой статус: понятие и структура
Сложные связи, возникающие между государством и индивидом и во взаимоотношениях людей друг с другом, фиксируются государством в юридической форме — в форме прав, свобод и обязанностей, образующих в своем единстве правовой статус индивида. Правовой статус индивида — одна из важнейших политико-юридических категорий, которая неразрывно связана с социальной структурой общества, уровнем демократии, состоянием законности. Правовой статус личности в самом общем виде может быть охарактеризован как система прав и обязанностей, законодательно закрепляемая государствами в конституциях, международно-правовых актах о правах человека и иных нормативно-юридических актах. Права и обязанности — основной исходный элемент права, ничего более важного в структуре права, по существу, нет. “Система прав и обязанностей — сердцевина, центр правовой сферы, и здесь лежит ключ к решению основных юридических проблем”[198].
В правах и обязанностях не только фиксируются образцы, стандарты поведения, которые государство берет под защиту, считая их обязательными, полезными, целесообразными для нормальной жизнедеятельности социальной системы, но и раскрываются основные юридические принципы взаимоотношений государства и личности.
Взаимосвязи государства и личности требуют четкой урегулированное™ и упорядоченности. Это обусловлено особой важностью такого рода отношений для обеспечения свободы индивида, для нормального функционирования общества. Предпосылкой правового статуса гражданина является гражданство как определенное политико-правовое состояние человека. Оно выражает юридическую принадлежность индивида к государству, “выступает в юридической форме, получает политикоправовое выражение в институте гражданства, нормы которого определяют условия и порядок приобретения, утраты гражданства и т. д.”[199], является юридическим основанием для индивида пользоваться юридическими правами и свободами и выполнять установленные законом обязанности, т. е. основанием правового статуса личности.
Правовой статус, природа прав и обязанностей как ключевые понятия правовой науки привлекают пристальное внимание юристов. Существует несколько подходов к определению правового статуса личности.
Некоторые ученые включают непосредственно в правовой статус личности гражданство[200]. По нашему мнению, гражданство — предпосылка, определяющая правовой статус в полном объеме, без каких-либо изъятий. Однако правовым статусом обладают не только граждане, но и лица без гражданства (апатриды), иностранцы. В таком случае объем их правового статуса отличен от правового статуса гражданина (главным образом в сфере политических прав).
В структуру правового статуса включают также общую правоспособность, гарантии, законные интересы, юридическую ответственность. Как видно, споры о понятии правового статуса ведутся в основном вокруг определения набора входящих в него элементов.
Рассмотрение структуры правового статуса всегда наталкивается на известный разнобой в терминологии. Для обозначения прав человека используются понятия “гражданские права”, “конституционные права”, “индивидуальные права”, “основные права", “основные права и свободы”. Кроме того, если в американских декларациях говорилось просто о правах либо естественных неотъемлемых правах, то начиная с Французской декларации 1789 г. права дифференцировали на права человека и права гражданина.
Мы не будем останавливаться на всех различиях терминологии, которые далеко не всегда несут четкую смысловую нагрузку. Однако, на наш взгляд, требуют пояснения различение прав и свобод, а также различение прав человека и прав гражданина, поскольку они достаточно широко используются в российском законодательстве, и в частности в Конституции России. Так, в тексте ст. 2 и в ряде других статей Конституции речь идет о правах и свободах человека. Может возникнуть вопрос о признаках, отличающих права человека от его свобод. Следует сразу подчеркнуть, что по своей юридической природе и системе гарантий права и свободы идентичны. Они очерчивают социальные возможности человека в различных сферах, обеспечиваемые государством.
Вместе с тем анализ конституционного законодательства показывает, что термин “свобода” призван подчеркнуть более широкие возможности индивидуального выбора, не очерчивая конкретного его результата: “каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания” (ст. 28); “каждому гарантируется свобода мысли и слова” (ст. 29); “каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию” (ст. 37). В отличие от этого термин “право” определяет более конкретные действия человека (например, право участвовать в управлении делами государства, право избирать и быть избранным). Однако четкое разграничение между правами и свободами провести трудно, поскольку зачастую всю сферу политических прав с конкретно определенными правомочиями также именуют “свободами” Различие в терминологии является скорее традиционным, сложившимся еще в XVIII—XIX вв.
Следует обратить внимание на проводимое в Конституции России разграничение основных прав и свобод на права и свободы человека и гражданина. Такой подход не является традиционным для отечественного конституционного регулирования, которое сводило положение человека только к его взаимосвязи с государством в качестве гражданина, получавшего свои права “в дар” от государственной власти и всецело ей подчиненного. Устанавливая различия между человеком и гражданином, новая Конституция России восстанавливает те общечеловеческие ценности, которые были утверждены в результате буржуазных революций и нашли свое воплощение в законодательных актах, впервые в истории человечества закрепивших равенство, свободу, право на счастье, — Декларации независимости 1776 г., Билле о правах 1791 г. (США), Декларации прав человека и гражданина 1789 г. (Франция).
В чем смысл этого разграничения, “раздвоения” человека? Оно непосредственно вытекает из различения гражданского общества и государства, преодолевает одностороннее рассмотрение человека в его взаимосвязи только с государством, сужение сферы его самоопределения. Человеку как таковому отводится автономное поле деятельности, где движущей силой выступают его индивидуальные интересы. Реализация такого интереса осуществляется в гражданском обществе, основанном на частной собственности, семье, всей сфере личной жизни, и опирается на естественные права человека, принадлежащие ему от рождения. Государство, воздерживаясь от вмешательства в эти отношения, призвано ограждать их не только от своего, но и от чьего бы то ни было вмешательства. Таким образом, в гражданском обществе на основе прав человека создаются условия для самоопределения, самореализации личности, обеспечения ее автономии и независимости от любого незаконного вмешательства.
Права гражданина охватывают сферу отношений индивида с государством, в которой он рассчитывает не только на ограждение своих прав от незаконного вмешательства, но и на активное содействие государства в их реализации. Статус гражданина вытекает из особой правовой его связи с государством — института гражданства (ст. 6 Конституции РФ).
Все статьи главы 2 “Права и свободы человека и гражданина” последовательно проводят различение прав и свобод по указанному принципу. Это находит выражение в формулировках статей. Там, где речь идет о правах человека, Конституция использует формулировки: “каждый имеет право”, “каждый может”, “каждому гарантируется” и т. д. Использование таких формулировок подчеркивает признание указанных прав и свобод за любым человеком, находящимся на территории России, независимо от того, является ли он гражданином РФ, иностранцем или лицом без гражданства.
Наряду с этим в ст. 31, 32, 33, 36 сформулированы права, принадлежащие только гражданам РФ. Это преимущественно политические права — право собраний, митингов, демонстраций; право участвовать в управлении делами государства; избирать и быть избранным; право равного доступа к государственной службе; право на участие в отправлении правосудия; право на обращение. Исключение составляет ст. 36, которая закрепляет социальное право частной собственности на землю только за гражданами и их объединениями.
В Конституции обозначены и обязанности, которые несут только граждане РФ: защита Отечества (ст. 59); возможность осуществления своих прав и обязанностей в полном объеме с 18 лет (ст. 60). Только на граждан РФ распространяются запрет на высылку за пределы государства или выдачу другому государству (ст. 61); возможность иметь гражданство иностранного государства — двойное гражданство (ст. 62).
В этой связи следует обратить внимание на формулировки Международного пакта о гражданских и политических правах: “каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность” (ст. 9); “никто не может быть лишен свободы на том основании, что он не в состоянии выполнить какое- либо договорное обязательство” (ст. 11); “все лица равны перед судами и трибуналами” и др. Личные права сформулированы применительно к человеку, который может быть, а может не быть гражданином того или иного государства. Однако ст. 25, закрепляющая политические права (право на участие в ведении государственных дел, право голосовать и быть избранным, допускаться в своей стране на общих условиях равенства к государственной службе), применяет термин “каждый гражданин” Стало быть, за различием терминов и понятий “человек” и “гражданин” следует различение в правовом статусе индивида.
Рассмотрим сущность элементов, составляющих правовой статус, — юридических прав и обязанностей.
Как уже отмечалось, права и свободы индивида — это его социальные возможности, детерминированные экономическими и культурными условиями жизни общества и законодательно закрепленные государством. В них выражена та мера свободы, которая объективно возможна для индивида на конкретном историческом этапе развития общества. В пределах этой формально закрепленной свободы осуществляется самоопределение личности, устанавливаются условия реального пользования социальными благами в различных сферах личной, политической, экономической, социальной и культурной жизни.
Права человека — это субъективные права, выражающие не потенциальные, а реальные возможности индивида, закрепленные в конституциях, международно-правовых актах и законах. Данное положение следует подчеркнуть, поскольку нередко в правоведении встречается понимание субъективного права лишь как элемента конкретного правоотношения, возникающего при наличии юридического факта, который порождает данное отношение.
В юридической литературе такая позиция была подвергнута критике. Справедливо отмечалось, что способ возникновения, форма проявления и реализации тех или иных прав не имеют принципиального значения для их характеристики как субъективных[201].
Разумеется, права личности чрезвычайно многообразны по содержанию, объему, способам реализации. Однако закрепление того или иного субъективного права в законодательстве должно означать реальную возможность индивида свободно пользоваться определенным благом в границах и в порядке, обозначенных в законе.
Субъективное право как юридическая категория раскрывается через набор определенных возможностей индивида: возможности пользования определенным социальным благом; возможности совершать определенные действия и требовать соответствующих действий от других лиц; возможности обращения к государству с требованием защиты или восстановления нарушенного права.
Рассматривая права и свободы как элемент правового статуса, мы включаем в него не только основные (конституционные) права, но и весь комплекс прав, вытекающих из законов (внутригосударственных и международных). Особо следует подчеркнуть влияние международных норм о правах человека на расширение правового статуса личности в современном мире. Акт ратификации того или иного договора означает для государства необходимость привести свое законодательство в соответствие с взятыми на себя обязательствами. Государство создает систему органов по защите прав человека — судебные органы, органы исполнительной власти, парламентские и резидентские структуры, институт омбудсмана и др., а также устанавливает конкретные юридические механизмы и процедуры такой защиты. Каждая из стран обладает своим набором процедур и механизмов защиты прав и свобод личности, своей системой органов такой защиты.
Принимая на себя обязательства по обеспечению прав граждан, государство имеет право требовать от них правомерного поведения, которое соответствовало бы эталонам, зафиксированным в юридических нормах. Поэтому государство формулирует свои требования к индивидам в системе обязанностей, устанавливает меры юридической ответственности за их невыполнение. Государство как носитель политической власти располагает специальными механизмами обеспечения прав граждан и выполнения ими своих обязанностей.
Обязанность — это объективно необходимое, должное поведение человека. Следует вместе с тем подчеркнуть, что такая объективная необходимость определенного поведения не всегда субъективно осознается индивидом, а это может привести к отступлению от требований нормы. Поэтому обязанность — это как необходимое, так и возможное поведение. Человек совершает свой выбор не только в сфере юридических требований и предписаний. На этот выбор могут влиять и иные нормы, которые имеют антисоциальную направленность. В этом случае обязанность не будет реализована. Обязанность — это возможное поведение и потому, что и при благоприятном, позитивном отношении личности ее реализация в объективно необходимом поведении наступает лишь при определенных условиях, предусмотренных правовой нормой.
Государство в системе обязанностей указывает целесообразный, социально полезный и необходимый вариант поведения. Часть обязанностей как элемент правового статуса распространяется на всех лиц, проживающих в государстве. Так, Конституция РФ устанавливает обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57); сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58). Наряду с этим ст. 59 четко формулирует, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ.
Включение обязанностей в правовой статус индивида не колеблет принципов свободы и правового государства, поскольку права одних лиц, не подкрепленные обязанностями других, не могут быть реализованы.
Все сферы действия правового статуса в единстве прав и обязанностей — это “пространство свободы”, основанное на свободе выбора, самоопределении и ответственности личности перед обществом и своими согражданами. Свобода и ответственность выражают объективную необходимость определенных эталонов поведения и их выполнения в соответствии с интересами общества. Руководствуясь этими интересами, государство требует выполнения обязанностей и определяет запреты, связанные с ненадлежащим использованием прав и свобод, противоречащим интересам общества и государства, правам других лиц. Связь свободы и обязанностей раскрывается в ст. 29. Всеобщей декларации прав человека: “Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие личности”. В современном обществе люди должны осознавать ответственность друг перед другом, вырабатывать чувство солидарности и взаимоподдержки. Проповедь крайнего индивидуализма неплодотворна для прав человека, она ориентирует на эгоистическое, анархическое своеволие и игнорирует значимость такой большой социальной проблемы, как обязанность и ответственность личности перед обществом.
Человек, находясь в обществе, постоянно взаимодействуя с другими людьми, не может не иметь обязанностей и по отношению к обществу, и по отношению к согражданам. Поэтому обязанности — столь же важный и необходимый элемент правового статуса индивида, как права и свободы. Они связаны неразрывно и не могут существовать вне зависимости друг от друга. Такая зависимость создает нравственное взаимодействие между людьми. Статья 1 Всеобщей декларации прав человека провозглашает: “Все люди рождаются свободными и равными в правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства”
Пользование правами сопряжено с ответственностью человека, с возможными ограничениями, определяемыми мерой и границами свободы, установленными правом, принципами гуманности, солидарности, нравственности. Этот постулат сформулирован в ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, в ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах.
В Международном пакте о гражданских и политических правах предусмотрена также возможность запрещения антигуманных, аморальных действий — пропаганды войны, всяких выступлений в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющих собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию (ст. 20).
В ст. 55 Конституции РФ также установлены основания ограничений прав и свобод: “Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства”
Таким образом, правовой статус человека и гражданина в системе прав, свобод и обязанностей целенаправленно воздействует на создание устойчивых, сбалансированных способов взаимодействия людей друг с другом и формирование нормальных отношений человека, общества и государства.
В правовой статус личности включается все многообразие прав, охватывающих самые различные стороны его деятельности. В соответствии со сферами деятельности человека можно определить структуру и характер прав, составляющих правовой статус. Такая структура вытекает из Всеобщей декларации прав человека, и особенно из международных пактов по правам человека, и включает гражданские (личные) права, политические права, культурные права, социальные и экономические права.
Как уже отмечалось, гражданские (личные) права определяют свободу человека в сфере личной жизни, его юридическую защищенность от какого-либо незаконного вмешательства. К гражданским правам относятся право частной собственности; право на охрану семьи, материнства и детства; свобода совести; весь комплекс прав, обеспечивающих личную безопасность и неприкосновенность человека, гарантирующих эффективные меры судебной защиты каждому человеку в случае нарушения его прав; право на свободное передвижение и свободный выбор местожительства и др. Цель этих прав состоит в охране и защите той сферы, в которой проявляются индивидуальность и личностное своеобразие человека. Иными словами, речь идет об ограждении автономии личности, пространства действия индивидуальных, частных интересов.
Следует отметить, что не всегда при классификации прав то или иное право может быть безоговорочно отнесено именно к данной категории прав. Любое разделение прав на категории в какой-то мере условно. Так, право собственности является не только личным правом, обеспечивающим стартовые возможности самостоятельности личности, но и правом социальным, экономическим, связанным с удовлетворением материальных притязаний человека.
Политические права граждан выражают возможности индивида на участие в политической жизни и осуществление государственной власти. К данной категории прав относятся: право на свободу мысли; право беспрепятственно придерживаться своих мнений; право свободно искать, получать и распространять информацию; право на мирные собрания; право на свободу ассоциаций; право на участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через своих представителей; право избирать и быть избранным и др. Политические права граждан являются непременным условием функционирования всех других видов прав, поскольку они составляют неотъемлемую основу системы демократии и выступают как средство контроля за властью, как ценности, на которые власть должна ориентироваться, ограничивать себя этими правами, признавать и гарантировать их.
Значимость прав человека в контроле за властью определяет стремление тоталитарных режимов ограничить эти права и тем самым освободить себя от демократических форм контроля. Чем в большей мере удается тоталитарному режиму ограничить политические права человека, тем более свободной в своих действиях становится власть, тем более эфемерно разделение властей, тем большее место занимают в нем насильственные методы, применяемые государством.
Социальные и экономические права призваны обеспечить человеку достойный жизненный уровень; право на труд и свободный выбор работы; право на равную оплату за равный труд; право на социальное обеспечение; право на защиту материнства и детства; право на образование и др. Необходимый перечень этих прав закреплен в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, определяющем планку, ниже которой цивилизованное государство не должно опускаться.
Раздел V. Позитивное право: система и категории
Глава 1. Позитивное право и социальный процесс его формирования
§ 1. Прагматические основы существования позитивного права
Под позитивным правом имеется в виду действующее в данном обществе право, рассматриваемое в аспекте его конкретно-определенного содержания и формы, т. е. таким, каким оно непосредственно выступает в качестве регулятора поведения людей, объединенных в единое государство или протогосударственное (“варварское”) общество: сельскую общину, орду кочевников-скотоводов, раннегреческий полис (город-государство), древневосточное царство и т. п. В данном аспекте право выступает как фактически существующий в обществе онтологический феномен бытия, определяющий порядок поведения граждан или подданных государства либо населения протогосударственных образований. Однако в основе государственного порядка лежат, как правило, аксиологические (ценностные) принципы, выработанные практикой общения, прежде всего разрешения противоречий, споров, возмещения “обид”, восходящие к единым религиозным или иным идеологическим убеждениям, которые выражают интересы различных классов, страт или групп населения, делящегося по видам занятий (профессий), и лежат в основе существования членов данной социальной группы, класса и, в конечном счете, единого общества и государства.
В процессе создания и использования права его сущность познается людьми значительно позже, чем возникают и упрочиваются практически необходимые правила поведения. Само же право выступает именно в виде признанных и единых, обязательных для всего общества правил поведения, влекущих за собой упрочение социальных обязанностей, повинностей, а также притязаний членов общества на предоставление им известных прав, привилегий, доли общественного достояния, или плодов собственного производительного труда, или деятельности по обмену товарами, роли в семейном хозяйстве и бытовых отношениях.
Таким образом, право возникает на основе убеждений, оценок и стремлений людей в сфере их практической деятельности, взаимодействия людей в различных обществах, перешедших или совершающих переход от родо-племенного строя к разноплеменным обществам.
При этом, естественно, такое общество, объединяющее население определенной территории либо сплоченное (у кочевых народов) едиными формами и средствами существования, должно руководствоваться едиными для всех идеями, представлениями о порядке взаимоотношений между членами общества. Такими представлениями служили на ранних этапах становления государств религиозные заповеди древних народов, переходящих к производящим формам хозяйства, какими явились земледелие, скотоводство, ремесла и обусловленные ими формы семьи, управления общими делами, хозяйством, нужды военной защиты и завоевания новых территорий. Примером могут служить заповеди Библии и христианства.
Лишь позднее эти религиозные основы права дополнились нормами светской государственности и наукой. Такие светские дополнения, отнюдь не порывавшие с теологическими воззрениями о праве, наиболее известны нам с эпохи античных государств Древней Греции и Рима.
Но и глубокое познание сущности права философскими учениями античности, а затем средних веков и Нового времени не могло отрываться от практических требований жизни людей современной им эпохи. Ведь право должно было всегда давать ответ на вопросы о реальном поведении людей, вытекать из потребностей их повседневной жизни: из форм присвоения результатов производства, отношений по труду, обмена средствами существования и продуктами труда; из складывающихся форм управления делами общины, государства; из сложившихся форм семьи и отношений между ее членами и родственных связей; из представлений о правильном, допустимом, о наказаниях за преступления и т. п.
Поэтому результатом религиозных, идеологических, научных и философских теорий о праве, его значении и сущности в том или ином обществе должны были быть и всегда являлись представления о содержании и формах правовых, обязательных, признанных и защищаемых государством норм, правил поведения людей; о формах и средствах управления общими делами; о правах и обязанностях каждого человека и образуемых людьми групп, кланов, классов, общин, каст и иных сообществ.
Вот такие представления, идеи и целые учения о праве, реально существующие и действующие в том или ином цивилизованном (т. е. организованном в государство[202]) обществе, и дают основу позитивному праву как реальному средству регулирования поведения людей, составляющих, в конечном счете, подобное общество.
Структура содержания норм позитивного права исторически обогащалась: от простейшего выражения и накопления отдельных разрозненных (ситуативных) “приказов”, “приговоров”, выносившихся верховной властью, судами по разным вопросам, до закрепления различных общих положений, принципов правового поведения граждан, власти и чиновников государства. Как в современном мире, так и в прежние эпохи человеческой истории позитивным правом признавались и презюмировались некие общие положения, принципы, сложившиеся обычаи, традиции, как бы лежащие в основе конкретных государственных правовых норм. В прежние времена эту роль выполняли религиозные заповеди и постулаты Библии, Корана, источников различных иных вероучений (ведическое право индусов; церковное право у славянских народов).
В древнем Китае, Японии такими общими постулатами признавались нравственные учения (конфуцианство, легизм). В современном мире религиозные и традиционные нормы поведения также не утратили значения общих принципов и постулатов для правового поведения людей.
В международном праве общепризнанные принципы и нормы договоров служат основой не только общих норм, но и для разрешения конкретных споров и конфликтов. Общие принципы права рассматриваются в качестве источника прецедентного права в англосаксонских странах.
Наконец, в современном мире на основе международного признания сложились и все более упрочиваются принципы и нормы о правах человека, которые признаются обязательными для государств — членов ООН и иных международных организаций (ОБСЕ, ЕС и др.). Поэтому права человека, их осуществление и защита не только служат общим идеологическим принципом, нравственной основой права, но также входят через международные пакты, конституции современных государств в состав действующего позитивного (международного и внутригосударственного) права, признанного и защищаемого государствами — членами мирового и регионального сообществ.
В состав действующего позитивного права входят также права, обязанности и ответственность, вытекающие из конкретных договоров, а также обычаев, не противоречащих закону, допускающему правоотношения по свободному волеизъявлению сторон. Такие конкретные, принятые на себя сторонами обязательства в современном мире имеют важное значение для осуществления принципа индивидуальной свободы, являющейся основой демократического строя. К ним относятся свобода гражданского правового и трудового договоров, а также договорные обязательства публичного права между центральными органами федерации как единого государства в целом и членами федерации или между автономными образованиями и центральной властью (в унитарных государствах).
Таковы наиболее важные основы и состав позитивного права современных государств и международного общения между ними, а также между организациями и гражданами различных государств, сложившиеся в ходе мировой истории.
§ 2. Теоретические основы понятия “позитивное право”
Термин “позитивное право” прочно вошел в правовую науку и практику Нового времени с конца XVI — начала XVII в., когда право “государственное” противопоставлялось естественному и даже божественному праву. Наиболее четко эти мысли были впервые сформулированы нидерландским мыслителем Гуго Гроцием[203].
На признание естественных прав человека как не зависящих от законодательства и обязательных для справедливого государства опирались Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтескье, Вольтер, Т. Гоббс, И. Кант, А. Н. Радищев и другие мыслители- просветители XVII—XVIII вв. в борьбе против тирании монархии и бесправия народа в эпоху имперского абсолютизма в Европе.
Естественное право характеризовалось как вечное и неизменное в отличие от законодательных норм и даже норм божественного права, которые подвергались изменениям в историческом развитии человечества или были различными для людей и государств разных религиозных убеждений и верований[204].
В XIX — начале XX в. в условиях укрепившейся в странах Европы и Северной Америки буржуазной государственности, основанной на свободе собственности, внимание правоведов и политиков сосредоточилось не столько на естественных правах личности, сколько на анализе реально существовавшего права, создаваемого государством в форме законов и иных нормативных актов, а также судебного прецедента и санкционированного государством обычая. Авторитет теории естественного права значительно упал по сравнению с эпохой просвещения и буржуазных революций XVIII—XIX вв. Эта линия развития теории права в XIX — начале XX в. прослеживалась в таких новых течениях юриспруденции, как историческая школа права (Гуго, Савиньи, Пухта), различные позитивистские (Д. Остин, И. Бентам и др. в Англии, Г. Ф. Шершеневич в России) и социальные теории права (солидаризм Л. Дю- ги, теории интересов Р. Иеринга, Н. М. Коркунова, социологическая школа Ф. Жени, С. Эрлиха, С. А. Муромцева, психологическая теория права Л. И. Петражицкого и его последователей).
В этих условиях естественное право стало представляться как бы ненужным, отжившим понятием, сыгравшим уже свою роль в истории борьбы с феодальным абсолютизмом. Теория и практика передовых буржуазных государств европейской культуры сосредоточились на анализе именно позитивного, т. е. установленного или признанного государством, права (часто весьма критичном по отношению к действовавшему имперскому праву России, Австро-Венгрии, Германии). Например, Л. И. Петражицкий, резко отрицательно относившийся к естественному праву, пришел даже к такому выводу: поскольку не существует естественного права, то отпадает и необходимость приставки “позитивное” к праву, официально действующему в данном государстве[205].
Тем не менее термин “позитивное право" признавался и признается теорией и практикой английского, французского, немецкого, австрийского права и права других современных государств, отнюдь не порвавших с демократическими принципами естественных прав и свобод личности. Он помогает объединить содержание форм (источников) права различных правовых систем современных государств. Так, если термины “законодательство”, “закон” (в широком смысле) можно считать почти однозначными термину “позитивное право” для систем действующего права стран Европейского континента, то вряд ли можно назвать “законодательством” прецедентное право Англии, Канады, Австралийского Союза и других англосаксонских стран. Неадекватен термин “законодательство” содержанию и формам религиозных и традиционных правовых систем (мусульманского, индусского права, права ряда стран Центральной Африки), а также действующему праву Китая и Японии, стран Юго-Восточной Азии. Поэтому термин “позитивное право” вполне приемлем для обозначения понятия “действующее право” современных государств, большинства современных национальных правовых систем. Он, mutatis mutardis, приемлем и для обозначения действующего, т. е. признанного государствами мирового сообщества, современного международного права, основанного на договорах. Разумеется, при этом необходимо учитывать все особенности международного права и его весьма разнообразных источников, сферы их действия, порядка их применения и т. п.
В современных условиях нельзя также согласиться с тем, что понятия и термины “естественное” или неотчужденное от человека право, выраженное в известных международных документах о правах человека и гражданина, “ушли в прошлое” либо представляют собой только теоретическую основу действующего позитивного права, как это представлялось российским или английским позитивным и другим теоретикам начала XX в. Поэтому и термин “позитивное право” не утратил своего значения вопреки мнению некоторых русских юристов начала XX в.
С учетом сказанного под позитивным правом имеются в виду юридически действующие, защищенные государством и международным сообществом нормы, общие принципы права, а также основанные на них законные интересы, права и обязанности участников правовых отношений.
§ 3. Понятие социального процесса формирования позитивного права
Официальное установление или признание норм позитивного права, выраженного в законах и иных официальных источниках, происходит на базе возникновения сложившихся условий жизни общества и деятельности государства, возникающих при этом социальных потребностей, целей, ожиданий членов общества, организаций людей, органов государства, постепенного накопления опыта их удовлетворения, реализации и разрешения возникающих противоречий и т. п.[206].
Всякое появление новых потребностей, целей, социальных ролей и иных социальных условий и факторов, типичных для данного общества[207], исторического этапа развития народа, должно также получить известное распространение и упрочение в производственной, социальной сферах и личной жизни людей, их сообществ, в деятельности органов государства прежде, чем эти потребности, цели, роли получат всеобщее признание и закрепление в законе. Зачастую такому закреплению предшествует их признание и поддержка общественной моралью, религией, практикой чиновников, государевых слуг либо политическими и иными общественными организациями, благодаря чему возникает возможность рассмотрения вопроса о правовом закреплении законами и иными решениями государства соответствующих отношений.
Поэтому изучение становления и развития социальных процессов, вызывающих потребности правового регулирования тех или иных отношений, представляется абсолютно необходимым условием для правильного понимания формирования позитивного права независимо от того, происходит такое формирование путем спонтанного становления обычая, признаваемого затем государством правовым, либо путем постепенного накопления судебной практики, религиозных и нравственных правил, либо, наконец, законодательным (и иным официальным) установлением правовых норм государственными органами (государственной властью).
Конечно, практика восточных деспотий, абсолютных монархий, фашистских режимов и иных форм и исторических моделей верховной неограниченной власти включает в состав законодательства подобных государств элементы произвола, даже прямой расправы с неугодными, забвение интересов народных масс, прямое расточительство и раздачу почестей и богатств приближенным и т. п. Однако влияние законодательного произвола на правовые порядки всегда носило случайный характер, даже тогда, когда его последствия были длительными и весьма тяжкими для народов и государств. Произвол, ошибки, нелепости правителей, судей, парламентов или законосовещательных собраний не могут рассматриваться как “действующее право”, поскольку они не создавали и сейчас не создают правового порядка в отношениях между людьми, правового порядка управления, устойчивого, повторяющегося процесса реализации общественных отношений. Поэтому произвол в любой его форме, начиная от указов и повелений фараонов, императоров, абсолютных монархов и кончая противозаконным творчеством властей и чиновничьим вымогательством, — по сути антиправовые установления действия. Для теории права это лишь объект отрицания и показатель социального вреда, а не критерий права.
Реально возникающие социальные потребности и основания правового регулирования рассматриваются в правовой литературе как различные факторы, обусловливающие процесс правового урегулирования, его изменения, отмены действующих норм права. Важно при этом подчеркнуть, что речь идет о факторах, обусловливающих правотворческий процесс и лежащих, как правило, вне самого правотворчества государства и как бы извне детерминирующих содержание правотворчества и его результаты, т. е. само позитивное право[208]. Социальные факторы, непосредственно влияющие на правотворческий процесс, т. е. на деятельность государства по установлению или признанию правовых норм, следует рассматривать как предпосылки правотворчества и позитивного права. Поэтому представляется необходимым характеристику различных социальных факторов формирования права рассматривать в качестве особого, социального, но еще не оформленного юридически процесса, генетически связанного с правотворческой деятельностью государства, но не тождественного самому правотворчеству как юридически оформленному процессу и его результату — позитивному праву[209].
Признание такого социального процесса, предшествующего и обусловливающего официальное позитивное право, характерно не только для марксистской концепции права, но и для таких крупных теоретических концепций права, как естественное право, историческая, психологическая и в особенности социологическая школы права, “теория интереса”. Общим для всех этих правовых теорий являются поиски социального субстрата, причин, порождающих нормы позитивного права, признаваемого или устанавливаемого государством. Такие теории известный венгерский юрист академик В. Пешка характеризует как генетические концепции, имеющие в виду факторы, являющиеся причиной появления правовых норм, в отличие от юридического (легального) позитивизма, ориентирующегося на раскрытие всего того, что помогает выявить правовой характер правил поведения, и ничего более[210].
Марксистская концепция права относится, несомненно, к генетическим концепциям, но в отличие от иных концепций, названных выше, она придает экономике, т. е. развитию производительных сил и производственных отношений, а также классовому делению общества, определяющее значение среди социальных факторов формирования права (правообразования). Советские юристы — теоретики права наряду с этими основополагающими, базисными факторами правообразования различали значение материальных и других объективных факторов, к которым относили условия жизни общества, интересы господствующего класса (классов) или всего народа (при социализме); идеологические, социально-психологические представления и волевые стремления классов, т. е. общественное (в отличие от индивидуального) сознание, выражающее интересы различных классов и слоев населения. Среди субъективных, т. е. идейных и психологических, факторов формирования позитивного права подчеркивалось значение правового сознания личности, а также формирование воли классов, стоящих у власти либо стремящихся к овладению властью. Наконец, особо выделялось формирование государственной воли господствующего класса (классов) или всего народа[211], выступающее как бы завершающей и решающей ступенью социального процесса формирования права (правообразования), создания государством правовых юридических норм, т. е. собственно юридически оформленным процессом правотворчества.
В советской литературе разрабатывался и несколько иной подход к пониманию факторов и процесса правотворчества (например, в монографии “Научные основы советского правотворчества”[212]). Авторы этого труда в общем анализировали примерно те же объективные и субъективные факторы процесса формирования права: определяющее значение экономических факторов (базиса) для возникновения правовой надстройки; формирование интересов и воли господствующего класса; объективные и субъективные факторы самой правовой надстройки, закономерности ее развития; обусловленность правовой формы содержанием общественных отношений; внутреннюю согласованность норм права; объективную обусловленность соотношения средств правового регулирования и т. п. Выделялись также проблемы научного познания средств правового регулирования; социально-политические факторы правотворчества, в том числе роль КПСС в выработке правовой политики, участие масс в правотворчестве; выявление потребностей в правовом регулировании в деятельности субъектов законодательной инициативы, а также в стадии разработки законопроекта (проблем структуры законодательства, выбора формы нормативного акта и т. д.). В монографии ставились и другие важные проблемы правотворчества: прогнозирование, планирование правотворчества, законодательная техника и др.
Все эти проблемы, несомненно, имеют отношение к правотворчеству как деятельности государства.
Не будем касаться здесь недостатков, присущих в равной мере всем работам советского периода, неизбежно выставлявшим на первый план преимущества социализма и его права, руководства партии и т. п. и на все вопросы находившим ответы у классиков марксизма-ленинизма, подчас вполне правильно, но всячески отстраняясь или открещиваясь от проблематики буржуазных правовых теорий[213]. Отметим лишь тот аспект предложенного подхода, который интересует нас именно в современных условиях. Так, автор первой главы названной книги проф. Р. О. Халфина исходила из того, что понятие правотворчества есть научно обоснованный процесс, представляющий собой “форму государственного руководства обществом, завершающий процесс формирования права и отражающий социальные факторы этого процесса...”[214]. Но если это так, то, по существу, речь должна была бы идти не о тех социальных явлениях, которые “отражаются”, а лишь о том, как они учитываются и воплощаются в правотворческой деятельности государства. Между тем Р. О. Халфина стремилась указанным понятием “охватить более широкий круг явлений, включить все сложные процессы, предшествующие решению о подготовке проекта нормативного акта, выявить потребности правового регулирования...”[215].
Такое понятие охватывает реальные жизненные элементы, процессы правообразования, которые “во всей их сложности” должны быть проанализированы, познаны и отражены в процессе правотворчества государства, но реально существуют и действуют вне его (в производстве и потреблении продуктов труда, в общественных отношениях людей, в практике международных отношений и даже в судебной и административной практике), но не в самой правотворческой практике.
Те требования и потребности, которые обусловливают принятие закона и позитивного права, следует искать не в самом правотворчестве, а скорее в объектах и целях устанавливаемого государством позитивного права.
Познание, анализ, научный подход к правотворчеству несомненно необходимы для правотворчества государства. Но эти важные средства деятельности государства не следует отождествлять с самим социальным процессом формирования норм права. Государственное правотворчество лишь завершает и отражает воздействие на формирование норм права экономики, политики, конкретных интересов и представлений о праве, конкретных условий и сложившегося образа жизни, которые будут затем закреплены законом, действующим позитивным правом.
Допущенное же авторами названной книги смешение “познания”, “изучения”, “выявления” социальных факторов в процессе правотворчества (т. е. субъектами законодательной инициативы, органами и организациями, готовящими проекты законов и т. п.) с реальным существованием и влиянием социальных процессов жизни общества и разнообразной (не только правотворческой) деятельности государства не дало возможности раскрыть и выделить и само понятие “социальный процесс формирования права” в отличие от его завершающей стадии — юридического процесса правотворчества, непосредственно порождающего нормы действующего позитивного права.
Таким образом, социальный процесс формирования позитивного права — это объективно складывающееся и субъективно выявляющееся в жизни общества и государства взаимодействие, влияние разнообразных социальных факторов на формирование правовых норм; этот процесс, несомненно, смыкается с завершающей стадией — юридически оформленным процессом правотворчества государства как организованной деятельностью его правотворческих органов по созданию либо признанию и закреплению в юридически обязательной форме норм позитивного права.
Если же весь процесс правообразования состоит лишь в познании, изучении, правильном отражении и закреплении норм права государственными органами правотворчества, хотя бы и с участием населения, науки и разнообразного практического опыта людей, то анализ такого формирования права не может достаточно глубоко и полно раскрыть реальный процесс зарождения общественной потребности в правовом регулировании и выявить разнообразные социальные факторы, влияющие на процесс создания позитивного права и на содержание его норм.
Глава 2. Нормы права
§ 1. Понятие и признаки правовых норм
Для понимания права и правового регулирования необходимо прежде всего уяснить, что собой представляет норма права в современных условиях развития российского государства и общества, а также в других государствах современных цивилизаций. Норма права есть первоначальный элемент, содержания права. Поэтому в ней выражены прежде всего основные черты содержания права в целом. Эти черты применительно к отдельной норме права сводятся к следующему.
Нормы права относятся к числу социальных норм, т. е. правил поведения людей в их взаимных отношениях между собой (в общественных отношениях). Это правило, содержащее дозволение, разрешение, ограничение, запрет либо наложение позитивной обязанности. Иначе говоря, норма права есть правило, определяющее то, как можно или должно поступать при тех или иных обстоятельствах — при переходе проезжей части улицы, при поступлении на работу, выполнении трудовых обязанностей, при заключении и выполнении договора, при осуществлении органами государства полномочий, разрешении ими заявлений граждан и т. д.
Являясь социальными предписаниями, нормы права отличаются от технических правил, регулирующих взаимоотношения человека с природой, использование средств и орудий труда, различных иных технических средств.
Например, правила работы на токарном станке предусматривают необходимость его предварительной наладки, смазки, подготовки места работы, выбора инструмента, затем закрепления болванки и резца, выбора скорости заточки, обеспечения смазки в процессе работы и т. д. Все это — технические правила обращения токаря со станком, инструментом и материалом. Однако тому же токарю приходится иметь дело с производственными правилами иного рода: правилами обеспечения безопасности самого себя и других лиц в процессе работы. Такие правила техники безопасности имеют прямое социальное значение; они направлены на защиту интересов людей в процессе производства и входят в число правил охраны труда, имеющих социальное и правовое значение.
Конечно, работник отвечает и за поломку материала или инструмента, самого станка, если он работал с нарушением технических правил. Но это обусловлено тем, что техника предприятия является его собственностью или объектом арендных и иных отношений, причинение вреда которым работник обязан возместить частично (ограниченная материальная ответственность — ст. 118 КЗоТ) либо полностью (см. ст. 121 КЗоТ).
Другой пример. Правила дороэсного движения — это социальные и правовые правила, обеспечивающие безопасность и удобство движения транспорта и пешехода. Однако, чтобы управлять автомашиной, необходимо знать технические правила рулевого и педального управления, должного содержания двигателя, шасси и других технических элементов оборудования автомобиля. Часть из них (периодический техосмотр, проверка состояния техники) приобретает и юридическое значение, но только в силу особо повышенной опасности автомобильного и иного механического средства передвижения (т. е. опять-таки в силу социальных причин).
Будучи социальными, нормы права отличны также от правил логического мышления и языка (грамматики, синтаксиса, риторики), которыми люди руководствуются для выработки навыков собственного мышления, правильной речи и правописания.
Технические правила, навыки, приемы и способы логического мышления, правильное построение устной речи и правописания также отражают потребности людей и играют важную социальную роль. Однако их социальное значение является как бы следствием, а не непосредственным содержанием правил мышления и языка, производственно-технических правил, навыков и знаний каждого человека. Поэтому только тогда, когда технические, лингвистические и логические правила прямо затрагивают интересы других людей, они приобретают социальное, в том числе и правовое, значение.
Все социальные нормы имеют общественные корни: они вырабатываются обществом либо отдельными общественными группами (например, нормы общинного быта, семейных отношений, правила совместного труда, начиная от ремесленной артели до современных трудовых коллективов крупных предприятий любой отрасли хозяйства). Каждый человек, вступающий в те или иные групповые отношения семьи, общины, трудового коллектива, товарищества или акционерного общества, как бы принимает на себя обязанность соблюдать установленный для данных отношений порядок* правила, его регулирующие. А сама общественная группа выступает носителем, “учредителем” социальных норм. Все социальные правила должны прочно укорениться в любой общественной группе, стать как бы принятыми ее членами для того, чтобы они успешно соблюдались, т. е выполняли свою роль в реальной жизни людей.
Этими качествами социальных норм должны обладать и правовые нормы. Однако им присущи существенные особенности, вытекающие из особых социальных оснований (“природы”) и роли права в обществе.
Каковы же эти особенности?
Право как явление присуще государственным формам организации общества. Государство есть организация власти в обществе, образованном по территориальному признаку. “Коллектив” государства — это население его (государства) территории, обычно имеющей геополитическое название “страна” “Члены” государственного коллектива — подданные или граждане государства, к которым безусловно относятся все родившиеся и постоянно проживающие на территории страны люди, а уже затем — проживающие вне ее границ, но этнически или исторически связанные с населением государства либо ранее проживавшие в нем и другие лица.
Население — гораздо более разнообразное и менее монолитное сообщество, чем община, племя. Оно может быть многонациональным и разноязычным, с дифференцированными местными или национальными (этническими) особенностями и обычаями. Взаимная связь для всего населения одна — родина, страна рождения либо происхождения, или страна, избранная “пришлыми” людьми для постоянного проживания.
В силу этого и нормы права существенно отличны от иных социальных норм, хотя во многом и “родственны” им по своему происхождению. Например, правило “не убий” одновременно и важнейший нравственный (религиозный) запрет, и норма — запрет уголовного права.
В чем же состоят основные отличительные признаки правовых норм?
1. Поскольку право предназначено для установления и поддержания единого порядка в обществе (для всех граждан и организаций страны), то каждой норме права присуще качество общеобязательного правила: правовые нормы обязательны для всех, кого по своему содержанию прямо или косвенно касаются предписания данных норм.
2. Нормы права в отличие от других социальных норм устанавливаются либо санкционируются (т. е. допускаются, подтверждаются), а также охраняются от нарушения их кем бы то ни было государством, осуществляющим контроль за соблюдением правовых норм и в надлежащих случаях — применение предусмотренных законом мер принуждения за правонарушения.
Полномочные государственные органы и их должностные лица могут и обязаны применять также и принудительные меры для задержания нарушителя и установления (расследования) обстоятельств правонарушения. Однако эти меры могут осуществляться только в рамках закона и не в качестве “наказания”, а для обеспечения правосудия.
На практике, в повседневной жизни в подавляющем большинстве случаев нормы права соблюдаются гражданами и организациями добровольно или в соответствии с указаниями, напоминаниями государственных органов или заинтересованных лиц и организаций (например, об уплате долга, о выполнении трудовых обязанностей). Однако нередко возникают споры, которые необходимо разрешать, либо неисполнение обязанностей, нарушение прав других лиц и т. п. Тогда необходимо применение принуждения или иного властного решения. Поэтому возможность применения принуждения, предусмотренного законом, существует как постоянное предупреждение нарушителю и защита прав потенциального потерпевшего. Наличие такой возможности и есть главное, что отличает нормы права от всех других социальных норм.
Наряду с этим главными особенностями норм права есть и производные от них.
3. Правовые нормы отличаются от иных видов социальных норм также признаком формальной определенности. Будучи государственным установлением, нормы права вырабатываются на основе обобщения тех или иных “казусов”, т. е. конкретных случаев, подлежащих регулированию. В отличие от этого нормы морали выражают оценку тех или иных общих принципов поведения; нормы обычая — главным образом те или иные устоявшиеся традиционные формы общения, запреты или дозволения, обряды и т. п., применение которых имеет очень широкий диапазон.
Правовые нормы более определенны: они должны сформулировать права на конкретные виды дозволенных действий или на те или иные объекты (имущество, авторство произведения), а также обязанности, запреты и меры ответственности за их неисполнение или нарушение публичного порядка.
Ярким примером формальной определенности могут служить статьи особенной части уголовного кодекса, которые предусматривают составы конкретных преступлений и виды наказаний. Они должны применяться буквально, в точном соответствии с законом и только по приговору суда (ст. 38, 43, б 0 УК РФ).
Формальная определенность права ясно выражена в детальных процедурах, особенно связанных с судебной деятельностью и привлечением нарушителей к уголовной и административной ответственности (уголовно-процессуальный, гражданский процессуальный и другие процессуальные кодексы и законы). Именно формальный характер судебных процедур позволяет установить все обстоятельства дела, закрепить их в ясной форме и вынести справедливый приговор или решение.
Формальная определенность гражданского и семейного права далеко не столь детализирована. Однако здесь она выражена при установлении обязательных условий договора, регистрации различных действий, определении порядка наследования и ряда других действий. Но и менее формальные нормы о праве собственности, о сделках, обязательствах содержат четкие общие и специальные условия гражданских, трудовых и других правоотношений.
4. Формальная определенность права требует его письменной, документальной формы. Такая форма дает всем исполнителям норм права ясное и точное представление о содержании, пределах действия норм и другие необходимые сведения о праве.
Такие сведения можно получить только при опубликовании правовых актов или их “оглашении” публичными средствами. Поэтому формальное, письменное закрепление норм неразрывно связано с публичностью права, его доступностью всем и каждому.
В итоге можно прийти к следующему определению понятия нормы права: правовая норма — это общеобязательное правило социального поведения, установленное или санкционированное государством, выраженное публично в формально-определенных предписаниях, как правило в письменной форме, и охраняемое органами государства путем контроля за его соблюдением и применения предусмотренных законом мер принуждения за правонарушения.
Из приведенного определения вытекают и признаки отличия норм права от иных юридических предписаний.
Всякое правило поведения носит общий характер. Это относится ко всем социальным нормам, в том числе и к правовым. Общий характер правовых норм придает праву характер нормативного явления.
В чем же состоят признаки, отличающие нормы от иных юридических предписаний?
1. Будучи общими нормативными предписаниями, нормы права относятся не к отдельному случаю, отношению или лицу, а к тому или иному виду действий, отношений и лиц, которые в них участвуют. Например, общие нормы о купле-продаже относятся к любому продавцу и покупателю и к любому случаю осуществления этого договора; нормы о собственности — к любому, кто вправе владеть, пользоваться или распоряжаться вещью; правила дорожного движения — ко всем водителям транспорта и пешеходам, органам и должностным лицам; нормы семейного кодекса — ко всем супругам, детям и другим членам семьи и родственникам и т. п.
2. Норма права как общее предписание может осуществляться неоднократно, т. е. всякий раз, когда налицо условия для ее осуществления.
3. Наконец, норма права не прекращает своего действия ее исполнением в каждом отдельном случае, даже если этих случаев бесчисленное множество.
Названными признаками нормы права отличаются от индивидуальных, хотя бы и повторяющихся и длящихся предписаний органов государства. Например, назначение гражданина Петрова А. К. на должность начальника отдела милиции, привлечение водителя Иванова Г. С. к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, регистрация постановки гражданина Михайлова С. В. на учет по месту жительства в г. Москве, регистрация торговой фирмы “Панда” в качестве юридического лица — все эти решения и действия государственных органов не являются нормами права. Они лишь направлены на применение уже действующих норм к отдельным лицам и обстоятельствам. Все эти действия индивидуально определенны, так как относятся к конкретным лицам, осуществляются однократно и исчерпываются исполнением взыскания или фактом регистрации или учета.
Есть, правда, некоторые персональные предписания, которые носят постоянный характер (выплата назначенной пенсии, право ношения наград, присвоение почетных званий). Однако их ненормативность определяется персональной определенностью.
Индивидуальные правовые предписания органов государства и местного самоуправления необходимы для осуществления функций исполнительной и судебной власти, местного самоуправления. Однако с их помощью не выполняется функция законодательная и правотворческая: такие предписания не создают права, главное назначение которого состоит в установлении единого порядка отношений в обществе и государстве. И только общие, неоднократно применяемые нормы права способны упорядочить те постоянно повторяющиеся многообразные акты поведения (производства и обмена, труда, обучения, оказания медицинской помощи, семейной жизни и повседневного быта и т. д.), которые составляют содержание жизнедеятельности общества и каждого человека.
§ 2. Социальное бытие правовых норм
Названные признаки и понятие правовой нормы характеризуют ее юридические качества как государственного установления и имеют важное значение для отличия правовых норм от других социальных норм (морали, обычаев, религиозных).
Однако содержание поведения, выраженного в правовой норме, характеризуется также признаками социального бытия нормы права.
К сожалению, эта сторона социальной характеристики правовой нормы почти не раскрывается в современной российской правовой науке. А она имеет весьма важное значение и особенно актуальна в современных условиях. С ее помощью раскрываются глубинные черты норм права, как бы скрытые за рамками от ее официального выражения в статьях закона (нормативного правового акта). В чем же состоят эти черты?
Во-первых, в истории развития права имели и имеют место сейчас неписаные формы выражения права. Такие формы воплощаются не в специальных писаных формулах нормативного содержания, а в устной традиции, хранящейся в памяти поколений. Эта форма получила название правового обычая.
Уважение к обычаю сохранялось многие века и после того, как возникло развитое писаное право. Об этом, в частности, ясно говорят Дигесты Юстиниана, многие памятники феодального права (Салическая правда, Русская правда и др.), которые, по существу, были записью сложившихся у народа обычаев.
И в современном гражданском праве признаются обычаи делового оборота в качестве форм выражения права (ст. 5 ГК РФ). А в государствах современной Азии и Африки обычное право составляет основную или значительную часть действующих норм.
Во-вторых, многие общие правила законов нуждаются в конкретизации или разъяснениях, прежде чем они находят должное воплощение в жизни. Полное и точное свое значение они получают с помощью судебной практики толкования и разъяснения законов. А именно такая практика дает наиболее правильные ориентиры для понимания и применения норм права в правовом государстве. Судебная интерпретация правовых норм гораздо предпочтительнее ведомственных инструкций органов государственного управления, зачастую ставящих бюрократические препоны на пути реализации законных прав граждан.
Наличие складывающихся или сложившихся устных обычаев, а также постепенное раскрытие содержания правовых норм судебной практикой весьма убедительно раскрывают различия между текстом статей закона и нормой как волевым установлением государства, зачастую неполно выраженным в тексте статьи, а иногда вовсе в нем не оформленным, если статья закона лишь отсылает к сложившемуся в общественном сознании обычаю.
В-третьих, названные исключения из писаного права; в свою очередь, как бы высвечивают и самую суть социального характера правовых норм.
Всякая социальная норма обретает свое действительное бытие, свою реальность, если она опирается на поддержку общества, реальных социальных сил, воля которых служит главной опорой ее воплощения в жизнь. А для этого норма должна получить поддержку населения государства, различных социальных групп, его составляющих. Поэтому и законы государства по своему социальному значению не только веления органов государства (монарха, парламента, правительства), но и выражение согласия народа либо его подчинения нормам, законодательным и иным обязательным решениям. По крайней мере такие решения должны опираться на поддержку активных социальных сил народа, достаточных для реализации государством правовых норм[216], а в современном демократическом обществе — на поддержку большинства при соблюдении интересов меньшинства.
Понимание правовых норм как результата взаимодействия различных социальных сил на конституционной основе занимает заметное место в зарубежных теориях права.
В правовой науке советского и современного переходного периодов обычно подчеркивается только волевой, властный характер правовой нормы как веления государства, охраняемого государственным принуждением[217]. Однако этим норма связывается только с волей государства и господствующего класса (или иных “правящих кругов”). Лишь в новейших изданиях получает робкое признание “значение массовидного воплощения” норм права в фактической жизнедеятельности[218]. Поддерживая эти начинания, следует прийти к выводу, что о реальном наличии и действии в обществе правовых норм нельзя судить только по записанному в законе тексту статей, пунктов или параграфов. Если предписания статьи закона не осуществляются в жизни, не воплотились в сознании и действиях людей, организаций, государственных органов, то и сама норма еще не приобрела законченного социального значения. Она, скорее, подобна призыву, зовущему к воплощению в жизнь правила поведения, провозглашенному государством в законе.
Отсюда следует, что нормы права являются общеобязательными предписаниями государства, воплощаемыми тем или иным способом (прямой угрозой принуждения или сочетанием его с удовлетворением интересов и нужд народа, демократическими или авторитарными методами руководства) в сознании и поведении большинства людей. Нормы права не только официально обязательны, но и социально обусловлены взаимодействием социальных, классовых сил для достижения нормального процесса производства, труда, быта и управления в каждом данном обществе.
Таково социальное бытие норм права в государственно организованном обществе. Для демократического государства добровольное признание правовых норм большинством должно быть обязательным условием нормального правового регулирования.
§ 3. Структура правовых норм
Все нормы права призваны регулировать общественные отношения, устанавливать порядок, которому должны следовать органы государства, граждане и организации. В наиболее общей форме действие права состоит в том, чтобы “повелевать (обязывать), запрещать, разрешать, наказывать (карать)”[219]. Поэтому нормы всегда что-либо предписывают как обязанности, должное поведение; что-либо разрешают как права и дозволения; что-либо запрещают как недозволенное или за что-либо карают как вредное и опасное для людей и общества.
Для достижения этих целей правового регулирования норма права должна прямо или косвенно, полностью или частично, детально либо обобщенно (кратко):
во-первых, выразить само содержание правила поведения;
во-вторых, определить условия, при которых содержание правовой нормы может и (или) должно осуществляться;
в-третьих, установить правовые последствия нарушения правовой нормы, невыгодные или даже ущербные, тяжкие для нарушителя.
Соответственно этим задачам строится структура правовых норм в виде трех структурных элементов деонтической логики[220], получивших в правовой науке название диспозиции, гипотезы и санкции.
Не всякая норма права сформулирована в статье (или статьях) закона в виде всех названных трех элементов. В некоторых случаях они разделены по разным статьям закона и даже по разным законам. В содержании других видов статей достаточно сформулировать два элемента, а третий — “вынести за скобки” или он просто подразумевается самим смыслом закона. Однако правовая система в целом обязана обеспечить соблюдение правовых норм, имея в наличии или в “запасе” все названные элементы.
Наиболее существенно различаются особенности структуры регулятивных норм, прямо предписывающих права и обязанности участников отношения, и норм правоохранительных (карательных), прямо закрепляющих меры ответственности за правонарушения.
1. Диспозиция правовой нормы. Регулятивные нормы права, как правило, устанавливают содержание правила поведения, которое выражается в мере (или мерах) дозволенного и должного поведения участников (сторон) регулируемого отношения. Это достигается в современном законодательстве развитых стран путем определения прав и соответствующих им обязанностей сторон отношения.
Та часть правовой нормы, которая закрепляет права и обязанности как меру поведения, именуется диспозицией.
Например, ч. 1 ст. 22 Конституции РФ гласит: “Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность” Другой пример: “По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его” (ч. 1 ст. 702 ГК РФ “Договор подряда”).
Приведенные диспозиции носят общий характер, относящийся ко многим разновидностям (видам) норм данного рода.
Так, право на свободу и личную неприкосновенность лица находит свое развитие в допущении ареста и заключения под стражу только по судебному решению, в ограничении сроков задержания (48 часов) до решения суда (ч. 2 ст. 22 Конституции), а также содержания под стражей (ст. 96 УПК РФ) и ареста только по решению суда или с санкции прокурора (ст. 11 УПК РФ).
Конкретные условия договора подряда, права и обязанности сторон предусмотрены ст. 37 ГК РФ, нормы которой регулируют права и обязанности сторон о составе участников работы, сроках выполнения и цены работы, порядке оплаты и другие права и обязанности.
Аналогичны различия родовых и видовых диспозиций в области трудового, семейного, жилищного и иных отраслей права.
Диспозиция может относиться не только непосредственно к правам и обязанностям, но и к объекту отношения, его субъектам, документам, оформляющим отношение, и иным сторонам регулируемого отношения. Однако всякая норма, предусматривающая, например, виды субъектов (товарищества, акционерные общества), виды объектов (движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, имущественные права, нематериальные блага и т. п.), виды документов (доверенность, сертификат качества и т. п.), связывает их правовое значение с правами и обязанностями сторон, участников отношения.
2. Гипотеза правовой нормы. Права и обязанности лиц и организаций, предусмотренные диспозицией правовой нормы, возникают, изменяются и прекращаются в связи с наступлением тех или иных жизненных обстоятельств, наличие которых выступает условием осуществления данной нормы.
Закрепление условий, при которых возникают, изменяются или прекращаются права и обязанности участников общественного отношения, носит название гипотезы правовой нормы.
Например, согласно ст. 27 ГК РФ “Эмансипация”: “Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет (гипотеза), мо- jjteT быть объявлен полностью дееспособным (диспозиция), если он работает по трудовому договору (продолжение гипотезы)”
Другой пример: “Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства предусмотрена неустойка (гипотеза), то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой” (диспозиция ч. 1 ст. 394 ГК РФ).
Гипотезой могут служить также любая оговорка “если иное не предусмотрено законом или договором”; перечень случаев, когда допускаются те или иные действия (например, сверхурочные работы — ст. 55 КЗоТ). Наконец, само употребление слов “по договору” означает наличие заключенного договора, предусмотренного гипотезой данной нормы (по договору купли-продажи). Определение содержания договора, его основных условий, порядок заключения договоров, их изменения и прекращения регулируются специальными нормами (подраздел “Общие положения о договоре” ГК РФ).
Примером гипотезы в нормах семейного права являются, например, условия заключения брака: “Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния” (ч. 1 ст. 10 СК) — Условие места или органа заключения брака. “Права и обязанности супругов возникают со дня регистрации заключения брака...” (ч. 2 ст. 10 СК) — условие момента возникновения брачного правоотношения.
Типичными гипотезами являются также условия заключения брака для самих вступающих в брак: во-первых, взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, а также достижение брачного возраста (ст. 12 СК); во-вторых, отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака, (ст. 14 СК), — состояние в браке одного из супругов, близкое родство, отношения усыновления, а также недееспособность, признанная судом.
В нормах административного права определяются те или иные условия осуществления полномочий государственных органов. Такие условия охватывают сферу деятельности государственного органа (управление здравоохранением, охраной порядка), его задачи, условия предоставления льгот гражданам (круг лиц, условия труда, семейное положение) в сфере образования, социального обеспечения и т. п.
Например, ст. 11 Закона РФ “Об образовании” определяет круг субъектов, могущих быть учредителями образовательного Учреждения; условия изменения состава учредителей; виды учреждений, имеющих специальные учебно-воспитательные цели.
Федеральный закон “О почтовой связи” устанавливает назначение почтовой связи, ее виды в России, договорный порядок установления тарифов и т. д.
3. Санкции правовых норм. Соблюдение норм права обеспечивается возможностью применения мер принуждения за нарушение обязанностей, предусмотренных законом, и в целях защиты интересов общества и государства, прав и свобод граждан и организаций.
Закрепленные в нормах права предписания о мерах принуждения за неисполнение обязанностей и в целях защиты прав других лиц носят название санкции правовой нормы.
Примерами санкций в гражданском праве являются: возмещение убытков за неисполнение договорных обязательств; возмещение вреда, нанесенного имуществу, здоровью или жизни потерпевшего; истребование собственником или законным владельцем имущества из чужого незаконного владения.
В трудовом праве санкциями норм являются дисциплинарные взыскания (гл. IX КЗоТ) и меры ответственности (вплоть до уголовной) за нарушения законодательства о труде должностными лицами и работодателями (ст. 249 КЗоТ); так называемая “материальная ответственность” за вред, причиненный во время работы.
В административном праве типичными санкциями являются штрафы, исправительные работы, административный арест, отстранение от должности, а также особые случаи прекращения государственной службы (ст. 21 Федерального закона “Об основах государственной службы”). Санкциями норм уголовного права служат меры наказания за совершение преступлений, предусмотренные УК РФ.
В комплексных отраслях и массивах права (земельном, природоохранительном, транспортном и др.) меры принуждения (ответственности) сочетают гражданско-правовые санкции (возмещение вреда), административные взыскания (штрафы, лишение прав на охоту, приостановление и прекращение деятельности предприятий), уголовно-правовые наказания, предусмотренные УК РФ.
Далеко не все статьи или пункты того или иного нормативного акта содержат все названные элементы структуры правовой нормы.
Так, статьи особенной части уголовного кодекса указывают только вид преступного деяния и его признаки, а также вид и меру уголовного наказания за его совершение. Само правило поведения, а именно запрет всякого преступления, вытекает из включения статьи о нем (или ее части) в Уголовный кодекс. Например, ч. 1 ст. 109 УК РФ устанавливает: “Причинение смерти по неосторожности наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок” Содержание самого правила — “Причинение смерти по неосторожности запрещается под страхом уголовного наказания” — здесь не формулируется, поскольку это вытекает из общей части Уголовного кодекса для всех статей его особенной части (ст. 2, 14 и последующие статьи УК РФ).
Отсюда вытекает построение статей особенной части УК по структуре “правоохранительных”, или “карательных”, норм: “за такое-то правонарушение — такое-то наказание (или взыскание)”.
Аналогична и структура статей особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), поскольку данный закон также исходит из задач охраны общества и государства и предупреждения правонарушений. Структура карательных (правоохранительных) норм присуща также нормам о нарушении таможенных правил и ответственности за них (гл. 38 и 39 Таможенного кодекса РФ), другим видам административной ответственности за нарушение правил санитарной, противопожарной безопасности, правил пользования электроэнергией, предусмотренным КоАП РФ.
Статьи Гражданского, Трудового, Земельного, Семейного и других кодексов и законов, напротив, содержат главным образом развернутую регламентацию прав и обязанностей участников отношений и условий, при которых они действуют, т. е. диспозиций и гипотез соответствующих норм.
Подобные нормы носят позитивно-регулятивный характер, т. е. направлены на детальное регулирование прав и обязанностей участников отношений, других позитивных предписаний о содержании дозволений, обязанностей или запретов, а также условий их возникновения, изменения или прекращения. Санкции к этим нормам обычно выделены в особые статьи, главы и даже разделы названных кодексов или других актов. Примером могут служить статьи КЗоТ о взысканиях за нарушение трудовой дисциплины и норм законодательства о труде; статьи ГК о защите права собственности, о взыскании убытков за невыполнение обязательств, о возмещении за причиненный вред, которые были приведены ранее.
В юридической литературе высказываются мнения о том, что регулятивные нормы состоят из гипотезы и диспозиции, а правоохранительные — из диспозиции и санкции[221].
Действительно, статьи особенной части УК содержат только две части, что всеми признано в науке и практике уголовного права. Но ведь есть еще и общая часть УК, которая определяет преступление как “виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания” (ч. 1 ст. 14). И эти слова “запрещенное...” прямо относятся к каждой статье особенной части УК. Любую из них следует читать (мысленно): “Убийство, т. е. умышленное причинение смерти другому человеку [...как запрещенное настоящим Кодексом...], наказывается...” (ст. 105 УК). И именно потому, что оно закреплено и строго формально определено законом, наказание за убийство является не местью, не расправой, а цивилизованной формой законного принуждения, мерой правовой, а не произвольной ответственности.
Этот пример говорит о том, что в правоохранительной норме есть не только “диспозиция”[222] (а точнее — гипотеза, т. е. описание вида преступления) и санкция, но и запрет под угрозой наказания. А запрещение есть не что иное, как содержание правила: “запрещается!” (т. е. диспозиция).
С другой стороны, о наличии санкций в нормах “регулятивных” свидетельствуют часто встречающиеся прямые специальные санкции (наряду с общими мерами, о которых речь шла ранее). Например, наряду со ст. 167 ГК РФ, устанавливающей общие правила недействительности сделки (“каждая сторона должна возвратить другой все полученное...”), ст. 169 ГК устанавливает взыскание в доход государства полученного по сделке. Таковы также правила о правах покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества (ст. 503 ГК); о возмещении разницы в цене при замене товара (ст. 504 ГК) и многие другие. Сами же общие санкции, например о защите права собственности (ст. 301, 304, 305 ГК) всего лишь рационально выделены из статей о содержании права собственности, его приобретении и прекращении, но вовсе не изолированы от них: правила защиты права собственности (виндикация, негаторные требования об устранении всяких нарушений права собственника) применимы к нарушению всех “регулятивных” норм о праве собственности. А без этого статьи, выражающие диспозиции этих норм, не имели бы юридической защиты.
Все это можно иллюстрировать на примерах почти всех институтов гражданского, трудового, семейного и других отраслей права.
§ 4. Виды правовых норм
Нормы права весьма разнообразны по различным своим качествам и свойствам. Среди этих свойств важнейшими критериями классификации норм права являются следующие.
1. Нормы права различаются прежде всего по тем видам общественных отношений, которые они регулируют. Такое деление видов правовых норм чрезвычайно важно для практики законотворчества и применения права. Оно совпадает с построением системы права[223].
2. По роли (функциям) норм в механизме правового регулирования различаются, во-первых, нормы общего и конкретного (видового и родового) содержания.
Нормы конкретного содержания — это большинство правовых норм, непосредственно устанавливающих права и обязанности сторон, условия их реализации и т. п., содержание отдельных видов правил поведения: права и обязанности участников обязательства купли-продажи, имущественного подряда, виды землепользования; порядок предоставления отпусков работникам предприятий и учреждений; виды преступлений или административных проступков и соответствующие им меры наказания или взыскания (преступления против собственности, против личности и наказания за них; виды нарушений правил дорожного движения и взысканий за них). Такие нормы охватывают отдельные виды, регулируемые правом.
Особое значение имеют так называемые специальные нормы (jus singulare), предусматривающие определенные законом исключения (изъятия) из общего правила для особых случаев. Примером могут служить особые условия поставки товаров для государственных нужд, к которым применяются специальные правила, предусмотренные § 4 гл. 30 ГК; льготы для инвалидов и участников войны; льготы для работников в условиях Крайнего Севера и т. п.
Более общие (родовые), но тем не менее конкретные правила для данного рода отношений имеют, например, нормы, определяющие понятия и основания возникновения отдельных институтов права: понятие и стороны обязательств в гражданском праве (ст. 307, 308 ГК), понятие трудового договора и его содержания в трудовом праве (ст. 15 КЗоТ); виды наказаний в общей части УК в уголовном праве (ст. 21 УК).
3. От конкретных норм отличаются нормы всеобщего содержания. Наиболее общее содержание имеют нормы, устанавливающие исходные начала (принципы) или общие определения для всего национального права в целом или для отрасли права. К общеправовым нормам-принципам относятся прежде всего нормы гл. I Конституции РФ “Основы конституционного строя”, определяющие понятие и наименование Российской Федерации как демократического, федеративного, правового государства с республиканской формой правления (п. 1 ст. 1); о признании человека, его прав и свобод высшей ценностью и об обязанностях государства по отношению к ним (ст. 2); о народовластии и формах его выражения (ст. 3); о разделении властей (ст. 10) и др.
Конституция РФ определяет также такие исходные понятия, как суверенитет Российской Федерации и верховенство Конституции и законов РФ на всей ее территории (ст. 4), принципы федеративного устройства (ст. 5), принципы социального государства (ст. 7) и признания свободы экономической деятельности и форм собственности (ст. 8) и т. п.
Общие принципы и положения закрепляются также в отраслевых кодексах и других законах применительно к каждой отрасли права. Например, гл. I КЗоТ определяет задачи и сферу действия законов о труде, устанавливающих уровень оплаты труда и всемерную охрану трудовых прав работников; основные трудовые права и обязанности работников; недействительность условий договоров о труде, ухудшающих положение работников по сравнению с законодательством о труде.
Аналогично (применительно к своей сфере регулирования) определяются основные начала гражданского законодательства (гл. I ГК), общие положения УК РФ, других отраслей права.
Нормы, устанавливающие исходные начала правового регулирования и учреждающие принципы, институты или структуру органов государства, носят название учредительных, или отправных.
Нормы, устанавливающие легальные определения тех или иных правовых понятий, носят название дефинитивных.
Как отправные (учредительные), так и дефинитивные нормы не формулируют деталей правового регулирования, но они подлежат обязательному учету при применении любых соответствующих им конкретных норм права в целом либо его отдельных отраслей. Так, ч. 2 ст. 16 Конституции РФ прямо устанавливает: “Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации”. Глава I УК РФ прямо закрепляет задачи и основные принципы уголовной ответственности (ст. 2—8 УК). Статья 8 ГК предусматривает, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом или иными правовыми актами, и из тех действий, которые хотя и не предусмотрены законом или иным актом, “но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности” (ч. 1 ст. 8 ГК).
Таким образом, в некоторых случаях общие начала, принципы права вытекают как бы из всей совокупности, общего смысла норм Конституции или кодекса для отдельной отрасли права.
По степени категоричности предписаний различаются императивные и диспозитивные нормы.
3. Императивные нормы — это нормы категорические, не допускающие отступлений от правила, предписанного нормой. Они характерны прежде всего для норм публично-правового регулирования, т. е. для конституционного, административного, уголовного, судебно-процессуального, финансового права.
Императивными могут быть и предписания норм гражданского или трудового права, например: “Трудовой договор заключается в письменной форме” (ч. 1 ст. 18 КЗоТ); “Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации” (ч. 2 ст. 51 ГК); нормы о признании мнимых, притворных или противоправных сделок ничтожными (§ 2 гл. 9 ГК).
Диспозитивные нормы, характерные для частного (гражданского, трудового, семейного) права, допускают регулирование отношения по соглашению сторон и устанавливают правило лишь на случай отсутствия соглашения.
Таким нормам присуща формула: “если иное не установлено договором” Например: “Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок” (ч. 2 ст. 610 ГК). Такие нормы предоставляют широкую возможность сторонам договора самим определять условия обязательства.
4. В теории и законодательстве различаются и другие виды правовых норм.
Например, различаются нормы по форме выражения диспозиции.
Любая норма по своему содержанию устанавливает права одной стороны отношения и обязанности другой. Поэтому каждая норма носит предоставительно-обязывающий характер (предоставляет права и возлагает обязанности). Но по форме выражения нормы о праве собственности, праве на отдых, на труд являются управомочивающими, чем подчеркивается их главное социальное назначение. Нормы об обязанности платить налоги, соблюдать законы и т. п. являются обязывающими, устанавливая обязанности совершать активные действия.
Нормы, устанавливающие запрещение действия, называются запретительными. Ими являются нормы, устанавливающие уголовную, административную или дисциплинарную ответственности за правонарушения, а также нормы, запрещающие нарушение экологических, санитарных, ветеринарных, противопожарных и иных правил.
Наконец, по форме выражения можно выделить также поощрительные нормы, устанавливающие меры поощрения за успешный труд, награды за доблесть, героизм, примерное поведение и т. п.
По степени определенности различаются абсолютно-определенные, относительно-определенные (альтернативные) и бланкетные нормы права. Названный признак может относиться к различным структурным элементам нормы: гипотезе, диспозиции или санкции. Поэтому, по существу, следует различать, например, нормы с абсолютно-определенной диспозицией (“пенсии не подлежат обложению налогами”); нормы с относительно-определенной гипотезой (“условия договора поставки могут устанавливаться сторонами в пределах настоящих правил”) либо альтернативной санкцией (“...наказывается лишением свободы до трех лет или ограничением свободы на тот же срок”).
Бланкетными, т. е. прямо не содержащими конкретного правила поведения, могут быть только диспозиции (например, нормы об уголовной, административной или дисциплинарной ответственности “за нарушение правил торговли”, “за нарушение правил техники безопасности”). Такие нормы, по существу, не устанавливают содержания правила, а предусматривают наличие других норм, содержащихся нередко в иных нормативных правовых актах. Практика бланкетных норм всегда чревата возможностью неопределенности и произвола в правовом регулировании.
Глава 3. Источники права
§ 1. Понятие и система источников права
В системе социальных регуляторов нормы права выделяются общеобязательным характером своих предписаний. Эта особенность правовых норм обусловлена формой их выражения. Действительно, сколь бы четкими и ясными ни были их предписания, они останутся лишь упражнениями в области логики или грамматики, пока не примут форму закона, указа, декрета и т. д. В общей теории права формы выражения и закрепления правовых норм определяются как источники права в юридическом, формальном смысле. Такая трактовка источника права в известной мере условна, поскольку данное понятие может иметь также иное значение. Так, под источником права можно понимать социальные факторы, определяющие содержание правовых норм; государство как непосредственную силу, творящую право; источники информации о праве (законодательные памятники, учебники по праву и т. д.). Приведенное выше определение юридического источника права есть результат известного “джентльменского соглашения” между юристами (как практиками, так и учеными), призванного избежать многозначности этого понятия. Чтобы подчеркнуть его формально-юридический смысл, обычно понятие “источники права” уточняют в скобках понятием “формы”
В системе категорий теории права понятие “источники права” выполняет двойственную функцию. Так, с одной стороны, оно позволяет отграничить источники права от социальных регуляторов, которые таковыми не являются. Всякая правовая система определяет в своей доктрине и законодательстве, какие источники (формы) права признаются действующими. С другой стороны, данное понятие раскрывает место того или иного источника права в системе источников права, соотношение его юридической силы с юридической силой других источников права. В рамках правовой системы источники права, выстроенные по принципу их иерархической соподчинен- ности, образуют систему источников права. Ее вертикальная структура строится таким образом, что предписания нисходящих источников права издаются на основе и во исполнение норм вышестоящих источников и любая норма в рамках этой системы должна соответствовать нормам источника высшей Юридической силы, замыкающего эту вертикаль. Возможные коллизии между правовыми нормами решаются с позиции системности. Доктриной и законодательством в рамках каждой правовой системы (семьи) наработаны с этой целью специальные приемы юридической техники.
В современном государстве вертикальная структура системы источников права, как правило, воспроизводит его структуру. Поэтому юридическая сила акта обычно соответствует месту издавшего его органа в системе государственных органов. А высшей юридической силой обладает в большинстве государств писаная конституция. В то же время в традиционных правовых системах источник права высшей юридической силы имеет, как правило, надгосударственный характер (например, священная книга ислама — Коран в мусульманском праве).
Четкая соподчиненность источников права, законодательно закрепленная и обеспеченная с помощью юридических механизмов, имеет важное социально-политическое значение. В самом деле, единство системы источников права означает единство выраженной в законе верховной государственной воли, единство структуры государства. И наоборот: деформация этой системы отражает слабость государственной власти, проявление центробежных тенденций (это характерно для современной России), нарушения законности как элемент политики государства (вспомним репрессии 30-х годов в СССР) и т. д.
Различия в формах (источниках) права обусловлены различными факторами (историческими, политическими и т. д.), в том числе различиями в способах правотворчества. Так, обычай как источник права формируется “снизу”, из практики реальных правоотношений. Все остальные источники права возникают, как правило, “сверху”, по воле государства либо надгосударственных сил (богов, мудрецов, мифических героев и т. д.). Последнее характерно для традиционного права, для которого типичен высокий удельный вес норм негосударственного происхождения. В ходе исторической эволюции такие источники права постепенно вытесняются нормами позитивного права. Вместе с тем новейшие тенденции в развитии источников права свидетельствуют об активной интеграции в национальные правовые системы (и системы источников права) норм международного права.
При классификации источников европейского права в ее основу можно положить структуру правовой системы. Эта структура, как известно, включает доктринальный, нормативный и социологический элементы (“пласты”, уровни и т. д.) На доктринальном уровне правовой системы формируются такие источники права, как доктрина и принципы права. В рамках нормативного ее “пласта” — нормативный акт, а в сфере правореализации — правовой прецедент, судебная практика, нормативный договор, обычай. Их рассмотрение мы построим на основе сочетания исторического и логического подходов: от обычая — через судебный прецедент и судебную практику — к закону, а от него — к таким источникам права, как доктрина, принципы права, нормативный договор.
§ 2. Обычай
При рассмотрении обычая как источника права следует отметить неоднозначность понятия “обычай” Этому существует, как минимум, два объяснения. Так, с одной стороны, речь идет о древнейшем источнике права, сохранившем свое действие до наших дней. Естественно, что на разных этапах истории менялись понимание обычая, механизм и сфера его действия и т. д. С другой стороны, в современной правовой науке нет единого понимания обычая как источника права и даже в правовой доктрине одной и той же страны встречаются порой разные его определения. В отечественной правовой литературе под обычаем понимают правило поведения, сложившееся вследствие фактического его применения в течение длительного времени. Кроме того, в досоветской литературе справедливо отмечалась обусловленность обычая характером народных воззрений[224].
Отечественная доктрина подразделяет обычаи на неправовые и правовые. Неправовой обычай — это обычай, который либо действует в обществе, где право исторически еще не сложилось (обычай родового общества), либо, действуя в государственно организованном обществе или обществе, переходном к нему, регулирует неправовую социальную сферу (например, сферу этикета). Под правовым обычаем понимается обычай, получивший санкцию государства и признаваемый вследствие этого источником права.
Такое понимание, вполне приемлемое при взгляде на проблему с позиций российского права, не раскрывает, однако, ни исторической эволюции правового обычая, ни различного понимания его в современных правовых системах. С точки зрения исторической за рамками такого подхода оказывается эпоха обычного права, или эпоха раннеклассовых обществ. Последние, сочетая доклассовые и классовые институты, наложили свой отпечаток на природу и механизм действия обычая. Так, с одной стороны, обычай предстает здесь как нерукотворный социальный регулятор, слитный с иными социальными нормами и отождествляемый с “мировым порядком” Отсюда его непререкаемость. Для признания и защиты обычая не требуется санкции государства. Напротив, государственные предписания производны от обычая либо равны ему по силе. С другой стороны, обычай — через разрешения и запреты — не только выражает коллективный интерес традиционных общностей, но и во все большей мере закрепляет субъективные права и обязанности индивидов.
С развитием государства соотношение между обычаем и законом, как правило, меняется в пользу последнего.
Устная форма обычая порождала известные трудности при доказывании в суде факта его существования. Поэтому со временем обычаям (точнее — известной их части) придается писаная форма. В одних случаях запись обычаев проводилась без санкции государства (“варварские правды”), в других — по указанию королевских властей (как, например, во Франции в XVI в. при Карле VII). Обычаи сохраняли при этом значение источника права. Однако в случаях, когда норма обычая включалась в законодательный текст (Законы XII таблиц), она изменяла свою форму и утрачивала качества самостоятельного источника права.
Отмеченная выше многозначность понятия “обычай” проявляется прежде всего в использовании различных понятий для обозначения обычая как источника права. Если в России это понятие “правовой обычай”, то в Англии, например, — понятие “обычай” Согласно российской доктрине, санкционирование обычая, т. е. превращение его в правовой, осуществляется путем отсылки к нему в норме закона и (или) путем решения на его основе судебного дела. В то же время в Англии местный обычай считается правовым уже в силу того факта, что он действует “с незапамятных времен” Поэтому определение “правовой” применительно к нему обычно не употребляется.
В отечественной доктрине и практике до принятия Гражданского кодекса РФ 1994 г. разновидностью обычая рассматривалось обыкновение. Оно понималось как неправовой обычай, действующий в сфере, регулируемой правом. В то же время в ряде афро-азиатских развивающихся стран обыкновение, как и правовой обычай, признается источником права. Гражданский кодекс РФ 1994 г. вместо обыкновения ввел новое понятие — “обычай делового оборота”. Последний признается источником права.
Видный французский компаративист Р. Давид, исходя из роли обычаев в правовой системе, выделяет три их разновидности. Так, обычаи secundum legem (в дополнение к закону), играющие наиболее важную роль, служат уяснению смысла тех терминов и фраз закона или судебного решения, которые употреблены в особом, отличном от общепринятого значении (злоупотребление правом, разумная цена и т. д.). Обычаи praeter legem (кроме закона), применяющиеся при пробелах в праве, а также contra legem и adversus legem (против закона), встречающиеся при коллизии закона и обычая, играют незначительную роль в правовой системе.
Неоднозначно и место обычая в системе источников права. Здесь возможны: а) полное его отрицание (ст. 7 французского Гражданского кодекса, советское законодательство, допускавшее лишь два случая его применения); б) признание обычая в качестве субсидиарного источника права (Гражданский кодекс РФ); в) признание за обычаем силы, равной закону и даже превосходящей его. Последнее типично для стран, где существует дуализм гражданского и торгового права (Франция, ФРГ, Япония и т. д.). При возникновении спора в сфере торговых отношений обычай обладает здесь приоритетом перед гражданским законом. В ряде стран (Англия, США, ФРГ) обычай может конкурировать с законом и в других сферах.
Особенно велика его роль в развивающихся странах Азии, Африки и Океании. В силу разнотипного характера правовых систем этих стран обычай может трактоваться здесь как в традиционном, так и в европейском смысле — в его романо-германской или англосаксонской разновидности. Поэтому при одной и той же форме внешнего выражения он может быть интегральной частью одной из (под)систем традиционного права (обычного, индусского либо мусульманского) или “национального” права.
§ 3. Судебный прецедент и судебная практика
Судебный прецедент — наиболее своеобразный источник права англосаксонской правовой системы. Его своеобразие состоит не только в специфике правила прецедента, но также в том, что современное его содержание в Англии существенно отличается от “классического” его аналога, а его интерпретация в других англоязычных странах не во всем соответствует английскому образцу. Суть доктрины прецедента, или stare decisis, — в обязанности судов следовать решениям судов более высокого уровня, а также в связанности апелляционных судов своими прежними решениями[225].
Последнее правило применительно к английской Палате лордов уже не имеет силы.
Условием действия системы прецедентов является наличие источников информации о прецедентах, т. е. судебных отчетов (law reports).
Доктрина прецедента обусловливает особую роль суда в формировании и развитии права. Если на Европейском континенте судьи лишь применяют правовые нормы, то в условиях прецедентного, или общего, права (common law, judge-made law), вынося решение или приговор, они одновременно объявляют или издают право, т. е. выступают в роли законодателей. При этом в одном случае они лишь ссылаются на уже существующее решение суда (деклараторный прецедент), в других — создают новую норму права (креативный прецедент). Обязательным в судебном решении является лишь та его часть, которая называется ratio decidendi. Это принцип, лежащий в основе решения. Данному принципу в дальнейшем и будут следовать судьи. Другой составной частью судебного решения является obiter dicta (попутно сказанное), т. е. умозаключение, либо основанное на факте, существование которого не было предметом рассмотрения суда, либо хотя и основанное на установленных по делу фактах, но не составляющее сути решения[226]. Для английского права характерно деление прецедентов на обязательные, или связывающие, и убедительные. Если ratio decidendi является прецедентом, то obiter dicta может им стать лишь в силу своей убедительности. Вместе с тем отграничение ratio decidendi от obiter dicta представляет собой проблему, поскольку “методология их выделения до конца не разработана”[227].
Говоря о соотношении прецедента и закона, следует учитывать, по меньшей мере, три фактора. Во-первых, утрату прецедентом со второй половины XIX в. своего верховенства в правовой системе. Во-вторых, неоднозначность взаимоотношений закона и прецедента, ибо приоритетом обладает и закон по отношению к прецеденту, поскольку последний может быть отменен нормой закона, и судебный прецедент по отношению к закону, что вытекает из обязанности суда толковать акты парламента. При этом лишь нормы законодательства, получившие судебное истолкование, считаются частью общего права. В итоге при рассмотрении дел судьи применяют не норму закона как таковую, а норму, возникшую при ее толковании. Наконец, третий фактор — это в известном смысле надгосударственный характер общего права, действующего в большой группе англоязычных стран. Вследствие этого судьи в известных случаях обязаны применять иностранные прецеденты, что вступает в конфликт с принципом верховенства юрисдикции национальных судов и верховенства конституции в системе источников права. Вместе с тем, будучи санкционированным применившим его судом, судебный прецедент перестает быть иностранным и становится источником национального права[228].
В других (кроме Англии) странах общего права судебный прецедент действует лишь на определенную отграничивающую дату. Так, например, согласно ордонансу от 14 июля 1874 г., в английской колонии Золотой Берег (Гана) вводились общее право, справедливость и статуты общего характера, которые действовали на момент издания ордонанса. Аналогичный подход существовал и в других английских колониях.
Неодинакова и степень строгости в следовании правилу прецедента. Так, в США Верховный суд страны и апелляционные суды штатов не считают себя безусловно связанными своими прежними решениями. В англоязычных развивающихся странах отступления от принципа stare decisis стали обычными уже в колониальный период. В частности, на английских территориях в странах Азии и Африки с их значительным “пластом” традиционных и полутрадиционных структур английское право (и судебный прецедент как важнейший его источник) действовало обычно лишь в той мере, в какой позволяли местные условия. В этих странах существует трехчленное деление прецедентов на связывающие, в высокой степени убедительные и убедительные.
В странах романо-германского права судебная практика, или “совокупность принципиальных решений верховных судебных инстанций по .вопросам правоприменения”, не рассматривается в качестве источника права[229]. Однако правотворческая роль судебной практики обусловлена здесь не столько характером правовой доктрины, сколько ее эволюцией в ходе двадцатого столетия. В итоге судебная практика “все чаще признается самостоятельным источником права, приравниваемым по своему правотворческому характеру к закону”[230].
Противоречивость ситуации отмечают и западноевропейские авторы, признающие фактическое превращение судебной практики в этих странах в источник права. Таким образом, здесь складывается парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны, не действует доктрина судебного прецедента, а с другой — решения высших судов нередко считаются источником права, равным закону и даже превосходящим его[231].
§ 4. Нормативно-правовые акты
Понятие “нормативно-правовые акты” включает широкий комплекс актов правотворчества, издаваемых органами законодательной, исполнительной, а нередко и судебной власти. Нормативно-правовыми они называются потому, что содержат нормы права. По существу, данное понятие является синонимом понятия “законодательство” в широком смысле. Это основной источник права в странах романо-германской правовой семьи. Немаловажную роль играют нормативно-правовые акты и в странах англо-американского права. Столь важное значение нормативно-правовых актов в правовом регулировании объясняется рядом их существенных преимуществ в сравнении с другими источниками права: это, в частности, общий характер содержащихся в них предписаний, рассчитанных на многократное применение, возможность охвата широких сфер общественной жизни, относительная быстрота процедуры их принятия, изменения или отмены, высокая техника систематизации и кодификации нормативно-правовых актов
Нормативно-правовые акты издаются органами государства лишь в определенной форме и в рамках компетенции правотворческого органа. Отсюда юридическая сила нормативного акта определяется местом в системе органов государства того органа, от имени которого он издан. В свою очередь, в иерархии нормативно-правовых актов отражается структура государства. В федеративных государствах в ней преломляется федеративная форма государственного устройства.
Советская правовая доктрина рассматривала нормативно-правовые акты в качестве основных и даже исключительных форм (источников) права. В условиях тоталитарного политического режима понятие “нормативно-правовые акты” невольно превращалось в ширму, скрывавшую несовместимость верховенства закона с командно-административной системой и диктатом правящей партии.
Представляя важнейшую составляющую системы источников права, нормативно-правовые акты образуют в своей совокупности сложную структуру, построенную как по горизонтальному (отраслевому), так и по вертикальному (иерархическому) принципу. Хотя принципы построения системы нормативных актов в общем и целом одинаковы (иерархичность, соподчиненность, как правило, верховенство закона), однако едва ли возможно дать единую универсальную классификацию нормативно-правовых актов. Этому видится, по меньшей мере, два объяснения. Во-первых, новые тенденции “на стыке” международного и национального права. Они проявляются в признании общепризнанных принципов и норм международного права составной частью права национального, в конституционном закреплении примата норм международного права перед правом внутригосударственным в ряде стран Западной Европы. В частности, по этой причине принцип верховенства закона приобретает ограниченное толкование. Указанная тенденция нашла отражение и в Конституции Российской Федерации, однако недостаточная четкость конституционных формулировок привела к дискуссии в научной литературе и к взаимоисключающим выводам из анализа одних и тех же норм[232].
Другое объяснение видится в доктринальных и структурных различиях между правовыми системами, а порой и в рамках правовых семей. Так, не является универсальной форма конституций. Они могут быть писаными и неписаными (при известной условности этого деления), иметь форму моноконституционного акта и нескольких основных законов (Швеция, Финляндия) и т. д. Существенно различаются концепции закона. Так, в странах англосаксонского права понятие закона имеет широкий и узкий смысл. В первом случае под ним понимают любую писаную или неписаную норму, подлежащую защите в судебном порядке, во втором — собственно акт парламента. Термином “законодательство” здесь охватываются нормативные акты общегосударственных органов (правительства, министров), принятые на основе делегирования им парламентом Полномочий по тому или иному вопросу (“делегированное законодательство”), а также подзаконные акты (by-laws) некоторых местных органов[233].
В странах романо-германского права различают понятия “закон в материальном смысле”, т. е. всякую норму, исходящую от государства, независимо от форм ее изложения, и “закон в формальном смысле” В последнем случае речь идет о принятом в особом порядке акте высшего представительного органа государственной власти, обладающем высшей юридической силой.
В Великобритании закон (статут) может быть принят парламентом по любому вопросу. В противоположность этому французский парламент не может вторгаться при законотворчестве в сферу регламентарной (правительственной) власти. В Российской Федерации, как и в бывшем Советском Союзе, закон регулирует наиболее важные вопросы общественной и государственной жизни и т. д.
Неодинаковы и виды законов. В Великобритании, например, это парламентские акты, делегированное законодательство и автономное законодательство[234].
В странах романо-германского права обычно различают конституционные законы, органические законы, программные законы, законы-рамки, законы-декреты, чрезвычайные законы. Кроме того, в странах — членах Европейского Союза приравниваются к закону и даже обладают приоритетом перед ним акты ЕС, в частности постановления, директивы, решения, принимаемые органами Союза.
В Российской Федерации издаются федеральные законы о поправках к Конституции, федеральные конституционные законы, федеральные законы и законы субъектов Федерации. При этом федеральные конституционные законы принимаются лишь по вопросам, предусмотренным Конституцией Российской Федерации (п. 1 ст. 108 Конституции).
Федеральные законы и постановления палат Федерального Собрания издаются с соблюдением процедуры, предусмотренной Конституцией и регламентами, по вопросам исключительного ведения федеральных органов власти, а также совместного ведения Российской Федерации и субъектов Федерации.
Законы в Российской Федерации могут приниматься также посредством референдума.
Федеральные законы подразделяются на текущие и кодификационные.
Среди нормативных актов подзаконного характера на первом месте стоят нормативные указы Президента Российской федерации. Они обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации и не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам (ст. 90 Конституции). Ненормативные указы президента не являются источниками права.
Правительство Российской Федерации, осуществляя исполнительную власть, издает акты нормативного характера в форме постановлений. Они обязательны к исполнению в Российской Федерации. В случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным законам и указам Президента Российской Федерации они могут быть отменены Президентом Российской Федерации (ст. 115 Конституции РФ).
Министерства (государственные комитеты) и ведомства как центральные органы исполнительной власти издают акты нормативного характера в рамках полномочий, определяемых законами, актами Президента и Правительства. Такие акты носят названия инструкций и постановлений. Они могут быть отменены Правительством Российской Федерации.
Соответствующие ветви власти субъектов Федерации издают нормативные акты по вопросам совместного с Федерацией ведения, а также своего собственного ведения. При этом в случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным по вопросу его собственного ведения, действует нормативный правовой акт субъекта РФ (ст. 76 Конституции РФ).
Нормативно-правовые акты (обычно в форме решений) издаются также органами местного самоуправления, местных администраций, а также администрацией объединений, предприятий, учреждений (так называемое локальное правотворчество, например, правила внутреннего трудового распорядка).
§ 5. Другие незаконодательные источники права
В ряде правовых систем к числу источников права относится также правовая доктрина, т. е. мнения авторитетных ученых по вопросам права. Так, мнения юристов — jus respondendi — были источником права в Древнем Риме.
Важную роль сыграла правовая доктрина в становлении и развитии мусульманского права. Сегодня она является основным источником этого права.
В странах общего права судьи нередко обосновывают свои решения ссылками на труды английских ученых. Такие труды, а также юридические учебные руководства называются в этих странах литературными источниками права[235]. Использование доктрины в качестве основы судебного решения предполагает отсутствие при рассмотрении дела необходимой нормы закона, судебного прецедента или обычая. Поэтому роль доктрины более значительна на тех стадиях развития права, когда государственное нормотворчество еще не получило достаточного развития. И сегодня она остается важной. Так, по мнению видного французского компаративиста Р. Давида, “соотношение законодательных и доктринальных источников права в нашу эпоху, по сравнению со старым правом, может показаться иным, но современное право по-прежнему является правом юристов, как этого требует традиция”[236].
Нормативный договор, т. е. договор, содержащий нормы права, применяется в качестве источника права главным образом в трех сферах. Это прежде всего международное публичное право, где договоры между государствами всегда являются нормативными. Международный договор, порождающий правовые отношения внутри страны, выступает либо как непосредственный источник внутригосударственного права, либо как основание для издания участвующими в нем государствами соответствующих законов. Это, далее, конституционное (государственное) право, источники которого включают помимо прочего такие разновидности нормативного договора, как федеративный договор (такой Договор от 31 марта 1992 г. входит составной частью в Конституцию РФ 1993 г.), договор о разграничении полномочий между федерацией и ее субъектами. Договоры такого вида широко распространены в современной российской практике. Третьей сферой является трудовое право, к источникам которого относятся коллективные договоры и коллективные соглашения. Советская доктрина признавала в качестве источника права коллективный договор, заключаемый на основе закона между местным комитетом профсоюза и администрацией предприятия или учреждения. В современной России, как и во многих зарубежных странах, в качестве источника права признаются, кроме того, коллективные соглашения, заключаемые между профсоюзами наемных работников и предпринимателями, а также представителями государства в масштабах экономической отрасли или региона.
Специфические разновидности нормативного договора получили распространение в сфере частного права ряда стран Запада. Это, в частности, общие условия бизнеса, вводимые коммерческими организациями; нормы о мировом соглашении и третейском суде, принимаемые торговыми палатами и другими институтами; определения коммерческих терминов, даваемые совместно авиационными и судоходными компаниями или банками, и т. д. Рядом профессиональных ассоциаций принимаются кодексы поведения или кодексы профессиональной этики. Не имея санкции государства, они обладают тем не менее обязательной силой. В частности, кодексы профессиональной этики действуют в рамках ассоциаций судей Англии и США. При этом первый из них регулирует отдельные аспекты поведения судьи в уголовном процессе. По мнению Р. Давида, вопрос о возможности признания их источниками права есть лишь вопрос терминологии[237].
Принципы права являются источником права во многих правовых системах. Вместе с тем сегодня отсутствует единая концепция принципов права как источника права. Неодинакова также их роль в правовой системе. В качестве принципов права в истории права, а также в рамках правовых семей выступают божественная воля, разум, справедливость, неотчуждаемые права человека как высшая ценность и т. д. С точки зрения существующих здесь различий можно выделить, по крайней мере, три основных подхода к данной проблеме: традиционный, романо-германский и англосаксонский.
Традиционный подход отличают две особенности. С одной стороны, здесь еще нет понятия “принципы права”, хотя существует комплекс основополагающих идей, которые фактически ими являются. Это прежде всего идеи о вечности, неизменности и универсальности норм традиционного права. С другой стороны, отражая начальный процесс формирования права, эти идеи с развитием общества нередко нуждаются в корректировке. Поэтому развитие систем традиционного права (прежде всего индусского и мусульманского) состояло в разработке способов отступления от этих основ при формальном сохранении их незыблемости. Появление различных течений и школ в индусском и мусульманском праве обусловлено прежде всего различиями в степени допустимости и “технике” такого отступления. Сегодня в ряде развивающихся стран мусульманского Востока (Египет, Йемен, Иран и т. д.) шариат либо его принципы считаются основным источником законодательства. Вместе с тем в разных странах это толкуется неодинаково — от закрепления приоритета норм шариата перед нормами законодательства до признания лишь желательности их включения в систему позитивного права и т. д.
В странах романо-германского права принципы права обычно считаются источником права. Однако признание их в этом качестве предполагает ряд необходимых условий. Это, в частности, правопонимание, исходящее из дуализма позитивного и над- или допозитивного права, признание пробельности позитивного права и решение дел при пробелах на основе аналогии права. Именно такую ситуацию предполагают гражданские кодексы стран указанной правовой семьи, признающие принципы права в качестве источника права.
Вместе с тем здесь наблюдается тенденция расширения сферы применения принципов права. Она объясняется тем, что во Франции, например, общие принципы права рассматриваются сегодня как некое высшее право, своеобразный аналог естественного права. Поэтому они применяются не только при пробелах в праве, но и при осуществлении конституционного контроля, на их основе возможно также дополнение и реформирование законодательства. Аналогичный подход существует в ФРГ, где надпозитивная справедливость является основой для решения дела не только при пробелах, но и в случаях, когда буквальное толкование норм закона приводит к неприемлемому решению, например идет вразрез с намерениями законодателя[238].
Своеобразную роль принципы права играли в советской правовой системе. В силу господства в ней узконормативного понимания права они не считались источником права, хотя признавалась их важная роль в раскрытии природы права, его идейных основ и т. д. Общие начала (т. е. принципы права) и смысл законодательства здесь также признавались в качестве основы решения дел при аналогии права. Однако в условиях отождествления права и закона такие законодательные формулы приобретали принципиально иной смысл, чем в других романо-германских странах. Ведь и общие начала, и смысл законодательства следовало искать в самом законодательстве, а не в абстрактной “общей идее” Вместе с тем косвенно советская правовая доктрина признавала, что указанные принципы выходят за рамки нормативного “пласта” права, разделяя их на принципы собственно права и правовые принципы (принципы правосознания, принципы общества, закрепленные в правовой форме, и т. д.)[239].
Английскому праву в силу его специфики неизвестно понятие общих принципов права. Изначально в случае пробелов дела решались здесь на основе разума. Позднее английские суды выработали понятие естественной справедливости, которое стало применяться вместо этого принципа. В английском праве справедливость как правовая категория имеет двоякое значение. Так, в судах канцлера справедливость (equity) служила средством корректировки решений судов общего права при их обжаловании, а принципы естественной справедливости (principies of nature justice) — основой для решения дела в случае пробелов. В английских колониальных судах принципы “естественного правосудия, справедливости и доброй совести” являлись критерием применения местного права, а на деле — средством внедрения английского права в колониальные правовые системы.
Развитие интеграционных процессов в современном мире обусловило признание в качестве источника права также принципов, сформировавшихся в международной сфере. Речь идет о принципах двоякого рода. Одни из них имеют глобальное значение и действуют в области международного публичного права. Так, Международный суд ООН, согласно своему Уставу (ст. 38), наряду с другими источниками применяет при рассмотрении дел “общие принципы права, признаваемые цивилизованными нациями” Согласно Конституции РФ 1993 г., одним из источников российского права являются общепризнанные принципы и нормы международного права (п. 4 ст. 15).
Исследование генезиса этого понятия обнаруживает разное его толкование в западноевропейской и советской правовой литературе. Так, на Западе под ним понимают главным образом принципы национальных правовых систем, воспринятые международным правом. В то же время в Советском Союзе оно трактовалось как принципы, общие для буржуазного и социалистического международного права и в силу этого составившие основу для мирного сосуществования противостоящих социальных систем. В российской правовой литературе вопрос о содержании этого понятия остается дискуссионным.
Другая группа принципов признается источником права в рамках межгосударственных образований. Это, например, применяемые Европейским судом “общие принципы, характерные для права государств-членов”, т. е. государств, входящих в Европейский Союз. В соответствии с этими принципами в случаях недоговорной ответственности Сообщество возмещает убытки, причиненные его институтами или служащими при осуществлении ими своих обязанностей (ст. 215 (2) Договора о создании ЕЭС). По мнению Суда, источниками формирования этих принципов являются конституционные традиции государств-членов, Европейская конвенция прав человека и другие международно-правовые акты.
Глава 4. Основные правовые системы прошлого и современности
§ 1. Понятие и классификация правовых систем
Право есть многоуровневое системное образование. Поэтому при его изучении понятие “система” употребляется неоднократно и в разных значениях (система права, система законодательства, система источников права и т. д.). Понятие “правовая система” занимает в этом ряду особое место. В отличие от предшествующих понятий, обращенных “внутрь” структуры права, понятие “правовая система” обращено прежде всего “вовне”, за ее пределы. В рамках общей теории права правовую систему рассматривают как одну из подсистем общества наряду с экономической, политической, религиозной и т. д. Такой угол зрения обусловливает изучение ее в “связке” и взаимодействии с “внешней” средой (т. е. с социальными факторами, определяющими ее развитие и функционирование).
Кроме того, правовая система является одновременно категорией сравнительного правоведения, где сравнение как основной метод исследования предполагает взгляд на иные, “внешние” по отношению к данной правовые системы либо их элементы.
Среди правовых категорий, характеризующих право как системное явление, категория “правовая система” отражает наиболее высокий уровень абстракции.
В отличие от “внутриправовых” системных образований, состоящих из однородных элементов (правовых норм, источников права и т. д.), правовая система включает в себя разнородные элементы. Это, в частности: 1) доктринально-философский, или идеологический (правопонимание, понятия и категории права и т. д.); 2) нормативный, т. е. совокупность действующих в обществе правовых норм; 3) институционный, т. е. юридические учреждения — правотворческие и правоприменительные, и 4) социологический, т. е. правоотношения, применение права, юридическая практика.
При взаимодействии правовой системы с “внешней средой” одни ее элементы выполняют динамическую функцию, Другие — статическую функцию. Первые из них включают Правотворчество, применение права, правоотношения и т. д., Вторые — доктрину, институты и нормы права, структурированные как по “горизонтали” (система права), так и по “вертикали” (система источников права).
Сочетание динамических и статических элементов в структуре правовой системы позволяет объяснить механизм ее взаимодействия с “внешней” средой, осуществляемого прежде всего путем обмена информацией. Так, общество (его классы, социальные группы) “сигналит” о своих потребностях, требующих правового закрепления. Отражая эти потребности, правовая система “выдает” соответствующие правовые предписания. При этом каналом воздействия на нее является общественное правосознание, которое — через правотворчество — материализуется в нормах права. Последние, в свою очередь, через правоотношения, применение, соблюдение права и т. д. воплощаются в социальных отношениях. Изменяющиеся со временем социальные отношения вновь требуют корректировки права — и процесс возобновляется. В итоге возникает своеобразный “круговорот” в области права, в рамках которого происходит постоянное превращение социального в правовое, а правового — в социальное[240].
В свете сказанного правовую систему можно определить как научную категорию, дающую многомерное отражение правовой действительности конкретного государства на ее идеологическом, нормативном, институциональном и социологическом уровнях. Такое наиболее широкое понимание правовой системы является сегодня преобладающим в юридической литературе[241].
Многоаспектность правовой системы, а также различия в методологии ее исследования обусловливают разнообразие классификаций правовой системы[242].
Наиболее обстоятельным здесь представляется подход А. X. Саидова, который предполагает глобальную типологию правовых систем, основанную на социально-экономических критериях, и внутритиповую их классификацию, построенную на юридических критериях. В философском плане правовая типология рассматривается им как единство общего (исторический тип права), особенного (правовые семьи) и единичного (конкретные национальные правовые системы, которых насчитывается около двухсот)[243]. По мнению А. X. Саидова, правовая карта мира включает семьи общего права, романо-германского права, скандинавского права, латиноамериканского права, социалистического права, а также права развивающихся стран[244].
В зарубежной литературе по данной проблеме преобладают две основные позиции. Одна из них, концепция “правового стиля” немецкого ученого К. Цвайгерта, складывается из таких факторов, как происхождение и эволюция правовой системы; своеобразие юридического мышления; специфические правовые институты; природа источников права и способы их толкования; идеологические факторы. На этой основе К. Цвайгерт выделяет следующие правовые круги: романский, германский, скандинавский, англо-американский, социалистический, право ислама, индусское право.
Отечественные авторы чаще всего следуют классификации видного французского ученого Р. Давида. В ее основе лежат два взаимосвязанных критерия — “идеологический”, включающий фактор религии, философии, социально-экономического строя, и юридико-технический. Исходя из них, Р. Давид выделяет семьи романо-германского, англосаксонского права, а также “другие виды общественного строя и права”, включающие право афро-азиатских развивающихся стран и стран Дальнего Востока. Думается, указанная классификация, а также ее истолкование отечественными авторами нуждаются сегодня в некотором уточнении. Так, если в момент выхода в русском переводе работы Р. Давида[245] социалистическое право действовало в значительной части мира, то с распадом СССР и “социалистического содружества” оно практически перестало существовать.
В тех немногих странах, где сохранились социалистические лозунги, как, например, в Китае, рыночные реформы приводят к столь глубокой трансформации “социалистического права”, что прежнее название едва ли отражает его природу. Это скорее право, переходное к иному социальному строю, где в ряду форм собственности достойное место занимает частная собственность. Поэтому вряд ли правомерно сегодня рассматривать социалистическое право как одну из основных правовых систем современности[246].
Нельзя также ставить обычное, индусское и мусульманское право в один ряд с правом современных развитых стран, т. е. рассматривать их как типологически однородные явления[247]. Во-первых, потому что это право иной исторической эпохи (т. е., по существу, иного исторического типа). А, во-вторых, по той причине, что нигде в современном мире обычное, индусское либо мусульманское право не является правом национальным. В тех регионах, где сохранилось их действие (страны Тропической Африки, Ближнего и Среднего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии), они выступают лишь как подсистемы национального права. А “несущей конструкцией” национальных правовых систем здесь является право европейского типа. Это последнее и выступает в качестве национального, хотя последний термин здесь, как правило, следует брать в кавычки. Разнотипная структура указанных правовых систем позволяет проводить их классификацию на основе критериев как европейского, так и традиционного права.
Что касается глобальной типологии правовых систем, то, как представляется, она включает правовые системы европейского типа (буржуазные и постбуржуазные), правовые системы традиционного (т. е. добуржуазного) типа (обычное, индусское и мусульманское право), а также правовые системы афроазиатских развивающихся стран, сочетающие черты первых двух типов правовых систем.
§ 2. Правовые системы европейского типа
а) Семья романо-германского (континентального) права.
Определение “континентальная” в названии данной правовой системы (семьи) призвано показать, что местом ее возникновения является Европейский континент. Поначалу она действовала здесь в таких странах, как Германия, Франция, Исландия, Бельгия, Испания, Италия и т. д. Однако со временем границы ее действия значительно расширились, выйдя далеко за пределы Европы.
В настоящее время она включает в себя также страны Латинской Америки, значительное число стран Африки, Ближнего, Среднего, а также Дальнего Востока, республики бывшего СССР, в том числе современную Россию, и т. д. В отличие от англосаксонского права континентальная система права распространилась в мире в результате не только колониальной экспансии европейских государств, но также вследствие ее рецепции, обусловленной высоким уровнем правовой доктрины, структуры права, совершенством юридической техники и т. д.
Термин “романо-германская” раскрывает исторические корни данной правовой системы (семьи), включающие прежде всего римское право, а также каноническое право и местное обычное право. От римского права здесь восприняты понятийный аппарат, структура права, юридические конструкции, приемы юридической техники, наконец, сам дух этого права. Однако это восприятие произошло не “напрямую”, а в ходе длительной исторической эволюции. Процесс становления данной правовой системы охватывает несколько веков, включая эпоху средневековья.
Он начинается с рецепции римского права в странах Западной Европы в XII—XVI вв. Поначалу в университетах Италии, Германии и Франции римское право изучалось на основе грандиозной кодификации византийского императора Юстиниана (VI в.). Откомментированное и приспособленное к условиям того времени глоссаторами, а позднее — постглоссаторами, оно рассматривалось как образец справедливого права, как “писаный разум”, но не являлось действующим правом. Однако по мере развития товарно-денежных отношений оно все чаще принимало форму законодательства, возрастало его влияние на судебную практику. На его основе формировалось своеобразное “общее право” континентальных стран Европы.
Национальный характер эта система права приобретает с победой буржуазных революций и проведением кодификаций в ряде европейских стран. Наиболее важной среди них была кодификация гражданского права во Франции, проведенная в Начале XIX в., при Наполеоне Бонапарте. Французский Гражданский кодекс 1804 г., составленный по римской институционной системе, в силу своего совершенства оказал большое влияние на развитие права значительного числа государств.
Поэтому вполне справедливо утверждение, что континентальная система (семья) права складывалась под непосредственным влиянием правовой системы Франции, и особенно наполеоновской кодификации[248].
Следующей вехой в становлении романо-германской правовой семьи была кодификация права в Германии, оказавшая влияние на развитие права ряда стран континентальной Европы. Германское Гражданское уложение 1896 г., отражающее более высокий этап развития капитализма, отличается от ГК Франции рядом особенностей. Так, оно построено по пандектной системе, включает общую часть, значительное место уделяет регулированию института юридического лица и т. д.
В итоге в рамках данной правовой семьи сложились как бы две ветви правовых систем — романская, следующая французской модели, и германская. Первая включает Бельгию, Голландию, Португалию, Испанию, Италию и т. д., вторая — такие страны, как Австрия, Швейцария и т. д.
Романо-германскую правовую семью отличает ряд особенностей, среди которых следует отметить прежде всего принцип верховенства закона, означающий ведущую роль в системе ее источников права писаных конституций. Кроме того, в условиях верховенства закона акты регламентарной (или исполнительной) власти (регламенты, декреты, постановления и т. д.) имеют подзаконный характер. Вместе с тем в течение XX в. в странах этой правовой семьи система источников права претерпела эволюцию от фетишизации закона в сторону повышения роли актов исполнительной власти (институт делегированного законодательства, предметное ограничение законотворчества во Франции по Конституции 1958 г. и т. д.). Такая эволюция отражает стремление преодолеть нередкое отставание законодательства от быстро изменяющихся общественных условий.
Отличительной чертой романо-германской правовой семьи является также важная роль кодексов в системе законодательства. В отличие от англосаксонского права, значительный массив которого составляют нормы общего права, романо-германское право является правом кодифицированным. Здесь приняты кодексы практически по всем отраслям права. Исключение в ряде стран составляет административное право как наиболее динамичная отрасль права. При этом если в странах англосаксонского права кодификации включают в себя в основном нормы общего права и мало затрагивают законодательство, то здесь, напротив, они содержат лишь нормы законодательства.
Вместе с тем концепция кодекса в рамках романо-германской правовой семьи не является унифицированной. Так, в России, например, под кодексом понимают крупный нормативный акт, включающий все или большинство норм данной отрасли (подотрасли) права. В то же время во Франции, например, кодекс может регулировать и узкую сферу общественных отношений (например, Кодекс прибрежого рыболовства).
Ведущая роль нормативно-правовых актов в системе источников права стран романо-германской правовой семьи обусловливает отличную от англосаксонской концепцию правовой нормы, понимаемой здесь как общее предписание или модель поведения. Такое понимание правовой нормы вытекает из принципа верховенства закона. При этом степень ее абстрактности обычно возрастает по мере увеличения юридической силы акта.
Из принципа верховенства закона вытекает еще одна существенная черта романо-германской правовой системы. Суд здесь рассматривают лишь как орган применения норм права, но не как орган правотворчества, поскольку при рассмотрении дел он не может издавать общих предписаний. Вместе с тем в XX в. произошла эволюция такого подхода, в ходе которой судебная практика также стала рассматриваться источником права. Речь идет о решениях высших судов, принятых при пробелах в праве на основе аналогии права, решениях, связанных с толкованием закона, и т. д. По существу, постоянно применяя в идентичных делах одни и те же решения, принимают во внимание прецедент.
В качестве источников права в этих странах признаются также общие принципы права и обычай.
Отличительной особенностью романо-германской правовой системы является деление права на публичное и частное, воспринятое еще от римского права. Первое связано с публичным, общественным интересом, второе — с интересом частных лиц[249]. Частное право включает гражданское и торговое, а также семейное, авторское, международное частное право. Публичным правом охватываются такие отрасли, как конституционное, административное, уголовное, гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное, международное публичное право.
Ряд отраслей включает элементы и частного, и публичного права (трудовое, земельное, морское, воздушное и т. д.).
С точки зрения структуры права отдельные страны занимают особое место в рамках романо-германской правовой семьи. Так, правовые системы стран Латинской Америки отличает известный дуализм структуры права. Если частное право сформировалось здесь по европейской, прежде всего французской, модели, то публичное право испытало значительное влияние конституционных институтов США. Вместе с тем судебная практика не является здесь источником права.
Существенные особенности отличают правовые системы Скандинавских стран, испытавших меньшее влияние римского права. Кодификация права произошла здесь еще в XVII— XVIII вв., т. е. до наполеоновских кодификаций. При этом в каждой из стран региона был принят лишь один кодекс, охватывающий все право (в Дании — в 1683 г., в Норвегии — в 1687 г., в Швеции и Финляндии — в 1734 г.). Кроме того, здесь менее четкой является грань между публичным и частным правом и более значительна роль судебной практики, что сближает их с семьей общего права. Наконец, к особенностям этих стран следует отнести унификацию в рамках региона ряда институтов гражданского, торгового и морского права.
В силу этих особенностей некоторые авторы (например, А. Саидов) выделяют страны Скандинавии и Латинской Америки в самостоятельные правовые семьи.
Возрастание экономической роли государства привело к известному стиранию граней между публичным и частным правом. Произошло известное “вторжение” в сферу частного права административных методов правового регулирования (плановые договоры, государственное регулирование цен и т. д.).
В условиях научно-технической революции происходит дальнейшая дифференциация отраслей права, в ходе которой формируются новые, как правило, комплексные отрасли (атомное, компьютерное, информационное право и т. д.), сочетающие признаки различных отраслей права. Впрочем, последняя тенденция проявляется и в странах англосаксонского права.
б) Семья англосаксонского (или общего) права.
Она включает в себя правовые системы стран английского языка — таких, как Англия, США, Канада, Индия, Австралия, многие страны Африки и т. д. Ее одноязычный характер объясняется тем, что это право распространялось в мире
вследствие английской колониальной экспансии, став общим (хотя и с известными оговорками) для стран, входивших в Британскую империю. Английское право, лежащее в основе этой правовой семьи, не испытало такого же римского влияния, как романо-германское право. Отражая специфически английские условия, оно сохранило свою оригинальность и не подверглось рецепции в других странах. Отсюда вытекают его значительные особенности. В частности, оно не знает деления на материальное и процессуальное право; деление права на публичное и частное здесь либо отсутствует, либо является менее четким, чем на Европейском континенте. Структура англосаксонского права обычно строится не по отраслевому принципу, как в романо-германских странах, а по формально-юридическому, т. е. на основе источников права. Система категорий английского права порой непонятна юристу романо-германской школы, не знающей, в частности, понятия доверительной собственности, такой формы иска, как треспасс, и т. д. Если в странах романо-германского права процессуальное право обычно рассматривают как вторичное по отношению к праву материальному, то все внимание английских юристов веками было обращено на судебную процедуру и очень медленно переносится на нормы материального права.
Этим обусловлена важная роль суда, который не только применяет право, но и создает его. В странах англосаксонского права действует правило обязательности прецедента, когда принцип, положенный в основу решения конкретного дела, становится обязательным при рассмотрении аналогичных дел для судов того же уровня и нижестоящих судов[250].
Продукт деятельности судов — общее право, или common law, — это весьма своеобразный феномен, не имеющий аналогов в других правовых системах. Процесс его становления начался еще в XII в. Основу общего права составили нормы обычного права, использованные разъездными королевскими судами при рассмотрении дел и выраженные в судебных отчетах. Такие обычные нормы считались общими для всего королевства. Позднее общее право включило в себя и нормы законодательства, получившие судебное истолкование. Дело в том, что акт английского парламента (статут) считается правом лишь после того, как он неоднократно применен и истолкован судом. В будущем суды ссылаются не на норму статута, а на его судебное истолкование, которое порой может существенно отличаться от первоначального текста. По этой же причине акт законодательства нередко обрастает нормами судебного истолкования его положений.
Общее право отличается крайним формализмом, казуистичностью и противоречивостью. Следствием этого стало формирование в XIV в. “права справедливости” (law of equity). Его нормы, отождествлявшиеся поначалу с “естественной справедливостью”, сложились впоследствии в отдельную систему английского права, отличную от системы “общего права”
Право справедливости, основанное на каноническом и римском праве, применялось в суде канцлера по жалобам лиц, не удовлетворенных решением дел в судах общего права. Процедура в этом суде также отличалась от процедуры судов общего права. Объективно право справедливости призвано было исправлять недостатки общего права. В результате судебной реформы 1873 и 1875 гг. нормы “общего права” и “права справедливости” стали применяться в рамках единой системы судов. Однако по-прежнему деление английского права на общее право и право справедливости является едва ли не самой примечательной его чертой.
К источникам английского права помимо судебного прецедента относятся также законы (статуты), доктрина, обычай и разум.
Сложность и противоречивость английского права сказались на технике правотворчества, систематизации и толкования права. Так, акт правотворчества в англоязычных странах, как правило, отличается тяжелым языком, сложной структурой, педантичной регламентацией деталей. Норма права нередко ассоциируется с конкретным судебным решением, где эти детали тщательно фиксируются. В отличие от Европейского континента, где толкование нормы права имеет целью выяснение смысла абстрактных правовых формул, английский судья толкует прежде всего конкретные термины и т. д.
Роль судебного прецедента как важнейшего источника английского права к середине XX в. несколько снизилась. Напротив, в системе источников права возросла роль законодательства. Хотя в Англии, где нет писаной конституции, исторически не сложился принцип верховенства закона, однако в других странах англосаксонского права практически всюду действуют писаные конституции, верховенство которых обеспечивается с помощью института конституционного контроля. Родиной его является Англия, где утвердился взгляд на общее право как на своеобразное “хранилище” основанных на обычае древних свобод англичан. Отсюда делался вывод, что правительство не может, как на Европейском континенте, предоставить гражданам конституционные права и свободы, поскольку они уже закреплены в общем праве, а должно лишь обеспечить их защиту.
При этом в Англии, где в начале XX в. существовала единая система судов, ныне, как и в странах романо-германского права, сложилась система административных судов.
Будучи единым по принципам организации, доктрине, структуре и т. д., англосаксонское право порой обладает особенностями, отражающими специфику ряда англоязычных стран. Так, в США, например, это прежде всего федеративная форма государственного устройства, обусловившая иную, чем в Англии, структуру законодательства и общего права, действие федеральной конституции и федерального права наряду с конституциями и правом пятидесяти американских штатов. При этом Верховный суд США и верховные суды штатов изначально не связаны здесь своими собственными решениями. В США более значима роль законодательства в системе источников права. В ряде случаев оно кодифицировано на уровне федерации либо штатов. Это, например, Единообразный торговый кодекс 1956 г., действующий во всех штатах Уголовный кодекс, действующие в ряде штатов уголовно-процессуальный и гражданско-процессуальный кодексы и т. д. В 1926 г. здесь принят Свод законов США (United States Code). В этой стране существует также практика принятия на федеральном уровне модельных законов.
Существенной спецификой обладает англосаксонское право в развивающихся странах Азии и Африки. Она обусловлена сохранением здесь значительного “пласта” традиционных отношений. Поэтому английское общее право действовало здесь не в чистом виде, а лишь в той мере, в какой позволяли местные условия. До независимости общее право колоний включало также решения местных колониальных судов, система которых обычно строилась по английской модели. Кроме того, повсеместно действовали системы судов традиционного права. В этих условиях термин “справедливость” помимо обычного своего значения понимался как средство корректировки местного традиционного права с позиций права европейского. Типичной для английских колоний была формула, согласно которой при отсутствии ясно выраженной нормы суд руководствовался принципом “правосудия, справедливости и доброй совести” Упор при этом делался не на связанность колониальных судов прецедентами, а на свободу судейского усмотрения При выработке новых норм прецедентного права.
С достижением независимости судебные системы англоязычных развивающихся стран продолжают в целом строиться на той же основе, какая сложилась в колониальный период. Тесная связь с английским правом сохраняется здесь до сего времени. В сборниках судебной практики английские судебные решения и научные труды цитируются столь же широко, как и раньше.
С другой стороны, сохраняется действие многих актов колониального законодательства, новые правовые акты следуют традиции английской законодательной процедуры и юридической техники.
§ 3. Правовые системы традиционного типа
а) Традиционное право и его особенности. Правовые системы традиционного типа (обычно-правовая, индусская, мусульманская) являются продуктом традиционных обществ.
Понятие “традиционное общество” означает общество, находящееся либо на предклассовой стадии развития, либо на стадии, когда классовые институты еще сочетаются с институтами доклассовыми — такими, как род, племя, община, каста. Поэтому понятие “традиционное право” в известном смысле условно. Оно применяется либо к слитным нормам, еще не ставшим правом в собственном смысле (обычное право африканских племен), либо к комплексу норм — юридических и слитных, в своей совокупности образующих понятие, которое в категориях традиционного права отнюдь не адекватно европейскому понятию права[251].
Право здесь вырастает из слитного космического миропонимания и отождествляется поначалу с “мировым порядком”, при этом не только земным, но и небесным. Поэтому система источников традиционного права своей вершиной упирается в “небо” Кроме того, она помимо вертикального имеет также горизонтальное (или временное) измерение. Поскольку в традиционном обществе авторитет традиции прямо пропорционален ее древности, то самый авторитетный источник традиционного права является одновременно и самым древним. Отражая начальный этап формирования права, он либо вообще не включает юридических норм (Веды в индуизме), либо содержит их крайне мало (Коран в исламе). Государство на этой стадии играет весьма слабую роль в формировании и защите традиционного права. Последнее возникает как право личное, границы его действия не совпадают с государственными и административными границами. И сегодня в развивающихся странах Азии и Африки существует сфера так называемого личного статуса (брак, семья, развод, наследование, часть имущественных отношений), где это право сохраняет личный характер.
Развитие традиционного права как системы собственно юридических норм начинается на более поздних стадиях. При этом в индуизме и исламе оно теоретически остается составной частью соответствующей религиозно-философской системы.
В наши дни практически нигде традиционные правовые системы не имеют национального характера. Будучи добуржуазными по своей природе, они действуют лишь в тех страдах, где сохранились добуржуазные (традиционные) отношения (Тропическая Африка, Ближний и Средний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия, Океания).
Повсеместно традиционное право является здесь подсистемой (одной из подсистем) права национального. Европейское и традиционное право в известных сферах действуют параллельно, регулируя одинаковые по предмету, но разнотипные по содержанию отношения. Дуализм типологический дополняется при этом дуализмом структуры традиционного права, включающего не только юридические, но и слитные нормы. Последние оказывают, как правило, более значительное влияние на общественную жизнь, чем собственно правовые нормы, что видно, в частности, на примере ислама.
б) Обычное право. Обычное право — это исторически первое системное правовое образование, к которому — с известной долей условности — применимо понятие “правовая система” Условность объясняется тем, что понятие “обычное право” относится к совокупности социальных норм, имеющих форму обычая, которые действуют не только в раннеклассовых, Но и в предклассовых обществах. С точки зрения системности Перед нами — незавершенное право, а порой и предправо или Протоправо.
Правопонимание здесь еще слитно с космическим миропониманием. Эпоха обычного права еще не знает юриспруденции как сферы профессиональной деятельности. Еще нет дифференциации норм обычного права на отрасли. Поэтому оно не знает различий между гражданским деликтом и уголовным преступлением. Отсутствует вертикальная соподчиненность норм, ведь единственный источник права здесь — обычай. Роль государства в формировании и реализации права еще крайне слаба.
Обычное право возникает как право личное, а не территориальное и лишь со временем приобретает территориальный характер. Обязательная сила обычая, лежащего в его основе, происходит из признания его “своим” в рамках данной родовой, территориальной (соседские общины, города и т. д.) или профессиональной общности (например, среди торговцев). Так, обычное право общины понимается в Тропической Африке как “совокупность норм, признаваемых ее членами в качестве обязательных”[252]. Обычное право характерно для обществ с застойным характером развития, со слабо развитой (либо лишь формирующейся) государственностью. Оно понимается как элемент вечного и неизменного “мирового порядка”, которому следовали многие поколения предков. В этом смысле оно есть форма (способ) консервации прошлого. Его локальная замкнутость и противоречивость всегда являлись препятствием на пути централизации государства.
Как элемент “мирового порядка” оно нерукотворно. Поэтому его не создают, его находят и применяют к конкретному делу. Правотворчество как таковое здесь отсутствует. Необходимые изменения в обычное право вносят с помощью толкования в процессе применения его норм.
В течение веков обычное право существовало как право устное — в форме пословиц, поговорок, мифов и т. д. Запись обычного права (в форме “варварских правд”) была первым шагом к его унификации. По мере создания централизованных государств оно вытесняется законодательством государства.
В правовых системах современных развитых стран обычное право составило в ряде случаев основу самостоятельных комплексов правовых норм — таких, как торговое право, в том числе международное торговое право, английское общее право и т. д. Наконец, термин “обычное право” применяется здесь также к нормам обычно-правового происхождения.
Эпоха обычного права существовала в Европе до середины XI в.[253], а в ряде районов современного мира продолжается и сегодня. Речь идет о регионах, где сохранились “пласты” традиционных отношений. Это прежде всего Тропическая Африка[254]. Обычное право широко применяется также в ряде районов Афганистана, Йемена, Индии и т. д. В частности, в Индии племенные структуры, сохранившие обычное право, включают 45 млн. человек.
История обычного (как и вообще традиционного) права афро-азиатских развивающихся сыгран разделяется на 3 периода: доколониальный, колониальный и период независимости. В “чистом” виде обычное (как и вообще традиционное) право развивалось здесь лишь в доколониальный период. Оно отражало, как правило, начальные стадии становления государственности у народов Тропической Африки. Поэтому в нем доминируют коллективистские традиции, присущие племенному обществу. Обычное право регулирует здесь весь комплекс внутриобщинных отношений (брак, наследование, земельные отношения, традиционный суд и т. д.). Субъектом обычного права является большей частью не индивид, а традиционная общность (патриархальная семья, родовая община и т. д.). Земля является, как правило, общинной собственностью, хотя существует и индивидуальное землевладение. Брак есть договор не между брачующимися, а между их семьями. Среди зажиточных африканцев распространен полигамный брак. Брачный договор предусматривает выкуп за невесту, выплачиваемый ее семье.
Высшей ценностью африканского традиционного общества считается дух коллективизма и взаимопомощи, понимаемый как его основа. Поэтому тяжбы между членами традиционных общностей разрешаются прежде всего на основе примирения сторон. Если спор создает угрозу единству большой семьи (например, спор по поводу наследства), он считается безнравственным.
Судебные функции 'обычно осуществляют племенные вожди. С установлением в указанных странах колониальных и полуколониальных режимов обычное право испытывает значительное влияние европейского права. Так, условием его действия становится соответствие норм обычного права колониальному законодательству и принципам европейского права.
Применение обычного права в колониальных судах вело к постепенному изменению обычного права под влиянием европейского права. Так, в судах при отсутствии необходимой нормы вопрос решался с позиций европейского права. Апелляции по делам обычного (и вообще традиционного) права большей частью рассматривали судьи-европейцы, не знавшие этого права. Конфликт европейского и традиционного права разрешался, как правило, с позиций права метрополии.
Колонизаторами осуществлялась также, хотя и в явно недостаточных размерах, систематизация обычного права в ее первичных формах. Так, ряд сборников обычного права был подготовлен на английских и французских территориях в Африке. При этом упорядочение традиционных норм сводилось лишь к внешней обработке обычно-правового материала.
С достижением независимости в странах Тропической Африки сложился двоякий подход к проблеме обычного права. Одни из них проводят курс на его интеграцию путем включения обычно-правовых норм в законодательство и (или) санкционирование известной их части, другие — курс на запрет обычного права. Интеграция обычного права в национальную систему права характерна для англоязычных стран континента, а также ряда франкоязычных стран (Того, Бенин, Заир и т. д.). Обычное право признается здесь источником права. Его унификация и интеграция проводятся посредством как законодательства, так и судебной практики.
В англоязычных странах в качестве средства (канала) унификации и интеграции традиционного права, как и в колониальный период, используется судебный прецедент. При этом известная часть норм обычного права не включается в законодательство и сохраняет значение самостоятельного источника права в формальном смысле.
Применяются также первичные формы учета и систематизации обычного права (Кения, Танзания, Ботсвана и т. д.).
Действие обычного права запрещено в ряде стран французского языка (Кот д‘Ивуар, Мали, Конго и т. д.). Однако и здесь оно нередко продолжает действовать в “чистом” виде в силу инерции традиционного правосознания, воспринимающего европейские нормы и принципы как явление чужеродное.
в) Индусское право. Индусское право сегодня распространяет свое действие на 350—400 млн человек, проживающих помимо Индии также в Непале, Шри-Ланке, Малайзии, странах Восточной Африки (Кения, Танзания, Уганда). Это одна из самых древних и наиболее сложных правовых систем. Зарождение начал этого права (и его исторические истоки — ведическая литература), по мнению ряда исследователей, относится к XV в. до н.э., а собственно правовых текстов — дхармашастр — к V—II вв. до н.э.[255].
По сложности это право порой сравнивают с монстром. Свое название индусское право получило скорее из факта применения его к индусам, чем из его исторической связи с религией. Под индусом при этом обычно понимают члена общины, основанной на варново-кастовой системе, в том числе вне Индии, следующего основным религиозным постулатам древнеиндийской цивилизации[256].
Первооснову индусского права составляет комплекс памятников, включающих вопросы религии, философии, этики и т. д. и получивших общее название “Веды” (санскритское “веды” — букв, “знание”). Право присутствует здесь в зародышевой форме, оно сформируется значительно позже. При этом сохраняется его слитность с религией и моралью, многозначность понятий, присущие начальному этапу становления права. Так, важнейшая категория индусского права — дхарма — понимается, с одной стороны, как универсальные законы природы космического характера. В таком контексте она имеет название “рита” С другой стороны, это комплекс религиозных, нравственных, социальных и правовых обязанностей. В этом контексте право — лишь отрасль дхармы. Несоблюдение дхармы чревато для индуса наказанием в потусторонней жизни. Регулятором универсума в индуизме является данда (сила), имеющая негосударственное происхождение. Она одна способна обеспечить соблюдение дхармы. Власть короля носит подчиненный по отношению к ней характер и вручается ему для осуществления данды[257].
Каждый индус с момента рождения и до смерти является членом одной из четырех варн, или каст (брахмана, вайшья, кшатрия и шудра), построенных по иерархическому принципу. Иными словами, индусское право закрепляет неравенство индусов перед Богом или законом.
Согласно концепции индуизма, в основе деятельности человека лежит триада, включающая добродетель (дхарма), интерес (артха) и удовольствие (кама). Соответственно этому существуют три группы норм и три науки — дхармашастра, артхашастра и камашастра. Шастры в данном случае означают книги, в которых содержатся соответствующие нормы поведения людей.
В дхармашастрах указывается на три источника дхармы: веды, традицию и обычай (Ману, II, 12). Характерно, что в этом перечне, где на первом месте всегда стоят Веды, вообще отсутствуют акты государства.
Изложенные в стихах ведические тексты обычно отождествляются индусами с божественными откровениями. Есть четыре сборника таких текстов: Ригведа, Самаведа, Яжурведа и Артхаведа. Самая древняя из них — Ригведа.
Индусская ортодоксия исходит из того, что всякая дхарма имеет свое основание в Ведах. Поскольку священные книги не всегда согласовывались между собой, то этот тезис толковался не как отражение дхарм в священных текстах, а как отождествление этих текстов с истиной, знанием. Более того, считалось, что нет истины, которая бы не заключалась в писании. Кроме того, было выдвинуто предположение, что древние части священных книг якобы утеряны.
На базе ведических текстов сложился источник дхармы, называемый шрути (услышанное)[258]. Он включает произведения литургического и сакраментального характера (самхита), по вопросам церемонии богослужения (брахмана), а также философские спекуляции, называемые араньяки и упанишады.
Шрути, в свою очередь, составили основу для формирования следующего источника дхармы — смрити (“запомненное”, или традиция). Согласно индусской доктрине, это такая традиция, которая позволяет познать мудрость и которую мудрецы вспомнили и передали людям. Наиболее ранние смрити написаны в форме афоризмов и изречений, называемых сутры. Дхармашастры — это более поздние произведения, излагающие дхарму в более систематизированном виде. Собственно юридические предписания здесь начинают доминировать. Самые значительные шастры — это законы Ману, Яджна- валкья, Нарада и т. д. Последняя из них представляет своеобразную вершину развития древнего права Индии.
Все дхармашастры наделяются в индусском праве равным авторитетом и рассматриваются как единое целое. Этим обусловлена одна из многих фикций, что между дхармашаст- рами не может быть противоречий. Когда имеется противоречие в отрывках из священного откровения, они оба считаются дхармой. Если же такое противоречие обнаруживается, оно должно быть решено путем толкования.
Противоречия между нормами смрити обусловили необходимость выработки способов их преодоления и унификации. Эту задачу призваны были выполнить комментарии к смрити, наибольшую ценность среди которых представляют нибандхи (или дигесты). Это сборники высказываний авторитетов, собранных из различных текстов по тем или иным предметам правового регулирования и включавших также нравственные и религиозные нормы. В большинстве своем комментаторы не занимали официальных постов в аппарате государства. Вместе с тем отдельные из них выполняли эту работу по заданию правителя. Техника авторов дигест “позволяла располагать материал смрити таким образом, чтобы утвердить желаемое мнение, исключить сомнительные тексты как не относящиеся к делу или даже поддельные, а при необходимости изменить их толкование”[259].
Начало деятельности комментаторов ученые относят к IX либо к XI в., а конец ее — к XVII—XIX вв. Их деятельность привела к появлению правовых школ. Дхармасутры и дхарма- шастры вместе с огромным числом комментариев и дигест составляют “свод” классического индусского права, берущего свое происхождение от дхармы[260].
Особое место в системе источников индусского права занимают артхашастры, т. е. сочинения, охватывающие философские, социально-политические и экономические проблемы государственной деятельности. В отличие от дхармашастр, призванных обеспечить человеку средства достижения его достоинства и спасения в потустороннем мире, наука артха (артхашастра) изучает средства достижения материального благополучия человека[261].
Среди ученых распространено мнение, что позитивное индусское право является обычным правом, в котором в той или иной мере доминирует религиозная доктрина — индуизм. Это свидетельствует о важной роли обычая как источника индусского права.
Брахманы как знатоки обычаев разрабатывали на их основе детальные предписания для всех остальных групп древнеиндийского общества. Выступая в форме дхармасутр и драхмашастр, эти предписания рассматривались как основанные на Ведах и имеющие универсальный характер. Поэтому в эпоху дхармашастр признавались два источника дхармы: Веды и обычай[262].
Так, существовала презумпция, что одобренный обычай содержится в Ведах. Отсюда следовал вывод, что в случае коллизий между нормой обычая и предписаниями Вед последние обладали приоритетом. Однако авторы дхармашастр уже отрицали эту презумпцию. Поэтому в королевском суде отнюдь не всегда признавался авторитет священных текстов.
Со временем вырабатывается правило, что если строгое следование дхарме не обеспечит королю возможности поддержания мира внутри страны и вне ее, то он может руководствоваться не дхармой, а обычаем.
За свою многовековую историю индусское право претерпело существенную эволюцию. Так, со времени исламского завоевания Индии (XVI—XVII вв.) оно было запрещено к применению в судах и в органах управления. С установлением английского колониального господства (XVII—XVIII вв.) этот запрет был отменен, однако дальнейшее развитие индусского права шло под определяющим английским влиянием. О степени этого влияния говорит тот факт, что к моменту независимости Индии его называли уже англо-индусским правом. Так, с середины прошлого века в Индии было принято более 10 законодательных актов, регулирующих личный статус индусов. Трансформация индусского права осуществлялась с помощью судебного прецедента.
В итоге ряд традиционных институтов либо был запрещен (например, институт сати — самосожжения индусских вдов и т. д.), либо подвергся буржуазной модификации (запрет дискриминации “неприкасаемых” каст). Наряду с этим известная их часть сохранила свое действие (например, иерархическая система каст, институт нераздельной большой семьи и т. д.).
О противоречивости ситуации свидетельствует тот факт, что до сих пор не принят Гражданский кодекс, предусмотренный Конституцией 1950 г. (ст. 44) и призванный ввести единый статус для граждан Индии независимо от их вероисповедания. Дело ограничивается пока половинчатыми мерами. Так, “семейные суды”, созданные на основе закона 1984 г., призваны решать брачно-семейные дела вне зависимости от религиозной принадлежности сторон.
Один из аспектов проблемы индусского права состоит в наличии в его структуре слитных (т. е., по существу, неюридических) норм. Поэтому в деревенских обычных судах, наряду с санкционированными государством обычаями, нередко применяются несанкционированные обычаи, часто противоречащие норме закона.
Таким образом, проблема индусского права по-прежнему остается актуальной в странах распространения индуизма.
в) Мусульманское право.
Возникнув на Аравийском полуострове в VII—X вв., мусульманское право претерпело длительную историческую эволюцию, в ходе которой его структура и социальная сущность не оставались неизменными. Как продукт раннеклассового аравийского общества, оно несет на себе его отпечаток. Вместе с тем с завоеванием арабами обширных территорий в VIІ—VIII вв. мусульманское право испытывает влияние более развитых и культурных стран (Египет, Сирия, Палестина и т. д.). Наконец, на развитие мусульманского права оказали влияние такие факторы, как зарождение капитализма на мусульманском Востоке, колониальная экспансия европейских держав, буржуазная эволюция стран мусульманского Востока в условиях независимости.
Раннеклассовая природа мусульманского права проявляется прежде всего в том, что оно возникает как право личное, а не территориальное. Юридическое положение личности в рамках мусульманского права определяется ее вероисповеданием. Возникнув как элемент религиозной системы ислама, мусульманское право, так же как и религия ислама, основывается на божественной воле. Поэтому священная книга мусульман Коран является одновременно и основным источником мусульманского права. Коран — это откровения бога Аллаха, ниспосланные пророку Мухаммеду и обращенные к правоверным мусульманам. Они были записаны и систематизированы уже после смерти Мухаммеда, при халифе Османе (640—648 гг.). Божественная природа Корана обусловливает вечность, неизменность и универсальность содержащихся в нем норм. Согласно исламской доктрине, нормы Корана применимы во все времена и в любых обстоятельствах. Однако в действительности из более чем 6 тыс. стихов Корана, по разным оценкам, лишь от 200 до 500 содержат правила поведения, Которых должны придерживаться мусульмане в своих взаимоотношениях[263].
Несостоятельность Корана как основополагающего источника права обусловила появление другого божественного источника, призванного восполнить его неполноту, — сунны, т. е. преданий (хадисов) о словах, делах и поступках пророка Мухаммеда. Каждый хадис содержит основание (иснад), т. е. Перечень его передатчиков, при этом наибольшим авторитетом пользуются хадисы, исходящие от ближайших сподвижников пророка, его родственников и друзей. Нормы хадисов применялись при неполноте или пробельности положений Корана. Существует шесть общепризнанных сборников хадисов, из которых наиболее авторитетными являются сборники, составленные аль-Бухари (ум. в 870 г.) и Муслимом (ум. в 875 г.). Хотя число хадисов насчитывает несколько тысяч, однако само по себе это не решило проблемы в силу преобладания в сборниках религиозных норм, повествовательного изложения хадисов, а также подложного характера известной их части, в чем проявилась борьба различных политических сил в рамках ислама.
Именно нормы, содержащиеся в Коране и сунне, составляют божественное право ислама, или шариат. В действительности термин “право” применяется к данному понятию достаточно условно, поскольку шариат (букв. — “путь, указанный Богом”) помимо норм права включает в себя также нормы морали и религии. В этих условиях право есть часть единого мирового порядка, основанного на божественном законе. Оно регулирует не только отношения между верующими, но также их отношения с Богом и выступает как всеобъемлющий кодекс поведения, определяющий все аспекты жизни мусульманина, — это и собственно правовая сфера, и ритуальная практика, допустимые пища и одежда, правила этикета и т. д. Поэтому поступки мусульманина имеют как правовую, так и религиозно-нравственную оценку, а всякое правонарушение является также и религиозным грехом. Соответственно мусульманские юристы являются одновременно и теологами.
На процесс формирования мусульманского права, как отмечалось, оказал влияние факт завоевания арабами народов, стоявших на более высокой стадии экономического и культурного развития. Использование мусульманского права в качестве социального регулятора в завоеванных странах стимулировало развитие его доктрины, а также приемов юридической техники, направленных на преодоление многочисленных пробелов. Складывается фикх — теория мусульманского права. Нередко его рассматривают как мусульманское — суннитское (правоверное) и шиитское — право в широком смысле, поскольку оно включает в себя не только правила поведения мусульман в отношениях между собой и с немусульманами (му’амалат), но и нормы, регулирующие “отношения верующих с Аллахом” (ибадат).
Процесс формирования новых норм мусульманского права, не предусмотренных Кораном и сунной, на основе использования рациональных аргументов получил название “иджтихад” (букв. — “настойчивость”, “усердие”). Именно таким путем было создано большинство норм мусульманского права. С развитием иджтихада оно все более утрачивает единообразие, распадаясь на ряд подсистем этого права. Уже во второй половине VII в. в исламе складывается два основных направления — суннитское (правоверное) и шиитское (еретическое). В рамках каждого из них в IX—X вв. формируются религиозно-правовые школы, или толки (мазхабы). Имея общую основу (шариат), каждый из толков отличается, однако, своим “арсеналом” рациональных методов формирования права. Так, существуют четыре суннитских мазхаба — ханифитский, маликитский, шафиитский и ханбалитский, названных так по именам своих основателей, а также три шиитских — зейдитский, джафаритский, исмаилитский.
Мусульманские ученые — муджтахиды — сыграли важную роль в формировании мусульманского права. Характерно, что, будучи торговцами, они, как правило, даже не состояли на государственной службе. Поэтому недалеки от истины те авторы, которые считают, что мусульманское право возникло не “снизу”, из практики, а “сверху”, из доктрины. Напротив, роль государства была здесь лишь косвенной. Она ограничивалась санкционированием норм мусульманского права определенного толка. Мусульманский судья (кади) применял при рассмотрении дел нормы Корана и сунны лишь в соответствии с предписаниями, содержащимися в трудах основоположников соответствующего толка и их последователей. К X в. в результате развития иджтихада основным источником мусульманского права становится правовая доктрина. Было объявлено о закрытии “дверей иджтихада”, т. е. о прекращении дальнейшего развития мусульманского права. Впредь исламские ученые могли лишь комментировать его нормы.
Вследствие специфики развития мусульманского права под его рациональными источниками понимаются, по существу, способы формулирования новых правовых норм. Так, одним из главных таких источников, признаваемых практически всеми мазхабами, является иджма, т. е. согласованное мнение мусульманских правоведов, которое считается мнением всей общины верующих. Иджма как Способ принятия решений применяется лишь в случаях, не урегулированных Кораном и сунной.
Другим таким источником, признаваемым большинством мусульманских толков, является кияс, или суждение по аналогии. В иерархии источников мусульманского права кияс следует после Корана, сунны и иджмы и применяется в случаях, Когда ни один из них не дает ответа на решаемый вопрос.
К источникам мусульманского права относится также фетва, т. е. официальное суждение, выносимое муфтием или другим религиозным авторитетом в ответ на запрос кади или иного частного лица по вопросам морали, религии либо права ислама.
Акты правителя исламского государства (фирман, канун) играют подчиненную роль в системе источников мусульманского права. Они имеют в классическом исламе подзаконный характер (законы уже содержатся в Коране и сунне) и издаются по вопросам, не урегулированным в этих источниках.
Признание в качестве источника мусульманского права (хотя и второстепенного) обычая (урф, адат) способствовало экспансии ислама, поскольку нередко исламизированные народы, приняв ислам, продолжали во многом следовать своим доисламским обычаям (Тропическая Африка, Средняя Азия и т. д.).
Мусульманское право исторически возникло как частное право. Оно отличается казуистичностью, противоречивостью, пренебрежением к абстрактным формулам. В нем нет четкого деления на отрасли права, в том числе на публичное и частное право. Публично-правовая сфера регламентирована в нем менее детально, чем сфера частной жизни мусульманина. При этом мусульманское государственное право исходит из нераздельности светской и религиозной власти.
В рамках шариата как религиозно-правовой системы теоретически не допускалась прямая отмена пережиточных норм, не отражающих социальных потребностей. Вместе с тем мусульманский судья вплоть до наших дней обладает широкой свободой выбора. Ведь при молчании закона в большинстве случаев предписывается применять не просто нормы определенного толка, а его наиболее предпочтительные выводы[264].
Со второй половины XIX в. мусульманское право начинает испытывать западноевропейское влияние. Следствием развития капитализма в странах Востока было восприятие ими ряда буржуазных правовых институтов, использование европейской формы права и т. д., что вело в конечном счете к сужению традиционной сферы действия мусульманского права. Так, в Османской империи в 1869—1876 гг. была осуществлена кодификация исламских норм о собственности и об обязательствах, получившая название Маджалла, в ходе которой эти нормы подверглись существенной модернизации. В Египте в 70-е годы XIX в. были приняты Гражданский и Торговый кодексы, составленные по французскому образцу, и т. д. В странах мусульманского Востока появляются первые конституционные акты (в Тунисе — в 1863 г., в Египте — в 1882 г., в Иране — в 1906 г. и т. д.). Почти всюду в этих странах мусульманское право постепенно превращается из господствующей правовой системы в одну из подсистем национального права. Степень его влияния зависит прежде всего от уровня социально-политического развития страны. Так, наибольшим влиянием оно обладает там, где этот уровень низок, а также там, где режимы проводили в прошлом политику изоляции от внешнего мира (Йемен, Саудовская Аравия). Немаловажную роль играют также идеологические установки режимов. Так, в Иране, например, с победой антишахской революции в конце 70-х годов произошел резкий поворот в сторону исламизации страны. Еще более жестко внедряет исламские порядки афганское движение “Талибан” и т. д.
По степени влияния мусульманского права на законодательство стран мусульманского Востока последнее можно разделить на три сферы. Первая из них — сфера так называемого личного статуса — характеризуется наиболее значительным влиянием мусульманского права. Сегодня почти всюду она кодифицирована. В этой области наблюдается тенденция ограничения или запрета полигамии, выравнивания прав супругов в области семейных отношений и т. д.
Следующая сфера включает такие отрасли, как конституционное, гражданское, уголовное право и т. д., где наблюдаются “вкрапления” исламских норм, институтов и принципов в европейское по форме и содержанию законодательство. Так, почти повсеместно в этих странах конституции закрепляют положения о государственном характере религии ислама, провозглашают шариат (его принципы) основным источником законодательства. О неоднозначности содержания этих формул выше уже говорилось. В области гражданского права сохраняет действие ряд институтов мусульманского права, например институт вакфа[265]. Уголовное законодательство этих стран допускает в ряде случаев применение наказаний, предусмотренных шариатом (Иран, Ливия, Саудовская Аравия и т. д.).
Наконец, в такой сфере, как авторское, изобретательское, компьютерное право и т. д., влияние мусульманского права, как правило, отсутствует. Поэтому даже в странах, провозгласивших исламский характер действующего в них права (Йемен, Иран, Саудовская Аравия и т. д.), оно представляет в действительности определенное (и не всегда гармоничное) сочетание европейских и мусульманских норм, институтов и принципов.
Ислам и мусульманское право остаются важным фактором общественной и политической жизни стран Востока. При этом влияние ислама как религии значительно превосходит воздействие на социальные отношения собственно мусульманского права. Идеологическое влияние ислама характерно также и для мусульманских регионов России, где определенные силы пытаются придать исламскому фактору политическую окраску.
Глава 5. Правотворчество
§ 1. Понятие правотворчества и его принципы. Правотворчество и формирование права
Правотворчество есть форма государственной деятельности, направленная на создание правовых норм, а также на их дальнейшее совершенствование, изменение или отмену. Это процесс создания и развития действующего права как единой и внутренне согласованной системы общеобязательных норм, регулирующих общественные отношения, специальная, имеющая официальное значение деятельность по установлению правового регулирования. Главное для правотворчества — выработка и утверждение новых правовых норм. В этом в первую очередь проявляется назначение данной формы государственной деятельности. Другие проявления правотворчества (отмена и изменение действующих норм, совершенствование их редакции) имеют подчиненное, вспомогательное значение для образования развернутой, четко выраженной и внутренне согласованной системы юридических норм.
По своей сущности правотворчество есть возведение государственной воли в закон, в имеющие общеобязательное значение юридические предписания. На современном этапе развития правотворчество проявляется в первую очередь как принятие правового акта непосредственно населением страны путем референдума либо как издание актов, содержащих правовые нормы, государственными и иными управомоченными органами. В некоторых современных странах одной из форм правотворчества является издание судебного прецедента. Все большее значение ныне приобретает также заключение имеющих нормативное содержание договоров между различными субъектами права.
Демократизм правотворческой процедуры предполагает активное участие партий, массовых движений, предпринимательских структур, объединений граждан в создании законодательства, их инициативу, свободное, широкое и деловое обсуждение предполагаемых законодательных решений. Однако это не исключает того, что правотворчество, в какой бы форме оно ни осуществлялось, есть деятельность государства, форма государственного руководства обществом. Государство в лице своих органов создает основную массу правовых норм.
Если же таковые издаются какими-либо иными структурами помимо государственных, то их правотворческие полномочия определяются государством.
Правотворческая деятельность современных цивилизованных государств осуществляется на базе перечисленных ниже семи основополагающих принципов, представляющих собой организационные начала, которые определяют существо, характерные черты и общее направление этой деятельности.
1. Демократизм. Этот принцип проявляется в установлении и неуклонном осуществлении свободного, подлинно демократического порядка подготовки и утверждения нормативных актов, и в первую очередь законов, что обеспечивает активное и эффективное участие депутатов, широкой общественности в правотворчестве, максимальный учет в новых нормативных решениях общественного мнения, потребностей социально-экономического развития страны и интересов различных слоев населения.
2. Законность. Нормативные акты должны приниматься строго в пределах компетенции соответствующего правотворческого органа и соответствовать конституции страны, ее законам и иным актам более высокой юридической силы. В федеративном государстве необходимо неукоснительно соблюдать распределение компетенции между федерацией и субъектами, входящими в ее состав. Принцип законности означает также строгое соблюдение установленного порядка подготовки, принятия и опубликования нормативно-правовых решений, правотворческой процедуры, формы принимаемых актов.
3. Гуманизм. Этот принцип предполагает направленность правотворческого акта на обеспечение и защиту прав и свобод личности, на максимально полное удовлетворение ее духовных и материальных потребностей. Человек, его интересы должны быть в центре законодательной деятельности.
4. Научный характер. Правотворчество призвано максимально полно соответствовать назревшим потребностям общественного развития, его объективным закономерностям, быть научно обоснованным, учитывать и использовать достижения науки и техники, основываться на теоретических разработках проблем, требующих нового нормативного решения. К подготовке проектов должны привлекаться научные учреждения, отдельные представители соответствующих отраслей науки, а также ученые-юристы.
5. Профессионализм, то есть участие в разработке новых правотворческих решений квалифицированных специалистов соответствующих отраслей общественной жизни, имеющих
профессиональную подготовку, большой опыт работы и достаточные знания.
6. Тщательность, скрупулезность подготовки проектов. В правоподготовительной деятельности важно максимально использовать зарубежный и отечественный опыт, результаты социологических и иных исследований, разного рода справки, докладные записки и иные материалы. Следует избегать спешки в работе, принятия скороспелых, непродуманных решений. Мудрая неторопливость разработки и обсуждения будущих законодательных решений — залог эффективности правового регулирования, его соответствия требованиям жизни, общественной практики.
7. Техническое совершенство принимаемых актов предполагает широкое использование выработанных юридической наукой и апробированных правотворческой практикой способов и приемов подготовки и оформления нормативных текстов, правил законодательной техники, которые должны быть обязательными установлениями для законодателя.
Учитывая государственный характер правотворческой деятельности, необходимо различать правотворчество в собственном смысле слова и более широкое и многоаспектное понятие — формирование права, правообразование. Нормы права создаются на основе государственных велений, но этому процессу предшествуют обнаружение потребности в урегулировании определенной сферы отношений, выработка правовых взглядов.
Правообразование включает в себя научный анализ, оценку действительности, выработку взглядов и концепций о будущем правовом регулировании, максимальный учет общественного мнения, предложений и замечаний партий, общественных движений, отдельных граждан и их объединений, специалистов-практиков и ученых, сформулированных средствами массовой информации, в научной литературе, публичных выступлениях, докладных записках, письмах и заявлениях граждан и т. д. Правообразование — это процесс формирования государственной воли в законе, правотворчество же охватывает деятельность компетентных органов и организаций по выработке и принятию нормативных актов. Правотворчество представляет собой основной, решающий этап формирования права, его логическое завершение.
Основными факторами, определяющими формирование права, являются материальные условия жизни общества, обусловленные равноправным существованием различных форм собственности, свободой предпринимательства (экономические факторы). Большое влияние на формирование права оказывают политическая обстановка в стране, характер взаимодействия различных слоев общества и групп населения, уровень активности политических партий, движений и общественных объединений (политические факторы). Принципиальное значение при создании новых юридических норм имеет также степень заботы общества и государства о личности, ее интересах и потребностях, об охране и обеспечении ее прав и свобод (социальные факторы). В многонациональном государстве процесс формирования права во многом определяется взаимоотношениями, формами сотрудничества между нациями и народностями, населяющими страну, заботой об их равноправии и свободном развитии, государственно-правовыми механизмами оформления их юридического статуса (национальные факторы). Международное положение государства, уровень и характер взаимоотношений с другими государствами и международными организациями также оказывают существенное влияние на правотворчество (внешнеполитические факторы). Идеологическая база права, правосознание граждан и общества в целом, степень его внедрения в общественное сознание, правовые идеи (идеологические факторы) также имеют существенное значение для правотворчества. Наконец, государство, возводя сформировавшиеся правовые идеи в закон, непосредственно создавая нормы права, осуществляет юридическое оформление государственной воли через деятельность органов, правомочных издавать нормативные акты (организационно-волевые факторы).
Совокупность перечисленных факторов формирует основу для оптимального и эффективного осуществления правотворческой деятельности, активно-творческого, опережающего влияния права на динамику общественного развития.
§ 2. Виды правотворческой деятельности в Российской Федерации
В Российской Федерации существуют три основные формы правотворчества: принятие нормативных актов органами государства, непосредственно народом путем референдума, заключение различного рода соглашений, содержащих нормы права (между Российской Федерацией и субъектами, входящими в ее состав, между субъектами Федерации, между государственными органами и общественными объединениями, между работодателями и работниками предприятий, учреждений, объединений и т. д.).
До недавнего времени в бывшем СССР и союзных республиках, входивших в его состав, активно использовался такой вид правотворчества, как принятие нормативных актов общественными организациями, специально уполномоченными на то государством (например, высшим профсоюзным органом страны — ВЦСПС, Центросоюзом), а также принятие совместных актов государственными органами и общественными организациями. Ныне эта явно нецелесообразная и теоретически необоснованная практика придания общественным организациям не свойственных им функций прекратила свое существование.
Принятие нормативных актов органами государства. Эта форма правотворчества является наиболее распространенной в Российской Федерации. Правом принятия нормативных актов обладают Федеральное Собрание Российской Федерации, представительные органы субъектов Российской Федерации (республик, краевых, областных, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга).
К числу правотворческих органов относятся также Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, министерства, государственные комитеты и ведомства Российской Федерации, президенты, правительства, министерства, государственные комитеты и ведомства республик, входящих в состав Федерации, главы администраций соответствующих национально-государственных и административно-территориальных образований. Правотворческими полномочиями обладает в пределах своей компетенции администрация объединений, комбинатов, предприятий и учреждений (локальное правотворчество). Полномочия каждого органа на издание нормативных актов определяются Конституцией Российской Федерации и иными законами в зависимости от места, занимаемого им в системе органов Российского государства.
Федеральное Собрание принимает законы и иные акты по вопросам, отнесенным к ее ведению Конституцией Российской Федерации.
Законы и постановления издаются как по вопросам, отнесенным Конституцией к исключительному ведению федеральных органов власти, так и по вопросам совместного ведения федеральных органов власти Российской Федерации и органов власти субъектов Федерации. Они принимаются с соблюдением особой процедуры, предусмотренной регламентами Государственной Думы и Совета Федерации.
Президент Российской Федерации, будучи главой государства, на основе Конституции и законов Российской Федерации издает указы, причем они могут быть и нормативного, и индивидуального, оперативного характера. Правительство как орган исполнительной власти правомочно решать вопросы государственного управления, отнесенные к ведению Федерации, постольку, поскольку они не входят, согласно Конституции и законодательству, в компетенцию Федерального Собрания и Президента Российской Федерации. Свои акты нормативного характера Правительство обычно издает в форме постановлений.
Министерства, государственные комитеты, иные ведомства, будучи центральными органами исполнительной власти, руководят порученными им сферами управления. Их полномочия в области издания нормативных актов определены законами, актами Президента и Правительства. Обычно министерства, будучи органами единоличного руководства, издают приказы и инструкции, государственные комитеты как коллегиальные органы — постановления. Нормативный характер носят, как правило, инструкции и постановления.
В пределах своих полномочий издают нормативные акты также органы законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации — республик, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга.
Следующий вид органов, осуществляющих правотворческую деятельность, — органы местного самоуправления: районные, городские, районные в городах, поселковые и сельские представительные органы местного самоуправления и соответствующие им местные администрации. Издавая нормативные акты (обычно они имеют разные наименования — решения, постановления, распоряжения и т. д.), органы местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение гражданами всех вопросов местного значения через избираемые ими органы или непосредственно, исходя из интересов населения, на основе закрепленных за органами самоуправления материальных и финансовых ресурсов.
Наконец, администрация объединений, предприятий, учреждений в пределах своих полномочий издает так называемые локальные нормативные акты, регулирующие отношения внутри соответствующих подразделений (например, принятие правил внутреннего трудового распорядка).
Референдум как вид правотворчества. За последнее время во многих государствах все большее распространение получает форма непосредственного участия народа в правотворчестве — референдум, т. е. принятие законов путем всенародного голосования. Это один из путей расширения демократии, привлечения граждан к решению важнейших вопросов государственной жизни. В данном случае народ непосредственно осуществляет определенный акт законодательной власти, принимает правотворческое решение.
Решения, принятые всероссийским референдумом, обладают высшей юридической силой, в каком-либо утверждении не нуждаются и обязательны для применения на всей территории Российской Федерации. На всенародное голосование может быть поставлен текст законопроекта, по которому гражданам предлагается высказать свое мнение.
Нормативные соглашения. Заключение соглашений, содержащих обязательные для исполнения правовые предписания, все шире используется в правотворческой практике российского государства, причем такие соглашения заключаются между различными субъектами права и их юридическая сила неодинакова. Примером такого рода соглашений может служить, в частности, Федеративный договор, содержащий нормы о распределении компетенции между государственными образованиями Российской Федерации, о предметах исключительного ведения Федерации и ее субъектов, а также их совместного ведения. Практикуется заключение соглашений и по экономическим, политическим и иным вопросам между Федерацией и отдельными ее членами (республиками, краями, областями и т. д.), между субъектами Федерации.
Характерной особенностью современных взаимоотношений между общественными объединениями и государственными структурами является (вместо издания ими совместных актов, что активно применялось ранее) заключение разного рода соглашений, содержащих нормативные предписания. В первую очередь это касается регулирования трудовых отношений. Так, в соответствии с Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. “О коллективных договорах и соглашениях”[266] может быть заключен коллективный договор — правовой акт, регулирующий трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между работодателем и работниками на предприятии, в учреждении, организации. Он заключается Между работниками в лице одного или нескольких профсоюзов, иных уполномоченных работниками представительных органов и работодателем непосредственно или уполномоченными им представителями. Коллективный договор заключается на предприятиях, в их структурных единицах, наделенных правами юридического лица, независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности и численности работников.
Наряду с коллективным договором законом предусматривается также заключение разного рода соглашений — правовых актов, содержащих обязательства по установлению условий труда, занятости и социальных гарантий для работников определенной профессии, отрасли, территории. В зависимости от сферы регулируемых отношений заключаются соглашения генеральные, устанавливающие общие принципы согласованного проведения социально-экономической политики, отраслевые (тарифные), которые определяют направления социально-экономического развития, условия труда и оплаты труда, социальные гарантии для работников отрасли (профессиональных групп), и, наконец, специальные, устанавливающие условия решения определенных социально-экономических проблем, связанных с территориальными особенностями. Такие соглашения могут заключаться на разном уровне: на федеральном — между общероссийскими объединениями профсоюзов, иных уполномоченных работниками представительных органов; общероссийскими объединениями работодателей; Правительством Российской Федерации;
на республиканском (республики в составе Федерации) — между республиканскими объединениями профсоюзов, иных уполномоченных работниками представительных органов; республиканскими объединениями работодателей; правительством республики в составе Российской Федерации;
на отраслевом или профессиональном — между соответствующими профсоюзами, иными уполномоченными работниками представительными органами; работодателями (объединениями работодателей); Министерством труда и занятости населения;
на территориальном — между соответствующими профсоюзами (объединениями профсоюзов), иными уполномоченными работниками представительными органами; работодателями (объединениями работодателей); органами исполнительной власти.
§ 3. Основные стадии правотворческого процесса
Процесс создания нормативного акта складывается из отдельных стадий его подготовки, рассмотрения, утверждения и обнародования (оглашения). Характерными чертами такого процесса в Российской Федерации являются дальнейшее укрепление демократических основ создания правовых норм, гласности и профессионализма, учет общественного мнения, повышение внимания к качеству и теоретической обоснованности принимаемых законодательных решений, широкое привлечение научной общественности к их выработке и обсуждению.
Предварительное формирование государственной воли (подготовка проекта). Это первый этап правотворческого процесса. Он начинается с принятия решения о подготовке проекта. Оно прежде всего находит воплощение в утвержденных планах правоподготовительных работ, принятие которых осуществляется в правотворческой практике Российской Федерации и ряда других государств. Кроме того, относительно законопроектов такое решение может исходить от высшего законодательного органа страны в форме поручения своим постоянным комитетам, Правительству или какому-либо иному органу или их совокупности разработать проект конкретного акта. Законопроект может быть подготовлен и по инициативе Президента, Правительства Российской Федерации, постоянных комитетов Государственной Думы, отдельных депутатов, других органов и организаций, обладающих правом законодательной инициативы. Наконец, инициативу в подготовке законопроекта могут проявить субъекты Российской Федерации через их высшие органы государственной власти.
Проекты указов Президента, постановлений Правительства обычно готовятся соответствующими министерствами и ведомствами либо на основании плана правотворческих работ, либо по разовому поручению Президента, руководства Правительства, либо по собственной инициативе. Такие проекты могут быть подготовлены также в аппарате соответственно Президента, Правительства.
При подготовке проектов обычно применяется ведомственный, отраслевой принцип, в соответствии с которым первоначальные проекты составляются теми органами и организациями, профилю деятельности которых они соответствуют. Такой принцип обеспечивает квалифицированное составление проекта, участие специалистов. Во многих случаях дается поручение составить первоначальный текст проекта нескольким ведомствам, включая и юридический орган (Министерство юстиции, Верховный суд, Высший Арбитражный Суд, Прокуратуру).
В правотворческой практике используется в зависимости от содержания проекта и другой принцип, когда законопроекты готовятся постоянными комитетами высшего представительного органа страны (законопроекты о выборах, о статусе народных депутатов и др.). Однако ведомственный принцип подготовки проектов все же преобладает в современной правотворческой практике.
Активная роль в подготовке проектов принадлежит общественным объединениям. В одних случаях они готовят проекты по собственной инициативе, в других — привлекаются к подготовке совместно с государственными органами. Большинство крупных законодательных актов, в первую очередь тех, которые касаются граждан и их организаций, готовятся с участием партий, профсоюзов и других общественных объединений.
Следующая стадия правотворческого процесса — предварительные работы, предшествующие составлению текста проекта. До начала подготовки проекта важно выявить общественную потребность в нормативном регулировании соответствующей сферы общественных отношений. Прежде всего определяются, каково фактическое состояние той области жизнедеятельности общества (экономики, политики, социальной сферы), к которой относится предлагаемый акт, существо вопроса, который должен быть решен в проекте, а также общая цель предполагаемого правового регулирования. При этом следует помнить, что проекты нормативных актов готовятся как с целью решения новых вопросов, возникших на практике и требующих правового регулирования, так и для устранения имеющихся в законодательстве пробелов, устаревших предписаний и противоречий, множественности актов по одним и тем же вопросам.
На данном этапе весьма важно получить подробную информацию о действующем законодательстве по затрагиваемому вопросу, проанализировать его состояние, практику применения. Желательно, чтобы разработчики проекта, ответили на вопросы: принимались ли раньше акты по теме предлагаемого проекта; если принимались, то каковы их эффективность и недостатки, каким образом они будут связаны с разрабатываемым проектом; как предлагаемый акт впишется в действующее правовое регулирование, насколько хорошо он будет взаимодействовать с системой действующих или намеченных к разработке нормативных актов и т. п.
Разработка проектов без увязки с действующими актами усугубляет и без того довольно значительную разбалансированность и внутреннюю противоречивость российского законодательства. Вот почему по каждому проекту перед началом его разработки целесообразно подготовить справку о действующем регулировании по соответствующему вопросу. Уместно также составление справки о зарубежном законодательстве по теме проекта.
Анализ состояния законодательства по вопросам, относящимся к теме проекта, помогает ответить и на вопрос, можно ли ограничиться внесением изменений и дополнений в ранее принятые акты или действительно необходимо подготовить новый акт. Заранее должны быть определены возможные последствия действия акта: экономические, социальные, юридические, экологические и другие, а также просчитаны возможные затраты материальных, финансовых и иных ресурсов, необходимых для решения вопроса, соответствующие доходы, издержки и т. д.
На начальной стадии работы над проектом вырабатываются основные положения будущего акта, которые должны обеспечить решение поставленных задач, достижение требуемых результатов, а также устранение недостатков действующего по данному вопросу законодательства. Для законопроекта и проекта другого важного акта в ряде случаев необходима и разработка его научной концепции.
Следующая стадия — это подготовка первоначального текста проекта. Для выработки важных и сложных проектов обычно образуются комиссии, включающие представителей основных заинтересованных органов, общественных организаций, ученых-юристов и других специалистов. В случае необходимости комиссии создают подкомиссии, рабочие и редакционные группы.
К работе подготовительных комиссий, разрабатывающих проект того или иного акта, привлекаются заинтересованные ведомства, научные и практические учреждения, отдельные ученые, представители делового мира, предприниматели, квалифицированные юристы. Целесообразно также привлекать к работе депутатов, не включенных в состав таких комиссий. Главное при этом — обеспечить работоспособный и компетентный состав комиссии. Она должна сочетать в своей работе демократизм, профессионализм и деловитость. Важно поэтому, чтобы в подготовительные комиссии включались именно специалисты — люди, имеющие большой опыт и знания.
В подготовке проектов обязательно участие юридических подразделений органов и организаций, разрабатывающих проект. Такое участие обеспечивает высокую юридическую культуру проекта, правильное его оформление и соблюдение правил законодательной техники, стыковку с действующим регулированием по теме проекта.
Правотворческий орган может поручать подготовку альтернативных проектов нескольким органам, организациям, творческим коллективам или отдельным лицам либо заключать с ними договоры, а также объявлять конкурсы на лучший проект. Это дает возможность получить неординарные решения, отразить плюрализм мнений и позиций, выработать оптимальное решение того или иного вопроса.
После того как первоначальный проект разработан, наступает следующая стадия правотворческого процесса — предварительное обсуждение проекта. Оно обычно осуществляется с привлечением большого круга заинтересованных органов, организаций, общественности. Формы такого обсуждения разнообразны: это широкое обсуждение на местах (в республиках, областях и т. д.) с привлечением целого ряда учреждений, общественных организаций; парламентские чтения; обсуждение на совещаниях непосредственно при правотворческом органе с участием научной общественности и заинтересованных министерств, ведомств и иных организаций; расширенные заседания подготовительных комиссий; обсуждение в печати и на телевидении; рецензирование проекта научно-исследовательскими учреждениями; отзывы и заключения на проект со стороны министерств, ведомств, иных учреждений и организаций, не участвующих в его разработке, и т. д. Разнообразные формы обсуждения позволяют лучше учесть общественное мнение, дают составителям проекта достаточно четкие ориентиры в работе.
Все законопроекты обычно предварительно рассматриваются на заседаниях профильных комитетов законодательного органа. Такое рассмотрение — залог делового и организованного прохождения проекта, гарантия более углубленной проработки вопросов.
Важно создать условия, обеспечивающие конструктивное, творческое рассмотрение и обсуждение различных вариантов решений, а также имеющихся альтернативных проектов. В этом одна из важных предпосылок подготовки обоснованного, качественного решения.
Подготовленные проекты должны быть подвергнуты всесторонней правовой, финансовой, экологической и иной специализированной экспертизе. Такая экспертиза, будучи постоянной и обязательной, призвана способствовать повышению качества подготавливаемых нормативных решений, эффективности правотворческой работы.
Важнейшие законопроекты могут быть вынесены на всенародное обсуждение. В процессе всенародного обсуждения законопроект публикуется в центральных и местных газетах и журналах, рассматривается на заседаниях представительных органов различных звеньев, в трудовых коллективах предприятий и учреждений, в воинских частях, общественных объединениях, на собраниях граждан по месту жительства.
Всенародные обсуждения в нашей стране пока еще не превратились в эффективный инструмент учета общественного мнения в законодательной работе, повышения качества законопроектов. Они проводятся при явно недостаточной активности граждан и их объединений. Повысить действенность всенародных обсуждений могли бы, в частности, публикация в печати не только самого проекта, но и комментариев к нему, интервью по наиболее актуальным и острым вопросам, затрагиваемым в проекте. Уместно расширить формы обсуждения: заполнение анкет, выборочные опросы населения, конференции, встречи и беседы депутатов с избирателями и др. Очень важно также обеспечить максимальный учет предложений, высказываемых в ходе обсуждения. Обобщенные сводки предложений следует публиковать, комментировать по радио и телевидению. Наряду с этим должен быть отлажен механизм изучения и анализа этих предложений. В частности, уместно использовать современные научные методы обработки и обобщения предложений.
После учета замечаний и предложений проект окончательно отрабатывается и редактируется. Как правило, это делает та рабочая комиссия, которая составляла первоначальный текст проекта.
Затем наступает новый этап правотворческой процедуры, когда работа над проектом вступает в официальную фазу и осуществляется самим правотворческим органом.
Возведение государственной воли в закон (деятельность правотворческого органа по рассмотрению и принятию нормативного акта). Этот этап начинается с внесения проекта в официальном порядке в соответствующий правотворческий орган от имени органа или организации, готовивших его. Правом официального внесения законопроектов в высший представительный орган страны (право законодательной инициативы) пользуются определенные полномочные органы, организации и лица, обычно предусмотренные в Конституции.
Проект закона представляется вместе с объяснительной запиской, содержащей обоснование необходимости его принятия, развернутую характеристику целей, задач и основных положений будущего закона и его места в системе действующего законодательства, а также ожидаемых последствий его применения. При представлении проекта, реализация которого потребует дополнительных материальных и иных затрат, прилагается финансово-экономическое обоснование.
Все официально внесенные законопроекты рассматриваются и принимаются, как правило, после обсуждения соответствующими комитетами палат законодательного органа по профилю проекта, а также комитетом по законодательству.
Следующая стадия правотворческого процесса, свойственная коллегиальному правотворческому органу, — внесение рассмотрения проекта в повестку дня заседания. Затем следует обсуждение и официальное принятие проекта.
Эти стадии применительно к деятельности высшего представительного органа страны обычно детально регламентируются.
Рассмотрение законопроектов осуществляется в трех чтениях, если законодательным органом применительно к конкретному проекту не будет принято иное решение. Практика проведения нескольких чтений законопроекта позволяет более детально, внимательно и всесторонне рассмотреть проект, внести в него необходимые поправки и обеспечить тем самым принятие более продуманного законодательного решения.
При первом чтении законопроекта заслушивается доклад инициатора законопроекта и содоклад головного комитета. Затем депутаты обсуждают основные положения законопроекта и высказывают предложения и замечания в форме поправок, рассматривают предложения об опубликовании при необходимости законопроекта для обсуждения. По результатам обсуждения законодательный орган одобряет основные положения законопроекта или отклоняет его. В случае одобрения обычно устанавливается срок его представления для второго чтения.
Рассмотрение внесенных поправок к проекту и подготовка его ко второму чтению осуществляются головным комитетом или другим органом, которому поручена доработка проекта.
При втором чтении с докладом выступает председатель головного по данному законопроекту комитета либо руководитель органа, дорабатывающего проект. Обсуждение проводится постатейно, по разделам или в целом.
В результате второго чтения законодательный орган либо принимает закон, либо отклоняет его, либо возвращает на доработку.
На голосование ставятся отдельно каждая статья либо раздел или глава проекта. Статья, раздел, глава принимаются за основу, затем на голосование ставятся все поступившие в письменном виде поправки. Если предложено внести несколько поправок в одну и ту же статью проекта, то вначале обсуждаются и голосуются те из них, принятие или отклонение которых позволит решить вопрос о других поправках.
Когда обсуждены все поправки, статья, раздел или глава утверждаются в целом с принятыми поправками. Затем проект утверждается в целом. Порядок подсчета голосов обычно четко устанавливается регламентами законодательного органа.
В деятельности законодательных органов ряда стран (в частности, в Российской Федерации) существует практика принятия законов в трех чтениях. Так, в соответствии с Регламентом Государственной Думы принятый во втором чтении законопроект направляется в ответственный комитет Государственной Думы для устранения возможных внутренних противоречий, установления правильных взаимоотношений статей и редакционной правки ввиду изменения текста законопроекта при втором чтении. При третьем чтении законопроекта не допускается внесение в него поправок и возвращение к его обсуждению в целом либо по отдельным статьям, главам, разделам.
В Регламенте Государственной Думы установлен также порядок повторного рассмотрения федеральных законов, отклоненных Советом Федерации, а также повторного рассмотрения тех из них, которые отклонены Президентом Российской Федерации.
Коллегиальные правотворческие органы (Правительство, государственные комитеты и др.) принимают нормативные акты простым большинством голосов. Президент государства, министры и другие органы единоличного руководства утверждают свои акты (указы, приказы, инструкции и т. д.) в персональном порядке.
Официальное оглашение принятого нормативного акта. Заключительной стадией правотворческого процесса является официальное опубликование принятого нормативного акта в особых, предусмотренных законом печатных органах (специальные издания, газеты), а также его официальное оглашение в иной форме (по радио, телевидению, телеграфу, путем рассылки официальных текстов в заинтересованные органы и организации).
Таким образом обычно обнародуются законодательные акты, нормативные решения Президента и Правительства. Во многих странах установлено правило, согласно которому не опубликованный в официальном издании акт (кроме актов, содержащих государственную или военную тайну) не влечет правовых последствий, и лицо (орган) не несет юридической ответственности за нарушение его предписаний.
Так, в соответствии с п. 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
Ведомственные акты, издаваемые министерствами, государственными комитетами и иными учреждениями, публикуются в издаваемых этими органами бюллетенях (если таковые имеются), а также в официальном порядке рассылаются в подчиненные органы, учреждения, организации. Акты органов местного самоуправления публикуются в соответствующих бюллетенях, а также развешиваются на видных местах.
§ 4. Законодательная техника
Под законодательной техникой понимается система правил и приемов подготовки наиболее совершенных по форме и структуре проектов нормативных актов, обеспечивающих максимально полное и точное соответствие формы нормативных предписаний их содержанию, доступность, простоту и обозримость нормативного материала, исчерпывающий охват регулируемых вопросов. От соблюдения правил законодательной техники во многом зависит степень совершенства законодательства, доходчивость нормативных актов, высокий уровень систематизации законодательства.
К форме готовящихся проектов предъявляются следующие требования:
логическая последовательность изложения, взаимосвязь нормативных предписаний, помещаемых в правовом акте;
отсутствие противоречий внутри нормативного акта, в системе законодательства;
максимальная компактность изложения норм права при глубине и всесторонности отражения их содержания;
ясность и доступность языка нормативных актов;
точность и определенность формулировок и терминов, употребляемых в законодательстве;
сокращение до минимума количества актов по одному и тому же вопросу в интересах лучшей обозримости нормативного материала, облегчения пользования им; укрупнение правовых актов.
Необходимой предпосылкой высокой культуры правотворчества является выявление и тщательное изучение предшествующего законодательства по вопросам, составляющим содержание проектируемого акта. Новый акт вливается в систему права и оказывает на предшествующее законодательство существенное влияние. Установление нового нормативного регулирования, его упорядочение невозможны без официального определения судьбы актов, которые по-иному регулируют тот же вопрос, без отмены устаревших, утративших свое значение актов.
Если в действующих актах имеются повторения, несогласованности, противоречия с предполагаемым регулированием, то должны быть подготовлены в качестве самостоятельных статей (пунктов) проекта либо пунктов постановления о введении его в действие предложения о внесении в действующие акты изменений в связи с принятием нового нормативного решения, о признании актов, их частей утратившими силу, а также поручение нижестоящим органам привести свои акты в соответствие с новым актом.
Самая удачная форма внесения изменений в нормативные акты — оформление новой редакции изменяемого предписания и помещение его непосредственно в текст акта вместо старой редакции. Дополнения также должны вноситься в текст изменяемого акта.
Для нормативных актов характерны единые унифицированные стереотипы, формальные реквизиты, заранее установленные структурные части. Без таких официальных атрибутов, как указание места и даты издания, наименования (вида) нормативного акта (например, Федеральный закон, Основы законодательства и т. д.), его заголовка, подписей официальных лиц, а для ряда актов —- и порядкового номера издания не может быть нормативного акта как официального документа.
Законодательные акты обычно делятся на статьи, президентские, правительственные и ведомственные акты, а также акты местных представительных органов и их исполнительных структур — на пункты. К статьям закона, как правило, даются заголовки, в которых обозначается предмет регулирования соответствующей статьи. Значительные по объему акты делятся на главы, разделы, части. Некоторые из них снабжаются преамбулами, приложениями.
Не следует включать в текст нормативного акта (за исключением преамбулы, которая помещается, как правило, в Проектах наиболее важных актов) общие рассуждения, научные положения, призывы, декларации и т. п. Для того чтобы Нормативный акт был действительно юридическим документом, он должен излагаться простым, ясным языком, по возможности короткими фразами. В нем не должны употребляться образные сравнения, эпитеты, метафоры, а также устаревшие и многозначные слова и выражения, термины, не являющиеся общеупотребимыми.
Точность, лаконичность и строгость стиля — характерные черты языка нормативных актов. Для законодательного текста не свойственны эмоциональная окрашенность, вольная литературная обработка. Очень важно единство употребления терминов. Один и тот же термин должен последовательно использоваться в тексте акта при обозначении одного и того же понятия. Это правило необходимо соблюдать и при внесении в нормативные акты изменений и дополнений.
В проекте целесообразно давать определения имеющих принципиальное значение терминов (законодательные дефиниции), а также расшифровку малоизвестных юридических, технических и других специальных терминов, особенно если будущий акт рассчитан на широкое применение и касается большого круга должностных лиц или многих граждан.
В качестве обязательного компонента в нормативном акте должны быть предусмотрены специальные правовые средства, обеспечивающие его соблюдение: меры поощрения, контроля, порядок разрешения споров и т. д.
В проекте, содержащем предписания, которые устанавливают обязанности государственных и общественных органов, предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц и граждан, меры ответственности за их нарушение формулируются в том случае, если они отсутствуют в действующем законодательстве. Если же такие меры уже предусмотрены, то следует дать отсылку к устанавливающим их действующим актам.
В случае необходимости одновременно с проектом закона готовится проект постановления о порядке введения закона в действие. В проекте такого постановления регламентируются вопросы отмены или изменения ранее принятых законов либо их отдельных частей, начала действия закона, формулируются правила, которые должны распространяться на отношения, возникшие до вступления закона в силу, решаются другие вопросы, касающиеся порядка его реализации.
Глава 6. Система права и система законодательства
§ 1. Основные системные понятия в теории и практике позитивного права
В современной правовой науке сложилось различное применение понятия или самого термина “система” к характеристике наиболее общих категорий позитивного права. Так, в теории, обращенной к внутригосударственному праву той или иной страны, применяются понятия “система права” и “система законодательства”, когда имеют в виду те или иные аспекты структурной дифференциации правовых норм или законодательных актов, сложившейся в данном государстве, в его “национальном” праве.
Между тем в правовой компаративистике, изучающей различные варианты сопоставления правовых систем суверенных государств, активно применяется термин “правовая система” Он, естественно, необходим как для обозначения таких систем в целом для разных государств, так и для выделения сходных в основных чертах групп “национальных” правовых систем, получивших впоследствии название “семей” правовых систем (англосаксонская, континентальная, мусульманская и др. “семьи”)[267]. Такое понятие сложилось и в отечественном правоведении[268].
Интересы сравнительного правоведения обращены к анализу не только системы дифференциации правовых норм, но и таких главных черт правового строя, как принципы данного общества, в особенности принципы его государственного строя; источники права, признанные в обществе и государстве; для “традиционных” систем — господствующие обычаи, нормы нравственности и религиозные воззрения и нормы поведения; основные отрасли права, судебная система. Поэтому само понятие “правовая система” приобрело в правовой компаративистике гораздо более широкое значение, чем понятия “система права” и “система законодательства” во “внутригосударственном” правоведении.
Долгое время, вплоть до 80-х годов текущего столетия, понятия системы права и законодательства рассматривались в отечественной научной литературе почти исключительно в нормативно-правовом аспекте. Взаимосвязи и зависимости между правом в его нормативном выражении и применением правовых норм, их реализацией, правоотношением, правосознанием и иными правовыми явлениями, несомненно, обстоятельно рассматривались в теории права и использовались в правовой практике. Однако в единое понятие правовой системы они не сводились. В лучшем случае в теории все названные явления объединялись понятием “элементы (части) правовой надстройки”, которое, однако, не содержало системной характеристики единства и взаимосвязи правовых явлений. С развитием теории права в нашей отечественной науке возникла настоятельная потребность более широкого применения системного подхода к общему анализу внутренней структуры правовых явлений в их единстве и взаимодействии. На этой основе сложилось и понятие правовой системы, характеризующее внутригосударственное право данной страны, как бы объединяющее все основные его элементы и взаимосвязи между правовыми явлениями в жизнедеятельности общества, государства и его граждан и организаций[269].
В современных условиях следует всемерно поддержать разработку в отечественной правовой науке системного подхода и широких категорий, охватывающих не только структурную дифференциацию правовых норм, но и разнообразные иные взаимосвязи правовых явлений. Такой категорией и служит понятие “правовая система” Но при этом важно отметить, что ни один из авторов, использующих это понятие, не отрицал и не отрицает сейчас самостоятельного места понятий системы права и законодательства как системы действующих в данном обществе правовых норм и актов, в коих они официально закрепляются. Не следует этими понятиями поглощать все системные взаимосвязи норм и правоотношений, законов и процесса их применения, реализации и т. п.
Понятия “система права” и “система законодательства” несомненно продолжают играть свою роль в правовой практике и науке права любого современного государства. К тому же в научной литературе прочно утвердилось и мнение о том, что оба этих понятия тесно взаимосвязаны между собой, поскольку нормы права, по крайней мере в большинстве современных развитых государств, находят свое выражение в законодательстве как важнейшем источнике внутригосударственного права. Поэтому понятия “система права” и “система законодательства” рассматриваются в науке как однопорядковые, но не тождественные системы, выражающие соответственно структуру содержания и формы позитивного права. Из этой взаимосвязи структуры действующего права и законодательства исходит дальнейшее изложение темы.
Можно считать общепризнанным, что сложившаяся система права и законодательства играет важную роль стабилизирующего фактора в формировании и развитии общественных отношений и процесса их регулирования, в обеспечении правомерной деятельности граждан, организаций и самого государства. Достижение такой стабилизации государственная власть с древних времен видела в установлении единого порядка в стране путем опоры на помощь мудрых обычаев и законов, в обеспечении строгого соблюдения установленного порядка. Во всемирной истории по-разному складывались у тех или иных народов сами законы, обычаи, судебная и административная практика. Но ни одно государство не обходилось без этих важнейших юридических средств обеспечения порядка и стабильности.
Нетрудно отсюда подойти к тому, насколько важным является становление и упрочение системы права и законодательства в современный период развития страны, связанный с глубокими реформами и кризисными явлениями в сфере государственности, экономики и социальных отношений, а также в области массовой идеологии, сознании и нравственности каждого человека. Идея создания четко скорректированной системы законов и иных нормативных правовых актов как условия Достйжения стабильности и порядка буквально не сходит со страниц газет и журналов; этой проблеме посвящена работа законодательных, представительных органов, органов исполнительной и судебной власти. Ее провозглашают своей важнейшей заботой избранники народа, политические и общественные деятели.
Этой идее посвящены также усилия научной мысли и Юридической общественности, объединенные задачей радикальной правовой реформы. Наконец, Указом Президента России 6 февраля 1995 г. положено начало работы по всеобщей систематизации российского федерального законодательства — подготовки и издания Свода законов Российской Федерации[270]. В настоящее время подготовлен и внесен на рассмотрение Государственной Думы проект Федерального закона “О Своде законов Российской Федерации”, находящийся на стадии рассмотрения комитетов Думы[271]. Ведется предварительная работа по формированию данного Свода[272].
Все это свидетельствует о том, что формирование предметной системы права и законодательства — настоятельная потребность нынешнего этапа развития России на пути к прочной демократии и рыночной экономике.
§ 2. Структура системы права и законодательства
Всякой системе независимо от того, какие объекты или явления составляют ее содержание, свойственна определенная структура, т. е. “наличие связей между элементами и появление в целостной системе новых свойств, не присущих элементам в отдельности. Связь, целостность и обусловленная ими устойчивая структура — таковы отличительные признаки любой системы”[273]. “Структура, — отмечал Д. А. Керимов, — каркас (скелет), при помощи которого организуется, упорядочивается содержание данного явления”[274].
Значение устойчивой структуры, упорядочивающей содержание, и послужит основным ориентиром характеристики системы права и законодательства в дальнейшем изложении.
Структурный аспект правовой системы всякого государства состоит в том, что все правовые нормы, входящие в действующее, позитивное право, составляют единое целое (действующее право в целом), разделяемое по содержанию различных норм на соответствующие взаимосвязанные части структуры права и законодательства. Основанием такой содержательной структуры права и законодательства служит разнообразие видов общественных отношений, являющееся объективным, лежащим вне права критерием его разделения на различные части: отрасли, подотрасли, институты права. Такой объективный критерий деления единого в своей основе права на отрасли, институты и т. п. носит название предмета правового регулирования.
Кроме предмета регулирования отрасли права характеризуются также особенностями метода правового регулирования. Например, таким отраслям права, как гражданское, семейное, в значительной мере также трудовое, и некоторым другим отраслям присущ диспозитивный метод, допускающий широкий выбор средств регулирования по воле сторон соответствующего правоотношения.
Отраслям права, устанавливающим нормы, которые регулируют деятельность государства, его органов управления и правосудия, присущ главным образом метод императивного регулирования, т. е. регулирования с помощью норм, обязательных для исполнения участниками правоотношения.
Некоторым отраслям права присущи методы специального правоохранительного назначения, направленные на осуществление защиты прав и свобод граждан, различных организаций, установленного законом правопорядка. Конкретные особенности метода регулирования могут быть выражены целым набором средств, присущим каждой отрасли права.
Разделение права на отрасли, институты, иные структурные элементы по предмету и методу регулирования представляет собой основную, главную юридическую структуру предметной дифференциации права и законодательства.
Кроме этой главной структуры деление права и законодательства имеет еще иную, как бы вторичную структуру, состоящую из образования комплексных массивов правовых норм различных отраслей права и законодательства. Такие комплексы и массивы возникают в современном праве и законодательстве в условиях развитой промышленности, транспортных артерий, связи, энергетики и других отраслей массового производства и оказания услуг, охраны окружающей среды, требующих применения разнообразных технических, организационных и иных средств в тесной их взаимосвязи. Это влечет за собой и специфические правовые средства организации Деятельности людей, их труда, профессиональной подготовки, управления соответствующими органами, коллективами Работников и т. п. Поэтому в юридической науке и практике Наряду с дифференциацией правовых норм по отраслям и институтам права прочно сложились такие комплексы и массивы правовых норм, как морское право, сельскохозяйственное право, горное, лесное и другие природоресурсовые отрасли, законодательство о промышленности, связи, информатизации и т. п. В таких комплексных[275] объединениях правовых норм главным является не выделение особых, юридически дифференцированных отраслей права, а, наоборот, интеграция специальных для той или иной сферы деятельности общества (отрасли хозяйства, управления, культуры, образования, здравоохранения и т. п.) разнородных норм права, т. е. норм, различных по юридической первоначальной дифференциации права и законодательства.
Образование специальных, можно сказать, профилизированных по предметному содержанию и назначению, правовых норм как бы дополняет основную, отраслевую дифференциацию, но не должно противоречить ей. Иначе говоря, например, нормы о гражданских правовых отношениях (скажем, транспортные уставы и правила перевозки на транспорте) не должны противоречить общим нормам гражданского права о договоре перевозки, установленным ГК; нормы об особых условиях труда в разных отраслях хозяйства — общим нормам КЗоТ. Нормы комплексных актов могут носить характер оправданных спецификой исключений из общих правил, но не должны игнорировать эти правила или отменять их. Римские юристы называли такие нормы jus singulare (норма для особого случая).
В современной литературе структура права и законодательства (т. е. нормативной части правовой системы) раскрывается также не только в отраслевом (или так называемом “горизонтальном”) аспекте. Большинством ученых признается “вертикальный аспект” рассмотрения структуры законодательства, т. е. соотношение законов с подзаконными нормативными актами, а также иерархия последних между собой в зависимости от их юридической силы; изучение системы, дифференциации и взаимодействия федерального законодательства с законами и иными нормативными правовыми актами органов субъектов Федерации.
“Вертикальные” аспекты получают свое самостоятельное освещение и разработку в юридической науке[276]. Объекты и критерии разграничения норм по юридической силе или по федеральному и “региональному”[277] уровням существенно отличны от отраслевой дифференциации и интеграции содержания норм права и актов законодательства. В основе отраслевого подхода лежит различие содержания и предмета правового регулирования. Критерии различий “вертикальной” структуры права иные: компетенция органов, предметы ведения федерации и ее субъектов, юридическая сила актов. Между тем предметный критерий (он же критерий содержания данной группы норм) служит главным признаком для определения круга правовых норм и актов, подлежащих применению в каждом отдельном случае осуществления тех или иных юридических действий, прав и обязанностей. Такой критерий и выявляется в процессе предметной дифференциации и интеграции норм права, законодательных и иных нормативно-правовых актов. Поэтому такая предметная дифференциация и интеграция, выраженная в понятиях “система права” и “система законодательства”, сложилась в самостоятельную проблему правовой науки и практики.
Предметный критерий познания и построения системы права и системы законодательства связывает обе эти системы с тем главным свойством, которым характеризуется всякая система: с упорядочением ее содержания, созданием устойчивых связей элементов внутренней структуры, способных выявить и обеспечить действие свойств целостной системы, не присущих ее отдельным элементам.
Поэтому именно предметный подход и структурный анализ содержания права и законодательства являются главными для познания и построения структуры права и способов ее выражения в законодательстве.
§ 3. Система права и система законодательства: единство или различие?
Опыт исторического развития самых разнообразных государств от далекого прошлого до современности с убедительностью свидетельствует, что законодательство любого государства всегда нуждалось в известном упорядочении — приведении разрозненных норм в определенную систему. Однородные по своему предмету, но принятые разрозненно правовые нормы постепенно с учетом их значения объединялись в систематизированные законодательные акты, например, в так называемые варварские правды (Салическая правда, Польская правда), судебники, кодексы законов.
В реальном развитии права добуржуазных и буржуазных государств, несомненно, складывалось предметное обособление отдельных отраслей права, которое прошло длительный и весьма разнообразный путь развития. Широко известно деление права на публичное и частное в Древнем Риме, а также различение в античном мире цивильного права, естественного права и права народов. Средние века характеризировались различением божественного права и законов государства, идеологически “подвластных" божественному праву. Однако практическое значение имели прежде всего партикуляризм и сословная дифференциация норм обычного права, судебной практики и законодательства. Не иссякало и влияние римского частного права, интерпретированного университетскими знатоками, знавшими латынь и кодификацию Юстиниана. Современное значение формирование и разграничение отраслей законодательства получили, по существу, с утверждением буржуазных отношений в Европе и Северной Америке в виде кодификации морского, гражданского, уголовного права, законодательства о судоустройстве и судопроизводстве, принятия конституций и иных конституционных актов, развития административного права централизованных государств, финансового и банковского права и т. п. В XIX в. появляется “рабочее законодательство”, а также право “социального призрения”, а в дальнейшем — и право социального обеспечения неимущих, временно или постоянно нетрудоспособных.
Таким путем, по крайней мере в истории стран европейской континентальной культуры, складывалось деление права и законодательства на отрасли или иные подсистемы правовых норм. Этого требовали как реальные потребности жизни, так и идеологические, в том числе религиозные, представления и отношения.
В истории нашего отечества периодов Киевской и Московской Руси известны самостоятельные примеры систематизации законодательства, на основе складывающихся древнеславянских обычаев и влияния византийского права и православной культуры. Начало было положено Русской Правдой Ярослава Мудрого (1016 г.), судными грамотами Новгорода и Пскова и т. д. В период Московского государства выдающимся памятником кодификации законодательства стало Соборное уложение 1649 г.
Переломным периодом стали реформы Петра I, при котором Россия получила новую ориентацию законодательства на основе имперских традиций государств Западной Европы. Однако мысли Указа Петра I от 18 февраля 1702 г. о “...снесении Соборного уложения 1649 года с Постановлениями, после него состоявшимися” были воплощены в жизнь только в 1833 г., когда под руководством М. М. Сперанского был подготовлен и утвержден императором Николаем I Свод законов Российской империи, сыгравший немалую роль в создании системы российского законодательства XIX в.[278].
Традиции кодификации и общей систематизации законодательства были продолжены в советском государстве, где с начала 20-х годов возникла система кодексов и союзных основ главных отраслей законодательства. В 80-х годах было осуществлено издание Свода законов СССР и сводов законов союзных республик.
С учетом исторического опыта отечественного права и законодательства в советской правовой науке сложилось научное направление исследования системы права и законодательства, которое в настоящее время используется в науке права и современной России.
Поэтому важно остановиться на основных теоретических позициях учения о системе советского права и путях его использования в современных условиях развития системы права и законодательства Российской Федерации.
В советской правовой науке сложились представления о принципиальном отличии системы права от системы законодательства.
Система права рассматривалась в виде ее деления на отрасли, подотрасли и институты и отдельные нормы как объективная или объективно-обусловленная структура права, а система законодательства признавалась “логической системой”, создаваемой при систематизации законодательства по различным признакам, совпадающим не только с признаками отраслей права, но и с комплексными массивами (отраслями), создаваемыми якобы лишь для удобства пользования законами[279].
Такие рассуждения иногда прямо выводились из постулата марксистской теории об определяющем значении объективного перед субъективным, в частности экономики перед правом.
Однако может ли сама по себе система правовых норм рассматриваться как объективный фактор по отношению к законодательству? Право в его позитивном, юридическом смысле — содержание законодательства (как и других источников позитивного права). В области права законы (как и судебные прецеденты, правовые обычаи) первоначально возникают по общему правилу для разрешения конкретных потребностей жизни. Текущее, каждодневное законодательство само со себе (без специального научно-практического обобщения, например, в правовой доктрине, инструкциях, кодексах) развивается бессистемно и складывается в необозримые массивы письменных и устных источников. Именно это обстоятельство и служило основанием необходимости проведения всех известных в истории кодификаций и систематизаций законов, начиная с Законов Хаммурапи, римских Законов XII таблиц, Свода Юстиниана и кончая сводами законов Российской империи, а затем и сводами законов США, Швейцарии, Германии, СССР.
Как уже отмечалось, позитивное право обусловлено развитием общественных отношений, складывающихся в каждом конкретном обществе и государстве, и лишь выражает эти отношения в признанных государственной властью законах и иных источниках права.
Но при этом позитивное право как обязательные и защищаемые (охраняемые) государством нормы поведения складывается в единую упорядоченную систему (общую отраслевую или институционную) не стихийно, а путем их обобщения на рациональной основе, с обязательным участием сознания людей. Без такого рационального, прежде всего научного, обобщения возникают преимущественно разрозненные нормы и акты, использование которых на практике становится с течением времени все более затруднительным, а в конце концов и невозможным. Сама же система права и правовых отношений познается юридической наукой и практикой путем анализа действующих правовых норм и правовых отношений, их оценки и классификации, выведения общих принципов и норм, группировки их в. однородные институты (группы норм). При этом достигается логическая концентрация разрозненных нормативных предписаний. Таким логическим путем упрощается и упорядочивается реальное содержание права и правоотнощений[280] на основе объективно сложившихся исторических условий и потребностей развития общества и государства, которые всегда остаются объективным фактором формирования системы права и законодательства. Система же норм права и актов законодательства как главной формы их выражения возникает в виде субъективного и адекватного отражения общественных условий каждой отдельной страны, реального уровня их развития, воплощаемого в культуре народа, в том числе его нравственной, религиозной и правовой культуре, в устройстве и правотворчестве государства.
Поэтому нельзя согласиться с выводами первой дискуссии о системе советского права 1938—1941 гг. о том, что система права выступает “явлением объективного мира”[281]. Можно и нужно говорить о том, что система права есть “структурное качество действующего в данном обществе права, которое соответствует системе закрепляемых ею общественных отношений”, что она “определяется теми общественными отношениями, которые находят в ней отражение и закрепление”[282]. Но “соответствие” объективно сложившимся отношениям в данном обществе получает качество объективности только при правильности, истинности человеческих суждений, умозаключений, волевых намерений и действий. Если же общественные потребности отражены (познаны и выражены) неверно, искаженно в действующих правовых нормах, они будут действовать с соответствующими дефектами, сбоями, что порождает в свою очередь стремление участников правоотношений обходить законы или свертывать, ограничивать полезную деятельность. Поэтому об объективности системы правовых норм можно говорить только в смысле их интеллектуально-волевых качеств: правильности, истинности, полезности, понятности для населения, органов власти и иных субъектов права. Что касается материальной (не зависящей от сознания людей) объективности, присущей, по К. Марксу, базису, макроэкономике[283], а также влиянию природной среды на сознание и поведение людей, то подобным качеством ни правовые нормы (даже наилучшие и “вечные”), ни законы сами по себе не обладают и обладать не могут.
Поэтому когда говорят (или пишут) об объективной обусловленности внутренней дифференциации права на отрасли в зависимости от особенностей той или иной группы общественных отношений”[284], то, по существу, имеют в виду не материальную структуру норм, а интеллектуально-волевую объективность (правильность, точность и т. п.) правовых норм.
Реальной, лежащей вне права основой системы позитивного права является именно дифференциация сложившегося типа общественных отношений[285]. Об этом часто забывают, говоря об объективности системы права как о чем-то заранее данном в самом позитивном праве, которое действует в определенном обществе и государстве[286]. В результате остается без ответа вопрос: в какой юридической форме воплощены группы однородных отраслей права различного характера? Ответ же может быть только один: в действующем законодательстве (для континентальных правовых систем европейских и латиноамериканских государств) либо в иных источниках права[287].
В некоторых государствах доктрина признается источником права, но только для выведения общих принципов, а не для всей системы действующего позитивного права (например, в англосаксонских странах).
Что же касается системы отраслей права, также вырабатываемой наукой, то она служит прежде всего основой изучения закономерной для данного общества структуры права, причем структуры его содержания, абстрактно сформулированных правовых норм, а не воспроизведения текста нормативных актов, законодательства. Кстати, и в советской доктрине выработка системы советского права шла параллельно с разработкой соответствующих правовых наук и учебных дисциплин. Поэтому понятие “система права” и у нас, и за рубежом есть не что иное, как доктринальная научная категория[288], которой должна следовать (но далеко не всегда следует) законотворческая практика и система законодательства.
Это несовпадение теории и практики объясняется многими факторами. Для советского права оно было обусловлено изначальным положением науки права как “служанки” политики КПСС и советского государства и следующей в русле этой политики юридической практики.
Таким образом, понятие “система права” относится к числу доктринальных выводов юридической науки, но это вовсе не снижает его практического значения, влияния на законодательство. С его помощью мы получаем возможность наиболее абстрактно, обобщенно, отвлекаясь от частностей, выявить основные закономерности структуры, присущей действующему позитивному праву. Например, основной (конечный) элемент системы права — понятие правовой нормы — выявляет необходимые для ее практического применения элементы: гипотезу, диспозицию и санкцию. Но при этом в ряде отраслей права (конституционном, уголовном, процессуальном) названные элементы либо присущи нормам неполностью (например, в учредительных нормах Конституции), либо подразумеваются (диспозиция “запрещено законом” в уголовном праве), либо не свойственны, например, каждой отдельной процессуальной норме. И это находит свое выражение в тексте статей законодательства.
Заметим, однако, что именно основные обобщения структуры норм права позволяют выявить содержание права: установленные им права, обязанности, ответственность, не отвлекаясь на частности — формулировки, порядок расположения статей законов и иные законодательно-технические тонкости. Когда же речь идет о применении законодательства в юридическом деле, причем в разных правовых ситуациях, то без обращения к точному смыслу формулировок не обойтись. И для этого содержание правовых норм необходимо выявить не обобщенно, а точно, по тексту закона.
В этом и состоит значение системы права, дающей доктринальное выражение закономерностей, общих связей, содержания правовых велений, достаточных для познания внутренней формы права. Законодательство же как главный источник права дает познание внешней его официальной формы> необходимой для практического применения.
Как уже отмечалось, такая точная официальная, а потому и защищенная государством форма — необходимое свойство позитивного права, т. е. законодательства и иных источников права (внешних форм установления, изменения или отмены правовых норм).
Таково, на наш взгляд, соотношение системы права как внутренней формы, выявляющей его закономерности, имманентные свойства, и системы законодательства как внешней формы выражения позитивного права.
В советской теории права под влиянием не всегда правильно понятого признака “объективности” системы права упорно пытались принизить систему законодательства как нечто “субъективное”, отдающее “произволом законодателя” Но из этого и получалось то, что советское законодательство в его главном выражении — в виде закона Верховного Совета — далеко не всегда играло ведущую роль, подменялось подзаконными актами и партийными директивами; даже в “наиболее законодательных” отраслях закон подменялся указами (например, в уголовном праве) или постановлениями Совета Министров (в хозяйственном законодательстве). В условиях демократического правового государства необходимо вернуть законам роль высшего выражения воли народа.
Следует отметить, что в последние годы советской власти наметились некоторые стремления сблизить понятия системы советского права и законодательства. Так, П. Б. Евграфов правильно исходил из того, что горизонтальная (т. е. отраслевая) структура советского законодательства выражает структуру советского права и, таким образом, выступает как структура его содержания. При этом автор отмечал, что зачастую структуры отраслей права и законодательства почти совпадают. Структура системы права признавалась определяющей, а структура законодательства — соответствующей ей- Отсюда автор сделал вывод о том, что “сам подход, принципы изучения горизонтальной структуры законодательства являются теми же, что и в анализе структуры права”[289].
Для понимания структуры права как научной категории такой вывод хотя и плодотворен, но все же недостаточен: научная структура отраслей права представляет собой лишь объективированную, т. е наиболее близкую к истине, основу для практического выделения отраслей действующего законодательства. Наиболее резкую позицию в вопросе о соотношении системы права и системы законодательства занял Р. З. Лившиц, который считал, что если и то и другое рассматривать как “систему норм”, то “дуализм понимания системы очевиден” Если же право рассматривать как идеи, нормы, отношения, отказавшись от нормативного понимания права, а систему законодательства — как составляющее его отрасли, то “проблема отпадет сама собой”; с этих позиций он и предлагал отказаться от системы права в пользу системы законодательства[290]. Возражая ему, Н. С. Соколова отмечала, что “именно отрасли права являются высшими, юридическими цельными образованиями”, в связи с чем позиция Р. З. Лившица “вызывает недоумение"[291]. Но и после этого остается вопрос: есть ли нечто, в чем воплощается система права и ее деление на отрасли, кроме законодательства, т. е. позитивного права?
Решение вопроса видится в признании системы права доктринальным выражением и научной основой системы законодательства. Тем самым для новой правовой системы Российской Федерации откроется логическая и нравственная возможность развить уровень правовой науки и ее выводов до признания правовой доктрины в качестве одного из особых источников права, признаваемых государством и обществом.
§ 4. Система права и система законодательства Российской Федерации
Какими же видятся основные принципы становления системы российского законодательства в современных условиях и перспективы ее развития в обозримом будущем?
Во-первых, система законодательства России традиционно строилась на принципах и формах упорядочения нормативных правовых актов, издаваемых законодательными и высшими исполнительными органами власти государства. Такова была традиция всех основных государств континентальной Европы в отличие от системы судебных прецедентов, превалирующих в странах англосаксонской правовой системы, и систем, основанных на устных обычаях и религиозно-нравственных нормах, складывающихся в странах традиционных и религиозных правовых систем (мусульманское, индусское право).
Традиция системы законодательства (федерального и законодательства субъектов Федерации) продолжается и будет сохранена и в современной, демократической России. Под законодательством здесь имеются в виду прежде всего сами законы, начиная с Конституции РФ, а также указы Президента и постановления Правительства нормативного характера. Именно эти виды актов имеют общегосударственное значение и юридическую силу на всей территории России (ст. 4, 15, 76 ч. 1, 2, 5, ст. 115, ч. 3 Конституции РФ). Именно эти акты составят основное содержание Свода законов Российской Федерации[292].
В республиках и регионах[293] законодательство составляют соответственно конституции, законы, указы главы республики, а также уставы, законы и иные нормативные правовые акты законодательных (представительных) органов, губернаторов (глав администраций) регионов.
Иные нормативные правовые акты органов субъектов Федерации принимаются в соответствии и в развитие федерального и областного законодательства и поэтому не входят в состав регионального законодательства[294].
Конечно, на практике, в литературе слово “законодательство” может применяться как в узком значении (только “законы” или “Конституция и законы”), так и в широком (все виды нормативных правовых актов федерального или регионального значения). Но это требует специальной оговорки.
Во-вторых, представляется очевидным, что закрепление в Конституции России общечеловеческих принципов и идеалов современного демократического общества и государства, провозглашенных Всеобщей декларацией и иными международными хартиями, пактами и конвенциями о правах человека, обязывает использовать опыт современных развитых стран и международного сообщества в формировании новой системы российского законодательства.
В-третьих, следует признать, что необходимо использовать опыт дореволюционной России, а также СССР и РСФСР в деле кодификации и систематизации законодательства в той мере, в какой структурная дифференциация права и советского законодательства соответствует и способствует становлению нового строя и интересам граждан современной России.
Сейчас у ряда ученых и политиков вызывает немало разочарования ориентация развития российского права на “западные идеалы’’, приводящая подчас к механическому заимствованию иностранного опыта, не имеющего твердой почвы в нашей российской действительности. Призывают ориентироваться на свое, российское наследие[295]. В этом есть доля истины, но не вся истина. Механический перенос, например, опыта США и даже Великобритании или Франции, Германии в современную Россию вряд ли возможен и желателен. Ошибки подобного рода мы уже ощущали на примерах допущения свободного развития финансовых компаний без должного контроля и их реальной ответственности за свою деятельность или фактического бездействия института банкротства. В публичном праве это бездействие институтов контроля за легальностью доходов государственных служащих, против коррупции и т. д.; чрезмерное расширение круга избирательных объединений и усложнение избирательных процедур пропорциональной системы выборов, никогда ранее не применявшейся в России, и т. п. Однако другая сторона истины состоит в том, что наша страна, идущая по пути перехода к безусловному уважению и соблюдению прав человека, к рынку и демократии, не может игнорировать передовой опыт современных правовых институтов зарубежных государств. Кстати, опыт мирового сообщества после второй мировой войны вырабатывался отнюдь не без участия СССР и России. При этом свой, российский опыт советского периода и опыт дореволюционной России было бы неверно отбрасывать как ненужный или целиком “отсталый”. Необходимо сочетать и то и другое.
В советской правовой науке были в целом правильно выработаны критерии разграничения основных отраслей права — предмет и метод правового регулирования. Эти критерии могут быть использованы и используются и в современных условиях применительно к российскому праву и законодательству с учетом поправок, вытекающих из основ нового конституционного строя Российской Федерации, и ее более органичного вхождения в мировое сообщество. К числу этих существенных поправок относятся признание деления права на публичное и частное, равенство всех форм собственности, признание свободы предпринимательства, свободы слова и печати и ряд других основополагающих положений Конституции Российской Федерации.
Вместе с тем следует учитывать, что в современных условиях все более расширяется сочетание частноправовых и публично-правовых методов правового регулирования в различных отраслях российского права. Примером могут служить природоохранительное, а также земельное, лесное, горное и водное законодательство, сочетающие частноправовые формы природопользования с публичными формами охраны окружающей среды.
То же следует сказать и об отраслях, или институтах, социального права, где интересы граждан, частных лиц обеспечиваются в основном путем пенсионирования, различной иной социальной помощи и защиты государственными органами, их властными средствами. Сочетание публичных и частноправовых норм регулирования и правоотношений имеет место и при государственном регулировании экономики с целью поддержания интересов общества и государства при сохранении общего принципа свободы предпринимательства.
Несмотря на отдельные сложности выделения предмета и метода каждой отрасли права и наличие частичных совпадений (имущественные отношения в гражданском, земельном, трудовом праве; взаимосвязанность природных ресурсов, регулируемых природоресурсными отраслями права, и т. п.), все же предмет каждой из отраслей определялся ранее и определяется сейчас в кодексах, основах законодательства. На этой базе обособляются нормы разных отраслей права и ограничиваются рамки применения норм данной отрасли к тем или иным видам общественных отношений. Что же касается методов регулирования, то, по существу, они различаются на публично-правовые (методы императивных указаний и запретов) и частноправовые (методы диспозитивного регулирования), хотя зачастую они именуются иначе. В литературе отмечаются и такие методы регулирования, как поощрительный, рекомендательный, учредительно-закрепительный, алиментарный и т. д.[296].
Нельзя, однако, игнорировать и тот факт, что структуре законодательства России как советского периода, так и сегодняшнего дня известны не только моноотраслевое законодательство, но и комплексные отрасли законодательства, включающие в свое содержание нормы различных отраслей права.
В правотворчестве накапливаются целые массивы комплексных актов по вопросам управления промышленностью, сельским хозяйством, в сфере транспорта, связи, информатики, здравоохранения, народного образования и во многих иных сферах жизни. Такие комплексные массивы законодательства закономерно возникают в законодательстве других государств с континентальной правовой системой. Эта закономерность признавалась и рядом советских ученых (В. К. Райхер, С. С. Алексеев, О. А. Красавчиков, В. П. Реутов, П. Б. Евграфов).
В отличие от обособленных отраслей права, выражающих процесс дифференциации правового регулирования, комплексные правовые массивы отражают необходимые в современных условиях процессы интеграции разнообразных социальных институтов. Нормы правового регулирования комплексных институтов и отраслей законодательства не должны противоречить нормам отраслевого законодательства, но им должно быть присуще право применения в соответствующей сфере по принципу Lex speciales derogat lex generales (специальный закон отменяет общий). Таким образом, комплексные массивы нормативных актов и норм естественным образом способны занять самостоятельное место в полимерной структуре системы законодательства в полном соответствии с общими положениями основных обособленных отраслей права и моноотраслевого законодательства.
Отмеченные закономерности и тенденции становления и развития системы законодательства находят свое выражение и в современных условиях активного становления системы российского права и законодательства. Новая Конституция Российской Федерации в числе предметов ведения Федерации и ее совместного ведения с субъектами Федерации (ст. 71 и 72) прямо называет основные отрасли Российского законодательства. На этой основе складывается моноотраслевая структура российского законодательства.
В настоящее время многие отрасли российского законодательства еще далеко не полностью отпочковались от прежнего законодательства советского периода. Еще продолжают действовать такие прежние кодексы и законы отраслевого значения, как УПК, ГПК, КоАП, КЗоТ и Жилищный кодекс РСФСР, правда, с существенными изменениями. Однако по всем названным отраслям уже подготовлены и отчасти находятся на рассмотрении законодателя проекты новых кодексов, а их дальнейшая судьба предопределена нормами Конституции Российской Федерации.
Среди отраслей законодательства, названных в Конституции РФ, новыми являются положения, например закрепляющие отрасли арбитражного, арбитражно-процессуального, уголовно-исполнительного, административно-процессуального и в значительной мере жилищного законодательства.
Каковы проблемы развития отдельных отраслей российского законодательства, намеченные проходящей сейчас работой по кодификации российских законов?
С точки зрения теоретических основ системы .законодательства к числу таких проблем относится прежде всего выделение базовых, однородных по присущему им предмету и методу регулирования отраслей законодательства.
Среди этих отраслей законодательства России следует различать основные и производные от них, вторичные отрасли права[297]. Какой же представляется система законодательства, складывающаяся с учетом принятия новой Конституции?
Не подлежит сомнению сохранение и упрочение в законодательстве России основных (“вечных”) отраслей законодательства. В области публичного права к ним относятся конституционное, административное, уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, законодательство о судебной системе и гражданском и уголовном судопроизводстве, о прокуратуре.
Как уже признано рядом ученых, из сферы классического гражданского права еще в советской России выделились отрасли семейного и трудового права и соответствующие отрасли законодательства. Эти отрасли продолжают развиваться и сейчас. Проекты соответствующих федеральных кодексов рассматриваются Государственной Думой, а Семейный кодекс принят.
Отрасли земельного, лесного, водного и иного природо-ресурсового права и законодательства сохраняют свое значение и сейчас, хотя и в иных условиях. Утратило свое значение колхозное право. Планово-распорядительные отношения в области хозяйства регулируются ныне административным и финансовым правом, а экономические — гражданским. Поэтому нет предмета регулирования для обособленной отрасли хозяйственного права. Налоговые и бюджетные отношения регулируются финансовым правом. Правда, принятие нового Налогового кодекса может привести к выделению налогового законодательства из бюджетно-финансового.
Правовое регулирование единого рынка, в том числе кредитное регулирование, в своей основе относится к сфере гражданского законодательства, хотя здесь применяются и будут развиваться взаимодействия гражданско-правовых норм с нормами административного права (основы ценовой политики, федеральные экономические службы), банковского, финансового и таможенного регулирования. Поэтому предпринимательское (или хозяйственное) законодательство будет развиваться как комплексный массив (или массивы) законодательства с учетом необходимости государственного регулирования экономики, но с приоритетом гражданско-правовых норм.
В теории и практике правового регулирования социальной защиты населения в настоящее время формируются кодификация и консолидация законодательства, относящегося к социальной сфере общества. Прочно уже обособилось пенсионное законодательство. К нему примыкает развивающаяся система компенсаций и льгот, предоставляемых нуждающимся группам населения. В связи с этим правовая наука уже не первый год выделяет законодательство о социальном обеспечении из состава трудового законодательства в самостоятельную отрасль права.
Масштабы социальных проблем, вставших перед российским государством, социальный характер российского государства, закрепленный ст. 7 новой Конституции РФ, заставляют думать о более широком подходе к социальной политике государства.
В соответствии с Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, принятым ООН, в странах Европейского Союза принята Социальная хартия, охватывающая как традиционные для социального страхования и обеспечения права, так и такие права, как право на развитие, включающее в себя право на бесплатное обучение всего подрастающего поколения; право на достаточный жизненный уровень; право на физическое и психическое здоровье, обеспечиваемое здравоохранением; право на здоровую окружающую среду и некоторые другие права, алиментируемые и обеспечиваемые государством для отдельных групп граждан. Далеко не все государства целиком признали действие Социальной хартии, поскольку это требует значительных государственных расходов. Однако постепенный прогресс законодательного признания и обеспечения социальных прав уже достигнут в передовых, наиболее развитых странах.
Имея в виду важность социальных проблем в переходном обществе, в современном российском законодательстве также следует ориентироваться на развитие широкого спектра комплексного массива социального права[298]. В нем целесообразно обеспечить единые, скоординированные нормы и принципы правовой регламентации социального обеспечения и других сфер социальной защиты нуждающегося населения, а также развивающееся сейчас специальное законодательство в области образования, здравоохранения, все более выходящее сегодня за рамки административного права. Такое законодательство вправе занять место специальных подотраслей социального права, сохраняя при этом связь с правом административным по аспектам государственного управления в сфере образования и здравоохранения. Иначе говоря, организационные и социальные нормы здесь будут составлять единый комплекс.
Важным шагом к более широкой кодификации социального права было бы принятие Основ законодательства о социальном обеспечении, которые могли бы создать общие принципы и систему всех видов социальной помощи населению, конкретизировать права граждан в этой области[299].
Что касается комплексных массивов законодательства, то в их числе сохраняются традиционные для развитых стран транспортное, аграрное, промышленное, торговое, банковское законодательство, законодательство в области связи, а также формирующиеся сейчас новые комплексные отрасли космического, информационного законодательства. Получат новый импульс развития и такие специальные правовые институты, как управление федеральной собственностью, законодательство в области энергетики, особенно ядерной и расщепляющихся материалов, значение регулирования которых в современных условиях возрастает прежде всего с точки зрения обеспечения национальной безопасности.
Глава 7. Систематизация законодательства
§ 1. Понятие систематизации законодательства
Систематизация законодательства — это постоянная форма развития и упорядочения действующей правовой системы. В современных цивилизованных государствах имеется значительное число нормативных актов, принимаемых различными правотворческими органами. Правотворчество не может остановиться на определенном этапе, а все время находится в движении, развитии в силу динамизма социальных связей, возникновения новых потребностей общественной жизни, требующих правового регулирования. Постоянно меняющаяся система права, ее развитие и совершенствование, принятие новых нормативных актов, внесение в них изменений, отмена устаревших нормативных решений объективно обусловливают упорядочение всего комплекса действующих нормативных актов, их укрупнение, приведение в определенную научно обоснованную систему, издание разного рода сборников и собраний законодательства. Такая деятельность по приведению нормативных актов в единую, упорядоченную систему обычно называется систематизацией законодательства.
Систематизация законодательства необходима, во-первых, для его дальнейшего развития. Анализ и обработка действующих нормативных актов, группировка правовых предписаний по определенной схеме, создание внутренне единой системы актов являются необходимыми условиями эффективности правотворческой деятельности, способствуют ликвидации пробелов, устарелостей и противоречий в действующем законодательстве.
Во-вторых, она обеспечивает удобства при реализации права, возможность оперативно находить и правильно толковать все нужные нормы. Наконец, систематизация является Необходимой предпосылкой целенаправленного и эффективного правового воспитания, научных исследований, обучения студентов.
В разные периоды жизни государства потребность в систематизации законодательства бывает различной. Когда накапливается в течение многих лет большой объем нормативно-правового материала, когда действует значительное число Нормативных актов, принятых в разные периоды жизни государства и к тому же перекрывающих друг друга, действующих в усеченном объеме или попросту устаревших, фактически утративших силу, систематизация законодательства особенно необходима. В условиях же существенной ломки, революционного преобразования правовой системы, когда отменяются целые нормативные блоки, регулирующие отживающие, подлежащие существенному реформированию отношения, когда по сути дела создается качественно новая общественно-экономическая система, объективно требующая обновленных законов, систематизация законодательства как бы уходит на второй план.
Ныне в России темпы правотворческой, и в первую очередь законодательной, деятельности как никогда высоки. Создаются сотни и тысячи новых нормативных актов, существенно меняющих характер и основные принципы правового регулирования. Однако если сейчас не заниматься упорядочением действующей нормативной базы, которая увеличивается весьма быстрыми темпами, в будущем возникнут большие трудности в нахождении и использовании действующих норм права, хаос и неразбериха в российском нормативном хозяйстве. Дело осложняется еще и тем, что сейчас, когда создается практически новая правовая система в Российской Федерации, нужно также срочно решить судьбу формально действующих в стране нормативных актов и их частей, которые полностью либо частично противоречат новым нормативным решениям или попросту безнадежно устарели.
Обычно в понятие систематизации законодательства включаются четыре самостоятельные формы правовой деятельности:
1) сбор государственными органами, предприятиями, фирмами и другими учреждениями и организациями действующих нормативных актов, их обработка и расположение по определенной системе, хранение, а также выдача справок для заинтересованных органов, учреждений, отдельных лиц по их запросам (учет нормативных актов);
2) подготовка и издание различного рода собраний и сборников нормативных актов (инкорпорация законодательства);
3) подготовка и принятие укрупненных актов на базе объединения норм разрозненный актов, изданных по одному вопросу (консолидация законодательства);
4) подготовка и принятие новых актов (типа кодексов), в которые помещаются как оправдавшие себя нормы прежних актов, так и новые нормативные предписания (кодификация законодательства).
§ 2. Учет нормативных актов
Опыт законодательной и правоприменительной деятельности в Российской Федерации и зарубежных странах показывает, что качество учета нормативных актов в государственных органах и учреждениях, степень его налаженности, эффективность сбора и хранения сведений о действующих нормативных актах, о внесении в них изменений и дополнений во многом определяют юридическую культуру правотворчества, эффективность правоприменительной деятельности и правового воспитания.
Четко налаженный учет законодательства необходим прежде всего для квалифицированного применения правовых норм в повседневной практической деятельности исполнительных органов, администрации предприятий, учреждений, в работе фирм, объединений и т. д. Особую роль играет четкий и полный учет законодательства в деятельности судебных и прокурорских органов, в работе адвокатуры. Кроме того, такой учет необходим для квалифицированной подготовки проектов законодательных и иных правовых актов, для составления разного рода сборников законодательства и сводных кодификационных актов, перечней актов, подлежащих изменению или признанию утратившими силу, для осуществления справочно-информационной работы (выдача справок по законодательству, составление разного рода тематических обзоров), подготовки заключений по проектам нормативных актов. Наконец, без надлежащего учета нормативных актов невозможно эффективное правовое просвещение, деятельность учебных и научных юридических учреждений.
Органы, учреждения и организации осуществляют учет как для удовлетворения своих собственных потребностей, так и для снабжения (в том числе и на коммерческой основе) правовой информацией иных учреждений и отдельных лиц. В Российской Федерации обычно подлежат учету федеральные законы, нормативные указы Президента РФ и Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной власти, постановления Конституционного Суда РФ. В зависимости от Функций органов и учреждений, производящих учет, в информационный массив могут быть включены и иные акты (например, международные договоры, законодательство субъектов РФ, акты органов местного самоуправления, нормативные разъяснения высших судебных органов РФ и т. д.).
Можно отметить следующие принципы организации учета законодательства:
1) полнота информационного массива, обеспечивающая фиксацию и выдачу всего объема справочной информации, отсутствие пробелов и упущений в информационном массиве;
2) достоверность информации, основанная на использовании официальных источников опубликования нормативных актов, а также на своевременной фиксации внесенных изменений в акты, включенные в информационный фонд;
3) удобство пользования, необходимое для оперативного и качественного поиска нужных сведений о праве.
Наиболее простой вид учета законодательства — это фиксация реквизитов нормативных актов в специальных журналах (журнальный учет). Такой учет может вестись по хронологическому, алфавитно-предметному или системно-предметному принципам. Хронологический принцип означает, что все подлежащие учету в соответствующем органе или учреждении нормативные акты регистрируются в журнале (журналах) по датам их принятия. Очевидно, что акты различной юридической силы (законы, указы, постановления и т. д.), как правило, подлежат отдельной регистрации.
При алфавитно-предметной регистрации, как более совершенном виде учета поступающих в орган, учреждение нормативных актов, такие акты фиксируются по предметным рубрикам, располагаемым по алфавиту (например, аванс, аккредитив, аренда и т. д.).
Оптимальная форма журнального учета — тематико-предметная, когда рубрики разделов журнала определяются в зависимости от деления всего массива законодательства на определенные отрасли, подотрасли и юридические институты.
Очевидно, что возможности журнального учета довольно скромны и он используется лишь там, где информационный массив невелик и ограничен достаточно узкой проблематикой.
Другая, более совершенная форма учета законодательства — картотечный учет. Это создание разного ряда картотек, т. е. системы карточек, расположенных по определенной системе. Такой учет применяется в центральных органах законодательной, исполнительной и судебной власти, в крупных учреждениях и организациях, которые по роду своей работы имеют дело с широким, многоотраслевым кругом нормативных актов и нуждаются в разноуровневой и большой по объему правовой информации.
На карточках картотеки могут быть зафиксированы либо основные реквизиты акта (вид акта, его заголовок, дата издания, место его официального опубликования), либо полный текст такого акта, что представляется более предпочтительным. Рубрики картотеки определяются на базе выработанного заранее словника или рубрикатора. Поиск соответствующих карточек осуществляется как ручным способом, так и в полуавтоматизированном либо автоматизированном режиме (карточки с краевой перфорацией, передвигающиеся полки, тиражирование необходимых карточек и т. д.).
Преимущества картотечного учета проявляются в том числе и в том, что он обеспечивает возможность оперативно вносить коррективы в карточки в соответствии с последующими изменениями, внесенными в помещенный на карточке акт.
Карточки в картотеке обычно располагаются по хронологическому, алфавитно-предметному либо предметно-отраслевому принципам. Наиболее удобен последний принцип, когда учет осуществляется путем расположения всех карточек в соответствующие разделы, подразделы, отделы, пункты и другие подразделения заранее разработанного и утвержденного классификатора, основанного на делении всего массива законодательства на отрасли, подотрасли, институты и т. д.
Третья форма учета законодательства — это ведение контрольных текстов действующих нормативных актов, т. е. внесение в тексты официальных изданий законов, указов, постановлений и других нормативных актов отметок об отмене, изменении, дополнении таких актов или отдельных их частей с указанием тех актов, на основании которых производятся эти отметки.
В деятельности того или иного органа, учреждения могут сочетаться различные формы учета законодательства, взаимно дополняющие друг друга. Возможны, например, ведение журнального учета по хронологическому принципу вместе с созданием предметно-отраслевой картотеки либо картотечный учет и одновременное ведение контрольных текстов актов действующего законодательства. Такое сочетание разных форм учета способствует повышению эффективности справочно-информационной службы в области законодательства.
Ныне все более активно используется так называемый автоматизированный учет законодательства на базе применения современной компьютерной техники и новейших достижений информатики. Создание автоматизированных информационно-поисковых систем по законодательству имеет ряд несомненных преимуществ по сравнению с другими видами учета нормативных актов. Во-первых, в компьютерные системы возможно заложить практически безграничный объем правовой информации. Это все законодательство страны (законы, указы Президента, постановления Правительства, все виды ведомственных актов), включая и нормативные акты субъектов Федерации, акты органов местного самоуправления, ныне отмененные нормативные акты, проекты будущих законов, законодательство ряда зарубежных государств, важнейшие решения судебных органов, аннотации юридической литературы и т. д. и т. п.
Во-вторых, справки о законодательстве и практике его применения можно получить при автоматизированном учете по любому интересующему абонента вопросу, в то время как, например, при картотечном учете такие справки можно выдать лишь в зависимости от рубрик классификатора картотеки. Наконец, компьютер создает возможность получить юридическую справку максимально быстро и сразу же ее напечатать и оттиражировать в том количестве, какое необходимо абоненту.
Впервые автоматизированная система правовой информации была создана в США в 60-х годах группой ученых и юристов под руководством профессора Д. Хорти. Ныне в США и других западных государствах созданы десятки такого рода систем. Одни из них входят в состав аппарата органов законодательной, исполнительной и судебной власти, другие носят частный характер и обслуживают на договорной основе частные фирмы, организации, адвокатов, юрисконсультов. Существует единая система правовой информации для всех западноевропейских государств, которая включает примерно 150 тыс. единиц правовых документов.
В Российской Федерации такого рода автоматизированные системы ныне созданы в аппарате Государственной Думы, Совета Федерации, Президента РФ, Правительства РФ, в Министерстве юстиции РФ и в ряде других федеральных органов. Создан и разворачивает свою деятельность также и ряд коммерческих автоматизированных информационно-поисковых систем законодательства (Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс и др.).
§ 3. Инкорпорация законодательства
1. Инкорпорация (от лат. in corpore) — это такая форма систематизации, когда нормативные акты определенного уровня объединяются полностью либо частично в разного рода сборники или собрания в определенном порядке (хронологическом, алфавитном, системно-предметном). Инкорпорация представляет собой постоянную деятельность государственных и иных органов с целью поддерживать законодательство в действующем (контрольном) состоянии, обеспечивать его доступность и обозримость, снабжать самый широкий круг субъектов достоверной информацией о законах и иных нормативных актах в их действующей редакции.
Особенность инкорпорации состоит в том, что какие-либо изменения в содержание помещаемых в сборники актов обычно не вносятся и содержание правового регулирования по существу не меняется. Именно это свойство инкорпорации — сохранение неизменным содержания нормативного регулирования — отличает ее от кодификации и консолидации.
Вместе с тем форма изложения содержания нормативных актов иногда претерпевает определенные, порой довольно существенные изменения, поскольку инкорпорация не сводится к простому воспроизведению актов в их первоначальной редакции. Обычно в сборниках действующих нормативных актов тексты таких актов печатаются с учетом последующих официальных изменений и дополнений. Кроме того, в процессе инкорпорации из текста помещаемых в сборник актов удаляются главы, статьи (пункты), отдельные абзацы и иные отделимые части, признанные утратившими силу или фактически такую силу потерявшие. Кроме того, в такой сборник включаются все последующие изменения и дополнения с указанием официальных реквизитов тех актов, которыми внесены соответствующие коррективы. Из текста нормативных актов исключаются также различного рода оперативные поручения и иные ненормативные предписания, временные нормы, срок действия которых истек, сведения о лицах, подписавших соответствующий акт.
2. Примеры издания разного рода официальных сборников и собраний законодательства в истории права довольно многочисленны. В их числе, например, знаменитый Свод законов Юстиниана (VI в.). Ныне изданы и постоянно поддерживаются в контрольном состоянии своды (собрания) законодательства в США, ФРГ и ряде других государств.
История создания различного рода сборников и собраний правовых актов в России имеет древние корни и довольно интересна и поучительна.
Первая попытка систематизации действующих правовых норм в России была предпринята еще в XI—XII вв. в первом сборнике древнерусского права — в Русской Правде. Судебник 1497 г. стал предвестником создания кодифицированного общегосударственного законодательства. Созданное в середине XVII в. Соборное уложение царя Алексея Михайловича вплоть до первой половины XIX в. оставалось основным сборником законодательных норм в России. К памятникам большой систематизаторской деятельности XIX в., проведенной под руководством известного юриста того времени М. М. Сперанского, следует отнести Полное собрание и особенно Свод законов Российской империи, который просуществовал, ежегодно обновляясь, вплоть до октября 1917 г.
Свод законов в России был издан в 1832 г. и состоял из 15 томов. В него вошло около 36 тыс. нормативных актов (указов, манифестов, циркуляров и т. д.) и извлечений из них. Свод подразделялся на 8 разделов, расположенных по предметному принципу. Высока была техника оформления томов Свода.
В советский период также осуществлялись обширные работы по упорядочению действующего законодательства. В 1929—1932 гг. была проведена работа по подготовке Свода законов СССР, но она, к сожалению, не была доведена до конца, учитывая явно недостаточное внимание и попросту пренебрежительное отношение в тот период, когда начал формироваться культ личности Сталина, к праву и законности.
В 60—70-х гг. были изданы Систематическое собрание законодательства СССР и соответствующие собрания в союзных республиках. На их базе были подготовлены и изданы в 80-х гг. Свод законов СССР (11 томов) и Свод законов РСФСР (8 томов).
Свод законов РСФСР был издан в 1986—1988 гг. и включал действующие законодательные акты и важнейшие постановления Правительства Российской Федерации общенормативного характера. Все помещенные в Свод акты располагались по предметному признаку и группировались в 5 разделов, которые делились соответственно на главы, параграфы, пункты и подпункты. Положительной чертой Свода было то, что он был издан на съемных листах, позволявших оперативно заменять текст акта, который признан утратившим силу или в который внесены те или иные изменения и дополнения.
Как известно, период издания Свода законов РСФСР, а именно вторая половина 80-х гг., характеризуется коренной ломкой социально-экономических и политических отношений в стране, потребовавшей кардинальных изменений в законодательстве. Поэтому содержание Свода быстро устаревало, постепенно прекратилось издание дополнений к нему, и ныне он превратился в исторический памятник, непосредственно не влияющий на развитие законодательства и правоприменительную практику. Кроме того, Свод страдал существенными недостатками, среди которых главный — его неполнота. В тома Свода включались не все действующие законодательные и нормативные правительственные решения.
3. Деление инкорпорации на отдельные виды можно производить по различным основаниям. В зависимости от юридической силы издаваемых сборников и собраний законодательства инкорпорация делится на официальную, официозную (полуофициальную) и неофициальную.
Официальная инкорпорация осуществляется от имени и по поручению либо с санкции правотворческого органа (органов), который утверждает либо иным способом официально одобряет подготовленное Собрание (Свод). Такое Собрание (Свод) носит официальный характер, т. е. оно приравнивается к официальным источникам опубликования помещенных в Собрании нормативных актов и на его материалы можно ссылаться в процессе правотворческой и правоприменительной деятельности, в договорах, жалобах и заявлениях граждан, направляемых в правоохранительные или иные государственные органы. Официальное Собрание законодательства имеет приоритет перед ранее изданными публикациями нормативных актов, поскольку оно включает акты в их действующей редакции. Примером официальной инкорпорации может служить, например, изданный в 80-х гг. Свод законов РСФСР.
Подготовка официальных собраний (сводов) обычно сопровождается большой подготовительной работой. В процессе их составления выявляются и признаются утратившими силу устаревшие, фактически не действующие, противоречащие позднейшему законодательству нормативные акты либо их отдельные части; в другие акты, частично противоречащие позднейшему законодательству, вносятся необходимые изменения. Принимается ряд новых законов и иных нормативных актов, устраняющих имеющиеся в законодательстве пробелы. Возможно также устранение множественности нормативных актов по одному вопросу путем принятия укрупненных, консолидированных актов.
Официозная (полуофициальная) инкорпорация — это издание собраний и сборников законодательства по поручению правотворческого органа (органов) специально уполномоченными на то органами (например, Министерством юстиции), причем правотворческий орган официально не утверждает и не одобряет такое собрание (сборник), и потому тексты помещенных в нем актов не приобретают официальный характер. Таковым было, например, Систематическое собрание действующего законодательства РСФСР, изданное в Российской Федерации в 60-х гг.
Неофициальная инкорпорация осуществляется ведомствами, организациями, государственными либо частными издательствами, научными учреждениями, фирмами, отдельными лицами, т. е. теми субъектами, которые не имеют специальных, предоставляемых правотворческим органом полномочий издавать собрание законодательства и осуществляют эту деятельность по собственной инициативе. Неофициальные сборники законодательства не являются источником права, на них нельзя ссылаться в процессе правотворчества и применения права. Большинство ныне издаваемых в нашей стране сборников законодательства — это неофициальная инкорпорация.
По характеру расположения материала все собрания законодательства можно разделить на хронологические и систематические. В хронологических собраниях нормативные акты располагаются последовательно по датам их издания, в систематических — по тематическим разделам в зависимости от содержания акта, причем в каждом разделе акты располагаются опять же не в хронологическом порядке, а по предметному принципу. В систематических собраниях в начале каждого раздела и других подразделений помещаются акты более высокой юридической силы и содержащие основные, самые принципиальные нормы по соответствующему вопросу, а затем акты, развивающие, конкретизирующие и детализирующие основные нормы.
При подготовке и издании собраний законодательства могут сочетаться хронологический и предметный методы расположения материала, когда разделы собрания подразделяются тематически, по предметному принципу, а внутри каждого раздела акты располагаются в хронологическом порядке.
Очевидно, что систематические собрания более удачны и эффективны для правотворческой и правоприменительной деятельности, для обучения студентов и научных исследований, поскольку в них в одном месте сосредоточены все интересующие исполнителя, тесно связанные между собой нормативные предписания. В систематических собраниях акты находятся в систематизированном, логически увязанном виде. Этого лишены хронологические собрания. Однако очень часто систематизация законодательства начинается именно с подготовки хронологических собраний как предварительного этапа систематизации, после чего значительно легче располагать нормативные акты в систематических собраниях по тематическому принципу.
Наконец, инкорпорация законодательства может классифицироваться в зависимости от объема охватываемого нормативного материала. По этому признаку следует различать генеральную (полную) инкорпорацию, когда в собрание включаются или все законодательство страны, или все федеральное законодательство, все нормативные акты того или иного субъекта РФ и т. д., и частичную инкорпорацию, когда составляются собрания и сборники нормативных актов по определенным вопросам, сфере государственной деятельности, определенной отрасли законодательства или правовому институту и другим признакам.
4. В современных условиях, когда в Российской Федерации темпы правотворческой деятельности на всех уровнях, и в первую очередь в законодательной сфере, неизмеримо выросли, назрела острая потребность в подготовке и издании нового Свода законов Российской Федерации. Его издание — это необходимая предпосылка создания стройной, внутренне согласованной и удобной для пользования правовой системы российского государства. Как известно, работы по подготовке Свода уже начались. 6 февраля 1995 г. принят Указ Президента Российской Федерации “О подготовке к изданию Свода законов Российской Федерации”[300]. В соответствии с ним Свод законов должен быть официальным, систематизированным и полным собранием действующих нормативных правовых актов РФ, поддерживаемым в контрольном состоянии. В Свод законов должны быть помещены все действующие нормативные акты (разумеется, кроме официально признанных секретными). Только при этом условии он может быть достоверным источником законодательства.
Представляется необходимым принять закон о подготовке и издании Свода законов, где четко определить основные принципы формирования его материалов, схему Свода и ряд других принципиальных вопросов. Следует также разработать и утвердить Государственную программу по подготовке и изданию Свода, где сформулировать конкретные оперативные поручения отдельным органам и организациям по его созданию, определить основные этапы подготовки его разделов, решить весь комплекс организационно-технических и материально-финансовых проблем.
Для того чтобы Свод законов был полным и достоверным источником информации о действующем законодательстве, крайне важно провести полную инвентаризацию всех правовых актов, принятых и продолжающих формально действовать в Российской Федерации начиная с момента ее образования, т. е. с октября 1917 г. Освобождение от ненужного и даже вредного балласта в российском законодательстве — это важная общегосударственная задача, решение которой упростит российскую правовую систему, повысит уровень ее эффективности, создаст необходимые условия для издания полноценного и практически полезного Свода законов. Поэтому необходимым подготовительным этапом создания Свода должны быть полная ревизия всего действующего нормативного массива, формальная отмена всех старых актов и их частей, которые давно устарели и фактически не действуют, а также внесение изменений в те действующие нормативные положения, которые частично утратили силу.
§ 4. Консолидация законодательства
1. С течением времени в любой развитой правовой системе образуется значительное число (иногда десятки и сотни) нормативных актов, имеющих один и тот же предмет регулирования. Предписания таких актов зачастую повторяются, а иногда содержат явные несогласованности и противоречия. В связи с этим возникает потребность ликвидации множественности нормативных актов, их укрупнения, создания своеобразных “блоков” законодательства. Один из путей преодоления такой множественности — консолидация законодательства. Это такая форма систематизации, в процессе которой десятки, а порой и сотни нормативных актов по одному и тому же вопросу объединяются в один укрупненный акт. Такой акт утверждается правотворческим органом в качестве нового, самостоятельного источника права, а прежние разрозненные акты признаются утратившими силу. Очевидно, что подлежат объединению предписания одинаковой юридической силы.
Консолидация — это своеобразный вид правотворчества, особенность которого заключается в том, что новый, укрупненный акт не меняет содержание правового регулирования, не вносит изменения и новеллы в действующее законодательство.
В процессе подготовки консолидированного акта все нормы прежних актов располагаются в определенной логической последовательности, разрабатывается общая структура будущего акта. Осуществляется определенная редакционная правка, чисто внешняя обработка предписаний с тем расчетом, чтобы все они излагались единым стилем, использовалась унифицированная терминология. Устраняются противоречия, повторения, неоправданные длинноты, исправляется устаревшая терминология, нормы близкого содержания объединяются в одну статью (пункт).
2. Мировая практика принятия укрупненных актов весьма обширна. В Великобритании, например, издаются десятки такого рода актов, объединяющих акты парламента, принятые по одному и тому же предмету регулирования за все длительное время его существования. В конце XIX в. английский парламент принял специальный закон о консолидации статутного права. Во Франции широко развито принятие так называемых кодексов, объединяющих нормативные предписания по одному и тому же вопросу. Изданы, например, такие консолидированные акты, как Кодекс дорог общественного пользования, Кодекс сберегательных касс и др.
3. Работу по созданию качественно новой правовой системы России, существенному обновлению всех основных сфер регулирования следует проводить таким образом, чтобы в будущем не возникла проблема ликвидации множественности нормативных актов по одному вопросу. Задача объединения, укрупнения нормативных актов, обеспечивающая компактность правового регулирования, устранение пробелов, противоречий и неувязок между действующими нормами, была актуальна и ранее. Практика подготовки и принятия укрупненных, консолидированных актов осуществлялась в прежние годы в сфере регулирования вопросов сельского хозяйства, заготовок сельскохозяйственной продукции, налогообложения, административной ответственности и т. д. Весьма актуальна такая задача и ныне. В общем массиве действующих нормативных актов России еще много так называемых лоскутных актов, от которых действующими остались лишь некоторые нормы и иные неотделимые их части.
Ревизия всего массива действующих актов должна выражаться как в отмене устаревших актов и их частей, внесении в них соответствующих изменений, так и в объединении действующих норм из разных актов, от которых остались лишь отдельные фрагменты, в издании укрупненных актов по определенным вопросам. Поэтому задача консолидации действующих актов, укрупнения законодательных блоков, вбирающих в себя несколько (иногда десятки) действующих актов по одному вопросу, ныне становится одним из приоритетных направлений упорядочения законодательства.
§ 5. Кодификация законодательства
1. Кодификация законодательства — это форма коренной переработки действующих нормативных актов в определенной сфере отношений, способ качественного упорядочения законодательства, обеспечения его согласованности и компактности, а также расчистки нормативного массива, освобождения от устаревших, не оправдавших себя норм. В процессе Кодификации составитель стремится объединить и систематизировать оправдавшие себя действующие нормы, а также переработать их содержание, изложить нормативные предписания стройно и внутренне согласованно, обеспечить максимальную полноту регулирования соответствующей сферы отношений. Кодификация направлена на то, чтобы критически переосмыслить действующие нормы, устранить противоречия и несогласованности между ними.
Кодификация — это форма правотворчества. Будучи обобщением действующего регулирования, она в то же время направлена на установление новых норм, отражающих назревшие потребности общественной практики и восполняющих пробелы правового регулирования, на замену неудачных, устаревших правовых предписаний новыми. Кодификация — это форма совершенствования законодательства по существу, и ее результатом является новый сводный законодательный акт стабильного содержания (кодекс, положение, устав и т. д.), заменяющий ранее действовавшие нормативные акты по данному вопросу. Сочетание в кодификации упорядочения и обновления законодательства позволяет рассматривать ее как наиболее совершенную, высшую форму правотворчества.
Кодификация обладает рядом характерных черт:
1) в кодификационном акте обычно формулируются нормы, регулирующие наиболее важные, принципиальные вопросы общественной жизни, определяющие нормативные основы той или иной отрасли (института) законодательства;
2) такой акт регулирует значительную и достаточно обширную сферу отношений (имущественные, трудовые, брачно-семейные отношения, борьба с преступностью и т. д.);
3) будучи итогом совершенствования законодательства, кодификационный акт представляет собой сводный акт, упорядоченную совокупность взаимозависимых предписаний. Он является единым, внутренне связанным документом, включающим в себя как проверенные жизнью, общественной практикой действующие нормы, так и новые правила, обусловленные динамикой социальной жизни, назревшими потребностями развития общества;
4) кодификация направлена на создание более устойчивых, стабильных норм, рассчитанных на длительный период их действия. Эффективность кодификационного акта во многом зависит от того, сможет ли законодатель учесть объективные тенденции развития отношений, являющихся предметом регулирования такого акта, их динамику;
5) предмет кодификации обычно определяется в зависимости от деления системы законодательства на отрасли и институты. Кодификация укрепляет системность нормативных актов, их юридическое единство и согласованность. Кодификационный акт обычно возглавляет систему взаимосвязанных нормативных актов, образующих определенную отрасль, подотрасль или отдельный институт законодательства;
6) акт кодификации всегда значителен по объему, имеет сложную структуру. Это своеобразный укрупненный блок законодательства, обеспечивающий более четкое построение системы нормативных предписаний, а также удобство их использования.
Обычно в юридической литературе и практике различают несколько видов кодификации. Первый вид — это всеобщая кодификация, под которой понимается принятие целой серии кодификационных актов по всем основным отраслям законодательства и, как следующий этап, создание объединенной, внутренне согласованной системы таких актов в виде “кодекса кодексов” Другой вид — это отраслевая кодификация, охватывающая законодательство той или иной отрасли права (гражданский, трудовой, уголовный кодексы и т. д.). Наконец, специальная (комплексная) кодификация, включающая акты той или иной подотрасли, института или однородного комплекса законодательства (налоговый, лесной, таможенный кодексы и т. д.).
2. Кодификационные акты могут внешне выражаться в различных формах. Одна из них — это Основы законодательства, которая активно используется в кодификационной деятельности нашего федеративного государства. Это акт федерального законодательства, содержащий принципиальные, наиболее общие нормы по предмету совместного ведения Федерации и ее субъектов, которые должны развиваться и конкретизироваться в первую очередь в нормативных актах, принимаемых субъектами Федерации, а также и в актах федеральных правотворческих органов.
Основы законодательства обычно стоят во главе тех или иных отраслей либо институтов права, обеспечивают взаимоувязанность и согласованность всех норм соответствующих отраслей и институтов. Обычно они делятся на крупные, обособленные подразделения (разделы, главы). В них определяются единые для всех субъектов Федерации принципы регулирования, даются определения важнейших понятий, используемых в соответствующей сфере.
В Союзе ССР действовало 16 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик, регулирующих такие важные сферы, как труд, имущественные, жилищные отношения, брак и семья, борьба с преступностью и т. д. Ныне в Российской
Федерации приняты и действуют такие акты, как Основы лесного законодательства, Основы законодательства о культуре, Основы законодательства об охране здоровья граждан и др.
Чаще всего используемый вид кодификационного акта — кодекс. Это крупный сводный акт, детально и конкретно регулирующий определенную сферу отношений и подлежащий непосредственному применению. Он либо полностью поглощает все нормы соответствующей отрасли (Уголовный кодекс), либо содержит основную по объему, самую важную часть таких норм (Гражданский кодекс, Кодекс законов о труде). Наряду с нормами-принципами и нормами-дефинициями в кодексах формулируются также нормы непосредственного регулирования, конкретные варианты поведения, которые составляют основное их содержание.
Кодекс — оптимальный вариант обобщения и систематизации законодательства по определенной теме, действенное средство ликвидации множественности актов по одному и тому же вопросу. Ныне во главе большинства отраслей российского федерального законодательства стоят кодексы, многие из которых подвергаются существенной переработке. Кроме того, в современных условиях кодексы принимаются также и субъектами Российской Федерации. Так, в Башкортостане действует более десятка кодексов. Среди них жилищный, трудовой, экологический кодексы, кодексы о браке и семье, о недрах, о средствах массовой информации и др.
По характеру охвата регулируемых кодексами общественных отношений они бывают отраслевыми либо комплексными (межотраслевыми). Первые регулируют конкретную сферу общественных отношений, определяющую деление права на отрасли и институты. Это уголовный, уголовно-процессуальный, гражданский кодексы, кодекс законов о труде и др. Комплексный кодекс систематизирует нормы, которые собраны вместе не по отраслям права, а по иным основаниям (сфера государственной деятельности, отрасль хозяйства или социально-культурного строительства) и объединены единой концепцией, общими принципами регулирования значительной области отношений (Воздушный кодекс, Таможенный кодекс, Кодекс торгового мореплавания и др.).
Интересы создания единой, логически согласованной системы законодательства требуют, чтобы в законодательной деятельности предпочтение отдавалось в первую очередь отраслевым кодексам как актам, непосредственно отражающим и цементирующим научно обоснованное распределение нормативного материала по предмету и методу правового регулирования. Что касается принятия комплексных кодексов, то оно призвано быть дополнительным направлением кодификационных работ.
В правовой системе могут существовать и иные виды кодификационных актов: уставы, положения, правила и т. д.
Уставы — это комплексные нормативные акты, регулирующие правовое положение определенных органов и организаций (например, Устав Центробанка РФ), либо ту или иную сферу государственной деятельности (Устав железных дорог, Устав внутреннего водного транспорта). Ныне в форме устава кодифицируются также основные нормы, определяющие правовой статус субъектов Российской Федерации (исключая республики в составе РФ, которые принимают конституции), структуру, полномочия и организацию деятельности их государственных органов.
Положения регламентируют правовое положение, задачи и компетенцию определенного органа, учреждения или группы однородных органов, учреждений, организаций (Положение о Верховном Суде РФ, Положение о службе в органах внутренних дел РФ и др.).
Правила содержат процедурные нормы, определяющие порядок организации какого-либо рода деятельности (например, Правила возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей).
В ряде случаев кодификационный акт может приниматься в форме закона без дополнительного наименования (например, Закон о государственных пенсиях, Закон об образовании, Закон об основах государственной службы и т. д.). Отнесение того или иного закона к разряду кодификационных определяется в зависимости от его содержания, объема и сферы регулирования им общественных отношений, направленности на объединение действующих норм и одновременное внесение нормативных новелл.
3. Правовая система России с самого начала должна создаваться не как совокупность разрозненных актов по узким вопросам, а как научно обоснованная и взаимоувязанная система кодификационных актов, которые должны быть базой, основой системы законодательства страны. Кодификация способствует усилению стабильности законодательства, созданию четкой, базирующейся на научном фундаменте системы нормативных актов, обеспечивает оптимальную скоординированность между действующими нормами, создание в законодательстве укрупненных нормативных блоков. Она позволяет решить две взаимосвязанные задачи — совершенствовать и содержание, и форму законодательства.
В перспективе кодификационные акты призваны быть основой правотворческой и в первую очередь законодательной деятельности. Множественность и фрагментарность законов, их узкая тематика — это существенный недостаток законодательства, и он будет становиться все более очевидным по мере развития и усложнения правовой системы, углубления правового регулирования. Правда, необходимость быстро, оперативно заполнять пустоты, пробелы в действующем регулировании, потребность законодательного обеспечения рыночных реформ, дальнейшей демократизации общественной жизни, динамика социальных преобразований объективно побуждают законодателя принимать отдельные акты по сравнительно узким темам, частным вопросам. В результате нормативный массив интенсивно растет и вместе с тем создается больше возможностей для появления новых пробелов, несогласованностей и противоречий в действующем регулировании.
В перспективе издание кодификационных актов должно превратиться в основную форму законотворчества. Не следует растаскивать наше законодательное хозяйство по отдельным кускам, мельчить нормативные акты. Основной путь преодоления множественности нормативных актов, их мелкотемья, а также пробелов и противоречий регулирования — это повышение внимания к кодификации законодательства, принятие законов по укрупненным блокам регулирования. Следует сочетать отраслевую и комплексную кодификации, отдавая предпочтение первой.
Генеральной линией совершенствования российского законодательства в будущем следовало бы избрать курс на постепенное осуществление его всеобщей кодификации. К такой кодификации следует стремиться уже сейчас, постепенно обновляя и укрупняя наше законодательство, создавая кодификационные “блоки”, которые не только бы отвечали задачам текущего упорядочения законодательства, но и были рассчитаны на включение в качестве составных частей в будущий кодификационный свод. Текущие акты уместно составлять так, чтобы их, по возможности не расчленяя на части, можно было включать в более крупные кодификационные подразделения — в кодексы, единые тома свода.
Подготовка и издание так называемого Кодекса законов Российской Федерации (или “Кодекса кодексов”), создаваемого на базе Свода законов единого систематизированного законодательного акта, имеющего многоуровневую структуру и объединяющего все действующее законодательное регулирование, -— это задача совершенствования законодательства России на длительную перспективу.
Глава 8. Правовые отношения
§ 1. Понятие правовых отношений и их основные виды
Право в объективном и субъективном смысле. Понятие правового отношения является одним из основных в юридической науке. Понятие права как системы норм, установленных или санкционированных государством, раскрывает нам одну из сторон правовой действительности. Такие нормы суть правила поведения, регуляторы общественных отношений между людьми. Поскольку это регулятор общественный, выступающий по отношению к каждому отдельному лицу или организации как некая внешняя среда, то понятие “право как система норм” носит объективный характер, т. е. не принадлежит какому-либо субъекту, не составляет его личного, хотя бы и социального, свойства. Поэтому нормы права или право как систему норм называют объективным правом, правом в объективном смысле.
Нормы права, однако, существуют не сами по себе, а для людей и их организаций (в том числе и государства) и призваны регулировать их поведение, предоставляя им свободу действий, возможность поведения и использования материальных и духовных благ, а также связывая их свободу и поведение определенными рамками, предписаниями, ограничениями. Предусмотренная нормами права свобода или возможность поведения носит то же название — право. Но это уже не норма, лежащая за рамками возможностей власти либо личной принадлежности (субъекта) — человека или организации. Наоборот, это то, что по объективному праву (закону) принадлежит субъекту, составляет его личную свободу или возможность поведения, пользования принадлежащими ему вещами, способностями, знаниями и многими иными (в том числе и общественными) благами. Такая свобода и возможность поведения, закрепленная или допускаемая законом (объективным правом), в юридической науке носит название субъективное право, право в субъективном смысле.
С другой стороны, рамки ограничения свободы или прямые предписания обязательного поведения также обращены к отдельным людям и организациям: они устанавливают то должное поведение, которому каждый субъект обязан следовать в своей жизнедеятельности, соблюдая свободу и интересы других лиц или общества в целом. Такое должное поведение, возникающее в разных взаимоотношениях людей, носит название юридической обязанности.
Такова позитивно-правовая концепция юридических субъективных прав и обязанностей, в основе которой лежит связь прав и обязанностей с правовыми нормами и обусловленность ими. Согласно позитивно-правовой концепции, правовые отношения есть отношения между людьми и их организациями, урегулированные нормами прав и состоящие во взаимной связи субъективных прав и юридических обязанностей участников правоотношения.
В этом состоит внешняя структура правового отношения как юридического явления. Подробнее эта структура и ее различные элементы будут рассмотрены в дальнейшем. Здесь необходимо раскрыть особенности содержания правоотношений по сравнению с другими общественными отношениями.
Правовые и иные общественные отношения. Правовые отношения — лишь одна из сторон общественной жизни или отношений между людьми. Современная наука об обществе различает также отношения экономические, политические, нравственные, брачно-семейные, экологические, трудовые, социальные отношения в узком смысле (т. е. в сфере социального страхования и обеспечения, образования и культуры, охраны здоровья и т. п.). В чем состоят специфические отличия правоотношений от иных видов общественных отношений и как правовые отношения взаимодействуют со всеми иными отношениями, складывающимися в обществе?
В советской правовой науке правовые отношения рассматривались как надстроечные в отличие от производственных, которые, согласно К. Марксу, составляют экономический базис общества и складываются независимо от воли и сознания людей[301]. Этому соотношению базиса и правовой надстройки (или ее правовой части) были посвящены многие страницы научных и учебных трудов. Тот факт, что экономика лежит в основе общественного развития, следует считать по крайней мере реальным выводом, хотя далеко не абсолютным. Типы складывающихся в разные эпохи цивилизации правовых отношений, несомненно, зависят от сложившегося уровня развития производства и обмена товаров. Конечно, нельзя забывать и влияния других факторов на развитие общественных отношений, в том числе и правовых. Правовые отношения зависят не только от экономики, но и от политики, от сложившихся форм семьи, от уровня развития культуры, идеологии, общественной нравственности и от многого другого. Вместе с политическими, семейными, нравственными, социально-культурными, религиозными отношениями марксизм относил правовые отношения к идеологическим, а всю сферу идеологии — к “надстройке” над базисом, рассматривая такие отношения как отражение экономического базиса. Такова, согласно марксизму, общая закономерность исторического развития в целом.
Однако любым отношениям между людьми в цивилизованном обществе присуща и другая сторона: они в каждом отдельном случае всегда осознаются их участниками и создаются по воле людей.
Когда же мы хотим раскрыть содержание правовых отношений как одного из видов волевых взаимосвязей между индивидами и организациями, речь должна идти не о том, как соотносятся результаты и движущие силы исторического развития, а о том, каковы те индивидуальные связи и отношения между людьми и организациями, которые в философском их понимании и в реальной действительности всегда являются волевыми, т. е. возникают и реализуются по воле и сознанию людей (пусть ошибочным, но выраженным в словах и поступках людей). Такие индивидуально-волевые отношения возникают в сфере экономики, например в процессе обмена товарами, реализации изобретений, вложения капиталов (инвестирования) и т. п. Они характерны и для социальных отношений (лечение больных, санаторный отдых и т. п.), сферы культуры (образование, посещение концерта, театрального спектакля и т. п.) и всех других сфер жизни людей. То же самое наблюдается в процессе деятельности предприятий, организаций, где общий результат — производство продукции, оказание услуг и получение прибыли -— складывается как результат взаимодействия множества индивидуально-волевых трудовых, производственно-технических и иных отношений, а также отношений обмена, оптовой и розничной купли-продажи, финансовых операций и т. п.
Все такие действия и взаимосвязи составляют индивидуально-волевые отношения между людьми. И именно они (а не объективные результаты деятельности — уровень рентабельности предприятия либо образованности и культуры человека и т. п.) регулируются правом и, следовательно, приобретают форму правоотношений. Индивидуальные волевые экономические (трудовые, производственные, а также отношения обмена), политические, социальные, культурные, семейные и иные отношения, сохраняя свое специфичное для каждого вида отношений содержание в виде взаимосвязанных действий людей и организаций, приобретают с помощью права новое качество в виде юридических прав и обязанностей сторон, с которыми они могут, и в надлежащих случаях должны, сообразовать свое поведение в отношении своих партнеров. Эти права охраняются государством, а исполнение обязанностей обеспечивается возможностью соответствующего государственного принуждения.
Правовые отношения и нормы права: их взаимосвязь в понимании права. Законы, иные нормативные акты государства, правовые обычаи и прецеденты, другие источники позитивного права устанавливают условия и юридическое содержание правовых отношений, а следовательно, предшествуют им. Без норм права при нормальных условиях не могут возникать соответствующие правовые отношения. Такова общая закономерность.
Например, отношения собственности в любом цивилизованном обществе упрочиваются и развиваются только тогда, когда они предусмотрены и защищены законами государства. Эта закономерность известна всей истории цивилизации, древнейшими памятниками которой были законы о собственности, порядке обмена товарами, распределении земли в собственность или во временное владение и т. п. Во все исторические эпохи цивилизации законом регулировались также устройство государства, полномочия или привилегии органов государства, порядок ответственности за преступления и т. п. Очевидно также, что в современных условиях, как и в древние времена, есть необходимость четкого законодательного регулирования форм государственного правления и устройства, основных прав и свобод граждан, отношений гражданства, собственности, порядок ответственности за правонарушения, разрешения споров и т. п.
Но означает ли это, что любые индивидуальные правоотношения могут возникать и развиваться только при наличии соответствующих норм права? Вряд ли это соответствует истории развития права в те эпохи, когда право вытекало из обычая, прецедентов, из новой социальной и хозяйственной практики. Нормы частного права, устанавливая принципы регулирования обмена товарами, допускали свободные формы договоров, не нарушающие эти принципы (принцип отсутствия numerus clausis, т. е. закрытого перечня видов договоров). Так было и в древних обществах (освободившихся от формализации, свойственной родовым обычаям), во времена средневековья (кроме земельных отношений) и особенно в капиталистическом обществе.
Поэтому в практике частноправового регулирования действует принцип: “разрешено все, что не запрещено законом” Так, разрешаются все не запрещенные законом сделки. Современное семейное право, закрепляя принцип равенства супругов, также предоставляет возможность многие отношения между ними решать по взаимному согласию супругов. Российское законодательство еще далеко не полностью воплощает этот принцип, хотя отменило ряд ограничений в области частного предпринимательства и других гражданско-правовых отношений. Движение к рыночному хозяйству требует большего простора для свободного возникновения законных форм предпринимательства (т. е. различных гражданско-правовых отношений). Однако при этом должны быть четко и справедливо установлены границы этой свободы, не позволяющие нарушать интересы общества, трудовых коллективов, других лиц и организаций. В этих условиях индивидуальной (частной и коллективной) свободы правовых отношений, при четких границах охраны интересов общества и его граждан возникновение правоотношений, прямо не предусмотренных законом, вполне допустимо.
Вторая теоретическая проблема, вытекающая из признания отмеченной выше взаимосвязи норм права и правоотношений, состоит в том, что только оба этих элемента взаимообусловливают реальную жизнь права как регулятора общественных отношений. При всей важности выработки и установления юридических норм не менее важно, чтобы эти нормы не оставались на бумаге, в скрижалях законов, а воплощались в реальной жизни. Формой же такого воплощения и выступают права и обязанности реальных, индивидуально определенных участников правовых отношений. При этом возникновение юридических прав и обязанностей не подменяет экономическое, социальное или личностно-индивидуальное содержание общественных отношений, а лишь оформляет строгие рамки, сроки, условия для выполнения целей договора, семейного, трудового или административного отношения, условия реализации прав гражданина и т. п. В этом состоит значение права Для охраны интересов сторон правоотношения, реальной защиты их судом или иным органом государства.
Поэтому следует признать правильным не только нормативный подход к праву, но и социологическое видение права, подчеркивающее “жизнь права в правоотношениях”, защищаемых, а частично и создаваемых судом. В этом смысле право включает в себя как юридические нормы, так и правовые отношения, которые также составляют его необходимый, а иногда и исходный элемент.
Основные виды правоотношений. С признанием правоотношений одним из основополагающих элементов понятия права и их индивидуально-волевого характера связана и характеристика основных структурных типов правоотношений. Простейшая структура правоотношения выглядит как связь, взаимодействие прав и обязанностей двух его участников. Например, праву покупателя соответствует обязанность продавца передать ему вещь (покупку) за уплаченную цену (обязанность покупателя). По трудовому договору праву нанимателя (работодателя) требовать выполнения обусловленной работы соответствует обязанность работника выполнять такую работу. Праву работника на получение заработной платы соответствует обязанность нанимателя выплачивать ее в установленные сроки.
Приведенные примеры носят название двусторонних правоотношений: в них участвуют две стороны, каждая из которых несет права и обязанности в отношении другой. Гражданские правоотношения бывают и односторонними. Односторонней считается сделка, для совершения которой необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (ст. 154 ГК РФ). Например, такие гражданско-правовые отношения возникают в результате дарения, совершенного в надлежащей форме (ст. 572 ГК РФ), оферты предложения товаров (ст. 435—437, 494 ГК РФ), составления завещания (ст. 534 ГК РСФСР). Односторонние сделки порождают право одаряемого, принимающего оферту или наследника по завещанию. Однако другая сторона вправе не принимать оферты, отказаться от дара или завещания. При этом соответствующее правоотношение либо не возникает, либо расторгается.
Однако в теории и на практике односторонние правоотношения не выделяются в сфере публичного права, где большинство правоотношений возникает из одностороннего волеизъявления.
Возможны и существуют правоотношения, в которых участвует не две, а три и гораздо более сторон. Примером могут служить купля-продажа через посредника; отношения строительного подряда, в котором партнерами заказчика являются, как правило, генеральный подрядчик и несколько (часто множество) субподрядчиков. Но увеличение числа участников правоотношений не меняет их структурного типа, при котором каждому праву одной стороны соответствует обязанность другой стороны, заранее индивидуально известной, определенной договором. Все такие правоотношения носят название относительных правоотношений, в которых определены обе стороны. “Относительны” они потому, что все другие лица и организации не несут обязанностей и не имеют прав по данному договорному обязательству либо, например, семейному отношению между супругами.
Однако есть и принципиально иная структура правоотношения, в которой определена только одна управомоченная сторона. Классический пример — право собственности, которое состоит из правомочий владения, пользования и распоряжения вещью. Но закон не определяет каких-либо обязанных перед собственником лиц. Означает ли это, что здесь есть только субъективное юридическое право, но нет правового отношения, так как нет обязанной стороны? В советской правовой теории многие относили право собственности к правам “вне правоотношения” Однако более правильной была другая позиция, разделяемая юридической практикой: праву собственника противостоит обязанность всех других лиц не препятствовать свободному осуществлению им владения, пользования или распоряжения вещью, не посягать на эти права. Такая связь “участников правоотношения” в нормальных условиях как бы не видна. Но как только нарушено право собственности, обязанность нарушителя по отношению к собственнику четко выявляется.
Такие отношения носят название абсолютных правоотношений, т. е. налагающих обязанности на всех и каждого. В гражданском праве это также право авторства, в административном — право органа государства (должностного лица) пресекать нарушения общественного порядка, обязанность соблюдать который лежит на каждом лице и организации. Аналогичны права органов охраны природы и некоторых контрольных органов.
От таких правоотношений следует отличать правосубъектность физических и юридических лиц, правовой статус органов государства, общественных объединений и т. п. (см. об этом п. 2).
Виды правовых отношений различаются также и по иным признакам. Например, каждой отрасли права соответствуют свои особенности регулирования, которые вызывают и особенности соответствующих отраслевых правоотношений. Например, гражданские правоотношения (обязательства, наследование, собственность) характеризуются равным положением сторон. Административным правоотношениям, наоборот, свойственно подчинение одной стороне (управляющей) другой стороны (управляемой). Земельные отношения связаны со специальными мерами управления и контроля со стороны государства (условия отвода земель, их содержания и восстановления, земельный кадастр). Трудовые правоотношения характеризуются специальными гарантиями для работников. Отношения в области судопроизводства — состязательностью сторон, гарантиями презумпции невиновности и т. д. и т. п.
Наконец, по структуре взаимосвязей сторон следует различать простые и сложные правоотношения. Простым является правоотношение, которое исчерпывается одной взаимной связью права и обязанности. Таковы договор простейшей розничной купли-продажи, дарение, договор о единичной услуге и т. п.
Сложным является правоотношение, в котором стороны связаны двумя и более (“букетом”) правами и обязанностями. Таковы почти все хозяйственные договоры, семейные правоотношения, отношения в области образования, здравоохранения и т. п.
В теории права различают также регулятивные и охранительные правоотношения. Первые, в известной мере первичные, связаны с установлением прав и обязанностей сторон и их реализацией. Вторые возникают тогда, когда нарушены права и не исполнены обязанности, когда права и интересы участников правоотношений или каждого лица, всего общества нуждаются в правовых мерах защиты со стороны государства. Типичным примером регулятивных отношений являются гражданско-правовые обязательства, трудовые, семейные и другие правоотношения. Процессуальные отношения в области судопроизводства, исполнения уголовного наказания — это типичные охранительные правоотношения.
Следует отметить, что отраслевая и другие классификации видов правоотношений уже не связаны с их внутренней структурой. Во всех отраслях права различаются простые и сложные правоотношения, относительные и абсолютные. Регулятивные и охранительные правоотношения также свойственны различным отраслям права: они могут быть простыми и сложными, абсолютными (в уголовном праве) или относительными (в гражданско-правовом споре).
§ 2. Субъекты права и участники правоотношений
Понятие субъекта права. В правовых отношениях участвуют люди и образуемые ими для своих частных и общественных целей организации людей: государство и его органы, предприятия, учреждения, общественные объединения граждан, религиозные организации. Для участия в правоотношениях люди и организации должны обладать определенными качествами, признанными или установленными законом для всех и каждого из будущих участников правоотношения. Совокупность этих качеств и образует понятия субъекта права и правосубъектности лица либо организации. При этом качества субъекта права (правосубъектности) различаются для разных групп отраслей права как по условиям их возникновения (например, в зависимости от возраста человека), так и по своему содержанию — возможностям правообладания, например правами имущественными, личными или властными правами руководства.
Таким образом, субъектами права являются лица или организации, за которыми признано законом особое юридическое свойство (качество) правосубъектности, дающее возможность участвовать в различных правоотношениях с другими лицами и организациями.
Правосубъектность включает в себя правоспособность и дееспособность, а также правовой статус субъекта права. Под правоспособностью понимается способность иметь права и обязанности, предусмотренные законом, т. е. конкретные позитивные права и обязанности участника различных правоотношений. Под дееспособностью имеется в виду способность своими действиями приобретать права и создавать для себя юридические обязанности. Это легальное определение гражданской дееспособности важно для физических лиц. У юридических лиц, органов государства и общественных организаций право- и дееспособность, как правило, не разрываются, всегда вместе присутствуют у правомочного юридического лица.
Правовой статус — это признанная конституцией или законами совокупность исходных, неотчуждаемых прав и обязанностей человека, а также полномочий государственных органов и должностных лиц, непосредственно закрепляемых за теми или иными субъектами права.
Правовой статус гражданина, иностранца или лица без гражданства непосредственно выражает его правосубъектность, которую по Всеобщей декларации прав человека ООН обязаны признавать все государства. Он включает в себя основные, неотчуждаемые права человека, как правило закрепленные в конституции государства, а также частноправовую правоспособность и дееспособность физического лица.
Виды субъектов права различаются по-разному для правоотношений в сфере частного права и в сфере публичного Права.
В сфере частного права (гражданского, семейного, трудового, земельного и других отраслей природопользования 11 т. п.) субъекты права подразделяются на физических и юридических лиц. К физическим лицам относятся все граждане, а также иностранцы и лица без гражданства. Иначе говоря, это люди, за которыми признано качество право- и дееспособности.
Юридическими лицами являются все предприятия и их объединения, а также учреждения и общественные объединения (в том числе религиозные) независимо от формы собственности или иной формы имущественной правоспособности. Для признания организации или учреждения юридическим лицом требуется его регистрация в государственных органах.
Такая классификация субъектов в сфере частного права имеет важное практическое значение. Ведь в правоотношениях частного права не должно быть неравного положения субъектов — подчинения одной стороны отношения другой его стороне. На рынке — классической сфере частного права — продавец и покупатель “подчинены” одному экономическому закону стоимости. Если этот объективный закон нарушается, то частное право и гражданский кодекс не действуют, остаются бессильными. Поэтому соблюдение равенства сторон остается непременным условием участия в частноправовых отношениях. Для такого соблюдения все субъекты частноправовых отношений должны иметь равные права и обязанности, участвуя в этих отношениях. Поэтому законы о собственности, предпринимательстве, об общественных объединениях не делают различий между государством, его органами, предприятиями и учреждениями — все они выступают как равноправные юридические лица в имущественных, трудовых и иных частноправовых отношениях и имеют равную защиту своих интересов.
Правосубъектность физических и юридических лиц выражается в их правоспособности и дееспособности.
Все физические лица имеют равную правоспособность в области частноправовых отношений. Она возникает с момента рождения человека (а по отношениям наследования учитываются и права еще не родившегося ребенка) и прекращается с его смертью (по отношениям наследства воля наследодателя учитывается и защищается после его смерти). Все граждане России (как и граждане других государств) имеют равную и полную (по объему) правоспособность. Для иностранцев могут быть установлены ограничения, защищающие права граждан государства (необходимость получения лицензий, квоты на въезд в страну, ограничение прав на занятие некоторых должностей — капитанов судов, авиалайнеров и т. п.).
Дееспособность физических лиц возникает с достижением возраста, когда подросток приобретает способность осознавать значение своих поступков и руководить своими действиями. Полная дееспособность возникает в России с 18 лет (в ряде других государств — с 21 года). Однако в гражданском праве заключение мелких бытовых сделок разрешено детям от 6 до 10 лет (хотя они могут быть оспорены родителями). Частичная правоспособность возникает с 14 лет и существенно расширяется после 16 лет (распоряжение заработком, иными доходами — ст. 26 ГК РФ). В трудовом праве — с 15 лет; частичная уголовная ответственность допускается с 14 лет и т. п.
Таким образом, и малолетние дети до шести лет признаются правоспособными и имеющими право на жилье, наследство, личные вещи, но являются недееспособными. Их интересы представляют и защищают законные представители — родители и опекуны. Недееспособны (полностью или частично) также умалишенные, признанные недееспособными по решению суда.
Правоспособность и дееспособность юридических лиц, как правило, возникают одновременно и составляют единое качество праводееспособности.
Юридическими лицами признаются организации, которые имеют обособленное имущество в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении, могут от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцами и ответчиками в суде, арбитражном или третейском суде (ст. 23 ГК РФ).
Более подробно права организаций как субъектов предпринимательской деятельности, а также права учреждений как юридических лиц для различных некоммерческих организаций определены ГК РФ в зависимости от целей, характера деятельности или статуса их прав на имущество собственника, хозяйственного ведения или управления.
Однако во всех этих законах речь идет только о частноправовых возможностях юридического лица.
Правосубъектность юридического лица в отличие от правосубъектности лица физического является специальной. По своему содержанию она должна соответствовать целям и задачам деятельности данной организации, предприятия или учреждения, определенным в его уставе. Поскольку цели и задачи организаций, выступающих юридическими лицами, чрезвычайно разнообразны, то для них не может и не должно быть равной правосубъектности. Специальная правосубъектность означает, что ее объем и содержание у разных организаций существенно различаются.
В области публичного права органы государства выступают как самостоятельные субъекты права на осуществление функций государственной власти, управления и правосудия. Правовой статус государственного органа очерчивается его компетенцией. Только прямо указанные в законе полномочия (властные права и обязанности) составляют его правовой статус. Выход государственного органа за пределы своих полномочий, так же как и их неосуществление в подлежащих случаях, всегда являются неправомерными, незаконными действиями, хотя бы они и были вызваны невозможностью принять иные меры.
Должностные лица органов управления, депутаты законодательных органов, судьи и судебные исполнители также наделяются законом определенным правовым статусом в рамках своей компетенции и обязаны действовать в его пределах.
В этих пределах решения и действия органов государства и должностных лиц обязательны для всех других субъектов права, которые должны выполнять предписания органа и должностного лица.
§ 3. Содержание правоотношения
Правовое отношение связывает его участников взаимными позитивными правами и обязанностями, которые составляют главное специфическое содержание правоотношения. Вместе с тем права и обязанности должны осуществляться в реальных действиях субъектов по использованию прав и выполнению обязанностей. Конечно, мыслимо владение предметами собственности без их использования. Право собственности при этом сохраняется. Но реальная ценность такого хранения вещей невелика и небеспредельна. К тому же подобные явления нетипичны и не имеют большого общественного значения.
Таким образом, логически правильно заключить, что содержание правоотношения состоит в правах и обязанностях его участников и в реальных действиях по их использованию и осуществлению.
Однако при этом возникает одно логическое затруднение. Как мы видели, правовое отношение выступает в качестве юридической формы фактического общественного отношения, например, осуществление компетенции — форма реализации государственной властной функции органа государства; права и обязанности договора поставки, розничной купли-продажи — форма денежного обмена товаров; брак — форма супружеских отношений и т. д. и т. п. В процессе реализации правоотношение и фактическое (экономическое, семейное и т. п.) отношение как бы смыкаются. Но грань различия и здесь выступает в виде признания реальных действий участников не только экономическими, социальными и иными фактами жизнедеятельности, но и юридическими фактами по “движению” правового отношения, т. е. по его возникновению, изменению, осуществлению и прекращению. Значение юридических фактов будет рассмотрено далее. Здесь мы остановимся на характеристике субъективных прав и юридических обязанностей.
Что представляет собой субъективное право? Это прежде всего признанная или предоставленная законом возможность того или иного поведения. При этом — не просто фактическая возможность, а защищенная законом и стоящим за ним государством. Такая возможность становится стабильной, надежной — на нее можно положиться и сделать эффективным инструментом личных, предпринимательских и иных социальных дел, разнообразной жизнедеятельности. Субъективное право опирается не просто на обещание, прогноз или даже собственное предположение, а на государственную защиту интересов участника правоотношения.
Субъективные права, которыми обладают участники правоотношений, различаются по своей структуре и функциональному назначению. В относительных правоотношениях, где интерес управомоченного удовлетворяется через действия обязанной стороны, субъективное право выступает как право требовать от обязанной стороны совершения тех или иных действий — передачи вещи, поставки продукции, материалов, уплаты денег, выполнения работы (в трудовых отношениях), содержания и участия в воспитании детей (в семейных отношениях) и т. п.
В абсолютных и некоторых публичных правоотношениях субъективное право выступает в виде обеспеченной правом (законом) возможности собственного поведения, свободы осуществлять свое право. Возможность требовать выступает здесь как нечто вторичное, как поддержка осуществления собственных прав и свобод. Таково содержание правомочий собственника — владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, таково же содержание политических свобод — свободы слова, собраний, ассоциаций, демонстраций, права избирать депутатов в парламент. Требования собственника заключаются в устранении препятствий к осуществлению права, а требования граждан по осуществлению политических прав и свобод — в надлежащем обеспечении государством правопорядка, недолущении препятствий законному осуществлению свобод либо прав избирателей.
В одном и том же сложном отношении оба типа содержания прав могут объединяться. Например, осуществление права предпринимательской деятельности связано с такими собственными действиями, как учреждение или преобразование предприятия, а также с привлечением финансовых средств путем заключения договора о кредитовании, с наймом работников, использованием услуг по страхованию и т. п.
Наконец, каждое субъективное право связано с притязанием, т. е. с возможностью обратиться в суд или иной государственный орган за защитой своего права, если имеет место его нарушение, неисполнение законного требования и т. п. Право на обращение в суд за защитой — один из важнейших устоев демократического общества и государства.
Субъективная юридическая обязанность участника правоотношения состоит в должном поведении, соответствующем субъективному праву. Это относится не только к относительным правоотношениям, в которых обязанности выражаются главным образом в совершении активных действий (поставка товаров, перевозка, оказание услуг, выполнение работы, воспитание детей в семье и т. п.), но и к абсолютным правоотношениям, где субъективному праву корреспондируют пассивные обязанности не нарушать права собственности, не препятствовать осуществлению гражданами избирательных прав, политических свобод, свободы слова и т. п.
Пассивные обязанности “не препятствовать” и “не нарушать” относятся и к тем основным субъективным правам, которые признаются государством как принадлежащие каждому человеку или гражданину государства. Если эти неотчуждаемые права не обеспечиваются обязанностями других уважать права человека и не ограничивать свободы его действий, вряд ли можно говорить об их юридической обеспеченности.
§ 4. Юридические факты
Правоотношения возникают, изменяются и прекращаются, их содержание (права и обязанности) реализуется для достижения поставленных сторонами целей. Вся эта динамика правовых отношений неразрывно связана с наступлением различных фактов, имеющих юридическое значение. В правовой науке и практике такие факты получили название юридических фактов.
Под юридическими фактами понимаются жизненные обстоятельства, с которыми закон, правовые нормы связывают наступление юридических последствий, прежде всего различных правовых отношений. Но с наступлением тех или иных фактов связано не только участие субъекта права в правоотношениях, но и само приобретение или возникновение правосубъектности. Например, с рождением возникают гражданство, гражданская правоспособность ребенка. Прием в гражданство порождает статус гражданина данного государства; для создания предприятия требуется его регистрация и т. п. Поэтому юридические факты служат основанием не только возникновения, изменения и прекращения конкретных правоотношений, но все же именно движение последних является главным, наиболее распространенным следствием юридических фактов.
Установление или подтверждение юридических фактов является одной из главных задач практической деятельности каждого юриста. Без этого немыслимы правильное применение закона, защита прав граждан и организаций, разрешение споров, привлечение к ответственности нарушителей закона.
Юридические факты подразделяются на виды по разным основаниям классификации.
По своему отношению к воле людей юридические факты разделяются на события и действия.
События — это явления, не зависящие от воли человека: стихийные бедствия, рождение, достижение определенного возраста, смерть человека, истечение сроков и т. п. Они могут иметь юридическое значение лишь в той мере, в какой оказывают влияние на общественные отношения. Правовые нормы, которые указывают на события, имеющие юридические последствия, не могут оценивать их как правомерные или неправомерные именно потому, что события сами по себе — явления стихийные. События становятся основанием для правомерных последствий, например, смерть человека влечет за собой открытие наследства, прекращение правоспособности; истечение срока исковой давности — прекращение обязательства; пожар, наводнение, вызвавшие гибель имущества, — выплату страхового возмещения, если имущество было застраховано, и т. п.
Событиям, как явлениям, не зависящим от воли человека, противостоят все виды действий людей как волеизъявления человека.
Действия классифицируются на правомерные и неправомерные по признаку отношения к ним правовых норм.
Правомерные действия в свою очередь различаются по Признаку направленности воли людей, совершающих эти действия. Действия, совершаемые с намерением породить юридические последствия, называются юридическими актами. К ним относятся индивидуальные акты административного управления, гражданско-правовые сделки, заявления и жалобы граждан, регистрация актов гражданского состояния, судебные решения и определения и т. п. Действия, приводящие к юридическим последствиям независимо от намерений лица, называются юридическими поступками. Примером могут служить создание художественного или иного произведения, находка, потребление имущества и некоторые другие действия. В отличие от юридических актов поступки могут совершаться недееспособными лицами и имеют юридическое значение независимо от “пороков воли”
Круг юридических поступков и их значение для возникновения правоотношений весьма ограниченны. По существу, они имеют место там, где право не придает значения процессу труда (например, процессу труда автора произведения) или намерениям, с которыми совершается то или иное действие (например, находка, потребление вещи).
Юридические акты могут классифицироваться по разным признакам. Наиболее важное значение имеет деление актов на односторонние и двусторонние. Односторонний акт влечет за собой правовые последствия независимо от воли других лиц. Таковы односторонние сделки, завещания, административные акты, судебные решения и другие властные акты государственных и общественных органов, заявления. Сюда же относятся односторонние действия участника правоотношения по осуществлению прав и обязанностей (зачет, признание долга, требование долга, требование о досрочном исполнении обязательств и т. д.).
Двусторонние юридические акты требуют наличия соглашения между двумя лицами или организациями. Важно при этом, чтобы воля обеих сторон была выражена в едином акте, порождающем одни и те же последствия. Примером могут служить договор в гражданском и трудовом праве, вступление (прием) в члены кооператива, соглашение об изменении условий трудового договора (например, перевод на другую работу, осуществляемый с согласия работника).
Для возникновения правовых отношений, их изменения и прекращения часто имеет значение не отдельный факт, а их известная совокупность, именуемая в науке фактическим составом. Правильное установление фактического состава, послужившего возникновению, изменению или прекращению правоотношения, имеет важное практическое значение.
Фактический состав может быть определен законом конкретно, с указанием всех его элементов. Например, для получения пенсии по старости имеет значение совокупность юридических фактов, весьма разнородных по своему характеру: достижение пенсионного возраста, наличие необходимого трудового стажа, решение о назначении пенсии. Все эти условия подробно определены законом. Если одного из этих фактов нет, то гражданин не может получать пенсию по старости в полном размере.
Однако праву известны фактические составы, характеризуемые лишь общими признаками. Таковы, например, основания для расторжения брака (фактический распад семьи, отсутствие нормальных условий для совместной жизни и воспитания детей); для решения вопроса о лишении родительских прав или отобрании ребенка (необеспечение родителем условий для нормального развития и воспитания детей); для восстановления пропущенного срока исковой давности (наличие уважительных причин). Такие общие составы необходимы в тех случаях, когда речь идет о сложных обстоятельствах, конкретное определение которых законом приводило бы к ненужной формализации.
В связи с понятием фактического состава встает вопрос о юридическом значении отдельных его элементов. На поставленный вопрос не может быть дано одного общего ответа. К числу элементов фактического состава могут относиться такие события и действия, которые сами по себе не имеют юридического значения (например, аморальный облик и недостойное поведение родителей, приведшие к отобранию детей, слагаются из целой суммы аморальных поступков, каждый из которых сам по себе может не влечь за собой юридических последствий). В других случаях имеют место такие события или действия, которые сами по себе являются юридическими, но наступления данного правоотношения не порождают. Например, трудовой стаж может быть недостаточен для получения пенсии по старости, но имеет значение для получения пособия по временной нетрудоспособности, надбавок за выслугу лет.
Наконец, есть случаи, когда наступившие условия непосредственно порождают некоторые “предварительные” юридические последствия (связанность оферента, условно-обязанных лиц, обязанность заключить договор и т. п.). Из оферты (предложения заключить сделку, договор) или соглашения об условной сделке вытекают обычные субъективные права и обязанности. Поэтому категория “правовой связанности” имеет значение для отличения этого вида “незавершенных прав” от обязательственных (т. е. вытекающих из заключенного договора).
Для возникновения юридических последствий в ряде случаев имеют значение не только сами явления действительности, но и предположения о наступивших фактах, или так называемые презумпции. Практическое значение презумпции достаточно ясно видно на примере судебного признания умершим лица, если в месте его постоянного жительства нет сведений о нем в течение трех лет (ст. 21 ГК). Однако не следует считать презумпцию юридическим фактом. Юридическим фактом остается предполагаемый факт: смерть лица, правомерное приобретение имущества в собственность до продажи вещи и т. п. Если предполагаемый факт не подтвердился, будет опровергнут, то наступают и соответствующие изменения в юридических последствиях. Поэтому презумпция имеет значение одного из допустимых способов суждения о фактах, но не является самостоятельным юридическим фактом.
§ 5. Объекты правоотношений
Под объектом правового отношения следует понимать те материальные и духовные блага, предоставлением и использованием которых удовлетворяются интересы управомоченной стороны правоотношения.
Люди всегда участвуют в правоотношениях ради удовлетворения каких-либо политических, материальных, культурных и иных социальных интересов и потребностей. Эта цель достигается с помощью субъективных прав и обязанностей и юридических действий, направленных на их осуществление, которые в конечном счете приводят к приобретению и потреблению вещей, к пользованию различными социально-культурными благами, бытовыми услугами; в политической сфере — к выборам народом своих представителей в органы власти, осуществлению контроля над ними, к правильному функционированию власти и т. п.
Связь объекта с интересами участников правоотношения выводит нас за пределы анализа юридической формы правоотношения и позволяет установить связь этой формы с различными материальными, организационными и культурными средствами удовлетворения потребностей личности и общества. В этом проявляется самостоятельное значение вопроса об объекте правоотношения для юридической науки и практики.
Средства удовлетворения различных интересов, потребностей личности и общества чрезвычайно разнообразны. Это прежде всего предметы внешнего мира, результаты деятельности людей, которые отделяются от самого процесса деятельности. Поэтому имущество, предоставленное субъекту, признается законом объектом права собственности, права оперативного управления имуществом со стороны государственных предприятий и других субъективных прав. С той же необходимой ясностью формулирует российское законодательство и объект авторского права: “результаты интеллектуальной деятельности и исключительные права на них (интеллектуальная собственность)” (ст. 128 ГК РФ). Следовательно, и личные неимущественные блага (продукты интеллектуального творчества) выступают в качестве объекта субъективного права.
Но в ряде случаев интересы участников правоотношения удовлетворяются непосредственно самим действием обязанного лица, выступающим в силу этого объектом правоотношения.
Например, когда речь идет об оказании различных производственных и бытовых услуг, объектом правоотношения служат именно эти услуги. И независимо от того, оплачивается или нет услуга тем лицом, которое ее получает, она не перестает быть средством удовлетворения потребности. Поэтому в договоре перевозки и подряда объектом прав заказчика выступает выполнение работы перевозчиком или подрядчиком. Выполнение определенных действий по обучению, воспитанию, по медицинскому обслуживанию, по концертному исполнению произведений также составляет средство удовлетворения соответствующих социально-культурных потребностей граждан, участвующих в соответствующих правоотношениях, т. е. их объект.
Наконец, объектом правоотношения могут выступать не сами действия, а их результат. Например, выполнение договора подряда (при заказе портрета художнику, изготовлении индивидуальной вещи, костюма и т. п.) оценивается не по тому, как выполнялась работа, а каким оказался ее результат.
В юридической литературе встречаются мнения о том, что и личность человека может в отдельных случаях выступать объектом права другого лица. В пример приводят брак, в котором взаимный интерес супругов состоит не только во взаимном поведении, но и в личных качествах супругов, а также качествах детей для родителей. Важно при этом, чтобы “господство одного лица” не исключало личной свободы другого[302], признавалось также и его право на собственную личность[303].
В действующем российском праве признается неприкосновенность личности. Однако она, так же как и свобода личности, выступает в правовой практике скорее как те неотъемлемые права человека, посягательства на которые недопустимы.
Глава 9. Правосознание, правовая культура и правовое воспитание
§ 1. Понятие правосознания
Правосознание — это совокупность представлений, взглядов, убеждений, оценок, настроений и чувств людей к праву и государственно-правовым явлениям. Правосознание носит оценочно-волевой характер и может выступать в различных ипостасях.
Выделяют гносеологический и социологический аспекты правосознания.
Гносеологический аспект показывает движение от действительности к сознанию, когда идеи и взгляды выступают как результат отражения действительности.
Социологический определяет переход от сознания к действительности, в результате которого формируются определенные модели поведения. Происходит осмысление и подтверждение роли права, дается его оценка с точки зрения моральных и нравственных критериев, осознание необходимости действующей системы законодательства, а также осмысление потребностей в изменении и дополнении действующих нормативных правовых актов, восприятие процессов и результатов правоприменительной практики.
Социологический аспект правосознания имеет два уровня — обыденный и теоретический (правовая психология и правовая идеология).
Обыденное правосознание характеризует социальную практику как эмпирическую деятельность, в процессе которой выражаются субъективные отношения людей к действующему праву, представления о своих правах и обязанностях, о справедливости или несправедливости норм права, о сущности и принципах правовой организации общества, чувства, настроения, эмоции, связанные с оценкой существующего правового режима.
Обыденное правосознание свойственно как основной массе членов общества (коллективное правосознание), так и каждому индивидууму в отдельности (индивидуальное правосознание) и формируется на базе повседневной жизни в процессе собственной практической деятельности. Каждый человек так или иначе сталкивается с правовыми нормами: определенную информацию получает из средств массовой информации, читая прессу или специальную литературу, наблюдая за деятельностью законодательных или исполнительных органов государственной власти, отдельных должностных лиц, самостоятельно осуществляя действия, предусмотренные правовыми нормами, а также прибегая к защите государства при нарушении его прав и законных интересов. Роль чувственного, эмоционального здесь особенно велика. Первоначально отношение к праву, правопорядку, законности, организации общества складывается на стихийном уровне и выражается в чувствах и эмоциях. Для людей с этим уровнем правосознания характерно знание основ, общих принципов правовой организации общества, и здесь правовые воззрения тесно переплетаются с нравственными представлениями человека.
Обыденное правосознание вместе с нормами права оказывает непосредственное воздействие на поведение людей и может действовать вместе с ними, наряду с ними или вопреки им. Все зависит от того, насколько существующие нормы и другие государственно-правовые явления одобряются правосознанием, соответствуют представлениям о добре, справедливости, гуманизме. Однако в случаях ущербности законодательства (содержащего старые нормы, не отвечающие современным представлениям и реалиям) или превалирования преступных установок в правосознании того или иного человека правосознание действует вопреки существующим нормам права.
Одним из видов коллективного правосознания является групповое правосознание, т. е. правосознание отдельных социальных групп, слоев общества, профессиональных сообществ. Причем взгляды и представления о праве и законности отдельных групп общества могут не совпадать. Например, расслоение общества на богатых и бедных определяет различные представления о праве бедных и богатых.
Особенности исторического развития российского менталитета показывают бесконечное метание между противоположными полюсами, взаимоисключающими крайностями, устремления то к истокам нашего прошлого, то к новым, нередко суррогатным рецептам нашей современности, преклонение то Перед высокой духовностью, то перед абсолютным цинизмом и бездуховностью. Страна мечется между имперской державностью и самостийностью, патернализмом и низвержением авторитетов, восхвалением своего и подобострастием перед иностранным, между патриотизмом и универсализмом, вселенской общечеловечностью и верой в исключительность самобытного Российского пути. Все это в сочетании с другими негативными факторами объективного и субъективного характера не содействовало утверждению идей свободы, права и законности, правового государства, прав человека и гражданина в российском обществе. Эти идеи не стали базовыми для формирования как общественного, так и индивидуального правосознания.
Существует мнение, что самый законопослушный народ — англичане. Их склонность к скрупулезному соблюдению установленных правил граничит с педантизмом. Мы же, к сожалению, прослыли как незаконопослушная нация. Для многих из наших соотечественников ничего не стоит обойти закон, схитрить, словчить, нарушить запрет, не подчиниться предписанию, сплутовать. Этого почти не стесняются, этим нередко даже бравируют. Российскому общественному правосознанию во многом присущи правовой нигилизм, неуважение к праву и закону, низкий уровень правовой культуры.
Особое место занимает профессиональное правосознание. Для юриста правовая подготовленность имеет определяющее значение. Она должна отвечать требованиям современной науки и практики, отличаться объемом, глубиной и формализованным характером знаний принципов и норм права, а главное — умением их применять. Юриста-профессионала должно отличать не просто устойчиво-положительное отношение к праву и практике его применения, но и солидарность с правовым предписанием, понимание полезности, необходимости и справедливости его применения, привычка соблюдать закон. Особенности правового разума и правовых чувств юриста-профессионала выражаются в особом профессиональном усмотрении, которое является источником предложений по усовершенствованию правового регулирования, снятию и нейтрализации противоречий, возникающих в процессе правоприменительной практики. Для профессионального правосознания характерны высокая степень осознанности и прочности правовых установок и ценностных ориентацией, стремление к реализации в жизни достижений юридической мысли и культуры, принципов и ценностей права.
Теоретическое правосознание (правовая идеология) — это правовые теории, систематизированные научные идеи и взгляды, совокупность интеллектуальных установок и парадигм. При очевидном отсутствии в истории нашей страны стойких правовых традиций общества в целом нельзя забывать огромный вклад русских ученых-юристов в дело формирования теоретического правосознания.
Все формы правосознания находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии, дополняют и обогащают друг друга, но в то же время имеют существенные особенности и специфические черты.
§ 2. Правосознание в дореволюционной России
Колоссальное значение для осмысления сущности правосознания как сложного феномена, взаимодействующего с социальными, психологическими и нравственными категориями, имеют правовые теории, сформировавшиеся в России на рубеже XIX—XX столетий.
Крупнейший представитель русского позитивизма Н. М. Коркунов отмечал неизбежность некоторого раздвоения права: юридическим нормам, выраженным в законодательстве, судебной практике, противопоставляется свободно развивающееся субъективное правосознание.
Неизбежность такого противопоставления обусловлена общественным развитием, в процессе которого наряду с субъективными условиями человеческой деятельности, личными качествами, личным опытом, большое значение имеют объективные факторы, культурное наследие прошлого. Культура представляет собой своеобразную капитализацию прошлого опыта, поддерживаемого и развивающегося при постоянной творческой активности отдельной личности.
“Положительное (объективное) право — один из элементов общественной культуры и как вся вообще культура, представляясь продуктом прошлого, продуктом уже пережитого, никогда не может заменить собою и уничтожить субъективного правосознания, вызываемого и направляемого непосредственными потребностями текущей жизни и поэтому обуславливающего значение и развитие самого положительного права”[304].
Представить себе юридический опыт в виде только законодательных актов, без субъективного правосознания так же невозможно, как представить религию без религиозного чувства, нравственность без сознания.
Вместе с тем положительное право, как продукт коллективного опыта, несравнимо полнее и богаче субъективного правосознания, хотя в действующем праве всегда можно найти нормы, не отвечающие современным потребностям, современным представлениям о справедливости, о взаимном соотношении сталкивающихся интересов и т. д.
Субъективному правосознанию, складывающемуся под влиянием социальных условий, также присущи элементы общности. Но эта общность весьма условна и ограничена множественностью индивидуальных особенностей и изменчивостью каждого личного сознания[305].
Демократический характер правосознания сторонники идеи “возрожденного естественного права” видели во взаимосвязи права с нравственностью, с представлениями о свободе, равенстве, справедливости.
Важно, чтобы закон обращался к человеку как к свободной личности, ибо только на свободном исполнении закона основано нравственное достоинство человека: “Напрасно, выступая во имя равенства, социалисты думают прикрыться знаменем справедливости... Равенство состоит не в том, чтобы всех подвести под одну мерку, вытягивая одних и укорачивая других, как на прокрустовом ложе: такой способ действия уже в греческом мире признавался разбоем и наказывался муками Тартара. Истинная правда (справедливость) состоит в признании за всеми равного человеческого достоинства и свободы, в каких бы условиях человек ни находился и какое бы положение он ни занимал. Это и выражается в равенстве прав как юридической возможности действовать”[306].
Б. Чичерин подвергает критике взгляды приверженцев безусловного равенства, которые метафизическое начало равенства распространяли на физическую область, а формальное юридическое равенство превращали в материальное, забывая о том, что само понятие “свобода” естественно и неизбежно ведет к неравенству. Признавая свободу, необходимо признать и неравенство, ибо неравенство возникает из общего закона природы.
На примере Французской революции Б. Чичерин показал отрицательную роль материального равенства, по существу убивающего свободу. Материальное равенство неизбежно ведет к обобществлению имущества и обязательному труду, одинаковому для всех. При этом умственные способности и образование должны поддерживаться на одинаково низком уровне, в противном случае возвышение одного над другим неизбежно приведет к неравенству. Свобода мысли преследуется и изгоняется наряду со свободным трудом, и вся жизнь человека ограничивается удовлетворением самых низменных потребностей под терроризмом всеми управляющей власти[307].
Идею свободы Б. Чичерин рассматривал в нескольких ипостасях: внешняя свобода — право; внутренняя свобода — нравственность как осознанное требование поступать так, чтобы твои действия могли стать примером для любого разумного существа; общественная свобода — переход субъективной нравственности в общественную и сочетание ее с правом в общественных союзах (семья, гражданское общество, церковь, государство). В этом смысле правосознание, основанное на свободе (т. е. возможности реализовать свои интересы с помощью права), равенстве (едином нормативном подходе к реализации этих интересов) и справедливости (сбалансированности предоставлений и получений общественных благ на основе норм права), характеризует идеал правового государства.
В совершенно ином аспекте рассматривали право и правосознание представители психологической школы. В основу психологической теории права было положено человеческое поведение, обусловленное внутренним духовным (психическим) сознанием, эмоциями долга: “Наши внутренние психические акты, например гнев, радость, желание, бывают причиной возникновения правовых отношений... Чувство и сознание нашей связанности по отношению к другим мы выражаем словом право. Наше право не что иное, как закрепленный за нами, принадлежащий нам долг другого лица”[308].
Роль государства в возникновении такого рода отношений не является определяющей. На первый план выдвигается собственное психическое состояние, и при этом не имеет никакого значения признание такого права со стороны государства, ибо оно возникает в глубине человеческого сознания как интуитивное право, построенное на внутренних убеждениях, эмоциях, индивидуальных восприятиях и переживаниях. Однако интуитивное право тем и отличается от права позитивного, установленного государством, что оно остается индивидуальным, индивидуально разнообразным по содержанию, нешаблонным правом, и можно сказать, что по содержанию совокупностей интуитивно-правовых убеждений интуитивных прав столько, сколько индивидов[309].
Правосознание и право здесь неразличимы. По существу, признавалось правом и позитивное право (официальное право, исходящее от государства, обычное право, судебный прецедент), и индивидуальное право. Обе правовые сферы в одних случаях действуют параллельно, в других — отдельно (только позитивное или индивидуальное право), а иногда они Функционируют вместе, взаимодействуя и обогащая друг друга.
Изучение права как психического явления заставило некоторых ученых посмотреть на него с новой стороны и обратить внимание на социальный аспект этого феномена (Ю. Гамбаров, Р Штаммлер, С. Муромцев, Б. Кистяковский).
Чаще всего социальную природу права видели в общественной обусловленности всех правовых явлений, что, несомненно, верно, но не отражает специфику права, ибо социальный характер носят культура, общественное производство и т. д. Другое понимание социальной природы права сводилось к тому, что право рассматривалось как часть общественного целого, как регулирующая форма совместного существования людей.
Развивая социологическую теорию права, Б. Кистяковский пришел к выводу, что до тех пор ученые не приблизятся к пониманию социальной природы права, пока будут его рассматривать как совокупность норм или правил, действующих в обществе. С этой точки зрения право всегда общественное, но не социальное явление с его характерными особенностями. Право значительно более сложное явление, чем совокупность норм, право и закон нетождественны. “Сущность правовых норм не в их внутренней ценности, что по преимуществу можно утверждать о нормах этических и эстетических. Право состоит из норм, постоянно и регулярно осуществляющихся в жизни, и поэтому осуществление есть основной признак права”[310].
По сути, под правом понималась не совокупность юридических норм, а совокупность юридических отношений (субъективные права и обязанности). Нормы же представлялись как некоторый атрибут правопорядка. Отсюда и несоответствие между писаным правом и правом действующим.
Писаное право состоит из общих, абстрактных, безликих и схематичных постановлений; напротив, в жизни все единично, конкретно, индивидуально. Жизнь так богата и многогранна, что не может целиком подчиниться контролю закона и органов, осуществляющих надзор за его исполнением. К тому же писаное право неподвижно, оно изменяется только спорадически, и для этого необходимо приводить в движение сложный механизм законодательной машины. Напротив, правовая жизнь состоит из непрерывного движения, в ней все постоянно меняется, одни правовые отношения возникают, другие прекращаются. Поэтому в отличие от юриста-нормативиста, рассматривающего любой закон как часть действующего права, представители социологической школы утверждали, что изданные законы еще не есть действующее право-
Все, что законодатель в состоянии создать, это лишь план, лишь набросок будущего желаемого правопорядка[311].
Теоретическому правосознанию противопоставлялось правосознание обыденное, субъективное отношение людей к праву, представление о своих правах и обязанностях, о справедливости или несправедливости правовых норм.
Свойственное русской культуре своеобразное мироощущение, имеющее глубокую религиозную и нравственную основу, отличало интуитивное право, сопровождающееся подсознательными и стихийными мотивами. “Русский народ искони строил свою жизнь по нормам своего собственного обычного, стариной завещанного крестьянского права”[312].
Субъективизм в праве, если он базируется на глубоких нравственных чувствах, на правильном правосознании судебных властей и самого народа, может предотвратить произвол и беззаконие. Однако ограниченность субъективизма народного права и народного правосознания состояла прежде всего в том, что в России всегда существовал непреодолимый разрыв между правом барским, господским и народным. А. И. Герцен отмечал, что “правовая необеспеченность, искони тяготевшая над народом, была для него своего рода школой. Вопиющая несправедливость одной половины его законов научила его ненавидеть и другую; он подчиняется им как силе”[313].
В реальной жизни часто сочетались два правовых ряда, существовала система двойного права: официально действующего государственного права и неофициального, обычного народного права. В России нормы права, заимствованные на Западе, в полной мере воспринимались только русской академической мыслью и либеральной интеллигенцией, оставаясь во многом чуждыми для народного сознания. В народе часто не признавались нормы позитивного права, в определенных местностях и среди определенных слоев населения существовали обычаи, которые считались обязательными, потому что так поступали отцы и деды.
Если европейский правовой субъективизм стремился к “точным определениям правовых отношений и затем к строгому применению условных правовых определений”, в нем игнорировались субъективные особенности каждого случая, а задача сводилась к неукоснительному выполнению правовой нормы, то характерный для России правовой субъективизм не заботился об определениях и стремился “каждый случай оценить по существу, по разуму дела, помня, что имеет дело с людьми, с их бедами и радостями”, и суд был призван “судить по совести, глядя по человеку”[314].
Л. Петражицкий обращал внимание на социально-классовый характер правосознания. Правосознание зажиточных слоев населения отличается от пролетарского и крестьянского, крестьянское же правосознание иное, чем мещанское, аристократическое и т. д. Более того, “каждая семья — это особый правовой мир, и каждый из участников домашней жизни имеет свое особое положение в господствующей в данной семье правовой психике”[315].
§ 3. Социалистическое правосознание
В советской юридической науке социалистическое правосознание определялось как высший тип правового сознания, имеющий самую широкую социальную базу. Утверждалось, что впервые в истории в обществе сформировалась единая система правосознания, ведущими принципами которой становятся идеи законности, равноправия, справедливости, выступающие основой ценностно-нормативной ориентации общества в правовой сфере[316].
При этом под социалистическим правосознанием имелись в виду взгляды, представления, настроения, чувства рабочего класса (всего народа) относительно характера, сущности, принципов права и законности. В духе морально-политического единства советского общества утверждалось, что в обществе сформировалось единое социалистическое правосознание.
Коллективистский подход к проблеме формирования сущности, роли правосознания складывался как идеологическая основа тоталитарного режима, нивелирующая человеческую личность, полностью подчинившая частные интересы общественным.
Идея общественного сознания имеет глубокие исторические корни. В немецкой философии, и прежде всего у Канта, прослеживается рационалистическое определение личности в ее общей и отвлеченной основе. Отсюда определение личности признаками не индивидуальными, а родовыми. Когда французские мыслители XVIII столетия говорили о человеке, они также имели в виду человека абстрактного, обладающего одной и той же природой, а следовательно, одними и теми же потребностями, желаниями и возможностями. Например, в теории Руссо приоритетное значение приобретает общественная воля. Будучи источником справедливости, общим разумом граждан, она представляет собой определенный и постоянный элемент, присущий воле отдельных лиц, обеспечивающий их равенство и свободу. Из такого понимания личности складывалось убеждение, что правильно найденная общая воля будет приемлемой для всех как общий закон каждого разумного существа.
Развивая теорию общей родовой сущности человека, материалисты и атеистические гуманисты (Фейербах, Маркс, Лассаль) рассматривали отдельную личность как общественное существо. “Если человек по природе своей общественное существо, то он, стало быть, только в обществе может развить свою истинную природу, и о силе его природы надо судить не по силе отдельных индивидуумов, а по силе всего общества”[317]. Лассаль утверждал, что личность не есть нечто единственное, незаменимое, не повторяющееся в других, “узел особенностей”, а представляет собой единичное в ряде прочих таких же единиц в их общей сущности.
Таким образом, роль личности, по существу, сводилась к нулю. Все частное, своеобразное, особенное признавалось досадным противоречием общему разумному закону, источником общественного беспокойства и несовершенства.
Но в XIX в. получил развитие и другой подход к личности, рассматривавший ее во всем богатстве и разнообразии духовных и творческих проявлений.
Так, В. С. Соловьев, раскрывая роль личности, писал, что каждый единичный человек обладает возможностью совершенства, или положительной бесконечности, именно способностью все понимать своим разумом и все обнимать сердцем, входить в Живое единство со всем. “Эта двойная бесконечность — силы Представления и силы стремления... есть непременная принадлежность каждого лица. В этом, собственно, состоит безусловное значение, достоинство и ценность человеческой личности и основание ее неотъемлемых прав. В этом смысле можно сказать, что общество есть дополненная или расширенная личность, а личность — сжатое или сосредоточенное общество”[318].
Личность при этом понималась как единая сущность, не общая субстанция, разлитая во многих особях, а сосредоточенная в себе и отдельная от других, одаренная разумом и волей.
Предупреждая об опасностях отрицания автономии личности, известный русский юрист П. И. Новгородцев задолго до революции писал: “Если между этой общностью лиц и условиями их общественного и политического существования предполагается возможным полное и гармоничное слияние, то неудивительно, что при таком понимании личности индивидуализм легко переходит в социализм и государственный абсолютизм”[319].
Формирование правосознания при социализме происходило на базе марксистско-ленинской идеологии, рассматривающей общество как целостное коллективное единство, в котором все составляющие его группы (социальные общности, трудовые коллективы, различного рода объединения и т. д.) имели единое связующее начало — общность интересов, детерминированную материальными условиями социалистического развития.
На коллективную субстанцию “среднего человека” было ориентировано правосознание народных масс. Отсюда общность взглядов, оценок, представлений о действующем праве. Большую роль в этом сыграла правовая пропаганда — процесс целенаправленного систематического внедрения в сознание людей идеи о справедливом, гуманистическом характере социалистического права. А между тем законы и практика их применения оборачивались либо полным беззаконием (период сталинских репрессий), либо весьма “усеченной законностью” в более позднее время.
Так уж получается, что каждая отдельная личность застает в определенном виде исторически сложившуюся политическую, правовую, экономическую среду, которую она должна осознать и активно усвоить. При социализме реализовывалась модель “Я — МЫ”, когда интересы и цели личности под влиянием идеологических, политических, материальных факторов естественно совпадают с интересами господствующих в обществе социальных сил. Отсюда действительно в основном единое правосознание. Особую группу составляли лица, пассивно наблюдавшие за происходящим в обществе, приспосабливавшиеся к жизненным обстоятельствам. Их правосознание отличалось некоторым своеобразием. Они оценивали политические и правовые явления со значительной долей скептицизма, но, боясь репрессий или в силу собственной инертности, пассивно наблюдали за событиями, происходившими в стране, и все равно подпали под общую схему “один — как все”
В общую схему не вписывались отдельные личности, которые для достижения своих целей, реализации собственного “Я” вступали в открытый конфликт с властью. Они видели опасность социалистических идей и тоталитарного режима. Действия и решения государственных органов и должностных лиц в их сознании не просто воспринимались, но и интерпретировались, соотносились с содержанием личностного “Я” и часто отторгались как чуждые.
Н. Бердяев, раскрывая онтологические основы тоталитаризма, пришел к выводу, что именно претензии частичного и раздельного на всеобщность порождают тоталитаризм, объективным признаком которого являются всепоглощающие структуры властвования, принимающие самые причудливые формы — от жесткой тирании до “демократического” камуфляжа.
В широком смысле тоталитаризм есть власть техники, механизация социальных отношений, технизация стиля мышления, “механизация” человека, особый способ управления людьми. Утрачивается духовность и религиозность. Им на смену приходит особая форма сознания — консервативная утопия. Господствующая идея стремится изменить все реально существующие жизненные и социальные ситуации, придавая им черты утопичности или мифа[320].
Присущая социалистическому тоталитарному режиму материальная “уравниловка”, утвердившаяся в результате обобществления средств производства и образования социалистической собственности, также тормозила развитие человеческой индивидуальности, препятствовала самовыражению личности. Труд на общество, государство с мизерной оплатой превращался в добровольно-принудительное занятие, которое не могло удовлетворить естественное желание каждого человека улучшить свое экономическое положение.
А. Токвиль видел опасность в такой уравниловке, неизбежно приводящей к деспотизму, не похожему на деспотизм Прошлых веков, но не менее страшному. Он представлял его в виде бесчисленной толпы людей, подобных и равных, которые стремятся к тому, чтобы доставить себе мелкие и посредственные удовольствия, способные согреть их душу. Над этими людьми возвышается огромная опекающая власть. С каждым днем она делает менее полезным и более редким применение их свободной воли, заключает ее во все более тесные рамки и вскоре отнимает у гражданина саму возможность располагать самим собой. Взяв таким образом в свои руки каждого человека и переделав его по-своему, верховная власть распространяет свое влияние на все общество. Она обволакивает общество сетью законов и мелких правил, сложных, подробных и однообразных, сквозь которые самые оригинальные умы и самые сильные характеры не могут пробиться, чтобы возвыситься над толпой. Такой вид рабства может сочетаться с некоторыми внешними формами свободы и устанавливаться даже под видом народного суверенитета[321].
Действительно, в социалистическом государстве лжепередовые принципы в экономике сочетались с жестким произволом партийно-чиновничьего аппарата. Права человека, свобода личности, благоприятные материальные условия, возможность творческого и духовного развития — критерии, позволяющие оценить государство с точки зрения “человеческого измерения”, были забыты.
Правовая система тоталитарного государства обеспечивала незыблемость социалистического строя, жестко контролировала и ограничивала социальную активность граждан, что в конечном счете привело к образованию усредненных групп, ранжированных по уровню и объему потребления в зависимости от занимаемой должности, социального происхождения, национальной принадлежности, партийности и т. д. Причем все это сопровождалось риторикой по поводу всеобщего равенства, верховенства закона, укрепления социалистической законности и правопорядка, повышения уровня правосознания и т. д.
§ 4. Кризис современного правосознания
Кризис современного правосознания обусловлен общими кризисными явлениями, происходящими в постсоветском обществе, переоценкой прежних взглядов, представлений и идей. С одной стороны, падает вера в возможность быстрого построения правового социального государства, создания действенной правовой системы, способной защитить человека как от произвола и беззакония бюрократического чиновничьего аппарата, так и от криминальных структур. С другой стороны, в сегодняшнем правосознании велико влияние идеологи неразвитого, во многом еще “дикого” рынка. Между тем очевидно, что для цивилизованного рыночного общества необходимо развитое индивидуальное правосознание, личностное осмысление роли права, способность индивида к самостоятельным действиям, к саморегуляции, основанной на правовой культуре.
Кризис правосознания во многом обусловлен положением, сложившимся в правовой сфере, существенным разрывом между конституционными нормами и реальными отношениями, отсутствием четкого и успешно функционирующего правотворческого процесса, системы объективных критериев оценки эффективности российского законодательства, деятельности государственных органов и должностных лиц.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 июля 1995 г. “О разработке концепции правовой реформы в Российской Федерации” первоочередной задачей государства признается проведение правовой реформы. Ее основными целями должны стать:
— создание действенных механизмов охраны и защиты прав и свобод человека;
— систематизация и совершенствование законодательства;
— укрепление начал гражданского общества и российской государственности;
— правовое обеспечение экономических реформ в России;
— совершенствование практики правореализации и контроля за исполнением закона;
— повышение уровня правовой культуры, правосознания граждан, преодоление правового нигилизма.
Важнейшим условием формирования гражданского общества и правового государства является надежная защита прав и свобод человека. Это направление деятельности должно стать важнейшим компонентом государственной политики. Известно, что переход к рыночной экономике сопровождается жесткой дифференциацией граждан на богатых и бедных, причем последние составляют большинство. Поэтому нужны государственные программы поддержки социально не защищенных слоев населения. Речь идет о реальном выполнении обязанности государства по отношению к человеку, установленной ст. 25 Всеобщей декларации прав человека и ст. 11 Международного Пакта об экономических, социальных и культурных правах, — обеспечить каждому достаточный жизненный уровень для него й его семьи, включающий достаточное питание, одежду и Жилище, а также непрерывное улучшение условий жизни. Естественно, что человек, лишенный самого необходимого в Жизни, не может поддерживать политику государства, положительно оценивать его законы.
Необходимо на практике реализовать конституционное положение о том, что вся деятельность государства, каждого его органа и должностного лица должна быть подчинена интересам обеспечения прав и свобод человека. Требуется всеобъемлющая система процедур и механизмов защиты прав и свобод человека, причем наряду с совершенствованием традиционных судебных и административных форм защиты должны разрабатываться новые, нетрадиционные. В частности, необходимо скорейшее принятие закона о петициях и обращениях граждан в органы исполнительной власти. Представляет также интерес опыт Великобритании, где действует Управление жалоб на действия полиции. В его компетенцию входит контроль за рассмотрением наиболее серьезных жалоб, проверка материалов по всем жалобам на действия полиции с целью решения вопроса о дисциплинарной или уголовной ответственности ее работников.
С распадом СССР особую актуальность приобретает проблема беженцев и вынужденных переселенцев. Эта значительная группа людей до приобретения ими соответствующего статуса находится как бы вообще вне закона. Более того, существующие нормативные акты, определяющие правовой статус указанных лиц, не исполняются, права беженцев и вынужденных переселенцев ущемляются.
Кризис правосознания проявляется также в несовершенстве действующего законодательства. Сама Конституция Российской Федерации во многом декларативна, представляет собой теоретическую модель пока еще недостижимого будущего. Правовая система страдает от избыточности и несогласованности нормативного материала. Объясняется это тем, что одни акты унаследованы от СССР; другие были приняты в РСФСР, когда она находилась в составе Союза; третьи представляют собой концептуально новые документы, в основе которых лежат либо американские юридические конструкции, либо модели, воспринятые из романо-германской правовой системы.
В законодательстве трудно разобраться даже юристу-профессионалу, а для неподготовленного человека оно практически недоступно. Все это осложняет осмысление необходимости права, его оценку, а также восприятие процессов правоприменения. В подобных условиях трудно говорить о ясном и отчетливом правосознании населения и отдельных граждан-
Важнейшим элементом правовой реформы должна стать научно обоснованная концепция нормотворчества, которая может найти воплощение в Федеральном законе “О нормативных правовых актах Российской Федерации”. Представляется, что основными компонентами такой концепции являются: определение социальных потребностей в законотворчестве, предмета и пределов законотворческой и иной нормотворческой деятельности; требование юридического, экономического, финансового и иного обоснования законопроектов их авторами; независимая правовая (технико-юридическая, международно-правовая, криминологическая и т. д.) экспертиза законопроектов; независимая экономическая, экологическая, социально-демографическая экспертиза законопроектов; формирование широкодоступного федерального банка правовой информации; непрерывная кодификация и систематизация законодательства. Для разработки законопроектов необходимо формировать творческие авторские коллективы, состоящие из ведущих ученых и практиков. Следует усилить роль закона, повысить его авторитет как первичного регулятора наиболее важных общественных отношений.
К сожалению, все еще недостаточно четко определено место указов Президента в системе нормативных правовых актов. Согласно Конституции, указы Президента обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации, они не должны противоречить законам, но и не являются строго подзаконными актами. Конституция не требует от Президента издавать указы “на основании и во исполнение законов” По существу, Президенту предоставляется право своими указами восполнять пробелы в законотворчестве.
Известный русский ученый Н. М. Коркунов предлагал различать обычные указы главы государства и указы чрезвычайные. Чрезвычайные указы издаются по вопросам, которые должны быть урегулированы законодательством или в отмену закона. “Издание чрезвычайного указа, — писал он, — есть, собственно, правонарушение, оправдываемое только требованиями необходимости. Устанавливаемые им меры могут быть по праву установлены только законодательным актом. Лишь в силу невозможности при данных исключительных условиях соблюсти это требование закон заменяется чрезвычайным указом. Однако такие указы носят временный характер, установленные чрезвычайным указом меры должны быть представлены на усмотрение законодательного органа”[322].
В наши дни в России чрезвычайные указы, по существу, Действовали в период поэтапной конституционной реформы к 21 сентября 1993 г. до избрания Федерального Собрания), представляется целесообразным указы Президента подразделять на чрезвычайные и обычные с соответствующим (различным) правовым статусом.
Пристального внимания требует также ведомственное нормотворчество. Следует усилить контроль за соответствием Конституции Российской Федерации и федеральным законам актов, принимаемых федеральными органами исполнительной власти, обеспечить обязательную регистрацию и официальное опубликование всех ведомственных актов, касающихся прав граждан либо имеющих межведомственный характер. Важно пересмотреть действующие ведомственные акты и отменить противоречащие федеральным законам и указам Президента России.
Проведение широкомасштабной правовой реформы предполагает усиление правовой активности субъектов Федерации, которая, однако, должна развиваться в едином конституционном русле, и прежде всего на основании статей 5, 71—73 и 76 Конституции Российской Федерации.
Законодательство субъектов Федерации не только многогранно, но и неповторимо. Достаточно сказать, что нет двух одинаковых конституций республик или уставов областей, краев и т. д. Такое своеобразие было бы вполне оправданно, если бы акты субъектов Федерации не противоречили Конституции Российской Федерации, федеральным законам и не ставили под угрозу существование России как единого государства.
Во многом состояние регионального законодательства объясняется отсутствием опыта законотворческой деятельности субъектов Федерации и четкой регламентации правотворческого процесса. Необходимо установить порядок подготовки, согласования и принятия законов и других нормативных актов, относящихся к предметам совместного ведения, например принять Закон Российской Федерации “О законодательном регулировании по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации” Большая часть нормативных правовых актов субъектов Федерации касается вопросов, находящихся в их совместном ведении с Российской Федерацией. При этом региональные акты часто повторяют федеральные законы. Целесообразно было бы в законах и других нормативных актах субъектов Федерации затрагивать именно те аспекты совместной деятельности, которые отражают специфику конкретного региона.
Часто субъекты Федерации допускают прямое вторжение в сферу исключительной компетенции Российской Федерации. Характерным является закрепление отдельными республиками за собой прав объявления военного положения (Республика Тыва); принятие республиканских законов о воинской службе (республики Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Тыва); установление порядка введения чрезвычайного положения на своей территории (республики Бурятия, Коми, Тыва, Башкортостан, Калмыкия, Карелия, Северная Осетия, Ингушетия и др.); дача согласия на дислокацию на своей территории воинских формирований (Республика Северная Осетия); объявление всех природных ресурсов, находящихся на территории субъекта Федерации, своей собственностью (республики Ингушетия, Саха (Якутия), Тыва); регулирование вопросов внешней политики и международных отношений; закрепление права самостоятельно выступать участником международных отношений, заключать международные договоры. Субъектами Федерации издаются акты, регулирующие гражданские и уголовные правоотношения (Уголовный кодекс Чеченской Республики, Гражданский кодекс Республики Башкортостан). Такие акты должны признаваться неконституционными.
Вместе с тем субъекты Федерации принимают мало нормативных правовых актов по вопросам оказания социальной помощи гражданам, проживающим на территории регионов, развития образования, градостроительства и благоустройства территорий, работы местной промышленности, дорожного хозяйства, культуры, здравоохранения, экологии и т. д.
Заслуживает внимания опыт регионов, стремящихся урегулировать процесс нормотворчества. В качестве примера можно привести Закон Иркутской области “О правотворчестве”, в котором предпринята попытка упорядочить этот процесс не только в органах законодательной власти, но и в других органах, осуществляющих правотворческую деятельность. В Законе дается определение нормативного акта, перечисляются их виды, затрагиваются вопросы прогнозирования правотворчества, планирования правотворческого процесса, подготовки и оформления проектов законов и иных нормативных актов с Учетом требований законодательной техники и исходя из специфики разрешаемой задачи, а также принципов деятельности издающего органа. Отдельный раздел посвящен научной экспертизе проектов актов. Регламентируется порядок опубликования и иные формы обнародования законов и других правовых актов области. Рассматриваются вопросы толкования законов и иных актов, а также ведения государственного учета и систематизации всех видов актов.
Таким образом, предстоит огромная работа по приведевию в соответствие с Конституцией федерального законодательства, законодательства субъектов Федерации, а также подзаконных актов, согласованию планов законотворческих работ парламентов субъектов Федерации, урегулированию многих процедурных вопросов, возникающих в процессе правотворческой деятельности, подготовке Свода законов Российской Федерации, важнейшей целью которого является систематизация российского законодательства, обеспечение его доступности для всех граждан и организаций.
Часто законодательство воздействует на формирование правового сознания опосредованно, через правоприменительную практику.
Особое место в обеспечении прав и свобод человека, упрочении и защите конституционного строя отводится судебным и правоохранительным органам. В 1997 г. принят Закон “О судебной системе Российской Федерации”, являющийся основополагающим актом, устанавливающим федеральную систему и правовой статус как судов общей юрисдикции, так и специализированных судов. Вместе с тем тревожной тенденцией является посягательство на единство судебной системы в России, о чем свидетельствует, например, закрепление в конституциях и уставах некоторых субъектов Федерации норм, предусматривающих выведение судов общей юрисдикции, арбитражных судов из единой централизованной судебной системы Российской Федерации и непосредственное избрание судей судов республик высшими органами государственной власти данных республик (республики Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Карелия, Мордовия, Ингушетия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Татарстан, Тыва). В конституциях республик Башкортостан, Татарстан, Тыва, Ингушетия закреплены нормы, предусматривающие выведение прокуроров республик из единой централизованной системы Прокуратуры Российской Федерации и назначение их непосредственно высшими органами государственной власти республик.
Неукомплектованность судейского корпуса, слабая техническая оснащенность и зачастую низкая квалификация судей затягивают рассмотрение дел, а иногда и вообще делают это нецелесообразным. Достаточно привести пример с обманутыми вкладчиками финансовых компаний, которых более 40 млн. Их дела часто рассматриваются в течение нескольких лет, но даже если решение и принято, то отсутствует механизм его исполнения. Естественно, что у этих людей подобное “правосудие” может сформировать негативное отношение к действующему праву.
Серьезной социальной проблемой становится состояние профессионального правосознания юристов (работников милиции, прокуратуры, следователей, судей). В силу различных причин происходит разрушение их изначальных правовых взглядов, установок, чувств, убеждений, возникают новые псевдоправовые или неправовые конструкции, что отрицательно влияет на профессиональное поведение юристов. Деформация правосознания юриста может приобретать различные формы: а) правовой инфантилизм, когда искажение правового сознания выражается в несформированности и пробельности правовых взглядов, знаний, установок и представлений; б) правовой негативизм — осознанное игнорирование требований закона; в) деформированное правосознание, переходящее в преступную установку.
Правовой инфантилизм — наиболее мягкая форма искаженного правосознания юриста. Например, несформированное правосознание чаще всего встречается среди работников милиции. Во многом это является следствием острого кадрового дефицита. Достаточно сказать, что около 50% следователей МВД не имеют высшего юридического образования. Происходит автоматическое “перескакивание” через длительный и сложный этап формирования устойчивых правовых взглядов, установок, мировоззрения[323].
Правовой негативизм проявляется в скептическом отношении к праву, вплоть до полного неверия в его потенциальные возможности. Причем такое отрицание может носить и ярко выраженные, и завуалированные формы, мотивироваться в каждом отдельном случае самыми разными соображениями: от политических до нежелания брать на себя ответственность, убежденности в безнаказанности.
Самой тяжкой формой деформации профессионального правосознания является его перерождение в преступную форму. В условиях, когда российская мафия становится достаточно мощной силовой структурой, в ее рядах кроме “воров в законе”, “авторитетов” и бандитов-боевиков появляются бывшие спортсмены, воины-афганцы, юристы-профессионалы из различных государственных структур. Это явление необычайно опасно. Происходит своеобразное слияние государственных и Мафиозных структур, что приводит к катастрофическому росту преступности в стране.
Криминогенная ситуация в стране оценивается сегодня с Помощью таких характеристик, как разгул, обвал, беспредел.
Преступность за последние годы возросла в 8 раз и приобрела мафиозно-организованный характер с преобладанием жестоких насильственных форм. Произошло сращивание ее с коррумпированной частью госаппарата, что, собственно, является определяющим признаком мафии. Появилась “криминальная юстиция”
Законы попираются открыто, цинично и почти безнаказанно. Преступный мир диктует свои условия, ведет наступление на само государство, претендует на власть. Он отслеживает и отчасти контролирует действия правоохранительных органов, использует по отношению к ним методы шантажа, подкупа, угроз, не останавливается перед расправой с законодателями, судьями, банкирами, предпринимателями, журналистами.
Преступность — мощный катализатор правового нигилизма, мрачная зона, которая стремительно расширяется, захватывая все новые и новые сферы влияния. Помимо теневой экономики возникли теневая политика, невидимые кланы и группы давления. Злоумышленники не боятся законов, умело обходят их, используя разного рода правовые “дыры” и “щели” Действуют вполне легально или полулегально.
Исторический опыт развития человеческой цивилизации свидетельствует о том, что преступность — это неизбежное социальное зло, своеобразная плата за социальный прогресс и полностью “победить” преступность нельзя, можно лишь контролировать ее уровень. Не случайно поэтому борьба с преступностью является неотъемлемым элементом внутренней политики, направленной на реализацию в России принципов и целей демократического правового социального государства, соблюдение и защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина. Борьба с преступностью не должна ограничиваться только уголовно-правовыми, “полицейскими” мерами. Необходим комплексный подход, направленный на устранение причин и условий, порождающих данное социальное явление, нейтрализацию действия криминогенных факторов в политической, экономической, социально-психологической, морально-нравственной сферах жизни общества.
На уровень правосознания огромное влияние оказывает нравственное состояние общества. Порождением тоталитаризма явилось отсутствие духовности, религиозности, что в свою очередь привело к нравственной деградации человека.
Основу нравственного сознания составляют представления о добре и зле, совести, стыде. “Нравственный смысл жизни, — писал В. С. Соловьев, — первоначально и окончательно определяется самим добром, доступным нам внутренне, через нашу совесть и разум... Человек в принципе или по назначению своему есть безусловная внутренняя форма для добра, как безусловного содержания; все остальное условно и относительно”[324]. При этом нравственные начала должны быть одинаковыми для всех людей не как факт, а как требование. Осознание этого требования может быть малоразвито или затуманено в человеческой душе, но оно должно обязательно присутствовать во всех человеческих душах. Эмпирическое добро и зло может быть разное для каждого человека в отдельности, но нравственное добро и зло должно быть одно для всех. Отсюда общее требование разума, которое Кант выражал в виде “категорического императива”: действуй так, чтобы правила твоих действий могли быть всеобщим законом для всякого разумного существа.
Совесть по своей природе всегда индивидуальна — это моральный эталон человека, духовно-нравственный стержень, предохраняющий его от разложения и гибели. Марксисты же считали ее классовой категорией: “У республиканца иная совесть, чем у роялиста, у имущего — иная, чем у неимущего, у мыслящего — иная, чем у того, кто не способен мыслить”[325]. Такое понимание совести привело к появлению у многих людей совести разовой, имеющей для каждого дела свой закон, не согласующийся с законами для другого случая, подменяющий веру необходимостью и целесообразностью. Оскудение веры в людях пагубно отразилось на их совести: она “болеет или вымирает. Этот процесс оканчивается смертью совести, то есть состоянием бессовестности”[326].
Как справедливо отметил В. Иванов, правосознание — это не только правовая психология и правовая идеология. Правосознание человека есть акт совести, проверяющий соответствие свободной воли человека, его деяний и помыслов законам нравственности, данным от Бога. Этот акт содержит многое: оценку справедливости деяний и мыслей; он вызывает страх и радость; порождает стыд, состояние дискомфорта; придает Уверенность и силу; воодушевляет и парализует[327].
Высоконравственная личность может быть вполне законопослушной, не зная конкретных законодательных актов, но Для этого необходимо, чтобы законы отражали жизненные Реалии сквозь призму справедливости, свободы и гуманизма.
§ 5. Правовая культура и правовое воспитание
Кризис современного правосознания во многом определяется низким уровнем правовой культуры: “Как только общество отказалось от тоталитарных методов неправового государственного управления и попыталось встать на путь правового государства, как только скованные ранее в политическом и экономическом плане люди получили более или менее реальную возможность пользоваться правами и свободами, так тотчас же дали о себе знать низкий уровень правовой культуры общества, десятилетиями царившие в нем пренебрежение к праву, его недооценка”[328].
Правовая культура предполагает определенные знания исходных начал, основных положений действующего законодательства и умение ими пользоваться. Не имея необходимых знаний о правовой системе государства, действующем законодательстве, граждане не могут реализовать свои права и обязанности, защитить свои интересы. Ужасно, когда юридически неграмотными оказываются лица, осуществляющие законотворческую деятельность или работающие в судебных, правоохранительных органах, занимающие ведущие посты в органах государственной власти и управления.
Понятие “правовая культура” используется для характеристики всей правовой надстройки общества. Она пронизывает само право, правосознание, правовые отношения, законность и правопорядок, законотворческую и правоприменительную, а также иную правовую деятельность, всю позитивную юридическую действительность в функционировании и развитии ее составных частей.
Правовая культура представляет собой часть культуры общества, создаваемой постепенным, преемственным общественным развитием, совокупной работой сменяющих друг друга поколений, капитализацией их общей деятельности и опыта.
Культура общества — это исторически сложившаяся система общечеловеческих духовно-нравственных ценностей, в соответствии с которыми формируется образ жизни и осуществляется социальная регуляция отношений между людьми.
Правовая культура как система духовно-нравственных и правовых ценностей выражается в достигнутом уровне развития правовой действительности, нормативных правовых актах, правосознании, в соответствии с которыми формируется законопослушный образ жизни и осуществляется правовое регулирование общественных отношений, устанавливающих режим правопорядка в стране.
Правовая культура представляет собой сложное, многогранное явление, предполагающее:
— определенный уровень правосознания, т. е. осмысленного восприятия правовой действительности;
— общие культурные предпосылки, уровень цивилизованности, национальные корни и истоки, историческую память, обычаи и традиции;
— надлежащую степень знания населением законов, высокий уровень уважения к нормам права, их авторитет;
— высокое качество процессов правотворчества и реализации права;
— эффективные способы правовой деятельности, работы законотворческих, правоохранительных, управленческих и других органов;
— законопослушность граждан и должностных лиц.
Правовая культура немыслима без человека и его деятельности, без прогрессивной направленности этой деятельности и передового мышления. Она выступает как социальное явление, имеющее ярко выраженную цель, охватывающее всю совокупность важнейших ценностных компонентов правовой реальности в ее фактическом функционировании и развитии.
При этом важно сделать акцент на назначении юридических средств — прогрессивном развитии личности и общества. Правовая культура в полной мере может быть понята лишь в общем контексте социального прогресса. Правовая культура безжизненна без преемственности всего лучшего из прошлой истории. Она также не может успешно развиваться без приобщения к правовым культурам других народов. Опыт недавнего исторического прошлого нашей страны показал, какие печальные последствия имеют попытки ограничить культуру, в том числе и правовой ее срез, лишь собственными рамками. Правовая культура призвана аккумулировать в себе прогрессивные достижения всех типов правовых культур как нынешних, так и прошлых эпох.
Правовая культура личности, будучи компонентом правовой культуры общества, отражает степень и характер развития общества, так или иначе обеспечивающего социализацию личности и правомерную деятельность индивида. Эта деятельность должна соответствовать прогрессивным движениям общества и его культуры в сфере права, благодаря чему происходит постоянное правовое обогащение как самой личности, так и общества в целом. Правовая культура, выступая компонентом правового сознания и бытия в их органическом единстве, сопряжена не только с отражением всего общественного бытия, но и с активным обратным воздействием на него. Присущие ей идеалы, правовые нормы, принципы, традиции и образцы поведения могут способствовать консолидации людей, концентрации их усилий на формирование правового государства.
Правовая культура, равно как и любая другая разновидность культуры, подвержена качественным оценкам. Можно говорить о высоком, среднем и низком уровнях правовой культуры. Разные люди, разные общности людей, политические партии, лица, находящиеся у власти, и оппозиционеры могут по-разному оценивать культурные достижения в государственно-правовой сфере. Речь идет как о субъективном, так и об объективном восприятии правовых явлений, об интерпретации культурных завоеваний. Однако история выработала некоторые общецивилизационные критерии в определении уровня правовой культуры, и на этой основе создается возможность для определения основных направлений развития правовой культуры, оценки ее достижений.
Высокий уровень правовой культуры предполагает фактическое правовое поведение людей, позитивное отношение к праву и правовым явлениям, осознание социальной значимости права и правопорядка, признание уважительного отношения к правам другого человека, привычку к правомерному поведению и, наконец, гражданско-правовой активности.
В наши дни нельзя говорить не только о высоком, но даже о среднем уровне правовой культуры российского общества. Кризис современного правосознания во многом определяется именно низким уровнем правовой культуры. Повысить ее способны тщательно продуманная правовая пропаганда в средствах массовой информации, широкий доступ к нормативно-правовой базе, разработка и внедрение действенных форм вовлечения граждан в правотворческую и правоохранительную деятельность.
История свидетельствует о том, что во всех государствах осуществляется особая деятельность по распространению воззрений о праве и правопорядке, для чего используются имеющиеся в распоряжении средства: литература, искусство, школа, церковь, печать, радио, телевидение, специальные юридические учебные заведения. Правовое воспитание является составным элементом идеологической функции любого государства. По мере развития и совершенствования государственности изыскиваются более действенные способы и формы осуществления этой функции, все более обособливается и специализируется правовое воспитание как самостоятельный вид деятельности государства, его органов и их служащих, а также органов местного самоуправления и общества в целом.
Меняются содержание и тактика, объекты, формы и способы воздействия на сознание масс и отдельных граждан, но в значительной степени стабильной (и прежде всего в развитых государствах) является его сущность в виде представлений о праве и правосознании, их смысле, ценности и функциях.
Правовое воспитание — это прежде всего целенаправленная систематическая деятельность государства, его органов и их служащих, общественных объединений и трудовых коллективов по формированию и повышению правового сознания и правовой культуры.
Правовое обучение и правовое воспитание органически связаны между собой. Воспитывающее обучение предполагает непрерывную связь процессов целенаправленного формирования сознания личности законопослушного гражданина и юриста-профессионала, включая правосознание, нравственные идеалы, правовые установки и ценностные ориентации, специальные, профессионально необходимые знания. Крайне важно сформировать соответствующую мотивацию — положительное отношение к праву, правовым явлениям и потребность к постоянному расширению и углублению правовых знаний. Потребность такого рода должна характеризоваться своей насыщенностью, прежде всего для юристов-профессионалов, государственных служащих, служащих органов местного самоуправления, а также граждан. Лишь в этом случае можно считать, что человек будет не только декларировать значение теоретических знаний для практической деятельности, но и найдет возможность для овладения этими знаниями и их правильного применения в юридически значимых ситуациях. Правовое обучение и воспитание является частью всего процесса духовного формирования личности, без которого нельзя обойтись при реализации цели построения в России правового государства.
Правовое воспитание обладает относительной самостоятельностью целей, спецификой методов их достижения и организационных форм. Оно представляет собой многоцелевую детальность, предполагающую наличие стратегических, долговременных целей и целей тактических, ближайших, общих и устных. Цели могут конкретизироваться с учетом специфики субъекта и объекта воспитательного воздействия, используемых форм и средств этой деятельности, а также институтов, осуществляющих правовое воспитание.
Соответственно правовое воспитание и обучение состоят в передаче, накоплении и усвоении знаний, принципов и норм права, а также в формировании соответствующего отношения к праву и практике его реализации, умения использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять обязанности. Отсюда необходимость в осознанном усвоении основных положений законодательства, выработке чувства глубокого уважения к праву. Полученные знания должны превратиться в личное убеждение, в прочную установку строго следовать правовым предписаниям, а затем во внутреннюю потребность и привычку соблюдать правовой закон, проявлять правовую и профессионально-юридическую активность.
К средствам правового воспитания относятся: правовая пропаганда, правовое обучение, юридическая практика, самовоспитание. В основе применения всех указанных средств лежит осуществление правовой информированности, предполагающей передачу, восприятие, преобразование и использование информации о праве и практике его реализации.
Особое место здесь занимает проблема “правового минимума”, некоего обязательного уровня знания права, которым должен обладать каждый гражданин независимо от его социального статуса. Однако уровень этой работы не отвечает современному этапу развития нашего общества. Государственные органы, призванные решать эту проблему, действуют разобщенно. В эту деятельность слабо вовлекаются общественные объединения. Происходит естественное разрушение системы правового воспитания, созданной в предшествующий период. В настоящее время практически не ведется последовательная пропаганда действующего законодательства. Проводимые отдельные правовоспитательные мероприятия осуществляются бессистемно, без учета состояния законности и правопорядка, а также потребности населения в тех или иных юридических знаниях. Средства массовой информации, некоторые государственные и политические деятели в своих публичных выступлениях нередко допускают примиренческое отношение к фактам нарушения законности, существования организованной преступности и коррупции. В стране отсутствует концепция формирования нетерпимого отношения к подобным антисоциальным явлениям, особенно в сфере предпринимательской деятельности.
Выборочные исследования показывают, что примерно 3/4 взрослого населения не ориентируется в нормах законодательства, знание которых диктуется повседневными жизненными потребностями. Многие из них подвержены правовому нигилизму. Все это снижает предупредительную силу закона, затрудняет справедливое и своевременное решение вопросов, возникающих у граждан в социальной сфере и процессе их хозяйственной деятельности, отрицательно сказывается на эффективности пользования конституционными правами и свободами, а также на состоянии общественного порядка и преступности.
В прошлом заметную роль в осуществлении задачи правового просвещения населения играло Всесоюзное общество “Знание” Оно проводило эту работу как посредством активной лекционной, так и издательской деятельности. К чтению лекций привлекались ученые-правоведы, профессорско-преподавательский состав юридических учебных заведений, практики из числа сотрудников правоохранительных органов, адвокатов и юрисконсультов. Массовыми тиражами издавались популярные брошюры по широкому спектру вопросов укрепления правопорядка и юридической помощи населению. В настоящее время лекционная работа по правовому просвещению в стране практически свернута. Что же касается издательской деятельности, то появившиеся за последнее время многочисленные издательские фирмы, выпускающие юридическую литературу (по самым грубым подсчетам, только в Москве их насчитывается около 30), в погоне за коммерческим успехом сосредоточили свои усилия лишь на издании сборников нормативных актов или же учебников и учебных пособий (издание учебной литературы имеет соответствующие налоговые льготы). Более того, учебную юридическую литературу стали издавать организации, более чем далекие от проблем права. А качество выпускаемой ими учебной литературы никем не контролируется.
В сложившейся ситуации было бы целесообразно Министерству юстиции возглавить работу не только по правовому просвещению населения России (вспомним, что в советские времена в Министерстве юстиции существовал отдел правовой пропаганды и правового воспитания, в ведении которого были и эти вопросы), но и по оперативному изданию новых нормативных актов. Последнее позволит если не ликвидировать, то значительно уменьшить хронический дефицит этой литературы в низовых звеньях правоохранительных органов, в особенности периферийных.
В целях создания стройной, взаимосвязанной системы Правового воспитания и правового просвещения граждан Российской Федерации, включающей в себя государственные органы, средства массовой информации и общественные объединения, следует:
1) рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации дополнительной функции, в соответствии с которой Минюст должен осуществлять координационное и методическое руководство в области правового воспитания всеми государственными органами и организациями. Этими же функциями следует наделить и органы юстиции субъектов РФ;
2) разработать и принять Указом Президента Российской Федерации “Федеральную целевую программу развития правовой культуры в Российской Федерации”, которая должна обеспечить проведение планомерной работы в этом направлении;
3) создать Межведомственный координационно-методический совет по правовому воспитанию, в состав которого должны войти представители правоохранительных органов, министерств и ведомств культуры, кино, образования, печати, радио и телевидения, общественных объединений, научных и учебных юридических институтов и др. Данный орган должен заниматься изучением уровня правовой просвещенности граждан, обобщением форм и методов работы по распространению юридических знаний и организации правового воспитания, анализом правовых материалов и формами их подачи, определением наиболее актуальных направлений правопросветительской работы, разработкой рекомендаций и методических указаний;
4) возродить просветительскую работу общества “Знание”;
5) обеспечить разработку и внедрение во всех типах учебных заведений (школа, профессионально-техническое училище, высшее и среднее специальное учебное заведение) учебных программ самостоятельного курса по изучению основ российского законодательства. Одновременно принять меры по восстановлению практики подготовки преподавателей права;
6) разработать и осуществить конкретные мероприятия по организации широкой пропаганды законодательства и повышению уровня правового сознания населения (по месту жительства граждан, на предприятиях, в учреждениях и организациях, в воинских подразделениях) путем обеспечения активного участия в этой работе судей, сотрудников прокуратуры, внутренних дел;
7) подготовить и издать Квалификационные требования к основным специалистам, работающим на предприятиях, в учреждениях, организациях, органах управления. Определить в них объем юридических знаний, которыми должны обладать соответствующие специалисты, а также их обязанности по соблюдению правовых норм, в частности действующих в той отрасли, где эти работники заняты;
8) организовать сеть общественных юридических консультаций для правовой помощи малоимущим слоям населения по социальным вопросам, гражданскому законодательству;
9) обеспечить издание популярной юридической литературы, правовых справочников и комментариев для населения;
10) принять меры по улучшению научно-исследовательских работ, обеспечивающих сочетание творческих разработок с повседневной практикой правового воспитания граждан. Уделить особое внимание научному обеспечению правового воспитания молодежи, внедрению системы ювенальной юстиции;
11) создать во всех районах, городах, областях, краях и республиках на хозрасчетной основе единый центр правовой информации с использованием электронно-вычислительной техники. Усовершенствовать систему доведения законов и других нормативных актов до адресатов, обеспечить свободный доступ к правовой информации граждан, предприятий, учреждений, организаций.
Тщательно продуманная и эффективная система правовой пропаганды повысит правовую культуру общества и будет способствовать повышению уровня правосознания граждан.
Раздел VI. Действие права
Глава 1. Действие права и формы его реализации
§ 1. Понятие действия права
Всякое понимание права основывается на том, что признается способность права быть регулятором общественных отношений. Исходное ценностное начало права — способность оказывать воздействие на волю и сознание людей. Отсюда и проистекает значение вопросов действия права.
Действие права — это его информационное, ценностномотивационное и непосредственно регулирующее воздействие на общественные отношения в пределах определенного пространства, времени и круга лиц.
Право потеряло бы всякий смысл, если бы не проявляло себя как активное творческое начало, не формировало и не изменяло общественную среду, не определяло направление и формы поведения участников общественных отношений. Право действует и в сфере законотворчества, и в области активной реализации установленных законоположений, и в сфере пассивной охраны действующих нормативных актов.
Действие права указывает на функционирование отдельных норм и всей правовой системы. Оно подчеркивает динамизм права, хотя и статическая функция права немыслима вне его действия.
Действие права означает переход (перевод) социальных моделей и абстрактных ценностей в реальную практику. Действие права материализует (пытается материализовать) присущую праву по определению справедливость в поведение отдельной личности, социальных общностей, образ жизни общества. Право как серьезная социальная сила реализует свой потенциал в ходе воздействия на общественные отношения.
Действие права имеет свою внутреннюю и внешнюю стороны. Внутренняя сторона связана с восприятием права его адресатами, внешняя — с формами и методами, которыми заявляет о себе право, а также формами и методами правомерного поведения управомоченных и обязанных субъектов.
Было бы неверно отрывать действие права от потребностей и интересов людей. Социально-экономическая, политическая, культурная и собственно правовая обусловленность действия права составляет его системообразующий стержень. В книге Монтескье “О духе законов” наиболее полно, на наш взгляд, была прослежена в свое время зависимость содержания права, его направленность и его результативность от многообразных условий жизни разных народов. По условиям современности мы имеем разве лишь более цивилизованное в целом проявление многочисленных факторов, но время не изменило их направленности на механизм действия права.
Было бы неправильно отрывать действие права от деятельности государства. Этот момент освещается в темах о соотношении права и государства, о понятии права и государства, их воздействии на развитие общества. Но один момент следует подчеркнуть особо: к сожалению, даже самая бесспорная справедливость не действует сама собой во всем ее объеме. Ни одно общество пока не может заявить о себе как общество самообеспечения справедливости. Государство всюду обеспечивает действие права. Оно вырабатывает средства правовой регуляции, пускает эти средства в ход для достижения конечных целей права.
Как следует из приведенного определения, действие права заключает в себе прежде всего информационное начало. Право содержит многообразную информацию, и не просто правовую информацию, а знание о самых разных сторонах жизни общества. Не случайно по историческим памятникам права мы многое узнаем о наших предках. А знание, как известно, учит и призывает соответствующим образом действовать. Очень важно поэтому, чтобы закладываемая в право информация не была ложной, дезориентирующей, так как в противном случае через определенное время право перестанет действовать именно по этой причине.
С информационным действием тесно связано и действие ценностно-мотивационное. Следует, однако, заметить, что помимо действия определенных знаний на мотивацию адресатов права напрямую законодателю приходится вводить специальные нормы и положения, закрепляемые, в частности, в преамбулах, дабы вызвать мотивы правомерного поведения.
Информационное и ценностно-мотивационное действие права в первую очередь призвано реализовать охранительную Функцию права. Но особой содержательной стороной действия права является собственно правовое регулирование, отражающее сугубо динамическую роль права. Здесь право организует Поведение участников общественных отношений, заставляя их Действовать активно в соответствии с возлагаемыми на них обязанностями. Здесь право стимулирует соответствующее поведение, фиксируя у своих адресатов субъективные права.
Действие права охватывает собой:
— предметное действие;
— действие во времени;
— действие в пространстве;
— действие по кругу лиц.
Все эти аспекты более подробно рассматривается в теме, посвященной действию нормативно-правовых актов. Разного уровня и разной юридической силы акты действуют по-разному. Но есть и нечто общее, что характеризует действие права в целом.
В предмет правового регулирования входят волевые отношения, что исключает распространение действия права на события или состояния, в которых не участвует человеческая воля. Повлиять на их ход право не может. Здесь оно бессильно. Цивилизованный законодатель исключает привлечение к ответственности за образ мыслей, считая такую практику реакционной, объявляя соответствующие нормативные акты неправовыми.
Во времени действие права начинается еще до появления государственного веления. Напротив, именно право побуждает к действию законодателя. Именно право требует своего закрепления в законе. И лишь затем актуализируется проблема действия актов, изданных в установленном порядке компетентными государственными органами.
Действие права в пространстве не ограничено какими- либо территориальными пределами. Не случайно имеет место примат международного права. Не случайно замечается формирование мирового права. Однако действие законов и других нормативных актов, исходящих от государства, ограничивается пределами государственной территории.
Право в принципе адресовано человеку. Но, воплощаясь в нормативно-правовых актах государства, оно ограничивается в своем действии, как правило, кругом лиц, проживающих на территории данного государства.
§ 2. Реализация права — общецивилизованный путь к правопорядку
Право выступает в качестве высшей социальной ценности, но лишь тогда, когда его принципы и нормы воплощаются в жизнь, реализуются в действиях субъектов социального общения. В правовом обществе народ, с одной стороны, и государство — с другой, принимают на себя обязательство следовать праву. Отсюда проблема реализации права может быть рассмотрена в двух направлениях: следование праву со стороны органов государства и должностных лиц; осуществление права в поступках граждан, в деятельности их организаций и объединений. Однако в обоих случаях речь, по существу, идет о конституировании правопорядка. Для него, как известно, недостаточно простого наличия правовых норм. Суть правопорядка состоит в том, что на основе права складываются реальные общественные отношения.
В осмыслении сути и реального содержания правопорядка исследователя подстерегает ряд теоретических сложностей. Главная из них — разграничение процессов правообразования и правореализации, разведение права и правопорядка. Совсем не случайно, например, для реалистической школы права оба этих процесса едва ли не идентичны, и настоящее право усматривается ею в том, что реально сделает судья или администратор[329].
Чтобы разобраться в этой проблеме, следует иметь в виду три обстоятельства.
1. Разные правовые системы “доверяют” поиск и формирование права разным силам — народу, парламенту, судьям, администраторам, ученым и т. д. Чаще всего к правотворчеству “допускают” многих субъектов, но с разного рода оговорками, отступлениями и при непременной иерархии творимых ими актов.
2. Творческая реализация права, становление прочного конкретизированного правопорядка всегда заключают в себе элементы правотворчества.
3. Какие акты признавать правом, а какие нет — во многом зависит от достигнутой договоренности между людьми, между власть имущими и народом. Конвенциональное начало имеет определяющее значение в цивилизованном обществе, подобно тому как силовое решение вопроса об источниках права доминирует при недемократических режимах.
С практической точки зрения важно только одно: каждый субъект правового общения во имя правопорядка обязан следовать своей социальной роли с соблюдением всех процессуально-процедурных и компетенционных установлений, которые сопровождают деятельность определенного рода.
Следование праву органично свойственно устоявшемуся, стабильно развивающемуся демократическому обществу.
В переходные эпохи, во времена социальных кризисов и революционных потрясений правопорядок рушится именно по причине отказа от реализации действовавших до тех пор правовых норм и принципов. Органы государственной власти, органы управления, суд, местная власть, сам народ (под влиянием партий и движений), отказываясь от прежних порядков, пытаются устанавливать и формулировать право своими собственными силами. Причем правовые предписания всегда адресуются другой стороне. О самоограничении правом никто не думает. О реализации права больше говорят. Механизмы обеспечения правопорядка в действие не приводятся, а если приводятся, то без должного эффекта.
В России перестроечного и постперестроечного времени наблюдается активная деятельность законодательных органов и не менее активная нормотворческая работа Президента России и Правительства. Однако поиск права и его реализация названными органами не приносит должного результата. Невыполнение законов и других нормативных актов гражданами и должностными лицами государства давно уже стало, к сожалению, обычным делом.
Наша правовая теория вольно или невольно связывала реализацию права преимущественно с поведением граждан. Между тем реализация права зависит в первую очередь от тех, кто его творит.
§ 3. Реализация права в законодательной деятельности и подзаконном нормотворчестве
Исходной формой реализации права государством является законотворчество. Принятие правовых законов, формулирование в законах правовых предписаний — самое трудное и самое благородное дело законодателей. Тем самым они реализуют содержащиеся в общественных отношениях объективные по обстоятельствам и естественные по условиям места и времени требования, вытекающие из “природы вещей”.
Постановка вопроса о реализации права законодателем может покоиться как на позитивистском правопонимании, так и на метафизическом, естественно-правовом, философском представлении о праве.
По-видимому, никто не будет отрицать обязанность законодателя следовать конституции государства. Принятие антиконституционных законов противоправно с любой точки зрения. Разумеется, речь не идет о деспотической или диктаторской власти, которая заранее объявляет себя не связанной никакими законами. Диктатура опирается на силу. И коль скоро гремит оружие, законы молчат.
В цивилизованном обществе, принимая новый закон, законодатель обязан проследить его соответствие конституции и всем ранее принятым законам. Если избран тот вариант законодательного регулирования, который расходится с действующими нормами, необходимо внести изменения в существующие законы.
Более того, в федеративном государстве законодатель следует не только федеральным законам, а также законам всех субъектов федерации. Во всяком случае, он реализует их в форме соблюдения (воздерживается от их нарушения). Разумеется, при этом имеется в виду, что действующие законы субъектов федерации конституционны, приняты в полном соответствии с разграничением компетенции и не посягают на законные интересы федерации.
Несколько иначе обстоит дело с реализацией законодателем подзаконных нормативных актов. В принципе их также следует учитывать (соблюдать, развивать, дополнять и т. п.). Однако законодатель здесь менее связан. Если он признает данные отношения входящими в сферу законодательного регулирования, будет вполне оправданно отступление от правительственных актов или актов местных органов. Предварительного изменения или отмены подзаконного акта не требуется. Это будет сделано после принятия закона, иногда — по специальному поручению законодателя. Особо следует отметить специфику полномочий законодателя в федеративном государстве. Федеральный законодатель не может принимать нормы по вопросам, относящимся к ведению субъектов федерации, и, следовательно, общефедеральный представительный орган должен считаться даже с правительственным актом субъекта федерации, изданным в пределах его компетенции.
Для законодателя обязательны нормы не только материального, но и процессуального права. Причем реализация процессуальных норм имеет особое значение, ибо она позволяет принимать оптимальные (в содержательном и формальном плане) законы. В восприятии граждан такая законодательная деятельность приобретает характер научно обоснованного поиска права.
Последнее обстоятельство — поиск права — можно интерпретировать позитивистски, придавая значение права тому властному решению, которое формируется в процессе следования установленным процедурам законодательной деятельности. Но еще большие возможности открываются для рассмотрения правореализующей деятельности законодателя, если право рассматривать в качестве феномена, существующего вне и до законотворчества. Законодатель при таком подходе отыскивает право и следует ему, формулируя нормы закона.
Принятие подзаконных актов — уже вторичный процесс. Здесь, в основном в форме конкретизации, реализуется право, выраженное в законах[330]. Правда, жизнь по-прежнему дает нам примеры того, как в подзаконных актах формулируются первичные нормы права, не имеющие своей основы в законах. В принципе и в нормальных условиях такая практика подлежит осуждению, поскольку отыскать право и сформулировать его надлежащим образом представляется возможным только в ходе парламентской процедуры, в рамках оптимально организованного законодательного процесса.
По причине пробельности законов и подзаконных актов конкретизацией права занимаются только высшие судебные инстанции, а в странах англосаксонской системы права — суды вообще. Можно по-разному оценивать такую форму реализации права судами, но факт остается фактом, что в определенных ситуациях судьи “черпали” право непосредственно из жизни и даже конкурировали в этом отношении с законодателем. В особенности при интерпретации общих норм конституции суды, по существу, шли дальше простого толкования[331]. Фактически восполнения пробелов в законодательстве ожидают многие от Конституционного Суда Российской Федерации. Однако “Конституционный Суд должен быть крайне осторожным в попытках наполнения конституционных положений новым содержанием...”[332].
Но по общему правилу основной формой реализации права судьями и другими должностными лицами государства считается применение правовых норм, содержащихся в законах и подзаконных нормативных актах.
Было бы неправильно не замечать участия граждан во всех отмеченных формах реализации права. В ряде случаев они самостоятельно (на своем уровне) осуществляют и законотворчество, и конкретизацию, и применение права. Приведем в качестве примеров соответственно референдум, когда народное волеизъявление (нахождение права) становится законом; договор между предпринимателем и наемным работником, конкретизирующий нормы трудового законодательства; возбуждение гражданином производства по делу частного обвинения и т. п.
Все сказанное связано с различением права и закона и имеет практическое значение в основном для нормотворческой деятельности. Для юридической практики более значим анализ форм реализации закона и иных нормативных актов государства.
§ 4. Реализация закона, ее формы и методы обеспечения
Право способно непосредственно воздействовать на поведение людей. Но это будет идейно-мотивационное воздействие. Регулирующее действие права в полное мере проявляется там, где правовые максимы получили закрепление в законе и иных нормативных актах, т. е. там, где право нашло свое позитивное выражение. Поэтому традиционно актуальны проблемы форм реализации закона (воплощаемого в нем права) и методов обеспечения воли законодателя.
Регулирующее действие права, выраженного в законе, обусловлено не только принудительной силой государства, но и собственной мощью права: “Сила права — характеристика, отражающая социальный вес, меру способности права соответственно его целям, природе и назначению вызывать необходимые социальные последствия в обществе... Сила права не тождественна силе государства... Качество силы право приобретает лишь при определенных условиях, когда оно экономически и социально детерминировано, соответствует общественному прогрессу, объективным потребностям, интересам и приоритетам людей”[333].
В том же направлении проводит разграничение между действием и реализацией права Ю. И. Гревцов. Он связывает действие права не столько с юридической стороной дела, сколько с изменениями, которые право вносит или может внести в социальную жизнь общества[334]. Напротив, Б. И. Сазонов определяет механизм действия законов как “совокупность операций по созданию правоотношений, через которые достигается должное поведение людей, должное состояние коммуникативных связей”[335]. Эти суждения высказаны с антинормативистских позиций, но они напрямую приложимы и к праву, находящему свое воплощение в законе.
Итак, установление государством правовых норм — не самоцель. Главная задача состоит в практическом осуществлении заложенных в них требований. Речь идет о реализации государственной воли, выраженной в правовой форме.
Реализация объективного права представляет собой деятельность, согласную с выраженной в законе волей. Ее можно рассматривать как процесс и как конечный результат. Как конечный результат реализация права означает достижение полного соответствия между требованиями норм совершить определенные поступки или воздержаться от них и суммой фактически последовавших действий. Наличие такого тождества должно привести к некой полезной цели, которую преследовал законодатель.
Реализация права как процесс может быть охарактеризована с объективной и субъективной сторон. С объективной стороны она представляет собой совершение определенных действий, предусмотренных нормами права. С субъективной стороны реализация права характеризуется отношением субъекта к правовым требованиям в момент совершения предписываемых действий. Он может быть заинтересованным в реализации права, осуществлять правовые предписания, осознавая общественный долг или из страха неблагоприятных последствий. Но главное в этом процессе — скрупулезное следование правовому образу действий, условиям места и времени их совершения. Реализация не состоится, если одно из обязательных условий будет нарушено.
Классификация форм реализации правовых норм проводится по различным основаниям. С точки зрения уровня (глубины) реализации содержащихся в нормативных актах положений выделяют:
1) реализацию общих установлений, содержащихся в преамбулах законов, в статьях, фиксирующих общие задачи и принципы права и правовой деятельности;
2) реализацию (вне правоотношений) общих норм, устанавливающих правовой статус и компетенцию;
3) реализацию в конкретных правоотношениях конкретных правовых норм.
По субъекту реализации права можно выделить две формы: индивидуальную и коллективную. Некоторые требования права нельзя провести в жизнь, иначе как объединяясь друг с другом, выступая коллективно.
По характеру правореализующих действий, обусловленных содержанием правовой нормы, следует различать соблюдение, исполнение, использование и применение права.
Соблюдением реализуются запрещающие нормы. Суть его состоит в пассивном воздержании от совершения действий, находящихся под запретом.
Исполнение требует активных действий, связанных с претворением в жизнь обязывающих предписаний.
Использование права предполагает осуществление правомочий субъекта, и, следовательно, по его усмотрению здесь может иметь место как активное, так и пассивное поведение.
Применение права — комплексная властная деятельность специально уполномоченных субъектов, сочетающая разные поведенческие акты.
Сущность реализации права с субъективной стороны состоит в повиновении их требованиям. Если субъект решительно отказывается повиноваться предъявленному требованию, то последнее никогда не будет осуществлено в его поведении. Поэтому государство использует ряд методов для того, чтобы сформировать у граждан, должностных лиц и организаций потребность, желание или необходимость совершить предусмотренные в нормах права действия.
История знает два основных средства понуждения воли людей к реализации государственных велений — это обещание награды и угроза физическим принуждением или лишением каких-либо благ.
Цель права состоит в удовлетворении жизненных потребностей людей. Поэтому требуется принципиальное соответствие государственной воли и воли субъектов реализации права. При таком условии глобальная перспектива видится в постепенном отпадении необходимости специализированного государственного принуждения. Само содержание прав должно обусловливать добровольное повиновение со стороны подавляющего большинства граждан.
Заинтересованность участников общественных отношений в реализации принадлежащих им прав проявляется в сфере Действия управомочивающих норм, а более широко — за пределами действия запретов, ограничений и обязывающих велений. Государство не обещает наград за сам факт реализации Управомочивающих норм, тем более не грозит лишениями в случае отказа от реализации предоставленных им прав. Содержание управомочивающих норм удовлетворяет их адресатов, а сам результат осуществления прав приносит желаемые блага.
При осуществлении обязывающих норм затрачиваются человеческие силы, за что государство обещает определенную компенсацию. Исполнение обязанностей под угрозой возможно, но оно не будет столь качественным. Отдельные люди исполняют юридические обязанности по внутреннему убеждению, следуя чувству долга.
Правовые запреты реализуются преимущественно под угрозой наступления неблагоприятных последствий в случае их нарушения. Это могут быть лишение свободы, штраф, исправительные работы и др.
Одно из обстоятельств обеспечения реализации права следует оговорить особо. Дело в том, что правомерное поведение (которое только и реализует правовые нормы) все-таки по- разному оценивается государством. Некоторые его проявления не считаются социально полезными, и для них в законе содержатся антистимулы. Такому правомерному поведению государство не идет навстречу и не создает для него благоприятных условий. Наоборот, не представляющее социальной ценности правомерное поведение влечет неблагоприятные последствия. Не вступаешь в права наследника, не подаешь в установленные сроки жалобу на неправомерные акты должностных лиц — теряешь какие-то блага. Социально ценное правомерное поведение пользуется охраной государства.
§ 5. Правоприменение как особая форма реализации права
Применение права от других форм его реализации отличает то обстоятельство, что здесь немыслимо бездействие (пассивное поведение, как при соблюдении норм), право на правоприменительную деятельность сливается с обязанностью ее осуществления. Правоприменение носит производный характер, поскольку обеспечивает реализацию права третьими лицами. Применение одних норм одновременно требует соблюдения, исполнения и использования других, отсюда правоприменение — комплексная правореализующая деятельность.
Наконец, правоприменение — это властная деятельность. И если некоторые действия граждан (дарение автомобиля, обращение с иском в суд и т. д.) и напоминают акты правоприменения, то признака государственной властности им явно недостает. Поэтому в основном уделом граждан является соблюдение правовых норм, использование принадлежащих им прав и исполнение возложенных на них обязанностей.
Правоприменение — это решение конкретного дела, жизненного случая, определенной правовой ситуации, это приложение закона, общих правовых норм к конкретным лицам и обстоятельствам.
Правоприменение — организующая деятельность, направляющая развитие отношений между людьми и их объединениями в русло закона.
Применением закона и других правовых норм занимаются компетентные государственные органы и должностные лица. Причем они осуществляют эту деятельность строго в рамках предоставленных им полномочий.
Итак, деятельность государственных органов не заканчивается определением дозволенного и запретного в нормативных актах. Обычно государство оставляет за собой право вновь подключиться к правовому регулированию общественных отношений, но уже не в общей (абстрактной) форме, а на уровне конкретных отношений, реальных дел и жизненных ситуаций. Адресаты правовых норм не могут зачастую реализовать свои предусмотренные законом права и обязанности без своего рода посредничества государственных органов. Нельзя, например, получить пенсию, очередное воинское звание или квартиру без решения компетентного органа, хотя и налицо все условия, предусмотренные законом. Другими словами, часть правовых норм реализуется только через правоприменение.
Применение права — это властная организующая деятельность компетентных органов и лиц, имеющая своей целью содействие адресатам правовых норм в реализации принадлежащих им прав и обязанностей, а также контроль за данным процессом.
Государственные органы, которые занимаются правоприменительной деятельностью, как правило, осуществляют и другие правовые функции — правотворческую, правоохранительную.
Правоприменитель вмешивается в естественный ход реализации права и закона только в следующих случаях: а) когда есть спор о наличии или мере субъективных прав и юридических обязанностей (в том числе при определении наказания за противоправное действие); б) при необходимости определить момент действия и факт прекращения чьих-либо прав или обязанностей; в) если надо осуществить предусмотренный законом контроль за правильностью приобретения прав и возложения обязанностей. Оказать содействие, принудить к реализации правовых норм, возложить ответственность — таковы задачи субъектов правоприменения.
Определенная последовательность совершения действий в ходе правоприменения дает основание говорить о трех его стадиях:
1) установление фактических обстоятельств дела;
2) установление юридической основы дела;
3) решение дела.
Основанием для начала процесса применения правовых норм является наступление предусмотренных ими фактических обстоятельств. Поэтому первая стадия правоприменения состоит в установлении юридических фактов и юридических составов (совокупности различных факторов). Это могут быть “главные факты” и факты, подтверждающие главные, но обязательно те и в том объеме, какие требуются для нормального разрешения юридического дела. В ряде случаев круг обстоятельств, подлежащих установлению, обозначен в законе (например, при производстве дознания, предварительного следствия и разбирательстве уголовного дела в суде).
Часто сбор доказательств и предварительное установление фактов осуществляют одни лица (органы), а решение по делу выносят другие. Однако правоприменяющий орган в этом случае обязан убедиться в достаточности установленных фактов и их обоснованности. Ни прокурор, утверждающий обвинительное заключение, ни судья, который рассматривает уголовное дело, ни директор предприятия, издающий приказ о поощрении работника, не могут отнестись к своим обязанностям формально, слепо полагаясь на представленные материалы.
Целью первой стадии правоприменительного процесса является установление объективной истины. Поэтому особое внимание законодательство уделяет доказыванию. Как правило, закон предписывает, какие обстоятельства нуждаются в доказывании, а какие нет (общеизвестные обстоятельства, презумпции); какие факты доказываются строго определенными средствами (например, экспертизой, письменными документами). Окончательная оценка доказательств всегда является делом правоприменителя.
Установление юридической основы дела предусматривает:
— нахождение нормы, подлежащей применению;
— проверку правильности текста того акта, в котором содержится искомая норма;
— проверку подлинности нормы и ее действия во времени, в пространстве и по кругу лиц;
— уяснение содержания нормы.
Все указанные действия объединены одной целью — обеспечить правильную квалификацию установленных фактов.
§ 6. Реализация права при пробелах в законодательстве
Пробелы в позитивном праве не исключают реализации права. Какое право имеется в виду? Во-первых, то, которое пока остается за пределами законодательства, не вошло в него конкретными нормами, но охватывается смыслом позитивных установлений, политикой законодателя, жизненными потребностями справедливого разрешения юридических дел. Во-вторых, право, нашедшее свое воплощение в законодательстве, но только на уровне его принципов и норм, регулирующих аналогичные отношения.
В обеих ситуациях реализация права предполагает весьма широкую свободу для поиска права, формирования правоотношений, а затем отстаивания их в качестве правовых в официальных инстанциях по защите права.
При наличии пробела в законе правоприменителю предписывается законодателем разное поведение. В уголовном праве действует принцип “нет преступления и нет проступка — нет наказания и нет взыскания без закона” Естественным выходом для практика в такой ситуации является отказ в возбуждении производства по делу, вынесение оправдательного приговора.
В отношениях, не связанных с признанием деяния преступлением или административным проступком, действует другой порядок. Гражданское законодательство допускает возникновение гражданских прав и обязанностей непосредственно из общих начал и смысла гражданского законодательства. Таким образом, ссылкой на отсутствие конкретного закона нельзя отказать в правосудии. Средствами преодоления пробела здесь являются аналогия закона и аналогия права.
Аналогия закона означает решение дела на основе закона, регулирующего отношения, сходные с рассматриваемыми.
Аналогия права — это принятие решения, исходя из общих начал и смысла законодательства.
Режим законности диктует ряд требований к использованию аналогии:
1) решение дела по аналогии допустимо только в случае отсутствия или неполноты правовых норм;
2) сходство анализируемых обстоятельств и обстоятельств, предусмотренных имеющейся нормой, должно быть в существенных и равнозначных в правовом отношении признаках;
3) решение по аналогии недопустимо, если она прямо запрещена законом или если закон связывает наступление юридических последствий с наличием конкретных норм;
4) исключительные нормы и изъятия из общих правил могут приниматься во внимание только тогда, когда рассматриваемые обстоятельства также являются исключительными;
5) выработанное в ходе использования аналогии правопо- ложение не должно противоречить ни одному из действующих предписаний закона;
6) решение по аналогии предполагает поиск нормы сначала в актах той же отрасли права, и только за неимением таковой возможно обращение к другой отрасли и законодательству в целом.
§ 7. Правоприменительный акт
Как бы ни понималось право, все сходятся на том, что его реализацией достигается ценностно значимый позитивный эффект. Следование праву вводит людей в рамки свободы, утверждает справедливость, вносит определенность в общественные отношения, придает им необходимую стабильность.
Решение дела как своеобразный интеллектуальный процесс выведения определенного заключения из фактических обстоятельств и юридических норм вызревает постепенно. Оно не ограничивается формальным подведением жизненных обстоятельств под общие условия нормы. Это творческая деятельность. Отсюда ответственность правоприменителя за ее итоги.
Решение юридического дела фиксируется в правоприменительных актах. Они занимают подчиненное положение по отношению к актам правотворчества, основываются на правовых нормах и издаются с целью индивидуального поднормативного воздействия на процесс реализации права.
Правоприменительный акт — это государственно-властный индивидуально-компетентный акт, совершаемый компетентным субъектом по конкретному юридическому делу с целью установления наличия или отсутствия субъективных прав или юридических обязанностей и определения их меры на основе соответствующих правовых норм.
Выявление эффективности правоприменительного акта связано с определением целей издания данного акта, результатов его действия, соизмерения результатов с целями и неизбежными издержками.
Полная эффективность правоприменительного акта достигается, когда все его цели — и ближайшие, и отдаленные, и конечные — достигнуты с минимальным ущербом для общества, небольшими экономическими затратами, в оптимальные сроки.
Существуют материальные, социально-политические, идеологические, организационные и юридические средства обеспечения эффективности правовых актов.
Глава 2. Пробелы в праве и их воспитание
§ 1. Понятие пробелов в праве, их виды и причины появления
Было время, когда о пробелах в праве отечественные юристы старались не упоминать. В лучшем случае проблема излагалась в плане критики буржуазного права или буржуазных правовых теорий. Объяснение простое. Советское право считалось совершенным и превосходящим всякое другое не только по своей сущности и своему содержанию, но и по своей отработанности. Часто воспроизводилось известное ленинское положение о том, что быстроты законодательства, подобно нашей, ни одна система не знает, и, следовательно, можно было предполагать, что всякие пробелы вовремя устраняются. Совершенная система социалистической демократии, самый высший тип государственности, находящейся на ступени своего отмирания, и т. д., и т. п. — эти идеологические клише не ориентировали на реалистический анализ ситуации.
В учебниках по теории государства и права проблема пробельности законодательства проходила как бы за кадром в теме “Применение права”, там, где шла речь об использовании аналогии. Сам термин “пробел в праве”, или “пробел в законе”, как правило, не употреблялся. Говорилось об отсутствии нормы, регулирующей данные или сходные с ними отношения. Даже в словарях трудно было отыскать названные понятия. Тем более удивительно, что и теперь еще проблема пробелов в праве не получила постоянной прописки во всех учебных курсах.
Между тем всякая система позитивного права является в той или другой степени пробельной. Во всех правовых системах теоретически и практически актуально изучение возможностей в решении проблемы пробелов в праве. Конечно, так называемое живое право по сути своей беспробельно. Однако теперь уже нет ни одной сколько-нибудь развитой страны, в которой не функционировало бы позитивное право, в которой Не было бы актов, исходящих от законодательных органов. Другой вопрос, что острота проблемы может сниматься объявлением, например, закона пустым звуком, пустым сосудом, Который еще следует наполнить правом, и т. д. Но при всех обстоятельствах эта проблема приобретает самостоятельное значение. Она затрагивает интересы всех участников правовых отношений. Она отнюдь не только юридическая. Она имеет прямое социальное и политическое значение, касается как законодателя, так и правоприменителя.
Для законодателя всегда актуально отыскать, выявить, уловить право в жизни и сделать вывод, покрывает ли законодательство выявленное право или же в нем наличествует пробел и следует принимать незамедлительные меры по принятию необходимых законодательных актов.
Для правоприменителя и для всех, кто реализует свои права и обязанности, очень остро стоит вопрос о практических шагах по преодолению пробела в законодательстве, если таковой вдруг обнаруживается в сфере их правовой деятельности. Именно они должны просигнализировать законодателю о существующих пробелах в правовом опосредовании соответствующих отношений.
Конкретные шаги законодателей, правоприменителей и других субъектов правового общения будут зависеть от их полномочий. Последние же следует поставить в связь с тем, что считать пробелом в праве, какая разновидность пробела имеет место в конкретном случае, каковы причины его появления.
В русском языке слово “пробел” имеет два значения. В прямом смысле пробел определяется как пустое, незаполненное место, пропуск (например, в печатном тексте), в переносном — как упущение, недостаток. При этом упущение характеризуется как неисполнение должного, недосмотр, ошибка по небрежности, а недостаток — как несовершенство, изъян, погрешность или неполное количество чего-либо.
Таким образом, о пробеле можно говорить как в случаях, когда имеется намеренно незаполненное пространство, не подлежащее заполнению в силу специфики самого предмета, так и в случаях, когда пустое место является изъяном, упущением. Пробел в прямом смысле является необходимым качеством предмета, при утрате которого он перестает быть тем, чем он есть в действительности. Восполнение пробела из внутренних источников невозможно, а из внешних исключено, поскольку иначе создается качественно новое явление. Наоборот, принимая переносное значение слова, мы признаем тем самым необходимость устранения существующего недостатка. О пробелах в праве можно говорить преимущественно в переносном значении как об одном из несовершенств права, отсутствии в нем того, что должно быть необходимым его компонентом. Некоторые юристы выделяют в праве “намеренные” пробелы, т. е. употребляют этот термин в прямом смысле. О таких пробелах говорят, например, там, где законодатель сознательно оставлял вопрос открытым с целью предоставить его решение течению времени или отдавал его решение на усмотрение практических органов. Сюда же относят иногда случаи, когда закон содержит ссылки на какие-либо факторы (добрые нравы, практику и т. д.), а правоприменителю предоставляется право конкретизировать абстрактные понятия, употребленные в законе.
Выделение “преднамеренных”, “умышленных” пробелов запутывает проблематику, так как одним понятием объединялись бы разные явления.
И еще одна оговорка: при различении права и закона, а точнее, при той посылке, что закон является одной из форм воплощения права, логичнее отыскивать пробелы в законодательстве. Последнее понимается в данном случае широко — как совокупность всех нормативных актов, изданных компетентными органами. Если же принять во внимание официальное признание в качестве источников права обычаев и прецедентов, то следует вести речь о пробелах в позитивном праве вообще.
Пробел в позитивном праве — это тот случай, когда нет ни закона, ни подзаконного акта, ни обычая, ни прецедента.
Пробел в нормативно-правовом регулировании — отсутствие норм закона и норм подзаконных актов.
Пробел в законодательстве (в узком и точном смысле этого слова) — отсутствие закона (акта высшего органа власти) вообще.
Пробел в законе — неполное урегулирование вопроса в данном законе. Подобно этому можно говорить о пробелах в иных нормативных актах, обычаях, прецедентах. Как правило, отсутствие или неполнота нормы в данном акте есть и его пробел, и пробел права в целом.
Пробел существует в двух видах — в виде полного отсутствия какого-либо регулирования вопроса и в виде неполноты имеющегося регулирования. Те и другие пробелы являются настоящими, те и другие требуют апелляции к нормотворческим органам на предмет принятия новых норм.
Приведем в этой связи два примера. Статья 70 Конституции Российской Федерации гласит: “Государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и порядок официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом” Такого закона в Российской Федерации пока не принято. Налицо полное отсутствие надлежащего (конституционного) регулирования. Соответствующие указы Президента Российской Федерации, регулирующие эти вопросы, можно считать лишь средством нормативного преодоления имеющегося пробела в законодательстве, но никак не его восполнением.
Статья 59 Конституции Российской Федерации устанавливает право гражданина на замену военной службы альтернативной гражданской службой в случае, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию, а также в иных установленных федеральным законом случаях. Как убеждаемся, конституционная норма регулирует вопрос, устанавливает два основания замены военной службы альтернативной гражданской, но не регулирует других вопросов, ориентируя на принятие специального федерального закона. Налицо неполнота правового регулирования, которая до принятия данного закона породила массу острых жизненных ситуаций.
Пробелы в позитивном праве всегда означают отсутствие норм в отношении фактов и социальных связей, находящихся в сфере правового регулирования.
Границы правового регулирования и рамки действующих нормативных актов перекрещиваются, но не совпадают. Всегда имеется какая-то часть общественных отношений, жизненных ситуаций и обстоятельств, которые, находясь в сфере правового регулирования, не регламентированы нормами права и, наоборот, предусмотрены нормами, но выходят за пределы правовой сферы. Теоретически последний случай возможен в любой системе права.
Необходимость в правовом регулировании может появиться и после принятия закона. Отсюда пробелы подразделяются на первоначальные и последующие. Если такого рода необходимость существовала в момент подготовки и прохождения законопроекта, а законодатель по небрежности ее не заметил, пробел именуется “непростительным” “Непростительным” пробел будет и тогда, когда при издании акта игнорируются правила законодательной техники, вследствие чего известная потребность в правовом регулировании оказывается охваченной нормами права неполно.
“Простительные” пробелы имеют место там, где законодатель не мог по каким-то причинам увидеть и предвидеть потребность в правовом регулировании.
Сказанное позволяет увидеть причины появления пробелов. Они объективные, если в момент издания соответствующих актов не существовало тех отношений, которые впоследствии заявили о себе в качестве нуждающихся в правовом регулировании, которые, другими словами, позже вошли в сферу правового регулирования. Когда издавался УК 1960 г., ряд ли кому-либо приходило в голову установить ответственность за угон воздушного судна. Не было таких фактов. Дорыночная жизнь в России не знала отношений по ипотеке. Теперь пришлось восполнять пробел принятием специального закона.
Но причины появления пробелов носят субъективный характер, если нормодатель по каким-либо причинам что-то недосмотрел, упустил, неточно выразился, создал радикальное противоречие между нормами и т. д. Субъективную окраску приобретают и те пробелы, когда необходимость регулирования отношений всем и давно известна, но они тем не менее остаются неурегулированными. Причины здесь могут быть разные. Во-первых, сказываются экономические обстоятельства, принятие любого закона связано с определенными затратами о его проведению в жизнь. Начинается соизмерение ценностей, и дорогие законы могут быть отвергнуты. В России предусматривается как раз необходимость получить на этот счет заключение Правительства. Очень часто срабатывают политические факторы. Невозможность достигнуть консенсуса в законодательном органе надолго отдаляет регулирование соответствующих отношений. Пробел продолжает зиять. Возможны причины идеологического порядка. Иногда приходится ждать, когда народ “созреет”, когда культурный уровень позволит урегулировать соответствующие отношения.
Итак, пробелом в позитивном праве является полное или частичное отсутствие правовых установлений (норм), необходимость которых обусловлена развитием социальной жизни и потребностями практического решения дел, основными принципами, политикой, смыслом и содержанием действующего законодательства, отвечающего правовым требованиям, а также иными проявлениями права, вытекающими из природы вещей и отношений.
§ 2. Отграничение пробелов от смежных правовых явлений
Пробелы в праве требуют вполне определенных действий как от законодателя, так и от правоприменителя. Поэтому так важно отграничить их от тех явлений в праве, которые перекрещиваются с пробелами, чем-то напоминают их, соприкасаются с ними, но требуют иных действий. Тем самым актуализируется вопрос об установлении пробелов. Без его решения затруднительно принимать меры по преодолению пробела и вообще нельзя вести речь о его восполнении.
Чаще всего пробелы в праве путают с “темнотой” правовых норм, их неясностью и соответственно пытаются решить проблему путем толкования права. Однако по сути своей толкование дает лишь то, что содержится в норме, и ничего нового в ее содержание привносить не должно. Во все времена под видом толкования пытались формулировать новые нормы. Но эта практика спустя некоторое время обязательно подвергалась критическому отвержению. Нет, например, никакого пробела в регулировании вопроса о возможности избрания Президента Российской Федерации на очередной срок. Но известная неясность есть. Отсюда проистекают разночтения Конституции. Поэтому толкование, которое дает Конституционный Суд в своем постановлении по запросу Государственной Думы, является выражением содержания п. 3 ст. 81 и п. 3 раздела 2 Конституции Российской Федерации. Напротив, трудно посредством простого толкования решить все вопросы, возникающие в ходе применения ст. 92 Конституции Российской Федерации, поскольку она нуждается в нормативной конкретизации законодательным органом. Здесь просматривается неполнота правового регулирования и в части возможности отставки Президента, и в части случаев неспособности его выполнять свои обязанности, и в части временного исполнения президентских обязанностей Председателем Правительства.
Нельзя путать пробелы в законодательстве с так называемым квалифицированным молчанием законодателя, когда он намеренно оставляет вопрос открытым, воздерживается от принятия нормы, показывая тем самым нежелание ее принимать, относя решение дела за пределы законодательной сферы. Состояние пробельности в законах отличается также и от тех случаев, когда законодатель отдает решение вопросов на усмотрение правоприменителя, когда он рассчитывает, что его законодательная воля будет конкретизирована иными правовыми актами. В практических шагах по преодолению пробелов в праве во избежание произвольных решений недопустимо смешение пробела с “ошибкой в праве”[336]. Несмотря на то, что в некотором отношении они могут совпасть, правоприменителю не позволено заниматься исправлением права. Он должен следовать ему вплоть до изменения правового регулирования в установленном законом порядке.
В любом деле, и в особенности в таком сложном, как правотворчество, трудно избежать возможных ошибок. “Ошибка в праве” означает в общем неверную оценку объективно существующих условий и проявление на этой основе не той законодательной воли, какую следовало бы отразить в нормативных актах. При ближайшем рассмотрении “ошибка в праве” имеет место тогда, когда нормотворческий орган:
а) ошибочно считает какие-либо отношения не подлежащими юридическому воздействию;
б) ошибочно полагает возможным обойтись конкретизацией права в ходе его применения;
в) ошибочно передает решение вопроса на усмотрение правоприменителя;
г) издает норму, в которой нет необходимости;
д) решает вопрос не так, как следовало бы решить в установленной норме.
В пунктах “а”, “б” и “в” “ошибка в праве” не отрицает, а скорее, наоборот, предполагает наличие пробелов. Они могут быть установлены в процессе применения права. Однако восполнить их сможет только компетентный правотворческий орган. В первом же случае правоприменитель вообще не имеет права предпринимать какие-либо действия по делу, имеющие юридические последствия.
Пробельность права перекрещивается с явлением противоречивости правовых норм. Пробел образуется там, где имеет место радикальная противоречивость норм одинаковой силы, когда одна из них “уничтожает” другую.
Потребность в новых нормах права редко очевидна сама по себе. Чаще всего требуются доказательства. Совокупность доказательственных действий и составляет содержание деятельности по установлению пробела. Исследователем решаются, в частности, следующие вопросы:
а) не является ли предполагаемая потребность в правовом регулировании мнимой, навеянной ложными оценками исходной ситуации[337];
б) является ли потребность в нормах права реальной, т. е. обеспеченной существующими социально-экономическими условиями жизни;
в) не имеются ли нормы, так или иначе регулирующие данные общественные отношения и, следовательно, исключающие наличие пробела;
г) не является ли “молчание права” квалифицированным, т. е. не проявил ли законодатель отрицательной воли на регулирование данных событий и фактов посредством права.
Установление пробелов не означает их выискивания. На практике оно начинается объективно: с того, что какой-то орган, должностное лицо затрудняются в решении дела из-за отсутствия правового инструмента, позволяющего ответить на все вставшие перед ним вопросы. Для нормотворческих органов это даже не один отдельно взятый казус, а ряд возникающих отношений. Таким образом, в основном юридическая практика питает идеи о существовании пробелов и необходимости их устранения.
Деятельность по установлению пробелов тесно связана с правотворчеством. Связь эта состоит в следующем.
1. Установление пробелов (а затем их устранение) и правотворческая деятельность соотносятся между собой как часть и целое. Последняя охватывает также необходимость преобразования правового регулирования, замены его иными видами социального регулирования и т. п.
2. Вхождение в компетентный государственный орган с инициативой об издании акта, призванного закрепить новые, еще не урегулированные отношения, означает одновременно суждение о существовании пробела.
3. Проверка обоснованности такого законодательного предложения есть, собственно, процесс установления пробелов.
4. Выработка компетентными органами проекта нормативного акта является официальным оформлением гипотезы о существовании пробела и пути его устранения.
5. Принятие нормативного акта означает положительный ответ на вопрос о существовании пробела, а также одновременно окончательное установление и устранение пробела.
В процессе установления пробелов исследуются:
а) содержание действующей системы права;
б) материальные общественные отношения, которые обусловили появление того или иного нормативного акта или требуют его издания;
в) классово-волевые отношения, связанные с изданием акта;
г) правотворческая деятельность государственных (иногда также общественных) органов;
д) правоприменительная практика;
е) правосознание (совокупность правовой идеологии и психологии).
Если рассмотреть каждую из указанных областей познаний, нетрудно убедиться, что в одних сферах преимущественное значение будут иметь методы формально-юридического исследования, в других — конкретно-социологического.
Формально-юридический метод означает особую совокупность способов обработки и анализа содержания действующей системы права. Его специфическим свойством является отвлечение от некоторых сущностных сторон права, связанных с материальной и классовой обусловленностью правовой системы. На первый план выделяются здесь чисто логические, языковые и иные абстрактные стороны, выражающие структурные закономерности права.
К формально-юридическим средствам относятся все способы толкования права, заключения по аналогии, от большего к меньшему и от меньшего к большему, от частного к общему, от условий к следствию и обратно, заключения по противоположности и др.[338].
При их использовании следует иметь в виду следующее.
1. Все перечисленные приемы и средства применяются в основном при установлении неполноты отдельных норм и нормативных актов. Необходимость издания отсутствующего закона доказывается преимущественно социологическими средствами.
2. Все они могут быть применены в установлении как “объективных”, так и “субъективных”, первоначальных и последующих пробелов. “Технические” пробелы вскрываются исключительно формально-логическими средствами.
3. Не всегда пробелы устанавливаются на основе прямо выраженного требования норм права. Часто возникает необходимость обращения к одной, нескольким нормам или ко всей совокупности норм, к мотиву их издания, а иногда к отраслевым и общим принципам права.
4. Ни один из указанных приемов не имеет самодовлеющего значения. Каждый из них используется в связи с другими и дополняется социологическими исследованиями. Существующая в пределах формально-юридического метода субординация средств имеет относительный характер.
Среди всех объектов конкретно-социологических средств установления пробелов особое значение имеет судебная и административная практика. Методы конкретно-социологического исследования известны: наблюдение, эксперимент, анкетирование, интервьюирование, опрос, статистический анализ, прогнозирование.
§ 3. Восполнение пробелов
Уяснение понятия пробелов, причин их появления, выделение различных видов, равно как и определение средств установления пробелов в каждом конкретном случае, не представляют собой самоцели. Решение указанных вопросов составляет основу разрешения проблемы восполнения пробелов в праве.
Восполнение пробелов в праве есть логическое продолжение и вместе с тем завершающая стадия деятельности по их установлению.
Необходимость устранения пробелов очевидна. Сложность представляют иные вопросы. К ним, в частности, относятся:
а) кто призван к восполнению пробелов?
б) во исполнение каких функций устраняются пробелы?
в) в каких пределах допустима деятельность по восполнению пробелов определенными органами?
г) что является материалом для восполнения пробелов в праве?
д) какие средства здесь используются?
Нужно раз и навсегда отказаться от безоговорочного тезиса о том, что пробелы в законе восполняются судами или иными органами в процессе применения права. Устранить пробел в законе можно лишь путем дополнительного законотворчества. Если доктрина и законодательство признают в качестве полноценных источников права лишь акты, исходящие от компетентных правотворческих органов власти и управления, то только эти органы и пользуются прерогативой восполнения пробелов. Все другие государственные организации (за известными исключениями), коллективы трудящихся, научные учреждения, отдельные ученые принимают деятельное участие в установлении пробелов, но не наделены правом их устранения. А чтобы возложить обязанность восполнения пробелов в законе на суд, нужно наделить его соответствующей компетенцией.
В советской юридической литературе вопрос о роли судебной практики ставился неоднократно в связи с анализом источников советского права. При этом высказаны по меньшей мере три точки зрения, каждая из которых в той или иной степени имеет своих последователей до настоящего времени.
Одна из них признает судебную практику в качестве источника права только в той мере, в какой она находит отражение в руководящих указаниях высших судебных органов.
Другая точка зрения сводится к признанию практики источником права в полном объеме, включая результаты деятельности нижестоящих судов.
Третья — Отвергает за судебной практикой качество источника права вне зависимости от форм ее выражения.
Принципиальное решение вопроса не допускает, чтобы разъяснения высших судебных инстанций содержали юридические нормы, которые (хотя бы в подзаконном порядке) вносили дополнения в действующее законодательство. Однако при наличии пробелов в законодательстве, его отставании от жизни центральные органы юрисдикции, включая Верховный Суд, Высший Арбитражный Суд, Конституционный Суд России, вынуждены формулировать нормы, вносящие своего рода дополнения в действующую систему нормативного регулирования общественных отношений. Своим содержанием они имеют правило поведения, которое обращено отнюдь не к определенному суду, а ко всем судебным инстанциям и к неопределенному кругу лиц, которые будут обращаться в судебные учреждения. Единичное применение никогда не исчерпывает содержания подобного руководящего разъяснения. Оно рассчитано на неоднократную реализацию. Руководящее указание пленума, восполняющее пробел в законодательстве, вносит новый элемент в правовое регулирование. Оно, наконец, достаточно определенно, чтобы не отнести его к декларации, по своей структуре содержит все элементы нормы и т. д.
Тем не менее нельзя ограничиваться сказанным. Для отнесения тех или иных актов к источникам права нужно признание их в качестве таковых со стороны государства.
Такое признание может содержаться непосредственно в тексте какого-либо закона (expresis verbis) или быть выраженным по смыслу, по “духу” законодательства. Оно может быть явным или молчаливым, прямым или косвенным, позитивным или негативным. Признание государством источника права выражается вовне в том, что реализация его (будь то обычай, или акт государственного органа, или акт общественной организации и т. д.) связана с государственно-правовой охраной, а нарушение его влечет за собой соответствующие средства охраны со стороны государственных органов.
Итак, как фактически, так и юридически отдельные положения постановлений высших судебных инстанций хотя и временно, но восполняют пробелы права. В. А. Туманов назвал Конституционный Суд правотворческим органом по существу, хотя формально он и не отнесен к числу правотворческих[339]. С точки зрения существующей практики трудно с этим не согласиться. Однако в силу конституционного принципа разделения властей Конституционный Суд не может быть законодательным органом.
Конечно, наиболее целесообразным и правильным путем, к которому следует стремиться, является деятельность компетентных нормотворческих органов, призванных (каждый в своей области) своевременно устранять все недостатки правового регулирования, в том числе и пробелы в праве. Этот путь для стран европейской континентальной правовой семьи больше способствует и укреплению законности, и повышению авторитета самих нормотворческих органов.
Деятельность судов по восполнению пробелов в праве обусловлена самим фактом существования пробелов в законе и тем, что процедура принятия нормативных актов требует известного времени. Наконец, отдельные нормотворческие органы еще недостаточно оперативны в издании соответствующих актов. Высшим судебным инстанциям остается одно из двух: или оставить решение неурегулированных случаев на усмотрение нижестоящих судов, или выработать для них нормативное указание.
Правовосполнительная деятельность судов носит строго подзаконный характер (в специальном анализе в этом отношении нуждаются некоторые постановления Конституционного Суда России). Поэтому следует считать недействительными все акты судов, которые идут вразрез с законом. На изменение действующих нормативных актов суды не управомочены.
Признавая возможность восполнения пробелов судами, нельзя подвергать сомнению обязанность того органа, в актах которого пробел обнаружился, устранять его путем издания специального нормативного акта. Причем суды обязаны (имеют право) входить в соответствующие органы с представлениями по вопросам законодательного порядка. Высшие судебные инстанции наделяются правом законодательной инициативы.
При анализе вопроса о восполнении пробелов в континентальной Европе основное внимание уделяют не суду, а органам, обладающим правом издания нормативных правовых актов.
Полномочие на восполнение определенного пробела возможно не иначе как в пределах нормотворческой компетенции того или иного органа в области предоставленных ему прав на решение тех или иных вопросов. Компетенционные нормы очерчивают, таким образом, границы деятельности по восполнению пробелов для любого органа.
Отсюда, в частности, следует, что каждый нормотворческий орган управомочен на устранение пробела в своих собственных актах, изданных в соответствии с его компетенцией. Каждый орган вправе устранять пробелы, возникающие по причине появления новых общественных отношений, требующих правового регулирования и относящихся к сфере деятельности данного органа.
Глава 3. Толкование права
§ 1. Понятие толкования права
Всякое “общение” с правом, всякая его реализация, и в особенности такая форма, как применение права, предполагают уяснение правовых требований и дозволений. Вообще любая деятельность плодотворна и эффективна, когда осуществляется с полным пониманием дела. Правоприменение как своего рода контрольная деятельность в процессе реализации права тем более по сути своей требует четкого уяснения содержания реализуемых норм.
Сам выбор правовых норм предполагает понимание их содержания. Часто в этом помогают специальные разъяснения нормативно-правовых актов, которые даются в официальном и неофициальном порядке. И уяснение для себя требований норм как внутренний интеллектуальный процесс, и разъяснение их как выражение вовне своих заключений чаще всего объединяют одним понятием — “толкование права”.
Строго говоря, проблема толкования выходит за рамки реализации права. Она имеет самостоятельное значение в процессе научного или обыденного познания государственно-правовой жизни.
Предполагается, что каждый “пользователь” права уясняет его смысл и требования самостоятельно. И в этом случае толкование не выходит за рамки внутренней интеллектуальной деятельности, материализуемой затем в каких-то правовых действиях субъекта. Оценивая последние, мы получаем представление о том, как уяснил кто-либо норму права, как он понимает ее сам и какого понимания ждет от других. Например, в любом правоприменительном акте, в любом решении юридического дела уже выражено понимание права правоприменителем, хотя бы буквально в тексте об этом не говорилось.
Другая ситуация складывается в том случае, если право толкуется для третьих лиц. Есть специалисты и даже специально уполномоченные на то органы, от которых ожидают обстоятельного разъяснения права. Они уже не могут ограничиваться уяснением правового содержания для себя; они должны объективировать свою интеллектуальную работу в виде специальных актов разъяснения права.
Таким образом, с одной стороны, нельзя представить себе, чтобы разъяснение могло последовать без уяснения права. С другой стороны, трудно рассматривать уяснение как самоцель. Оно также выражается вовне в каких-то актах или действиях. В этом видится единство уяснения и разъяснения права. И то и другое призваны обеспечить правильное осуществление правовых норм.
В свое время Г. Ф. Шершеневичем было высказано мнение, что опыт и приемы толкования “в совокупности дают основание для искусства толкования, но не для науки”[340]. Думается, что в толковании права как определенной интеллектуальной деятельности есть элементы не только искусства, но и науки.
История разных государств дает примеры такой практики, когда под видом толкования провозглашались новые нормы. Но режим твердой законности и нормальный правопорядок в принципе исключают смешение правотворческого и праворазъяснительного процессов. Задачей правоприменителя или интерпретатора является одно: уяснить для себя и пояснить другим содержание воли, выраженной в праве.
Понимание толкования права предполагает знание не только цели, но и объекта толкования. В принципе можно было бы констатировать следующее.
Объектом толкования являются нормативные правовые акты и их совокупность. Предметом толкования выступает историческая воля законодателя (нормодателя), выраженная в законе (нормативном акте). Воля законодателя времени применения закона также учитывается, так как в актах, последовавших за толкуемым, могут содержаться нормы, прямо или косвенно меняющие его содержание.
Однако ограничиться такого рода констатацией нельзя. Следует дать пояснения.
1. Если различать право и закон, если вести речь о толковании учеными и законодателями, ограничиться названным объектом и предметом толкования нельзя. В этом случае интерпретируются самые многообразные явления и факторы общественной жизни, рождающие и питающие то “живое” право, которое законодателю придется возводить в закон. Более того, интерпретаторы постепенно обращаются к воле прошлых законодателей, и не только отечественных, но и зарубежных. Это по-настоящему творческая работа по выявлению права, по поиску наилучших способов его нормативного закрепления в государственных актах.
2. Правоприменитель всегда отыскивает волю законодателя (волю нормодателя; волю, выраженную в надлежаще изданных нормативных актах).
Ученый и законодатель за рамками правоприменительной деятельности отыскивают волю социальных общностей (народа, классов, политических объединений и т. д.). Они могут объявить волю, выраженную в действующем законе, неправовой, они интерпретируют закон с точки зрения права.
3. Если не иметь цели издавать в ходе реализации права под видом толкования новые нормы, если не желать посредством толкования изменять законы, нет необходимости ставить преграды в объекте и предмете толкования. Одно время полагали, что толкованию подлежат только неясные законы, и на этом основании запрещалось толкование новых законов вообще. Мания непогрешимости своей воли и форм ее выражения свойственна и современным законодателям (особенно если они неюристы).
Мера ясности права для разных его пользователей разная. То, что ясно для одних, остается неясным для других. Важно одно: содержание права, прежде чем оно будет возведено в закон, должно быть понято; содержание конкретных норм, прежде чем они будут применены (реализованы), должно быть выяснено.
§ 2. Объем и способы толкования
Толкование правовых норм всегда преследует цель определения действительного смысла нормы, того, что имел в виду сам законодатель. Поскольку законодатель свои требования формулирует посредством символов — терминов и словесных конструкций, изложение его воли может не совпасть с ее действительным содержанием. Причиной тому будет или недосмотр (упущение) законодателя, или небрежность в оформлении своих мыслей, или даже отсутствие в языке и законодательной технике “отработанных” терминов и конструкций.
Случаи несовпадения действительного и буквального смысла в праве — не столь частое явление. Чаще, пожалуй, можно встретить предположения о них, а со стороны ученых и практиков — подведение под эти случаи ситуаций, которые принципиально отличаются по своему характеру. Это объясняется во многом различным пониманием расширительного и ограничительного толкования.
Основанием для выделения данных разновидностей указывают обычно “объем” толкования. При этом создается впечатление, что “по объему” допускается истолкование шире или уже того смысла, который установлен в результате использования соответствующих приемов толкования. Это заблуждение. Норма истолковывается шире или уже буквального ее смысла, но обязательно в соответствии с тем смыслом, который выявлен в итоге уяснения истинного содержания нормы.
Сам термин “распространительное” толкование, наиболее часто употребляющийся в обиходе и науке, до некоторой степени питает неправильные представления о его сущности. Можно понять так, как будто речь идет о распространении действия норм на случаи, ими не предусмотренные. Более приемлем с этой точки зрения термин “расширительное” толкование.
Ни о каком толковании не может быть речи там, где происходит применение или неприменение правовых норм к соответствующим обстоятельствам. Толкование — это всегда уяснение подлинного смысла нормы или суждение о таковом. П. Е. Недбайло верно отмечал, что “распространительное и ограничительное толкование не вносит никаких изменений в действительный смысл нормы”[341]. Вместе с тем некоторые положения в его работе могут быть расценены иначе. Так, в числе причин того или иного способа толкования он допускал изменение обстановки, когда “расширяется или сужается круг юридически значимых фактов, предусмотренных гипотезой нормы” По его мнению, распространительное или ограничительное толкование “может иметь место и в тех случаях, когда буквальный смысл нормы правильно выражает ее буквальный смысл, но действие нормы при этом расширяется или ограничивается вследствие изменившейся обстановки...” В то же самое время П. Е. Недбайло совершенно справедливо критиковал позицию тех авторов, которые предлагают при толковании доводить смысл закона до желаемого, диктуемого политическими соображениями или правосознанием. Он прямо отвергал формулу “Новые условия — новый смысл закона”
Опуская пока вопрос о допустимости неприменения закона или его изменения в процессе правоприменения, отметим одно: ни то ни другое не может быть завуалировано под толкование закона.
Исходя из опасения произвольного применения закона, некоторые советские авторы объявляют распространительное и ограничительное толкование противоречащим закону. Эти
опасения имели под собой почву в правоприменительной практике судебных и административных органов. Но практика, как и теория, исходила при этом из неверных представлений о сути подобных толкований. Проиллюстрируем это положением одного из первых учебников по теории государства и права: “В советском государстве вопрос о разделении толкования на распространительное и ограничительное лишается смысла. При применении правовой нормы, главным образом закона, основная задача состоит не в том, чтобы сузить или расширить применение закона, а в том, чтобы применить этот закон именно так, как он написан, в точном соответствии с его текстом и смыслом. Поскольку суд не толкует, а применяет законы, то анализ, которому суд подвергает подлежащую применению норму, не может быть ни ограничительным, ни распространительным, а только полностью соответствующим самому закону. Расширить применение закона, т. е. выйти за пределы его текста, ни суд, ни другие органы не могут, так как это означало бы нарушение закона. Ограничить применение закона, т. е. сузить его по сравнению с текстом, означало бы неприменение закона, когда он подлежит применению согласно его тексту, т. е. опять-таки нарушение закона”[342].
Не вдаваясь в подробный анализ приведенного положения, отметим лишь два обстоятельства. Во-первых, авторы проявляли склонность к отождествлению расширительного и ограничительного толкования норм с соответствующим применением права. Во-вторых, они, по существу, выступали за запрещение толкования правоприменительным органом и применение закона по его букве.
Не следует смешивать должного с сущим. Во все времена действительность показывала, что, как бы законодатель ни стремился к ясному выражению своей воли в тексте закона, это не всегда ему удавалось[343]. Причем сигнализировала о несовершенстве норм обычно практика их осуществления. Ввиду сложности и продолжительности законотворческой процедуры замеченные недостатки нормативного акта какое-то время продолжали оставаться неустраненными. Медлить же с решением юридического дела не представлялось возможным и целесообразным. Из двух зол нужно было выбрать одно: или решить по букве закона и тем самым пойти вопреки действительной воле нормотворческого органа, или переступить букву и тем самым создать прецедент для возможных отклонений в последующем от прямых и ясных требований закона. То и другое было предопределено запрещением или разрешением расширительного и ограничительного толкования[344].
На выбор законодателем своей позиции по этому поводу влияют многочисленные факторы. Среди них назовем характер эпохи (революционный или эволюционный период развития), состояние (степень совершенства) законодательства, характер регулируемых отношений. Но если законодатель доверяет исполнителям закона, если он сам стремится к реализации собственной воли, у него нет оснований запрещать расширительное и ограничительное толкование.
Учет самых различных обстоятельств позволяет понять, почему, например, запрещение толкования законов после совершения буржуазных революций имело прогрессивное значение. Старый государственный аппарат не был сломан. Его кадры воспитывались в обстановке феодально-полицейского произвола, в духе вольного обращения с законом. Буржуазия к тому же была заинтересована в проведении установленных ею норм. Однако прогрессивность запрета в толковании или его политическую целесообразность не следует смешивать с юридическим значением данного действия. Юридически он не мог быть состоятельным, так как допускал случаи нарушения истинной воли законодателя.
Чаще всего призывы к отказу от распространительного и ограничительного толкования встречаются среди криминалистов. Оно, дескать, порождает нигилизм к закону, ведет к необоснованному усилению репрессий и т. д. Удачно, с нашей точки зрения, критиковал подобные выводы Я. М. Брайнин. “Ошибка ученых, — писал он, — возражающих против распространительного и ограничительного толкования, состоит в том, что по их представлению эти виды толкования изменяют объем действия правовой нормы в противоречии с волей законодателя”[345]. И далее Я. М. Брайнин указывал, что неправильное толкование или применение закона не может служить основанием, чтобы отрицать его в принципе. Даже с обновлением уголовного законодательства отнюдь не устранены случаи такого толкования. Еще более они распространены в других отраслях советского законодательства.
Среди ученых, которые поддерживают использование расширительного и ограничительного толкования, всегда царит тем не менее убеждение, что такое толкование небезгранично. Однако до сих пор не определены сколько-нибудь твердые критерии допустимости или недопустимости его по отношению к каким-либо категориям правовых норм. Представители правовых дисциплин чаще всего приводят отдельные нормы, по отношению к которым говорят: эту истолковать расширительно можно, а эту нельзя. Например, П. С. Элькинд, указывая на норму, устанавливающую перечень источников доказательств по уголовному делу, писала: “Какое бы то ни было иное, кроме как адекватное, толкование данной правовой нормы недопустимо”[346]. Но никакое другое, кроме как адекватное, толкование недопустимо и по отношению к любой другой норме, если ее буквальный и действительный смысл не расходятся. Если же автор приводит указанную норму по причине расхождения ее смысла и текста, то следовало объяснить, почему нужно отвергать те источники, которые дают доказательства по делу.
А. П. Коренев[347] правильно критиковал отрицание расширительного и ограничительного толкования административноправовых норм. Вместе с тем причины его и критерии допустимости он определял, на наш взгляд, неудачно. В числе причин, которые влекут такое толкование, он указывает и общий характер гипотез, и мобильность управленческих отношений, и возможность появления новых фактов, т. е. все то, что является причиной пробельности права. Распространительное толкование, по его мнению, допустимо только в тех случаях, когда “оно с очевидностью вытекает из смысла самой нормы”, а ограничительное — когда “административно-правовая норма не совсем ясно определяет случаи, на урегулирование которых она рассчитана”
Упоминаемая автором “очевидность” достигается только при закреплении намерения законодателя в словесной формулировке. А. П. Коренев из того и исходит, коль скоро расценивает употребление в законе выражений “и др.”, “и т. д.”, “в частности” как призыв к расширительному толкованию. Выше было указано: если нет расхождения между текстуальным смыслом и истинной волей законодателя, нет необходимости в расширительном толковании. Неясная норма после использования всех приемов толкования может быть истолкована как расширительно, так и ограничительно. Если же у правоприменителя вообще не создалось определенного убеждения об истинном содержании нормы, предпочтительнее буквальное ее понимание.
А. С. Пиголкин, высказав предварительно ряд правильных суждений о существе и причинах расширительного и ограничительного толкования, предпринял попытку в общей форме определить пределы использования того и другого[348]. С его точки зрения, ни в коем случае не подлежат ограничительному толкованию права и свободы, установленные государством для своих граждан, равно как и законы, ослабляющие или полностью ликвидирующие ответственность. Распространительному толкованию не подлежат нормы, которые представляют собой исключение из общего правила, предусмотренного другой нормой, “поскольку подобные исключения должны быть всегда сформулированы четко, конкретно и ясно” (разрядка моя. — В. Л.). Наконец, не следует толковать ни расширительно, ни ограничительно санкции правовых норм, поскольку санкция “должна быть четко и ясно изложена, не должна допускать никаких сомнений и кривотолков в отношении своего содержания” (разрядка моя. — В. Л.).
Ни одно из приведенных соображений, с нашей точки зрения, не может быть принято.
1. Государство устанавливает права и свободы граждан, исходя из объективных закономерностей соотношения личных и общественных интересов. Руководствоваться буквальным смыслом нормы, заведомо зная, что она не выражает подлинной воли законодателя, — значит посягать на общественный интерес.
2. Гуманизм права не имеет ничего общего с “всепрощением”, с потаканием правонарушителям. Поэтому в случаях, когда подлинная воля законодателя, направленная к смягчению или устранению ответственности, не распространяется на каких-то лиц, хотя текстуальная формулировка и позволяет им на это надеяться, нужно толковать норму ограничительно.
3. Исключения из общих правил могут быть истолкованы расширительно и ограничительно не в связи с общими, а в связи с исключительными обстоятельствами.
4. Санкции в рассматриваемом отношении ничем не отличаются от любого другого элемента нормы. Более того, неопределенность гипотезы или диспозиции влечет порой более пагубные последствия.
5. Требование четкого и ясного изложения относится не только к санкциям или исключениям из общих правил, но в равной степени ко всем правовым нормам. Недостатки происходят, как было замечено, помимо воли законодателя.
Таким образом, при всех условиях необходимо устанавливать и руководствоваться в своих действиях подлинной волей законодателя, а не ее суррогатом и не ее противоположностью. Коль скоро допускается расширительное и ограничительное толкование, никаких ограничений в объекте быть не должно[349]. Другое дело, что нужно всегда, а в некоторых случаях особенно быть тщательным в установлении действительного содержания правового требования. Иногда без особых познаний видно расхождение смысла нормы с буквальной формулировкой, а иногда для убеждения в том приходится применить все приемы толкования.
Уяснение подлинной воли, выраженной в правовых актах, достигается различными способами. Способы толкования — это относительно обособленная совокупность приемов анализа правовых актов. Выделяют грамматическое, логическое, систематическое, специально-юридическое, историко-политическое и телеологическое толкование.
Грамматическое толкование представляет собой совокупность специальных приемов, направленных на уяснение морфологической и синтаксической структуры текста акта, выявление значения отдельных слов и терминов, употребляемых союзов, предлогов, знаков препинания, грамматического смысла всего предложения.
Логическое толкование предполагает использование законов и правил логики для уяснения подлинного смысла нормы, который иногда не совпадает с ее буквальным изложением из-за неудачно выбранных законодателем словесных форм.
Систематическое толкование — это уяснение содержания и смысла правовых предписаний исходя из места, которое они занимают в данном нормативном акте, институте, отрасли и всей системе права в целом. В систематическом толковании нуждаются все правовые нормы, но особенно нормы отсылочные и бланкетные.
Историко-политическое толкование заключается в изучении исторической обстановки создания акта, расстановки политических сил, социально-экономических и политических факторов, обусловивших появление акта и оказавших влияние на волю законодателя.
Телеологическое (целевое) толкование правовых актов направлено на установление целей их издания: непосредственных, отдаленных, конечных.
Специально-юридическое толкование связано с анализом специальных терминов, технико-юридических средств и приемов выражения воли законодателя.
На предмет, объем и способы толкования права в Конституционном Суде России ориентирует ст. 74 Федерального конституционного закона об этом органе. Вторая часть этой статьи гласит: “Конституционный Суд Российской Федерации принимает решения по делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов”
§ 3. Официальные и неофициальные толкования
По субъекту разъяснения правового акта различают официальное и неофициальное толкование. Значение того и другого неравнозначно. Официальное толкование исходит от компетентных государственных органов и является юридически обязательным./Неофициальное толкование не обладает властно-обязательной силой. I
Обязательность официального толкования вызывает, во- первых, обязанность правоприменительного органа по отысканию и изучению актов разъяснения и, во-вторых, следование им в случае расхождения собственных представлений о содержании применяемых норм с указаниями, содержащимися в актах официального толкования. Таких расхождений может и не быть. Однако нельзя заранее полагаться на свои познания и способности к правильному выявлению законодательной воли. Подобно тому как посредством закона (а не индивидуальных решений некоторых органов) придается всеобщность и унифицированность правовому регулированию, так посредством официального толкования обеспечивается единство правоприменительной практики в угодном государству направлении. Поэтому в любом случае невозможно обойтись своими заключениями и выводами, коль скоро само государство принуждает к определенному пониманию правового вопроса.
Было бы, однако, неправильно придавать актам официального толкования абсолютную юридическую силу, объявлять их непререкаемыми, не подлежащими критике. В отношении актов толкования сохраняется значение проблемы выбора их и проверки подлинности. Совершенно очевидно, например, что толкование, противоречащее закону, не подлежит использованию. Исключение составляют акты толкования Конституции, которое дает Конституционный Суд. Они окончательны и обжалованию не подлежат. В принципе юридическая сила разъяснения зависит от положения субъекта толкования в системе государственных органов и от формы того акта, в который облекается данное разъяснение.
Официальное толкование подразделяют на аутентичное, когда разъяснение исходит из органа, издавшего данный нормативный акт, и неаутентичное, когда разъяснение дают другие компетентные органы.
Необходимость аутентичного толкования вызывается, как правило, тем, что в практике тот или иной нормативный акт вызывает противоречивые мнения, разрешить которые не представляется возможным без обращения к тому органу, который этот акт издал. Нормотворческий орган придает обязательную силу одному из имеющихся или возможных толкований, воспроизводит действительное содержание нормативного акта и тем самым предупреждает разноречивое его применение[350]. Как и в любом другом случае толкования, при аутентичном толковании новой нормы не создается. Подмена толкования правотворчеством недопустима еще и потому, что акты толкования действуют одновременно с самим нормативным актом. Обратная же сила законов или их немедленное действие не всегда приносят желаемые результаты.
При аутентичном толковании вопроса о несоответствии акта разъяснения и нормативного акта не возникает. Однако не исключено, что своим разъяснением нормотворческий орган придает такой смысл ранее изданному акту, что он вступает в противоречие с предписаниями других правовых норм. Поэтому при проверке правомерности применяемого нормативного акта следует обязательно принимать во внимание результаты его аутентичного толкования.
Субъектами официального неаутентичного (легального) толкования могут выступать все государственные органы, в обязанность которых входит проведение правовых предписаний в жизнь. Круг этих органов довольно широк. Поэтому юридическая сила актов толкования различных органов неодинакова.
В связи с осуществлением исполнительно-распорядительных функций, организацией правоотношений и контролем за соблюдением законодательства толкование осуществляют правительство, министры и другие органы исполнительной власти.
Акты толкования соответствующих органов сами подлежат уяснению правоприменителем. Они обязательны к руководству, если не противоречат требованиям других правовых норм, если толкование нижестоящего органа соответствует разъяснениям по тому же вопросу, данным вышестоящими инстанциями. Иными словами, юридическая сила разъяснительных актов определяется их местом в механизме правового регулирования и соответствует силе других предписаний, исходящих от того или иного органа.
В России для практических работников в области отправления юстиции большую роль играют разъяснения, даваемые Конституционным Судом РФ, Верховным Судом РФ, Высшим Арбитражным Судом РФ. Для прокурорско-следственных работников имеют значение в этом плане директивные разъяснения и приказы Генерального прокурора, для работников милиции — приказы и инструкции, исходящие от министра внутренних дел РФ. Авторитет подобных актов толкования основывается на хорошем знании законодательства, обобщении большой практики его применения и авторитете самого органа для определенной категории правоприменителей.
В отличие от официального неофициальное толкование не является, как было замечено, юридически обязательным. Акты неофициального толкования не принадлежат к числу юридических фактов. Они, следовательно, не подтверждают каких-либо прав и юридических обязанностей. Неофициальное толкование дается, если так можно выразиться, в частном порядке[351]. Сила его, как, впрочем, и любого другого толкования, в убедительности и обоснованности. Чем больше необходимость в толковании каких-то норм и чем больше убедительность неофициального толкования, тем большая обязательность использования его в правоприменительной деятельности.
Было бы что-то от мании величия считать себя, свое собственное мнение единственным способным постигнуть “тайну” закона. При отсутствии официального разъяснения акты неофициального толкования способны оказать неоценимую помощь в оценке содержания законодательной воли. Практическая потребность в получении необходимых консультаций и разъяснений по делу является порой побудительной силой большего значения, нежели формальная обязательность разъяснительного акта.
Неофициальное толкование подразделяют на обыденное, компетентное и доктринальное.
Обыденное толкование дается гражданами. Значение его для правоприменительной деятельности состоит в проявлении правового сознания широкого круга субъектов права.
Компетентное толкование исходит от сведущих в области права лиц, действия которых по разъяснению норм не приобретают силу юридического факта.
Доктринальное толкование — это всегда разъяснение правовых актов, которое дается учеными в связи и в результате их теоретических поисков, научного анализа права. Оно выступает как научное объяснение смысла и целей правовых норм.
Строго говоря, за каждым актом официального толкования (а следовательно, в его основе) стоит научная доктрина. Ее носителями являются либо сами творцы акта, поскольку должностные лица часто являются и научными работниками, или те ученые, которые разрабатывали рекомендации к проекту постановления, или, наконец, ученые, взгляды которых заимствованы из имеющейся литературы.
Таким образом, во-первых, доктринальное толкование своей значительной частью проявляет себя в актах официального толкования.
Во-вторых, результаты доктринального толкования получают нередко свое закрепление в самих нормативных правовых актах. При издании соответствующих норм права всегда считываются мнения ученых-юристов об аналогичных действующих нормах или об их предшественницах.
В-третьих, доктринальное толкование проявляет себя непосредственно в неофициальных трудах: монографиях, комментариях, научных статьях и т. д. К сожалению, только в этом, последнем своем качестве они и рассматриваются в литературе, в то время как остальные его проявления опускаются. Если продолжить наше понимание доктринального толкования, то следует прийти к выводу, что оно может быть как официальном, так и неофициальным. Иначе нельзя назвать ту научную доктрину, которая получает одобрение компетентного государственно органа и возводится в ранг официальной.
В то же время нельзя полностью отождествлять всякое официальное толкование с официальным доктринальным. Нельзя уже потому, что не всегда в основе официального толкования лежит именно научная доктрина, не говоря уже о том, что встречаются официальные акты толкования, вообще
Ее опирающиеся на научные исследования. Отсюда вытекает практическая задача приведения в соответствие обязательных актов толкования с новыми, оправдавшими себя научными исследованиями.
Официальное нормативное толкование, чтобы быть вполне научным, должно опираться не на преходящие соображения целесообразности в решении возникающих дел, а на созданные доктриной и подтверждаемые практикой научные ценности, имеющие в условиях данного места и времени непреходящее значение. Так или иначе не от официального толкования должны мы следовать к доктринальному, а, наоборот, доктринальное толкование по возможности и необходимости следует возводить в ранг официального.
В той части, в какой доктринальное толкование получает свое закрепление в нормативных актах и в актах официального толкования, оно исследуется в рамках проблем правотворчества. Поэтому правоприменителя больше интересует часть доктринального толкования, которая продолжает оставаться неофициальной.
Справедливо мнение о том, что правовая наука является не только познавательно-теоретической, она еще и “производительна” в смысле непосредственного воздействия на практику. “Производительная” функция юридической науки до настоящего времени не раскрыта. Доктринальное толкование является выражением этой функции в области правоприменения.
Чтобы точнее определить значение доктринального толкования, на наш взгляд, следует проводить различие между понятиями “имеет юридическую силу” и “имеет юридическое значение” Когда о каком-либо акте говорят, что он вступил в юридическую силу и т. п., это означает обязательность акта к исполнению всеми субъектами права. Если же о каких-либо правилах, действиях, принципах говорят, что они “имеют определенное юридическое значение”, это еще не означает их обязательности в строгом понимании этого слова. Такими правилами или указаниями могут руководствоваться или не принимать их во внимание, могут ссылаться на них или нет — в любом случае это не поколеблет юридической силы вынесенного решения, если последнее основано на законе.
Доктринальное толкование можно рассматривать в свете всех тех категорий, которые, не обладая юридической силой, имеют, однако, определенное юридическое значение. Во-первых, оно несомненно отражает моральные принципы и нормы, складывающиеся в обществе. Во-вторых, очо есть выражение правосознания и основа его формирования. Более того, доктринальное толкование среди всех подобных категорий имеет первостепенное значение. Научная доктрина, поскольку она имеет честь именоваться таковой, отражает наиболее существенные, наиболее глубинные связи предметов и явлений. Она дает правильное представление об итогах и перспективах развития общественных отношений и в связи с этим более полно объясняет содержание действующих норм, их цели, их действие в условиях данного места и времени и т. д. Она, наконец, не изолирована от правовых эмоций, чувств и настроений, она — итог и вместе с тем база развивающейся общественной правовой психологии и идеологии.
Правосознание правоприменителя является частицей общественного правосознания. Оно обусловлено существующими общественными отношениями, общественной психологией масс и правовой идеологий. Правовая идеология вырабатывается наиболее одаренными представителями общества и призвана обеспечить стройность и целенаправленность правовым чувствам, эмоциям, настроениям.
В конечном счете задачей правовой идеологии является достижение определенного эффекта в практике. Такая вполне оправданная цель определяет значение правовой идеологии вообще, а доктринального толкования в частности в процессе применения права.
Там, где применяющий право руководствуется результатами доктринального толкования в качестве дополнительного средства наряду с основными (нормативным актом и актами официального толкования), можно говорить об опосредованном юридическом значении доктринального толкования для правоприменительной практики. Но оно может иметь и непосредственное юридическое значение. Например, в связи с запрещением отказа в правосудии по мотивам отсутствия закона, регулирующего спорное гражданско-правовое отношение, используется аналогия закона и аналогия права. В определении сходства или несходства нормативных актов и фактических отношений, к которым они применяются при аналогии закона, недостаточно полагаться на практическую сметку. Необходимо обратиться к специальным исследованиям вопроса учеными, а если таковые отсутствуют — по возможности к казуальному доктринальному толкованию.
Еще большую значимость приобретает оно в решении дела по аналогии права. Основные начала и основные принципы российского права иногда прямо, иногда косвенно закреплены действующими нормативными актами. Однако их извлечение и правильное применение в конкретных жизненных ситуациях требуют глубокого научного подхода, что иногда под силу только квалифицированным, специализирующимся в данной области научным работникам. Результаты научных исследований и консультации ученых играют здесь первостепенную роль.
Возникает вопрос: можно ли считать всякое научное правовое исследование доктринальным толкованием права или к нему относятся только те из них, которые специально преследуют цель объяснения содержания нормативных актов?
Практическое решение правовых вопросов предполагает обязательное исследование общеметодологических, общетеоретических и других специальных знаний, полученных работником в вузе и обновляемых в процессе самостоятельной работы над источниками. Эти знания формируют правосознание, составляют его неотъемлемую часть и, таким образом, участвуют в правоприменительной практике, трансформируясь в соответствующий образ действий субъекта права. Любое правовое исследование в конечном счете имеет практическое значение. Оно всегда может быть использовано в уяснении и объяснении действующего права, даже если это исследование не преследовало такой цели специально, а направлено на изучение общетеоретических вопросов.
Научные труды, хотя бы и являющиеся основой к уяснению и объяснению права, но не преследующие в целом или части целей толкования отдельных норм или основ и смысла права в целом, не относятся, по нашему мнению, к результатам доктринального толкования. Мы исходим здесь из общего сложившегося у нас понятия толкования как уяснения и объяснения права с целью правильной реализации его на практике. Не всегда можно провести четкую границу между теми и другими работами, но в теоретическом плане она существует.
Однако не всегда ценные рекомендации ученых, их концепции находят свое использование в практике. Сказывается отсутствие необходимых организационно-правовых мер по внедрению результатов научного творчества в практику применения законов.
Возьмем, к примеру, судебное рассмотрение гражданских и уголовных дел. Предполагается, что судья и некоторые другие участники процесса выступают в качестве специалистов во всех возникающих здесь правовых вопросах. Но это явно не так, когда речь идет о сложных делах, о делах с иностранным правовым элементом. Совсем не случайно, что очень часто в таких случаях обращаются за помощью к ученым-юристам. Но обращение это носит неофициальный характер. Лучше было бы, если бы непосредственно в судебном заседании заслушивались сами авторы тех или иных научных концепций, если бы они непосредственно в суде высказывали свои соображения относительно спорных правовых вопросов. Конечно, привлечение специалистов в той или иной области права должно быть ограничено усмотрением суда, а мнения ученых не могут рассматриваться в качестве источника доказательств и не должны связывать судей в их решении. То есть процессуальное законодательство не претерпевало бы здесь изменения, если не считать возможности специального указания на необходимость привлечения ученых-юристов для дачи заключения по правовым вопросам. В соответствии с новым законодательством такая практика утвердилась в Конституционном Суде России.
Иногда, к сожалению не так часто, фигурируют высказанные в литературе мнения по тому или иному вопросу крупными российскими учеными. Безусловно, что и суд при вынесении решения может вместе с законом руководствоваться какой-то научной доктриной. Речь может не идти об указании ее в решении или приговоре по делу, ибо достаточно ссылки на применяемый закон, но было бы более убедительным, а в воспитательных целях более целесообразным, если бы участники процесса чувствовали научную обоснованность каждого судебного акта. Помимо всего прочего это стимулировало бы практических работников к повышению своего образовательного уровня, а научных работников — к еще большему увязыванию своих исследований с интересами и запросами практики, повышало бы их ответственность за свои научные рекомендации.
§ 4. Нормативное и казуальное толкование
В зависимости от сферы действия актов разъяснения правовых норм в литературе проводится деление толкования на нормативное и казуальное. Нормативным толкованием считается то, результаты которого распространяются на неопределенный круг лиц и случаев, т. е. такое толкование, которое, подобно норме права, имеет общий характер (общее действие). Казуальным толкованием называют разъяснение нормативного акта, обязательное для одного конкретного случая.
Эта общепринятая классификация нуждается, с нашей точки зрения, в некотором уточнении по существу.
Представляется, что толкование правовой нормы, каким бы оно ци было, всегда имеет характер всеобщности и в своем использовании никогда не может быть ограничено одним случаем. Всякое разъяснение правовой нормы действует одновременно с ней, коль скоро это разъяснение отражает подлинное содержание толкуемой нормы.
Нормативное толкование правовых актов дается на основе широкого изучения и обобщения юридической практики. Оно более “авторитетное” в этом отношении, нежели казуальное, так как последнее основывается на ограниченном материале. То и другое тесно связаны между собой не только потому, что практика является побудительной причиной их появления, но и главным образом потому, что нормативное и казуальное толкование имеют один объект: правовой акт, правовые нормы. Как нормативное, так и казуальное толкование может быть официальным и неофициальным.
Нормативное толкование правовой нормы не “привязывается” к одному какому-либо случаю. Оно подается в общей форме, как бы отвлеченно от конкретных юридических дел. Субъект нормативного разъяснения, основываясь на собственном убеждении, учитывая имеющиеся мнения и сложившуюся практику, преследует цель обеспечения в дальнейшем единообразного понимания и применения закона.
В российском законодательстве и юридической литературе нет ответа на вопрос, распространяются ли результаты толкования на предшествующие решения правоприменительных органов. Эта проблема имеет огромное практическое значение. Ведь до появления соответствующих разъяснений могли быть и, как правило, имеют место решения, основанное на неверном понимании содержания правовых норм.
Представляется, что одна из целей нормативного толкования должна состоять в корректировании решений, не основанных на законе. Принцип законности требует всегда восстановления нарушенных прав и обеспечения законных интересов субъектов права. Акты нормативного толкования без каких-либо изъятий должны действовать с обратной силой. Такое положение одновременно способствует искоренению той практики, когда под видом официального нормативного толкования создаются новые правовые нормы.
Таким образом, практические органы с появлением акта нормативного толкования должны вновь обратиться к тем делам, которые ими или их поднадзорными органами были разрешены на основе разъясняемых правовых норм. При несоответствии состоявшихся решений результатам толкования должны быть приняты немедленные меры (если это возможно по обстоятельствам дела) к восстановлению нарушенной законности.
Особо следует сказать о конституционном полномочии Конституционного Суда России давать толкование Конституции Российской Федерации. Это толкование является официальным нормативным разъяснением, обязательным для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. При этом следует согласиться с комментаторами соответствующих норм закона в том, что акты или отдельные их положения, основанные на интерпретации конституционных норм, противоречащей толкованию Конституционным Судом, подлежат пересмотру издавшими их органами и должностными лицами. Толкование, данное Конституционным Судом, может явиться основанием для судебного обжалования всех решений и действий, которые такому толкованию не соответствовали[352].
При казуальном толковании в отличие от нормативного в едином интеллектуально-волевом акте увязывается уяснение содержания правовых норм с объяснением конкретных субъективных прав и юридических обязанностей. В этом отношении акты казуального толкования богаче по содержанию и доступнее для практического использования. Вынося решение, правоприменитель объясняет (не всегда в ярко выраженной форме) содержание правового акта, указывая вид и меру возможного и должного поведения конкретных лиц. Типичность ситуаций, предусмотренных нормативным актом, позволяет и допускает использование результатов казуального толкования при решении аналогичных дел, обеспечивая тем самым единство судебной практики.
Представляется неточным ограничение действия казуального толкования одним случаем. Это верно в известной степени по отношению к той части, в какой разъясняются конкретные субъективные права и обязанности. Однако дать толкование правовой нормы, подходящее только к одному случаю, и неверно, и незаконно, поскольку норма всегда рассчитана на ряд однородных случаев. Сказать, что-то или иное толкование акта подходит к данным обстоятельствам и не может подойти к другим, квалифицируемым по тому же акту, — значит утверждать о двусмысленности закона. Если в практике встречаются отношения, требующие специфического, только для них подходящего истолкования закона, они или выходят за рамки правового регулирования или свидетельствуют о пробеле в праве. В интересах законности следует пресекать такого рода “толкование” и использовать здесь иные средства.
Наиболее типичным видом казуального толкования является то, которое дается при рассмотрении уголовных и гражданских дел в суде. Обратимся к его подробному рассмотрению.
Судебное казуальное толкование в России представляет собой разъяснение права, осуществляемое в ходе рассмотрения уголовных дел и споров о праве гражданском. В отличие от нормативного толкования, где разъяснение правовой нормы выступает если не как самоцель, то во всяком случае на первом плане, казуальное толкование подчинено иной главной задаче — правильному решению конкретного дела. Смещение акцентов в постановке целей того и другого вида толкования не должно вводить нас в заблуждение относительно их общей роли. Результаты нормативного и казуального толкования одинаково принимаются во внимание практическими Работниками и используются в решении юридических дел наряду с законом.
Казуальное толкование правовых норм производится уже в суде первой инстанции. Суд, обосновывая свое решение, показывает сторонам и всем гражданам, как надо понимать закон. Известно, что толкование закона в судебном решении может расходиться с теми мнениями относительно смысла правовых требований, которые высказывались до и в ходе судебного разбирательства. Однако в выносимом судом первой инстанции акте толкование, как правило, не обособляется, не получает законченного выражения.
Цель разъяснения смысла правовой нормы получает большее оформление в судах кассационной и надзорной инстанций. Одним из оснований отмены решений суда первой инстанции в кассационном, например, порядке является нарушение или неправильное применение им норм материального или процессуального права. Кассационная инстанция может при этом разъяснить юридическую основу дела и в тех случаях, когда суд не применил закон, подлежащий применению (либо, наоборот, применил закон, не подлежащий применению), или неправильно истолковал закон.
Если фактические обстоятельства дела установлены судом первой инстанции полно и правильно, но допущена ошибка в применении норм материального права, кассационная инстанция полномочна изменить решение или вынести новое без передачи дела на новое рассмотрение. Это лишний раз свидетельствует об относительной самостоятельности юридической стороны дела от фактической. Но в случаях возвращения дела на новое рассмотрение суд, рассматривающий дело в кассационном порядке, не вправе устанавливать, какая норма материального права должна быть применена при новом рассмотрении. Данное законодательное ограничение связано с тем, что при новом рассмотрении дела всегда могут открыться и новые обстоятельства, могущие повлечь иную юридическую квалификацию. Поскольку суд первой инстанции всегда связан указаниями кассационного суда, среди последних не должно быть таких, которые сковывали бы инициативу в исследовании дополнительных или вновь открывшихся обстоятельств по делу.
В определении кассационной инстанции в обязательном порядке содержатся мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка на законы, которыми он руководствовался. Это и есть та часть в данном судебном решении, где оформлены результаты казуального толкования права. Разумеется, они вместе с другими указаниями, содержащимися в определении, обязательны для суда, вновь рассматривающего данное дело.
Среди научных и практических работников укрепилось мнение, что указания кассационной и надзорной инстанции имеют значение только для одного вполне определенного дела. Это верно лишь отчасти. В том, что касается толкования примененной в данном деле нормы, они имеют более широкое значение. Следование на практике соответствующим указаниям вышестоящих судебных инстанций, хотя бы они и были сделаны в связи с рассмотрением конкретного дела, оправдано и теоретически. В интересах обеспечения принципа единства законности нельзя допустить того, например, чтобы в Калуге ношение обрезов из охотничьего ружья каралось, а в Казани в то же самое время дозволялось, да еще тем же самым законом. Правосудие представляет собой цельную, единую систему, и потому любое действующее решение одного суда в известном смысле должно связывать решение другого.
Казуальное разъяснение закона приобретает иногда решающее значение в юридической квалификации. Это происходит в силу того, что правовые нормы в практике могут получать различное понимание, а нормативное разъяснение может какое-то время отсутствовать. В подобной ситуации мотивировочная часть судебного решения должна, по нашему мнению, содержать ссылку не только на закон, но и на акт казуального толкования закона.
Нельзя считать вполне нормальным явлением такое положение дела, когда суд фактически руководствуется имеющимся казуальным разъяснением, но в решении умалчивает об этом. Российское законодательство не запрещает суду ссылаться на изданные в официальном порядке акты толкования правовых норм.
Новаторской в этом отношении является практика Конституционного Суда России. В соответствии со ст. 43 Федерального конституционного закона “О Конституционном Суде Российской Федерации” этот орган отказывает в принятии обращения к рассмотрению в случае, если по предмету обращения им ранее было вынесено постановление, сохраняющее свою силу. В своем Определении по жалобе гражданина Г. на нарушение его конституционных прав п. 1 ч. 2 ст. 122 ГПК РСФСР от 4 июня 1998 г. Конституционный Суд, отказывая в принятии жалобы к рассмотрению, сослался на свое толкование ст. 123 ГПК, закрепленное в постановлении от 16 марта 1998 г. по делу о проверке конституционности ст. 44 УПК РСФСР и ст. 123 ГПК РСФСР, и без рассмотрения дела, по существу, признал п. 1 ч. 2 ст. 123 ГПК не соответствующим Конституции[353].
Общий подход Конституционного Суда по поводу значения и роли казуального толкования права подкрепляет нашу теоретическую позицию. И если, например, правило об освобождении должностных лиц лишь с согласия органа законодательной власти признано им неконституционным по делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного закона) Алтайского края (постановление от 1 февраля 1996 г.), то и уставы всех других субъектов Российской Федерации должны быть приведены в этом плане в соответствие с Конституцией. На такого рода прецеденты содержатся ссылки в самых разных официальных документах.
Глава 4. Законность и правопорядок
§ 1. Понятие законности, ее место в жизни общества
Законность — явление многоплановое, емкое. Поэтому распространены многочисленные определения, раскрывающие тот или иной аспект законности, ту или иную ее связь с социальными процессами: это и принцип деятельности государственных органов, и своеобразный политико-правовой режим общественной жизни, и строгое требование соблюдения законов.
Появление законности вплетается в процессы происхождения права и государства: ее природа напрямую связана с законотворческой деятельностью.
Но под законностью следует понимать не законы, не их совокупность и даже не управление обществом с помощью законов, хотя последнее понимание очень тесно соприкасается с режимом законности. Да, если нет законов, то и о законности речи не будет. Законы — основа законности. Управление людьми посредством издания законов, содержащих общие правила поведения, обязательные для исполнения, — альфа и омега законности. Но очень часто в истории случалось так, что законы издавались, а законности никакой или почти никакой не было.
Нельзя отождествлять законность и с деятельностью людей, с их правомерными поступками, с их отношениями, развивающимися на основе и в рамках закона. Тем самым мы будем отождествлять законность с правовым порядком. Именно правопорядок определяют обычно как совокупность правовых отношений, складывающихся на основе законности; как порядок в отношениях людей, базирующийся на законах и их строгом выполнении. Не случайно в официальных статьях и докладах, да и в научной литературе всегда ведут речь об укреплении одновременно законности и правопорядка.
Законность — это совокупность многообразных, но одноплановых требований, связанных с отношением к законам и к проведению их в жизнь. Главные из них следующие: во- первых, требование точного и неуклонного соблюдения законов теми, кому они адресованы. Во-вторых, требование соблюдать иерархию законов и иных нормативных актов. В-третьих, законность включает в себя непререкаемость закона, т. е. требование того, чтобы никто не мог отменить закон, кроме органа, который его издал.
Перечисленные требования составляют содержание законности. Они могут быть сформулированы непосредственно в законах, провозглашаться официальными властями или выражаться как-то иначе. Если они только провозглашаются, но не выполняются, то законность будет формальная. Если названные требования проводятся в деле (независимо от того, как они выражены и как часто о них говорят), законность будет реальная.
Трудно представить себе государство, которое обходилось бы без законов, хотя история знает времена, когда государство ориентировалось преимущественно на использование силы, а не на право (когда гремит оружие, законы молчат). Однако в так называемом полицейском государстве даже при наличии законов власти всегда могут отбросить законность и начать управлять с помощью подзаконных (часто полусекретных) актов и основанных на них дискреционных полномочий должностных лиц государства. В лучшем случае в таком государстве устанавливается режим формальной законности.
Прослеживая связь государства и законности, можно констатировать наиболее органичное соединение режима законности с демократией, с деятельностью правового государства, в котором все органы власти не просто подчинены закону, но видят свое назначение в проведении законов в жизнь.
Законность означает совокупность требований, за отступление от которых наступает юридическая ответственность. По тому, какова она (строгая, формальная и т. п.), можно судить о состоянии режима законности.
В демократическом государстве все равны перед законом и, следовательно, несут равные обязанности и подлежат равной ответственности за нарушение законности. Связь законности с демократией состоит также и в том, что сами законы и требование их соблюдения выражают волю большинства народа, что проведение законов в жизнь проходит под контролем народа.
Законность, в свою очередь, служит утверждению демократии. Она охраняет демократические права граждан, общественных движений и организаций; обеспечивает приоритетное значение парламентских актов; гарантирует соблюдение должных демократических процедур как в правотворческой, так и в правоприменительной деятельности государства.
Законность как политико-правовой режим демократического государства предполагает такой образ взаимоотношений органов государства с населением, при котором поведение строится на основе закона, обязанность соблюдать законы лежит на той и другой стороне, а юридическая ответственность за ее неисполнение следует неотвратимо, независимо от положения властвующего или подвластного субъекта.
Связь законности с политикой (политическим режимом) проистекает из взаимосвязи закона и политики. Сегодня еще далеко не все ясно в их соотношении. Не может, в частности, не смущать попытка некоторых авторов судить о законности в прошлом с позиций современных политических подходов. Пока не опровергнута формула о том, что в законах всегда воплощалась, воплощается и будет воплощаться определенная политика господствующих сил, требование точного и неуклонного соблюдения законов будет расцениваться как требование соответствующей политики. Нельзя осуждать принятие каких- либо законов и их выполнение без осуждения той политической линии, которая их освящала. Другими словами, в интерпретации связей политики, права и законности необходим конкретно-исторический подход.
При характеристике содержания законности неизбежно встает вопрос: означает ли законность требование соблюдения только закона или также и других нормативных актов? Здесь не место какой-либо двусмысленности и тем более вуалированию сути дела с помощью терминологических ухищрений. Обычно имеется в виду включение в термин “законодательство” постановлений правительства. Для каких-то целей допустимо широкое понимание законодательства, когда в него включаются все нормативные акты. Но если речь идет о соотношении актов, об их юридической силе, об их иерархии и требованиях первоочередного исполнения и соблюдения, то о законах надо вести речь только как об актах высших органов государственной власти. Их совокупность образует законодательство в строгом смысле этого слова. Законность требует исполнения законов.
Однако точку здесь ставить не следует. Если какой-то орган принимает подзаконный акт в соответствии с законом, на его основе и не выходит за рамки законных полномочий, то это, во-первых, одно из требований законности, а во-вторых, при таком положении дел законность требует соблюдения и исполнения в том числе и подзаконного акта. Нужно отдавать отчет в том, что посредством законов всех вопросов не решить, все отношения не урегулировать. Правительственные акты, некоторые приказы и инструкции ведомств сохранят свое позитивное значение, если они не будут подменять закон, обходить его или расходиться с ним. Такое возможно при наведении должного порядка в разработке и принятии подзаконных актов, контроле за ними со стороны компетентных органов.
В уяснении режима законности важную роль могут сыграть понятия “субъект законности” и “объект законности” В отличие от субъектов законотворчества (правотворчества) субъектами законности выступают не только государственные органы и должностные лица. Ими оказываются на равных правах граждане и их общественные формирования. Другими словами, это все те, кто предъявляет требования строгого выполнения законодательных предписаний. Граждане могут предъявить такие требования к должностным лицам и органам управления даже через суд. Субъектами законности оказываются, таким образом, все носители субъективных прав, а также те должностные лица и органы государства, на ком лежит такая специальная обязанность. (Но есть и иное мнение, согласно которому субъектами законности являются государственные органы, общественные организации, должностные лица. Гражданам же отводится другая роль: они могут участвовать в выявлении нарушений законности, способствовать ее обеспечению, упрочению.)
Объектом законности (как совокупности соответствующих требований) является поведение (сознание, воля, поступок) юридически обязанных лиц.
Еще один трудный вопрос — разграничение законности и дисциплины. Это два перекрещивающихся явления. С одной стороны, законность является частью государственной дисциплины (такой ее разновидности, как служебная). Все требования законности, обращенные к государственным служащим, составляют одновременно и содержание дисциплины. С другой стороны, последняя включает в себя и некоторые сугубо моральные требования, не закрепленные непосредственно в нормах права.
§ 2. Гарантии законности
Под гарантиями законности понимаются взятые в системе объективно сложившиеся факторы и специально предпринимаемые меры упрочения режима точного и неуклонного воплощения требований закона в жизнь (рис. 1 и 2 дают о них наглядное представление).
Важно подчеркнуть одно: действенность соответствующих гарантий достигается только в их взаимосвязи, в их единстве, в системе. В начальный период перестройки нашего общества полагали, будто главное дело состоит в перестройке мышления. Затем было замечено отсутствие экономических гарантий. Впоследствии с особой остротой встали вопросы преобразования политической системы. С созданием новых органов государственной власти начали уделять внимание законодательству. Тогда же в выступлениях отдельных народных депутатов прозвучала тревога по поводу низкого уровня правовой культуры. И наконец, встал вопрос о необходимости уделять внимание организационным мерам проведения законов в жизнь.
§ 3. Законность и целесообразность
В разное время в том или ином обществе, в той или другой стране, в особенности в периоды крутой ломки производственных отношений, обострялась проблема соотношения законности и целесообразности. Это и понятно. Законотворчество не успевает за коренными изменениями в общественных отношениях. Законы оказываются вдруг пробельными, несовершенными. А главное — они перестают удовлетворять новые общественные силы. Они начинают отягощать новую политику. Политики, некоторые юристы предлагают отбросить в сторону законы, решать вопросы (юридические дела) свободно, исходя из жизненных потребностей, интересов сторон, Собственного понимания справедливости и т. п. Сто лет назад, на рубеже веков, в таких условиях в Европе сформировалась школа “свободного права” Нечто похожее можно было наблюдать и у нас. Старые нормативные акты (в особенности ведомственные) часто тормозят поступательный ход к новому обществу, а новые находятся в состоянии становления и не всегда по своему качеству отвечают потребностям решительных преобразований.
В принципе отход от законности нельзя обосновать ссылками на целесообразность. Российские юристы, по существу, были едины в том, что самое целесообразное решение — это решение, основанное на законе, и вопрос о целесообразности может ставиться только в рамках закона.
Однако вопрос о соотношении законности и целесообразности не так прост, как может показаться. Его нельзя решать вне исторических рамок, без учета конкретных условий жизни общества. Есть яркие примеры того, как в интересах народа, во имя великих идей судьи и администраторы руководствовались именно целесообразностью, а не “мертвой буквой статьи закона” Истории известно и другое: некоторые люди сознательно лишали себя различных выгод и даже шли на смерть во имя торжества законности и порядка. “Пусть гибнет мир, да свершится юстиция” — это тот самый принцип, который обязывает падать ниц перед любым законом.
Если смотреть на историю нашей страны после Октября, на противостояние двух отмеченных позиций, то сегодня все более очевидной становится драма того времени, имеющая столь неблагоприятные последствия.
В условиях открытого противостояния борющихся сторон сама жизнь заставляет молчать многие законы. Поэтому в таких военных условиях с юридической точки зрения наилучшим выходом из ситуации, на наш взгляд, является приостановление действия отдельных норм (актов) вплоть до установления мира-
В мирных условиях наилучший путь разрешения конфликта состоит в своевременном пересмотре правовых норм, если вытекающие из них последствия приобретают отрицательную окраску по причине конфликта с целесообразностью.
И сегодня приводится много аргументов как в пользу принципа законности, так и за “целесообразность” решения вопреки конкретному закону. Сторонников законности всегда отпугивал произвол суда и администрации при допущении малейшей возможности отхода от закона. Приверженцев целесообразности отталкивает бездушное понимание правовой нормы, “правильное по закону, а по существу издевательское” Часто разногласия между теми и другими являются мнимыми. В некоторых случаях требование обоснованного применения правовых норм приобретает самостоятельное значение. Это проявляется именно там, где сам закон позволяет, не выходя за его рамки, учитывать соображения целесообразности. Нормативный акт, как правило, предполагает один выход в смысле юридической квалификации соответствующих обстоятельств, но в смысле юридических последствий и их меры чаще предоставляет возможность выбора наиболее целесообразного решения.
О самостоятельном месте целесообразности в области исполнения закона свидетельствует большая свобода администрации в определении условий и собственного образа действий. Правоконкретизирующая деятельность и деятельность при пробеле в праве, а также применение компетенционных норм требуют повышенного внимания с точки зрения обеспечения практической целесообразности. Последняя, однако, ни в какой мере не должна противоречить законности.
Целесообразность вступает в противоречие с законностью при некоторых несовершенствах нормативных установлений: их устарелости, ошибках в праве и пр. Именно здесь спор о том, чему отдать предпочтение, является реальным, а решить его, как замечено выше, нельзя без учета самых различных факторов. Среди них отметим:
а) уровень законодательных работ и степень совершенства законодательства;
б) уровень общей культуры и специальной подготовки применяющих право;
в) единство целей законодательной и правоприменительной практики;
г) степень доверия правоприменителю со стороны законодателя и со стороны граждан;
д) эффективность контрольно-надзорных мер в сфере Применения права.
Коль скоро общество управляется с помощью предписаний общего характера, имеющих общеобязательное значение, особый вес приобретает ценность законности. Допущение отхода от принятых законов и обхода или нарушения их под предлогом целесообразности всегда чревато серьезной угрозой правовому порядку в целом. Поэтому законы считаются целесообразными и подлежащими обязательной реализации вплоть до их отмены, дополнения или изменения. Принятие данного положения налагает обязанность на соответствующие органы осуществлять строгий контроль за соблюдением законности. Но еще в большей мере это налагает обязанность на нормотворческие органы вовремя устранять возможные расхождения права и жизни.
§ 4. О единстве законности
В советской литературе принцип единства законности освещался в духе ленинского письма “О “двойном” подчинении и законности”[354], написанном в мае 1922 г., еще до образования СССР.
Но очевидно, что постановка вопроса о преодолении местной законности в унитарном государстве — это одно,_а требование единой законности в федеративном государстве, в которое входят суверенные республики, — нечто иное. Проблема приобретает сегодня большую политическую остроту в связи с широкими движениями в субъектах Российской Федерации за утверждение своих суверенных прав, гармонизацию отношений, преодоление неоправданного командования, устранение бюрократизма и т. д.
Что можно сказать в этой связи?
Во-первых, нельзя забывать о теории вопроса. Если не сводить законность к законодательству (оно, естественно, может быть различным), а видеть в ней особый правовой режим, совокупность требований точного и неуклонного проведения установлений законодателя в жизнь, то, надо полагать, законность должна быть единой во всей федерации в целом и в каждой ее составной части в отдельности.
Во-вторых, единство законности следует связывать с компетенцией государственной власти в лице ее органов и компетенцией, осуществляемой органами власти субъектов федерации. Требования законности едины (одинаковы) по отношению к федеральным органам, обязанным соблюдать не только общефедеральные законы, но и законы субъектов федерации, и к органам последних, которые призваны следовать не только собственным законам, но и законам федерации.
Закон теряет юридическую силу, если он издан в нарушение компетенции федерального органа или органа субъекта федерации. При коллизиях нормативно-правовых актов приходится выяснять правовую силу акта. Высшей юридической силой по вопросам, отнесенным к ведению федеральных органов, обладают их законы. Далее идут законы субъектов федерации, которые регулируют общественные отношения в соответствии с федеральными законами. По вопросам, отнесенным к исключительному ведению субъектов федерации, нет актов более высокой юридической силы, чем их закон. Акты центрального правительства по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции федерации, бесспорно, обладают более высокой юридической силой, чем законы субъектов федерации, а в вопросах совместной компетенции их можно ставить на один уровень. Общее правило таково, что акты органов управления — правительства, министерств и ведомств, исполнительных органов местной власти — являются подзаконными и уступают по своей юридической силе актам органов законодательной власти.
К сожалению, ставшая теперь историей практика государственного управления в СССР знала немало примеров того, как союзные министерства и ведомства бесцеремонно игнорировали суверенные права республик и компетенцию их высших органов государственной власти. Это способствовало общей тенденции подмены Советов подотчетными им органами управления.
В качестве ответной реакции наблюдались столь же пагубные стремления противопоставить законодательство республики федеральным законам.
В цивилизованных федеративных государствах разработана система мер и государственно-правовых механизмов как для защиты прав членов федерации, так и для предотвращения случаев злоупотребления данными правами, обеспечения единства правовой системы, защиты конституционных прав и законных интересов граждан.
В федеративных отношениях всегда актуальна степень единства самих законов, единства правового регулирования. Скажем, принимаются законы о гражданстве. Если не учитывать ситуацию единого государства и единого гражданства, то можно принять такие положения, которые заведут практические органы и прежде всего самих граждан в такой тупик, из которого без потерь не выбраться. Так, одни члены федерации могут признать гражданами только тех, кто родился на их территории; другие — детей, чьи родители являются гражданами независимо от места их проживания; третьи — будут устанавливать гражданство ребенка в зависимости от гражданства одного родителя и т. д. Кто-то установит ценз оседлости, кто-то — ценз грамотности или владения языком. Отсюда появятся лица с двойным и тройным гражданством, лица без гражданства данной земли (штата, республики), но с гражданством другой, лица без гражданства вообще. Все это в итоге будет напоминать времена общей феодальной раздробленности, приведет к затруднению связей (экономических, культурных, политических), к ущемлению прав человека.
К достижению единства законодательного регулирования (если признать это объективной необходимостью) ведут два пути. Первый — принятие всеми членами федерации одинаковых законов, исключающих коллизии в общественных отношениях и в применении права. Но для этого потребовалась бы кропотливая совместная работа над проектами, ведущая фактически к созданию одного акта (если иметь в виду его содержательную сторону). Второй — принятие единого федерального закона, обеспечивающего единство регулирования всех общественных отношений.
Есть и третий путь — когда за федеральной властью остается право издавать основы законодательства, а за членами федерации — кодексы или конкретные законы, учитывающие специфику отношений, обусловленную национальными или региональными особенностями.
Следить за единством законности в нормотворческой деятельности призван Конституционный Суд.
Единство законности в сфере реализации права призваны обеспечивать суды своей правоприменительной практикой и те органы, в чью обязанность входит дача руководящих разъяснений законодательства. По-видимому, эту функцию выполняют вообще все органы, которые имеют право на официальное толкование правовых актов.
Принцип единства законности может служить укреплению реакционных политических режимов и административно- командных систем. Сама законность использовалась где-то как способ утверждения авторитарной бюрократии. Каковы законы, такова и законность. Поэтому роль этого принципа коренным образом меняется с установлением гуманного, справедливого и демократического законодательства.
§ 5. Правовой порядок
Результатом воздействия права на общественные отношения, итогом его действия и реализации конкретных правовых норм является определенный порядок в общественных отношениях. По существу, идет речь о правовом порядке.
Правовой порядок — органическая составляющая общественного порядка. Причем последний следует понимать не как простую совокупность общественных отношений, а как их определенное качество, как определенное состояние системы общественных отношений.
Общественный порядок — это определенное качество (свойство) системы общественных отношений, состоящее в такой упорядоченности социальных связей, которая ведет к согласованности и ритмичности общественной жизни, беспрепятственному осуществлению участниками общественных отношений своих прав и обязанностей и защищенности их обоснованных интересов, общественному и личному спокойствию.
Состояние общественного порядка по большому счету обусловлено образом жизни людей во всех его проявлениях, имея в виду прежде всего реализацию способностей людей к созданию и потреблению материальных и духовных ценностей.
Общественный порядок входит в содержание образа жизни, активно влияет на него изнутри и формирует его общий облик. В образ жизни входят и способы установления общественного порядка, его охраны и организации. Они также испытывают на себе влияние (и сами оказывают обратное воздействие) со стороны иных компонентов образа жизни.
В чем усматривается водораздел (если можно так сказать о соотношении целого и части) между образом жизни и общественным порядком?
Образ жизни включает в себя формы и способы, направленность и порядок осуществления индивидуальной деятельности человека. И только тогда, когда эта деятельность входит в соприкосновение с интересами и действиями других индивидов, может идти речь об общественном порядке. Последний сориентирован на коллективные формы жизнедеятельности. Каждый индивид может по-разному реализовывать способности, создавать и потреблять ценности, и далеко не всегда это соответствует интересам общественного порядка.
В литературе если и сопоставляются образ жизни с общественным порядком, то говорят о последнем в так называемом узком смысле, сводя его обычно к совокупности (системе, сфере) отношений в общественных местах. Вне структуры общественного порядка при таком подходе оказываются многие отношения, складывающиеся, например, в сфере производственной деятельности, эксплуатации транспорта, охраны природы и т. д. При этом узкое понимание общественного порядка аргументируется необходимостью уточнения задач и компетенции органов и организаций, осуществляющих правоохранительные функции.
Понятие общественного порядка в узком смысле весьма условно. Оно во многом носит конвенциональный характер и служит прагматическим целям.
В общей теории права и государства общественный порядок мыслится широко и отражает состояние упорядоченности социальных связей и индивидуального поведения вне зависимости от места и в любой сфере социальной деятельности.
Придание коллективным формам жизнедеятельности людей качества нормального общественного порядка производится в форме правопорядка.
Правовой порядок — часть и одновременно правовая форма образа жизни. По существу, речь идет о правовом опосредовании (правовых аспектах) отдельных сторон, форм и методов жизнедеятельности.
Правопорядок составляет сердцевину общественного порядка, в каком бы смысле (широком или узком) последний ни рассматривался, и характеризует в нем те свойства упорядоченности, которые являются результатом действия (реализации) права и законности.
Такое понимание правопорядка, с одной стороны, удовлетворяет общему пониманию порядка как чего-то правильного, отлаженного, организованного. С другой стороны, термин “правовой порядок” (или “правопорядок”) применяется для характеристики состояния организованности, упорядоченности правовых отношений, которое возникает в результате их регламентации правовыми нормами и реализации данных норм. Правопорядок в обществе достигается тогда, когда деятельность всех субъектов права является правомерной, когда надлежащим образом осуществляются субъективные права и исполняются юридические обязанности, т. е. когда субъекты права совершают обязательные или дозволенные действия либо воздерживаются от совершения запрещенных действий.
Правопорядок — не просто совокупность правовых отношений (хотя и в таком понимании просматривается организованность и правильность этих отношений), но определенное качество этих правовых отношений, имея в виду их внутреннее единство и согласованность.
Правопорядок — реализованная законность. Это итог правового регулирования, его реализованная цель. Прочность правопорядка, его стабильность и нерушимость обеспечиваются не формальной, а реальной законностью. В свою очередь, правопорядок обусловливает содержание законотворческой деятельности, правовой характер законов.
Глава 5. Правонарушение и юридическая ответственность
§ 1. Понятие, виды и причины правонарушений
Правонарушения составляют лишь часть правового поведения. Последнее охватывает как правомерное, так и неправомерное поведение. Юридически безразличное поведение для права прямого интереса не представляет. Правовое поведение в целом определяют как социально значимое и подконтрольное сознанию и воле поведение индивидуальных и коллективных субъектов, предусмотренное правом и влекущее правовые последствия.
Правонарушение — это виновное противоправное и вредоносное поведение деликтоспособных лиц, влекущее юридическую ответственность[355].
Правонарушение — это поведенческий акт, это активное действие, но в некоторых случаях и бездействие (например, неоказание помощи, неисполнение должностным лицом возложенных на него служебных обязанностей, неисполнение условий договора и т. п.). Событие, как юридический факт, влечет за собой известные юридические последствия, но даже если оно повлекло за собой, к примеру, гибель людей или имущества, оно не является правонарушением, так как не идет речь о поступках людей.
Правонарушением нарушаются нормы права. Это деяние, запрещенное нормами права, противоправное. Поведение, не соответствующее иным социальным нормам — нравственным, корпоративным, обычным, не будет являться правонарушением, если оно одновременно не запрещено правовыми нормами, если оно уходит в юридически безразличное поведение.
Правонарушение причиняет вред охраняемым правом общественным отношениям, ущемляет субъективные права Участников правоотношения, т. е. это деяние вредное и в силу этого в большей или меньшей степени общественно опасное.
Правонарушение — это виновное деяние. Лицо должно сознавать, что оно действует противоправно. Если оно не осознает вредоносности и общественной опасности своих поступков в силу малолетства, невменяемости либо других обстоятельств, то не будет и правонарушения.
Правонарушение — это деяние лица, способного нести юридическую ответственность, деликтоспособного лица. Нести ответственность за совершенное преступление может человек, достигший определенного возраста. Деликтоспособность организаций наступает, как правило, с момента учреждения (регистрации).
За совершение правонарушения лицо обязано претерпеть определенные неблагоприятные последствия в основном личного или имущественного характера, т. е. понести юридическую ответственность.
Юридически значимые признаки правонарушения обобщаются в понятии “юридический состав правонарушения”
По степени общественной опасности правонарушения подразделяют на преступления и проступки.
Преступление — это виновное противоправное поведение, нарушающее нормы уголовного права и наносящее ущерб самым существенным общественным отношениям. “Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания” (ч. 1 ст. 14 УК РФ).
Преступление — наиболее серьезный вид правонарушений, обладающий самой высокой степенью общественной опасности, поэтому его совершение влечет применение мер уголовного наказания.
Проступки — это все остальные правонарушения, не признанные преступлениями. Они характеризуются меньшей степенью общественной опасности. Правда, некоторые ученые признают свойство общественной опасности только за преступлениями.
Отнесение того или иного деяния к преступлению или к проступку во многом зависит от того, насколько большой вред усмотрел законодатель в том или ином варианте поведения, каков характер этого вреда и насколько острой является потребность в борьбе с таким видом противоправного поведения.
В зависимости от того, в какой сфере жизни проступки были совершены, от вида нарушенных норм права, от характера нанесенного вреда и применяемых к нарушителю санкций выделяют следующие их виды.
Гражданско-правовые проступки — это правонарушения, наносящие вред урегулированным нормами гражданского права имущественным и связанным с ними личным отношениям, а также отношениям, урегулированным определенными нормами трудового, семейного, аграрного права. В отличие от преступлений в законодательстве не содержится определения и исчерпывающего перечня гражданских правонарушений.
Административно-правовые проступки — это правонарушения, наносящие вред общественным отношениям в области государственного управления, которые урегулированы нормами административного, финансового, земельного и некоторых других отраслей права. Административные проступки мешают нормальной исполнительной и распорядительной деятельности государственных органов, посягают на общественный порядок, права и законные интересы граждан.
Дисциплинарные проступки — это правонарушения, наносящие вред внутреннему порядку деятельности предприятий, учреждений, организаций. Они подрывают служебную, воинскую, производственную дисциплину и наносят вред нормальному функционированию соответствующих организаций.
Все правонарушения — явления для общества крайне нежелательные. Поэтому общество и государство стремятся к их ликвидации. Сегодня признано, что полного искоренения преступлений, не говоря уже о других правонарушениях, ожидать трудно. Но для успешной борьбы с ними необходимо знать их причины — те обстоятельства, наличие которых обусловливает существование правонарушений.
Определение причин преступности и правонарушаемости вообще — проблема серьезных научных исследований. Окончательных выводов по этому вопросу нет, да и не может быть, так как в разное время в разных странах у разных народов существует своя система многообразных материальных, духовных и социальных факторов, выступающих в своей совокупности причиной определенной разновидности правонарушений. Однако тот же многовековой и многообразный опыт борьбы с правонарушениями дает возможность для обобщений.
Даже если правонарушения отличаются разнообразием по видам, по тяжести последствий, мотивам совершения и т. д., они имеют общие признаки, что дает возможность исследовать не только отдельные виды правонарушений, но и всю их совокупность, изучать наиболее принципиальные причины их совершения. Применительно к преступлениям сформировалась специальная наука — криминология, возникновение которой иногда связывают с опубликованием в 1876 г. работы Ч. Ломброзо “Преступный человек”. В ней утверждалось, что существуют прирожденные преступники, поведение которых обусловлено биологически. Они обладают специфическими внешними признаками (асимметрия черепа и лица, скошенный и низкий лоб, массивная нижняя челюсть, большие оттопыренные уши, косоглазие и др.) человека преступного типа, являются потенциальными преступниками. Такого рода крайность биологизации причин преступности на противоположном полюсе содержит другую — социализацию этих причин, когда никакие биологические факторы не принимаются во внимание, а все дело сводится исключительно к социальным обстоятельствам.
В настоящее время в криминологии не выработан единый методологический подход к исследованиям и даже в рамках одного из подходов существует множество различных теорий. Условно все криминологические учения о причинах преступного поведения можно разделить на две большие группы.
Представители первой говорят о том, что преступное поведение является результатом действия различных социальных факторов. Так, к примеру, сторонники теории “дифференциальной ассоциации” (или многообразия связей) утверждают, что преступление — процесс и результат “обучения” личности в микрогруппах — в семье, на улице, в трудовом коллективе и т. д., — если в контактах с учетом их частоты и длительности преобладают антиобщественные взгляды или виды поведения.
Представители другого направления выявления причин преступности в качестве факторов, порождающих преступное поведение, указывают в первую очередь на особенности психики человека. Еще Платон называл три человеческих свойства — яростный дух, склонность к удовольствиям и невежество — в качестве причины как легких, так и грубейших проступков. Последователи известного психоаналитика З. Фрейда говорят о том, что человек с рождения биологически обречен на борьбу антисоциальных глубинных инстинктов (агрессивных, половых, страха) с моральными установками личности. Лица, не сумевшие удержать подсознательные антисоциальные стремления, и совершают преступления. Теории наследственности объясняют существование преступности заложенной в хромосомах программой предрасположения к антисоциальному поведению, передаваемой по наследству. Сторонники теории конституционального предрасположения утверждают, что антисоциальное поведение человека обусловлено физиологической конституцией человека, так как есть связь между физиологическими особенностями и психологическими чертами личности. Это современный вариант антропологической школы в криминологии, основателем которой был Ч. Ломброзо.
Криминология получила определенное развитие и в бывшем СССР. Долгое время в ней господствовал единый методологический подход к общественным явлениям, основанный на марксизме-ленинизме, преимущественно в догматической его интерпретации. Были сделаны следующие основные выводы.
Преступность существовала не всегда, при первобытнообщинном строе ее не было, она появилась с возникновением частной собственности, с разделением общества на классы, с образованием таких социальных институтов, как государство и право. Преступность — исторически преходящее явление. Это неотъемлемая часть социальной действительности в эксплуататорских общественно-экономических формациях (рабовладельческой, феодальной и буржуазной). Экономически господствующий класс, развращенный частной собственностью, экономической и политической властью, не считается ни с какими запретами и совершает преступления. Отдельные представители эксплуатируемого класса вследствие своей нищеты для улучшения материального положения также вынуждены вести себя неправомерно. Одно из самых тяжких преступлений в обществе, расколотом на классы, — борьба эксплуатируемых масс за политическую власть, сопротивление угнетению.
Для того чтобы ликвидировать преступность как явление, необходимо устранить разделение общества на классы. Это положение обычно подтверждали цитатами из работ классиков марксизма-ленинизма, которые полагали, что решение проблемы преступности зависит от пролетарской революции. Уничтожив эксплуататорские классы и порождаемые ими социальные антагонизмы, революция подрубит самый корень преступности. “...Мы знаем, что коренная социальная причина эксцессов, состоящих в нарушении правил общежития, есть эксплуатация масс, нужда и нищета их. С устранением этой главной причины эксцессы неизбежно начнут отмирать’’[356].
Советские криминологи говорили о том, что в социалистическом обществе уничтожена социальная база преступлений, что они чужды природе социалистического строя и постепенно должны отмереть. Их временное сохранение обусловлено определенными факторами как объективного (трудности строительства нового общества), так и субъективного (существование в сознании части граждан антиобщественных установок, нравственных изъянов) характера. Выделялись и условия, способствующие сохранению и действию этих причин в социалистическом обществе. Это упущения в воспитательной работе, недостатки в хозяйственно-организаторской деятельности, несовершенство законодательства, недостатки в работе правоохранительных органов, влияние идеологического воздействия капиталистического мира и т. д. Однако в социалистическом обществе все противоречия носят неантагонистический характер и постепенно преодолеваются с укреплением материальной базы общества, повышением уровня жизни и культуры людей, совершенствованием правового регулирования и деятельности правоохранительных органов.
Было бы крайностью отвергать достижения советской криминологии, тем более что она часто опиралась на классические исследования в этой области. Так, например, самым трудным и самым верным средством предупреждения преступлений Ч. Беккариа считал усовершенствование воспитания, называя также просвещение, награждение добродетелей, свободу граждан и контроль за исполнителями законов.
Было бы несерьезно ожидать, что в настоящем курсе будут названы причины правонарушений в окончательном и завершенном виде. Преследуется прежде всего цель предупредить читателя о существовании утопических заключений на этот счет и о борьбе крайних позиций. При всей историчности классового подхода он также не исчерпывает всего содержания проблемы. Однако как бы то ни было, знание факторов, вызывающих противоправное поведение, определяет и средства их устранения. Поэтому уйти от ответов также нельзя.
По-видимому, следует поискать золотую середину. Человек — существо биосоциальное, т. е. одновременно и биологическое, и общественное, поэтому правонарушение вызывается факторами и биологического, и социального характера. В неустроенном обществе, в обществе с неразвитыми социальными институтами, в обществе неравенства и социальной несправедливости решающее значение имеют социальные факторы. В хорошо устроенном обществе приходится отыскивать иные решающие факторы.
Необходимо более четко разграничивать причины, условия и поводы правонарушения. Причина правонарушений — это негативное явление, их вызывающее. Условия правонарушений — это отрицательные обстоятельства, формирующие причину, влияющие на нее. Поводы — это отрицательные обстоятельства ситуативного характера, являющиеся толчком, стимулом для действия причины. Поводы провоцируют совершение правонарушения. Причина правонарушений — это стремление лица удовлетворить или проявить противоправным способом свои интересы, стремления, эмоции. Эта причина сопутствует всем правонарушениям в любое время, в любом обществе. Она существует объективно, так как объективны противоречия общественного развития. Условия правонарушений, формирующие причину, усиливающие или ослабляющие ее действие, крайне разнообразны, они зависят от конкретной социальной действительности того или иного общества.
Можно говорить о следующих условиях правонарушений современного российского общества: кризис власти, поляризация социальных интересов, низкий уровень материальной жизни населения, кризис морали, низкий уровень правовой культуры граждан, различные виды отклоняющегося поведения (речь идет прежде всего об алкоголизме и наркомании), несовершенство законодательства, недостаточно эффективная работа правоохранительных органов и др.
Борьба с правонарушениями включает два основных направления — предупреждение совершения правонарушений и последовательную реализацию юридической ответственности за уже совершенные правонарушения. Для того чтобы предупреждать правонарушения, необходимо воздействовать на их причины и условия, способствующие совершению правонарушений. Поскольку они представляют собой комплекс многообразных факторов, для их устранения необходимы не только специально-юридические меры (правотворчество, правоприменительная деятельность правоохранительных органов), но и социальные мероприятия. В современной России открываются возможности для подлинно научного анализа состояния и тенденций развития преступности, поскольку стала открытой статистика преступности, поскольку публикуются иные данные, имеющие к ней отношение, но остававшиеся долгое время закрытыми.
На VII Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями стратегии (меры) борьбы с преступностью были разделены на косвенные и прямые. К косвенным были отнесены те меры, которые направлены в целом на улучшение образа жизни населения, на решение социальных и экономических проблем: это обеспечение занятости, необходимых жилищных условий, питания, образования, пенсионного обеспечения, создание условий для полезного проведения свободного времени, особенно молодежью, сокращение безработицы. Сюда же относится создание социальных программ, направленных на обеспечение финансовой и иной помощи лицам, находящимся в тяжелом материальном положении, в том числе и бывшим правонарушителям, освобожденным из мест заключения. К прямым стратегиям (или к специальным мерам борьбы с преступностью) VII Конгресс ООН отнес следующие:
а) уменьшение практических возможностей для совершения преступлений (т. е. устранение технических и организационных условий, способствующих деятельности преступников: охрана помещения, улучшение уличного освещения, патрулирование полицейских, использование охранной сигнализации и т. п.);
б) воспитательно-предупредительная и информационная работа с населением, в том числе с учащимися (информация о мерах по предупреждению преступности и о работе правоохранительных органов; правовое воспитание; пропагандистские мероприятия с использованием средств массовой информации);
в) вмешательство в кризисные ситуации (от простого совета по телефону до предоставления жилья, устройства на работу, решения острых или затянувшихся конфликтов);
г) привлечение общественности к борьбе с преступностью (создание общественных и смешанных государственно-общественных органов для профилактической работы; воспитание в чужих семьях детей из неблагополучных семей; создание общественных органов для разрешения споров — типа советов старейшин или товарищеских судов; привлечение к профилактической деятельности женских и молодежных организаций);
д) оказание помощи жертвам преступлений (государственная компенсация, моральная и социальная поддержка).
§ 2. Юридический состав правонарушения
Юридический состав правонарушения — это совокупность его обязательных признаков (или элементов). К элементам состава правонарушения относятся:
— объект правонарушения;
— объективная сторона правонарушения;
— субъект правонарушения;
— субъективная сторона правонарушения.
Отсутствие одного из элементов означает отсутствие состава правонарушения.
Объект правонарушения — это охраняемые правом общественные отношения, которым наносится ущерб. Объект правонарушения — это не вещи, которые похищаются, не деньги, которые не возвращаются или не уплачиваются, не документы, которые подделываются, не человек, которого оскорбляют или избивают. Объектом правонарушения является соответствующее нарушенное субъективное право — право собственника на владение имуществом, право кредитора или продавца на получение денег, право государства на нормальное осуществление государственного управления, право человека на достоинство и личную неприкосновенность и т. д. В уголовном праве объект преступления принято классифицировать: общий, родовой, непосредственный; основной, дополнительный, факультативный.
Объективная сторона правонарушения. Ее составляют те элементы противоправного поведения, которые характеризуют его как определенный акт внешнего проявления в объективной действительности. Принято различать обязательные и факультативные признаки объективной стороны правонарушения. К обязательным признакам относятся противоправное деяние, вредные последствия противоправного деяния, а также причинная связь между деянием и его вредными последствиями.
Противоправное деяние. Деяние — это акт человеческого поведения, выраженный в активном действии или бездействии. Большинство правонарушений совершается посредством действия, которое может выступать или в форме физического воздействия на людей, животных, предметы материального мира, или в письменной форме, или в устной (словесной) форме, или совершаться с помощью жестов (так называемые конклюдентные действия). Бездействием правонарушение может выражаться в том случае, когда на лице либо организации лежала обязанность, предусмотренная соответствующим нормативным актом либо заключенным договором, и это лицо либо организация данную обязанность не выполнило, к примеру, организация в соответствии с договором не построила объект, врач не оказал помощь больному, должник не возвратил деньги, сторож спал, вместо того чтобы надлежащим образом охранять объект, и т. д.
Следует иметь в виду, что образ мысли, те или иные характеристики личности, если они не выразились в конкретном деянии, сами по себе не могут повлечь юридическую ответственность.
Вредные последствия противоправного деяния. Это тот вред, ущерб, который причиняется противоправным деянием. Вредные последствия могут носить личный, имущественный либо иной характер, они различаются по степени тяжести. Иногда определить вид правонарушения, дать его квалификацию возможно только в зависимости от наступивших последствий. Так, несоблюдение установленных правил по технике безопасности, промышленной санитарии, других правил охраны труда, содержащихся в трудовом законодательстве, с учетом тяжести наступивших последствий может повлечь или дисциплинарную, или административную, или уголовную ответственность. В зависимости от размера похищенного по-разному можно квалифицировать кражу.
Причинная связь между противоправным деянием и его вредными последствиями. Причинная связь — это такая связь между явлениями, в силу которой одно из них (причина) с необходимостью порождает другое (следствие). Здесь следует уяснить основное свойство данной характеристики — необходимость наступления последствий именно вследствие деяния. Возможны ситуации, когда, казалось бы, налицо и противоправное деяние, и вредные последствия, однако причинной (т. е. необходимой) связи между ними не будет.
Существуют особенности объективной стороны различных видов правонарушений. В гражданском праве ответственность наступает только при наличии вредных последствий, здесь необходимы все обязательные признаки объективной стороны состава правонарушения. А в уголовном праве, поскольку его нормы предусматривают ответственность за наиболее опасные для общества деяния, возможно привлечение к ответственности и без наступления последствий, только за совершенное деяние. Это преступления с так называемым формальным составом, к примеру, разбой, оставление в опасности. “Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, — наказывается...” (ч. 1 ст. 162 УК РФ). “Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, — наказывается...” (ст. 125 УК РФ). В первом случае для наличия оконченного преступления не требуется завладения имуществом, а во втором — гибели лица, находящегося в опасности. Все же во многих случаях и в уголовном праве требуется наступление вредных последствий и наличие причинной связи между общественно опасным деянием и его последствиями — это преступления с так называемым материальным составом. Уголовное право знает и такие институты, как приготовление к преступлению и покушение на преступление, когда лицо может быть привлечено к ответственности не только без наступления вредных последствий, но и без окончания своего деяния.
К факультативным признакам объективной стороны обычно относят место, время, способ, обстановку совершения правонарушения. Каждое правонарушение совершается в определенном месте, в определенное время, определенным способом и в определенной обстановке. Эти признаки всегда есть у любого правонарушения. Однако они приобретают юридическое значение, т. е. оказывают влияние на квалификацию противоправного поведения, не во всех случаях, а лишь тогда, когда указаны в гипотезе соответствующей нормы. Поэтому эти признаки и называются факультативными.
Субъект правонарушения — это лицо (или организация), совершившее правонарушение. Особенности субъекта зависят от вида правонарушения.
Так, субъектом преступления может быть только вменяемое (т. е. способное осознавать общественно опасный характер своего деяния) физическое лицо, достигшее установленного возраста привлечения к уголовной ответственности (16, а в некоторых случаях и 14 лет, см. ст. 19, 20 УК РФ). В некоторых случаях необходимы специальные признаки, которыми должны обладать субъекты преступления для того, чтобы быть привлеченными к уголовной ответственности по отдельным категориям дел (врач — за неоказание помощи больному, ст. 124 УК РФ, должностное лицо — за получение взятки, ст. 290 УК РФ, и т. д.). В некоторых странах предусмотрена ответственность в уголовном порядке не только физических лиц, но и организаций.
Административную ответственность может нести лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Но есть особенности административной ответственности несовершеннолетних.
Субъект дисциплинарного проступка — лицо, находящееся в трудовых или служебных отношениях с предприятием, учреждением, организацией.
Субъекты гражданского правонарушения — физические и юридические лица. Для физических лиц полная гражданско-правовая ответственность наступает с 18 лет (ст. 21 ГК РФ).
Субъективная сторона правонарушения раскрывает психическое отношение субъекта к совершенному деянию и его последствиям, направленность воли правонарушителя. К признакам субъективной стороны относятся вина, мотив и цель. Иногда здесь же говорят об особом психическом состоянии лица, совершившего правонарушение, например, состояние опьянения, сильного душевного волнения.
Вина — основной признак субъективной стороны правонарушения. Это психическое отношение субъекта к деянию и его последствиям. При отсутствии вины, т. е. без осознания противоправного характера своего поведения и его последствий, не будет и правонарушения. Впрочем, и законодательство, и юридическая практика с древнейших времен и до наших дней знали примеры невиновного привлечения к самым жестким мерам ответственности.
Различают умышленную (прямой и косвенный умысел) и неосторожную (самонадеянность /по УК РФ 1996 г. — легкомыслие/ и небрежность) вину (см. и законодательные определения в ст. 24—26 УК РФ, ст. 11, 12 КоАП РСФСР).
При прямом умысле лицо сознавало противоправный характер своего деяния, предвидело его вредные последствия и желало наступления этих последствий. При косвенном умысле лицо сознавало противоправный характер своего деяния, предвидело его вредные последствия и сознательно допускало наступление этих последствий.
Самонадеянность характеризуется тем, что лицо предвидело возможность наступления вредных последствий своего деяния, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение. Неосторожность в виде небрежности выражается в том, что лицо не предвидело возможности наступления вредных последствий своего деяния, хотя по обстоятельствам дела должно было и могло их предвидеть.
Практический смысл состоит прежде всего в различении умысла и неосторожности. За умышленные правонарушения наказание следует более строгое, чем за неосторожные. Более того, отдельные деяния, совершенные умышленно, будут являться правонарушениями, а аналогичное неосторожное поведение может и не быть правонарушением. В соответствии с ч. 2 ст. 24 УК РФ “деяние, совершенное по неосторожности, признается преступлением только в том случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса”
Мотив — это те внутренние побуждения, которыми руководствовался субъект при совершении правонарушения. Цель — это мысленная модель того результата, которого стремится достигнуть субъект при совершении правонарушения. И цель, и мотив могут оказывать влияние на квалификацию правонарушения.
Наиболее тщательно все вопросы состава правонарушения разработаны в уголовном праве. Представляется возможным достижения ученых-криминалистов относительно состава преступления использовать при исследовании и изучении иных видов правонарушений.
Изучаемая юридическая конструкция — “состав правонарушения” — не есть нечто специфическое, относимое только к противоправным деяниям. Любой человеческий поступок представляет собой единство субъективного (т. е. относящегося непосредственно к сознанию, внутреннему миру человека) и объективного (т. е. находящегося вне человека, противопоставляемого субъективному). И в противоправном, и в правомерном поведении можно выделить объективные и субъективные элементы. По аналогии с составом правонарушения анализируется состав правомерного поведения — его объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона.
§ 3. Понятие и виды юридической ответственности
Понимание юридической ответственности традиционно дискутируется. С некоторых пор стали обращать внимание на так называемую позитивную ответственность. Это когда на какой-то орган или должностное лицо возлагается какая-то функция, он призывается к выполнению определенной задачи и при этом подчеркивается важность этой задачи, необходимость внимательного отношения к ее решению, а также и то, что только этот орган или должностное лицо выполняет) данную функцию во всем ее объеме, не перекладывая организационных обременений на других лиц. Если проанализировать конституционные нормы или нормы, опосредующие деятельность министерств и ведомств, то выяснится, что там чаще идет речь не об ответственности за правонарушения, а об ответственности как долге, соответствующей обязанности государственных органов. Впрочем, и по отношению к гражданам можно вести речь об их позитивной ответственности, если иметь в виду их долг и обязанности перед обществом и государством.
Позитивная ответственность означает понимание ее субъектом того груза, который он несет на своих плечах, понимание того, что придется нести определенные лишения, если он не справится с возложенной задачей. Позитивная ответственность ассоциируется с долгом лица. Многие берут на себя смелость нести такого рода ответственность.
Гораздо чаще юристами анализируется “негативная” ответственность. И в этой части существует разноголосица в определениях, а высказанные точки зрения часто контрастируют. Существует два наиболее распространенных варианта понимания “негативной” (ретроспективной) юридической ответственности.
Юридическая ответственность — это предусмотренная правовыми нормами обязанность субъекта права претерпевать неблагоприятные для него последствия правонарушения.
Юридическая ответственность — это мера государственного принуждения за совершенное правонарушение, связанная с претерпеванием виновным лишений личного (организационного) или имущественного характера.
Юридическая ответственность является одним из средств борьбы с правонарушениями, средством обеспечения правомерного поведения. Угроза юридической ответственности, соответствующие неблагоприятные последствия — важный фактор в обеспечении правомерного поведения членов общества.
Юридическая ответственность связана с государственным принуждением. Государственное принуждение — это возможность государства обязать субъекта помимо его воли и желания совершать определенные действия. При наличии факта правонарушения государство обязывает лицо (или организацию) претерпевать определенные неблагоприятные последствия.
По поводу соотношения понятий “государственное принуждение” и “юридическая ответственность” высказывались разные точки зрения. Отдельным авторам они казались даже равнозначными. Однако большинством современных исследователей разделяется позиция, согласно которой государственное принуждение и юридическая ответственность соотносятся между собой как целое и часть. Определенные меры государственного принуждения (т. е. возложение обязанностей без согласия другой стороны) могут применяться не только за совершенное правонарушение, но и в некоторых других случаях. Наряду с юридической ответственностью выделяют такие виды государственного принуждения, как меры предупредительного воздействия, меры пресечения противоправного поведения, меры защиты.
Меры предупредительного воздействия — это разновидность мер государственного принуждения, применяемых для предупреждения возможных правонарушений, а также используемых с целью обеспечения общественной безопасности при стихийных бедствиях, крупных промышленных авариях. Это, например, проверка документов; таможенный досмотр; административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы (возложение обязанности являться в органы милиции, уведомлять их о перемене места работы или жительства и т. д.); прекращение либо ограничение движения транспорта и пешеходов при возникновении угрозы безопасности движения и т. д.
Меры пресечения — это разновидность мер государственного принуждения, применяемых для прекращения противоправных действий или для предотвращения их вредных последствий. Меры пресечения в отличие от мер предупреждения применяются только при наличии правонарушения. Это, к примеру, привод и официальное предостережение лиц, допускающих антиобщественное поведение, не повлекшее за собой юридической ответственности; изъятие имущества (например, холодного и огнестрельного оружия, радиопередатчиков, если нет разрешения на владение ими); административное задержание лиц, совершивших административные проступки; арест; наложение ареста на имущество и т. п.
Меры защиты (восстановительные меры) — это разновидность мер государственного принуждения, применяемых для восстановления нормального состояния правоотношений путем побуждения субъектов права к исполнению возложенных на них обязанностей. К мерам защиты относятся: признание сделки недействительной с возвращением сторон в первоначальное имущественное положение; взыскание долга; возмещение вреда, понесенного при спасании имущества государственных и общественных организаций; взыскание алиментов; восстановление на работе лиц, уволенных незаконно; удержание ошибочно выплаченных работнику сумм; взыскание налогов; отмена незаконного нормативно-правового или правоприменительного акта.
Меры защиты иногда отождествляются с мерами юридической ответственности. Определенные основания для этого есть — ведь меры защиты могут применяться и в качестве реакции на совершенное правонарушение вместо мер юридической ответственности (например, взыскание денежных сумм с должника вследствие неисполнения договора займа, т. е. за гражданский проступок). Однако меры защиты применяются за правонарушения, обладающие минимальной степенью общественной опасности, а также в отдельных случаях и при отсутствии противоправных деяний (например, возмещение вреда, понесенного при спасании имущества государственных и общественных организаций).
Меры защиты заключаются в том, что лицо принуждается к исполнению лежащей на нем обязанности, которую оно ранее должно было исполнить, но не исполнило. Дополнительных лишений помимо исполнения обязанности в этом случае для лица не наступает (например, при взыскании алиментов удерживаются суммы, которые лицо должно было выплатить добровольно). А юридическая ответственность связана с возложением на правонарушителя обязанности, не существовавшей до правонарушения. По своей основной направленности меры юридической ответственности обращены прежде всего к правонарушителю, их главная функция — карательная. Меры защиты направлены не столько на правонарушителя, сколько на обеспечение, восстановление интересов управомоченного лица, их основная функция — защита соответствующих субъективных прав.
Разграничение мер защиты и мер юридической ответственности имеет практическое значение прежде всего для деятельности правотворческих органов. С целью адекватного правового регулирования общественных отношений требуется четко определить, за какое поведение следует устанавливать меры защиты, за какое — меры ответственности, в каких случаях возможно применение и тех и других.
Юридическая ответственность возникает только на основе норм права. Меры юридической ответственности содержатся в санкциях правоохранительных норм.
Юридическая ответственность возникает лишь за совершенное правонарушение. Необходимо, чтобы были все элементы состава правонарушения. Правонарушение выступает в качестве юридического факта, оно предусмотрено гипотезами правоохранительных норм. В санкциях содержатся меры юридической ответственности.
Юридическая ответственность характеризуется определенными лишениями личного (организационного) или имущественного характера, которые виновный обязан претерпеть, т. е. понести определенное наказание. Здесь возникает вопрос о соотношении понятий “юридическая ответственность” и “наказание” Что содержится в санкциях правоохранительных норм — меры ответственности или меры наказания? Ранее на этот аспект проблемы внимание не обращалось. В законодательстве — уголовном, уголовно-процессуальном, административном, гражданском и т. д. — понятия “ответственность” и “наказание” достаточно последовательно не разграничиваются. Во многом благодаря этому и в научной литературе существуют различные точки зрения на соотношение ответственности и наказания. Говорят, что эти понятия равнозначны; что они соотносятся между собой как целое и часть; что ответственность — это обязанность претерпеть неблагоприятные последствия правонарушения, а наказание — это форма реализации данной обязанности, причем форма наиболее последовательная (имелось в виду, к примеру, то, что было возможно привлечение лица к уголовной ответственности с освобождением от наказания, здесь формой реализации ответственности выступало государственное осуждение). Решение вопроса о том, какой вариант избрать, зависит от подхода к проблеме, от понимания юридической ответственности. В общем все эти варианты имеют право на существование, поскольку каждый в какой-то мере отражает объективную реальность.
Совершение правонарушения и последующая реализация юридической ответственности связаны с государственным и общественным осуждением. Государственное осуждение выражается в вынесении в отношении лица (либо организации)-, совершившего правонарушение, соответствующего правоприменительного акта. В большинстве случаев наличие общественного осуждения также не вызывает возражений. Почти всегда лицо, нарушая норму права, нарушает и соответствующую норму морали, нравственное предписание. Поэтому наряду с юридической ответственностью перед государством лицо несет и нравственную ответственность перед обществом, которая выражается в общественном осуждении. Иногда общественное осуждение может иметь и юридическое значение.
Необходимо помнить о том, что юридическая ответственность, наступающая за нарушение норм права, — это разновидность социальной ответственности, наступающей за нарушение различных социальных норм (права, морали, обычаев, корпоративных норм). Соотношение данных понятий — социальной и юридической ответственности — это соотношение общего и особенного.
Изучение проблем юридической ответственности представляет определенную сложность, поскольку ни в учебной, ни в научной юридической литературе, ни в законодательстве последовательно не проводится одна точка зрения на многие спорные вопросы.
Не вызывает обычно затруднений определение юридической ответственности как меры государственного принуждения. Сложнее понимание этого явления как обязанности претерпеть определенные лишения. Развивая данную точку зрения, юридическую ответственность иногда определяют как правоотношение. Субъектами этого специфического правоохранительного правоотношения являются, с одной стороны, государство в лице его компетентных органов, которые имеют право привлечь правонарушителя к ответственности, а с другой — лицо (либо организация), совершившее правонарушение, которое обязано претерпеть определенные лишения. Для Всех этих вариантов понимания юридической ответственности есть определенные основания.
После того как рассмотрены основные признаки юридической ответственности, следует вернуться к спорному вопросу о разделении юридической ответственности на перспективную и ретроспективную.
В законодательстве термин “ответственность” употребляется и в том, и в другом смысле. “При производстве предварительного следствия все решения о направлении следствия и производстве следственных действий следователь принимает самостоятельно... и несет полную ответственность за их законное и своевременное проведение” (ч. 1 ст. 127 УПК РСФСР). “Государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и достойного развития личности. Гражданин ответствен перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией” (ч. 2 ст. 2 Конституции Республики Беларусь).
Такое понимание ответственности законодателем позволяет говорить о позитивной (проспективной) юридической ответственности, ответственности за будущие действия, понимаемой как осознание своего поведения в правовой сфере, его последствий и социальной значимости, как чувство долга, как обязанность субъектов права действовать в рамках правовых предписаний. Это ответственность, связанная с активными правомерными действиями, иногда ее понимают как общественное отношение, характеризующее взаимосвязь индивида и общества. Более того, говорят о том, что без исследования позитивного аспекта юридической ответственности изучение последней будет неполным, эти два аспекта диалектически взаимосвязаны и неотделимы друг от друга.
Разделение юридической ответственности на ретроспективную и перспективную в определенной степени отражает реальную правовую действительность. Однако юридической ответственностью в специальном, правовом смысле можно называть только ответственность за совершенные противоправные деяния. Для того чтобы исследовать явление, называемое перспективной (позитивной) юридической ответственностью, большее значение имеет исследование правомерного поведения, а не правонарушения.
Юридическая ответственность может быть разделена на виды, т. е. классифицирована, по различным основаниям. По форме осуществления различают ответственность, осуществляемую в судебном, административном, ином порядке. Следует иметь в виду, что меры уголовной ответственности могут быть назначены только судом. По органам государства, которые возлагают юридическую ответственность, выделяют: юридическую ответственность, возлагаемую законодательными органами государства; юридическую ответственность, возлагаемую исполнительно-распорядительными (административными) органами государства; юридическую ответственность, возлагаемую судебными и иными юрисдикционными органами государства. Последний вид реализации ответственности представляется наиболее последовательным, поскольку он осуществляется в специальных процедурах, содержащих гарантии соблюдения принципов юридической ответственности.
Самая распространенная классификация юридической ответственности — в зависимости от того, нормы какой отрасли права нарушаются, какой вид правонарушения совершен. По этому критерию различают следующие виды юридической ответственности.
Уголовно-правовая ответственность — ответственность, применяемая к лицу за совершение преступления — деяния, предусмотренного нормами уголовного права. Поскольку преступления — наиболее серьезный вид правонарушений, меры ответственности здесь также самые серьезные (см. ст. 43, 44 УК РФ).
Административно-правовая ответственность наступает за совершение административных проступков — деяний, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях (виды административных взысканий см. в ст. 24 КоАП РСФСР).
Гражданско-правовая ответственность наступает за совершение гражданского проступка и состоит в применении мер воздействия, имеющих, как правило, имущественный характер. Различают договорную и недоговорную гражданско-правовую ответственность. К мерам гражданско-правовой ответственности, в частности, относятся: принудительное исполнение соответствующей обязанности, возмещение убытков, неустойка (штраф, пеня) (ст. 330, 393—398 ГК РФ).
Материальная ответственность. Ее несут рабочие и служащие за материальный ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации. Материальная ответственность может быть полной или ограниченной (ст. 118—126 КЗоТ РФ). Иногда эту разновидность юридической ответственности не выделяют в качестве самостоятельной.
Дисциплинарная ответственность наступает за дисциплинарный проступок, т. е. за нарушение трудовой, воинской, служебной дисциплины. Ее отличительная особенность состоит в том, что лицо, к которому применяется дисциплинарная ответственность, подчинено по службе, работе органу, применившему ту или иную меру взыскания. Дисциплинарная ответственность налагается в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка; в порядке подчиненности; в соответствии с дисциплинарными уставами, действующими в некоторых министерствах и ведомствах (например, в министерствах обороны, внутренних дел). За дисциплинарный проступок могут быть применены следующие меры ответственности: замечание (предупреждение); выговор; строгий выговор; увольнение (см. ст. 135 КЗоТ Российской Федерации).
§ 4. Основания и принципы юридической ответственности
Реализация юридической ответственности связана с установлением ее целей, оснований и принципов.
Основания юридической ответственности. Юридическая ответственность может быть назначена лишь при наличии определенных правовых и фактических оснований. Такими основаниями являются:
норма права, предусматривающая возможность применения мер ответственности за противоправное деяние;
“состав правонарушения” Правонарушение является юридическим фактом и влечет возникновение охранительных правоотношений;
правоприменительный акт, которым конкретизируется охранительная норма права, определяется конкретный вид и мера юридической ответственности (приговор суда, постановление о наложении административного взыскания и т. п.).
Выделение оснований юридической ответственности зависит от ее понимания, от определения момента ее возникновения.
Если юридическая ответственность — это обязанность претерпеть определенные лишения, то она может возникать или с момента совершения правонарушения, или с момента выявления правонарушителя (т. е. того, кто должен нести соответствующую обязанность) и применения к нему связанных с его противоправным поведением ограничений, или же с момента вынесения правоприменительного акта — на этот счет существуют разные точки зрения. В первых двух случаях основаниями юридической ответственности будут являться только норма права и факт совершения правонарушения; правоприменительный акт, в котором указаны конкретный вид и мера наказания, выступает в качестве основания не возникновения, а реализации юридической ответственности. В третьем случае и правоприменительный акт — основание возникновения юридической ответственности.
Если же мы говорим о юридической ответственности как мере государственного принуждения, применяемой компетентными государственными органами к правонарушителю, то тогда она возникает с момента вынесения правоприменительного акта, и среди необходимых оснований ее возникновения указывают на норму права, факт совершения правонарушения и правоприменительный акт.
Существует и законодательное определение оснований ответственности, к примеру, в уголовном праве. Статья 8 УК РФ гласит: “Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом”
Иногда говорят об основании юридической ответственности в философском аспекте, анализируя соотношение понятий “свобода” и “ответственность”. Необходимой предпосылкой всякой, в том числе и юридической, ответственности является наличие личной свободы — свободы выбора вариантов поведения.
Цели юридической ответственности. Категория “цель” в данном случае показывает назначение юридической ответственности в обществе. Обычно говорят о том, что юридическая ответственность преследует две цели: защиту правопорядка и воспитание граждан. Эти цели конкретизируются в функциях юридической ответственности, причем их содержание различно в зависимости от вида ответственности. Называют следующие функции юридической ответственности: карательную (или штрафную); правовосстановительную (она присуща прежде всего имущественной ответственности, призвана компенсировать потери потерпевшей стороны, восстановить ее права); воспитательную; предупредительную (или превентивную, причем здесь выделяют частную и общую превенцию). Цели и функции иногда не различают и говорят о целях как о вышеперечисленных функциях.
Принципы юридической ответственности; Многие ученые на протяжении долгого времени формулируют цели и принципы юридической ответственности. “...Чтобы ни одно наказание, — писал Ч. Беккариа, — не было проявлением насилия одного или многих над отдельным гражданином, оно должно быть по своей сути гласным, незамедлительным, неотвратимым, минимальным из всех возможных при данных обстоятельствах, соразмерным преступлению и предусмотренным в законах”[357]. Формулируемые сегодня в законодательстве цивилизованных государств принципы во многом следуют классическому образцу.
Законность. Этот принцип конкретизируется следующими требованиями: юридическая ответственность должна наступать только за деяние, являющееся противоправным, то есть запрещенным нормами права; неблагоприятные последствия для лица могут наступать только в пределах, установленных нормами права для данного вида правонарушения; при привлечении к юридической ответственности должны соблюдаться требования процессуальных правовых норм.
Неотвратимость. Ни одно правонарушение не должно оставаться безнаказанным.
Справедливость. Здесь необходимо иметь в виду следующее: ответственность должна соответствовать тяжести правонарушения; за одно правонарушение лицо подлежит юридической ответственности только один раз (хотя одновременно могут быть применены несколько видов наказания, например, лишение свободы с конфискацией имущества); нельзя вводить жестокие меры наказания или меры наказания, унижающие человеческое достоинство; закон, устанавливающий юридическую ответственность, не может иметь обратной силы.
Целесообразность. Она обычно рассматривается как соответствие меры наказания целям юридической ответственности. Необходимо помнить об индивидуализации применяемых мер наказания в зависимости от конкретных обстоятельств и тяжести правонарушения, личности правонарушителя; возможны смягчение мер наказания или вообще неприменение последних, если цели юридической ответственности могут быть достигнуты иным путем. Вынесение наиболее целесообразного в каждом конкретном случае решения обеспечивается тем, что:
санкции правоохранительных норм права имеют, как правило, относительно-определенный или альтернативный характер, т. е. оставляют свободу выбора;
в законодательстве установлены обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность (см., например, ст. 61— 64 УК РФ, ст. 34, 35 КоАП РСФСР, ст. 123 КЗоТ РСФСР);
в законодательстве установлены основания освобождения от ответственности, наиболее тщательно этот институт разработан в уголовном праве.
Итак, каков способ и какова степень наказания, которые общественная справедливость делает для себя принципом и мерилом? Задавая этот вопрос, И. Кант отвечал: “Единственный принцип — это принцип равенства (в положении стрелки на весах справедливости), согласно которому суд склоняется в пользу одной стороны не более, чем в пользу другой”[358]. Остается только сказать, что и это положение классика философии и автора морального императива, если его не интерпретировать грубо в духе принципа талиона, должно закрепляться демократическим законодательством.
Глава 6. Эффективность действия права
§ 1. Понятие эффективности права
Эффективность права является результирующей характеристикой его действия, свидетельствующей о способности закона решать соответствующие социально-правовые проблемы. Под эффективностью права в литературе понимается соотношение между целями правовых норм и результатом их действия.
Эффективность действия законодательства определяется сложным комплексом факторов, характеризующих социально-экономическую, политическую, правовую, нравственную и тому подобную ситуацию в стране. К основным правовым слагаемым эффективности законодательства относятся правовое качество самого законодательства, эффективность правоприменительной деятельности, уровень правосознания правоприменителя и населения в целом.
Проблематика эффективности действия законодательства привлекла внимание отечественной юридической науки и практики еще в начале 70-х годов. Исследования в этой области не только заняли заметное место в рамках правоведения, но и получили достаточно серьезное институциональное оформление. Так, в структуре ВНИИ советского законодательства при Министерстве юстиции СССР (ВНИИСЗ)[359] была создана лаборатория по изучению эффективности действия законодательства, функционировавшая до конца 80-х годов. Силами лаборатории совместно с другими учеными Института разрабатывались теоретические аспекты данной проблематики, а также проводились эмпирические юридико-социологические исследования эффективности конкретных правовых норм. Аналогичная исследовательская работа осуществлялась и в рамках других научных учреждений страны.
Активная научная разработка проблем эффективности Действия законодательства в годы “застоя” в значительной мере была обусловлена пониманием того, что законодательство не обеспечивает нормального функционирования общественных отношений, что в стране усиливаются процессы стагнации общественной жизни и деформации социальных структур и связей, которые впоследствии были охарактеризованы как застойные явления. Все это было естественным следствием ослабления жестких тоталитарных рычагов управления обществом при сохранении (хотя и без былой действенности) прежней административно-командной системы.
То обстоятельство, что социальная система все более выходила из-под административно-командного контроля, особенно рельефно проявлялось в сфере экономики с ее все разраставшимися теневыми структурами, усиливавшейся коррупцией, стремлением предприятий к занижению плановых заданий, сокрытию ресурсов и т. п. Исследователи, занимавшиеся конкретно-социологическим изучением эффективности норм хозяйственного законодательства, нередко приходили к выводу о необходимости ослабления административно-командного прессинга, привнесения в хозяйственную жизнь элементов собственно правовой регуляции.
В качестве примера можно сослаться на два исследования, проведенных во ВНИИСЗ в 1970—1971 и 1980—1981 гг. по типу повторных трендовых исследований. Они были посвящены изучению эффективности законодательства об имущественной ответственности за нарушение планово-договорных обязательств. При сопоставлении результатов обоих исследований было выявлено наличие в данной области тенденции к превалированию административных методов руководства над экономическими. С учетом этого разработанные в результате последнего исследования практические рекомендации были направлены в первую очередь не на ужесточение системы имущественных санкций, а на поиски тех правовых форм, которые позволили бы преодолеть тенденцию к преобладанию административных методов хозяйствования в данной области.
Понимание целесообразности такой перестановки акцентов в управленческой политике было характерно и для исследователей, занимавшихся изучением эффективности норм других отраслей законодательства[360]. Однако подобные установки на расширение экономических методов управления отнюдь не означали общего признания необходимости перехода от силового, командного управления, при котором законодательство использовалось в качестве одного из рычагов властного воздействия, к правовому регулированию, направленному на расширение и укрепление свободы в общественных отношениях. Предпосылки для такой ориентации эмпирических исследований отсутствовали и в теории эффективности законодательства.
Советская теория эффективности законодательства находилась в целом в русле инструменталистского подхода к праву как к “средству руководства обществом”, инструменту достижения экономических, политических, идеологических и иных целей социалистического строительства. В рамках этой теории (которая наиболее полно изложена в коллективной монографии “Эффективность правовых норм”. М., 1980) эффективность правовых норм определялась как “соотношение между фактическим результатом их действия и теми социальными целями, для достижения которых эти нормы были приняты”[361]. Само по себе такое определение еще не несет специфической правовой нагрузки, поскольку ничего не добавляет к общепринятому пониманию эффективности как соотношения между целью и результатом того или иного действия. Правовое содержание данного понятия зависит от того, что понимается под целями правовых норм. И в этом смысле весьма показательно положение цитируемой монографии о том, что “цели, которым служит право, не являются правовыми... Юридические цели всегда лишь одно из самых низших звеньев в той цепи непосредственных целей, которым служат данные нормы и институты”[362]. Эти непосредственные цели, которые авторы называли материальными (в отличие от юридических), могли иметь экономический, политический и иной характер.
Такой подход, вполне естественный для своего времени, не соответствует формирующемуся в настоящее время новому типу нормативно-правового регулирования, смыслу, целям и задачам постсоветского российского законодательства.
Существо этого нового типа нормативно-правового регулирования состоит в понимании законотворчества как согласования различных социальных интересов, при котором свобода реализации одних интересов не ущемляет свободы других. Речь идет о законотворчестве, в основе которого лежат выявление и учет правообразующих интересов.
Правообразующий интерес — это не интерес каких-то конкретных социальных групп, а некая общая модель выражения и защиты различных интересов, определенная теоретическая конструкция (и в этом смысле теоретическая абстракция), которая каждый раз должна быть творческой находкой законодателя, искомой концепцией и формулой конкретного законодательного решения.
Известно, что законодатель, стремящийся решить ту или иную социальную проблему, как правило, оказывается в эпицентре столкновения противоборствующих социальных интересов, претендующих на законодательное признание и закрепление. Эти интересы обнаруживают себя в деятельности лоббистских групп в парламенте и за его пределами, в активности политических партий и течений, имеющих своих представителей в законодательном корпусе, во внепарламентских формах воздействия на законодателя вплоть до прямого давления на него со стороны “улицы”и т. д. При этом законодатель как представитель всего народа и выразитель его общей воли должен суметь удержаться от ориентации лишь на интересы отдельных социальных групп и слоев.
К сожалению, принятие законодательных решений в пользу лишь отдельных, групповых интересов (под давлением забастовочного движения и ультиматумов, умелого лоббирования, политического сговора и т. д.) получило значительное распространение. Между тем в современных условиях нет такой социальной группы, удовлетворенный интерес которой (при игнорировании интересов других групп населения) мог бы обеспечить стабильность общества и действие законов. Для этого нужно согласие всех основных социальных сил при отсутствии явно выраженного возражения со стороны иных знач?1мых субъектов социального действия. По сути дела речь идет об общественном согласии, основанном на принципах консенсуса, предполагающих: 1) поддержку решения большинством; 2) отсутствие возражений со стороны иных участников процесса принятия решения[363].
Очевидно, что общество в целом может согласиться лишь с равносправедливым для всех правовым принципом, не позволяющим интересам одних групп населения осуществляться в ущерб другим. Это означает, что консенсус между различными социальными интересами возможен лишь на общезначимой правовой основе. Поэтому задача законодателя заключается в поиске правовой модели согласования различных социальных интересов, при которой свобода одних лиц в реализации своих интересов не ущемляла бы свободу других. Таков, по существу, общеправовой смысл требования, закрепленного в п. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации: “Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц” Лишь очертив пространство правообразующего интереса, в границах которого одни правомерные социальные интересы не противоречат другим правомерным интересам, и закрепив правообразующий интерес в законе, придав ему таким образом легальный характер и государственную поддержку, законодатель сможет обеспечить нормальное, свободное развитие общественных отношений в соответствующей сфере.
Чтобы выявить правообразующие интересы в каждом конкретном случае, законодатель должен не просто подняться над частными, групповыми интересами, но и суметь обнаружить в том или ином групповом интересе общезначимый момент, увидеть те направления и формы его реализации, которые не наносят ущерба интересам других лиц и групп населения. Таким образом, правообразующий интерес — это определенный итог взаимоувязки, согласования частных, групповых интересов, который позволяет наиболее полно использовать заложенный в каждом из них потенциал общественно полезной или, как минимум, общественно не вредной социальной активности.
Сейчас, когда задача правового регулирования видится уже не в достижении заданных сверху целей, а в выражении и согласовании социальных интересов, способствующих нормальному, свободному развитию общественных отношений, должны быть соответствующим образом пересмотрены и положения теории эффективности законодательства. Было бы неверно продолжать трактовать эффективность закона как соотношение между результатом действия нормы и предписанными ей неправовыми (экономическими, политическими, идеологическими и т. д.) целями. В русле современного понимания сущности закона в условиях формирующейся правовой государственности эффективность законодательства следует измерять его вкладом в укрепление правовых начал государственной и общественной жизни, в формирование и развитие элементов свободы в общественных отношениях, в реализацию Прав и свобод человека и гражданина. То же самое можно сформулировать и в привычных терминах соотношения цели и Результата, поскольку эффективность, как мы уже отмечали, — это всегда мера целенаправленного воздействия. Только речь пойдет не о внешних по отношению к праву экономических, политических, идеологических и иных целях, а об Имманентной ему правовой цели, заключающейся в согласовании социальных интересов на базе правообразующего интереса и в обеспечении, таким образом, максимально возможной всеобщей меры свободы для развития соответствующей сферы общественной жизни.
Поясним разницу этих двух подходов к эффективности законодательства на основе примеров, приводимых в монографии “Эффективность правовых норм" Так, рассматривая нормы о дисциплинарной ответственности, авторы определяли цели этих норм как способствование укреплению трудовой дисциплины[364]. Норма считалась эффективной в той мере, в какой она обеспечивала укрепление дисциплины. Измерять эффективность предлагалось путем определения меры влияния соответствующей нормы на показатели уровня прогулов, опозданий, производства брака и иных конкретных индикаторов уровня трудовой дисциплины. С этой позиции в принципе не важно, произошло ли желаемое укрепление дисциплины за счет чрезмерно жестких санкций или оно явилось результатом свободного, сознательного выбора своего поведения работниками, взвесившими все “за” и “против” Такой подход к проблеме эффективности данной группы норм был вполне естествен для ситуации социалистического планового производства, когда отсутствовали и рыночная экономика, и свободный рынок труда, а следовательно, не могло быть и речи о действительно добровольном правовом договоре между работодателем и работником, обеспеченном наличием независимых профсоюзов, правом на забастовку, реальной возможностью той и другой стороны трудовых правоотношений влиять на позицию законодателя и т. п. Сейчас же, когда коллективные договоры приобретают действительно правовой характер, именно в них, по мнению специалистов, должны решаться и вопросы дисциплинарной ответственности: “...от сложной, громоздкой системы устанавливаемых в законе мер дисциплинарного взыскания можно будет перейти к понятной для каждого работника и отвечающей особенностям каждого предприятия системе мер материального воздействия”[365].
В новых условиях требуется уже иной подход к эффективности норм дисциплинарной ответственности, ориентированной на выявление степени согласования с помощью данной нормы интересов работника, работодателя и общества в целом. Цель нормы здесь — найти и постоянно поддерживать такой баланс интересов работника и работодателя, при котором первый был бы согласен с мерой свободы и степенью жесткости требований, заложенных в норме, а второй имел бы достаточную для себя меру свободы в управлении производством, а все вместе отвечало бы интересам общественного развития.
В этом случае эмпирически верифицируемым индикатором эффективности норм законодательства мог бы служить такой правовой по своей сути показатель, как мера конфликтности урегулированных данной нормой общественных отношений.
Социальные, в том числе и социально-политические, конфликты представляют собой неотъемлемую черту любого общества, построенного на демократических началах. Известно, что бесконфликтность в социальной жизни — это лишь фасадный образ тоталитаризма. Демократия же, как справедливо замечено, — это всегда конфликт, но конфликт открытый и упорядоченный[366]. В странах развитой правовой демократии наиболее значимые конфликты гражданского общества, преломляясь через политическую сферу, находят свое разрешение в правовой форме, т. е. путем принятия законов, ориентированных на согласование противоборствующих социальных интересов в рамках приемлемого для общества в целом общего интереса, выражающего общую волю.
Механизмы разрешения социальных конфликтов в демократически развитых обществах основаны на принципах парламентского представительства общезначимых социальных интересов и включают в себя деятельность политических партий по выявлению в различных групповых, корпоративных интересах гражданского общества того общезначимого начала, которое может быть положено в основу общегосударственной политики и законодательства, в технологию избирательного процесса, парламентские процедуры согласования различных социально-политических позиций и, наконец, законотворческий процесс, который завершается принятием законодательно акта, снимающего социальное напряжение или снижающего степень его интенсивности. Именно праву принадлежит здесь ключевая роль в системе социальных институтов, выработанных обществом для канализирования, регулирования и решения конфликтных ситуаций. Смысл социальных функций права “состоит как раз в авторитетном посредничестве, направленном на примирение, равновесие интересов сторон”[367]. Действенность права в реализации этой посреднической функции и есть показатель его эффективности.
Возвращаясь к законодательству о дисциплинарной ответственности, можно сказать, что мера конфликтности в регулируемых им отношениях должна измеряться, с одной стороны, уровнем нарушения трудовой дисциплины (показатели пассивной конфликтности), а с другой — различного рода показателями активной конфликтности, характеризующими меру активного несогласия работников или работодателей с положениями закона (забастовки работников, выступления профсоюзов, обращения работников или работодателей к законодателю с требованиями изменения того или иного положения закона, активность соответствующих лоббистских группировок в парламенте и т. п.). Целесообразно было бы выявить также уровень латентной и потенциальной конфликтности, характеризующийся в данном случае состоянием психологического климата в трудовом коллективе, отношением работников к требованиям соответствующих норм, их оценкой как справедливых или несправедливых и т. п.
Определение эффективности законодательной нормы в каждом конкретном случае требует творческого подхода. Но в качестве общего для всех исследований методологического принципа можно предложить ориентацию на выявление показателей конфликтности, характеризующих меру удовлетворения правомерных интересов участников регулируемых отношений. Было бы полезным, чтобы дальнейшая разработка проблематики эффективности законодательства осуществлялась в тесном взаимодействии с таким исследовательским направлением, как юридическая конфликтология, которая в настоящее время формируется на стыке общей социологии, политологии и социологии права[368].
Использование в процессе исследований такого показателя эффективности законодательства, как степень конфликтности урегулированных данной нормой общественных отношений, предполагает знание о каком-то оптимальном для этой сферы уровне конфликтности на данный момент (с учетом общей социально-политической, экономической, нравственной и т. д. ситуации). Ведь нельзя же критерием для оценки эффективности закона считать полное отсутствие каких-либо конфликтов.
Оптимальная степень конфликтности ситуации означает, что существующее правовое регулирование обеспечивает необходимую и достаточную меру свободы в реализации правомерных интересов субъектов социального общения. В противном случае мы имеем дело либо со слишком жесткой законодательной политикой, ущемляющей свободу людей в общественных отношениях, либо с недостаточной правовой урегулированностью, ведущей к хаосу и произволу со стороны участников данных отношений. И в том и в другом случае законодательство, не выполняющее свою роль по упорядочиванию социальных конфликтов и закреплению нормативно-правовой модели их разрешения, является неэффективным.
Думается, что накопление в новых условиях опыта эмпирических исследований эффективности законодательства позволит применительно к каждой конкретной сфере определить тот допустимый предел конфликтности (то, что можно было бы назвать типовой мерой правовой нормы[369]), при котором норма может считаться эффективной. На первых же порах целесообразно обратиться к опыту и знаниям экспертов и использовать для этих целей методы экспертных оценок[370].
С учетом сказанного под эффективностью права следует понимать степень соответствия уровня конфликтности регулируемых правовыми нормами отношений оптимальному уровню конфликтности в данной сфере. Такое определение поддается эмпирической верификации, т. е. понимаемая таким образом эффективность законодательства может быть измерена в процессе эмпирического юридико-социологического исследования и в ходе законодательного эксперимента.
§ 2. Методы изучения эффективности права
Одним из основных достижений исследований эффективности законодательства советского периода является накопление серьезных методических наработок, обогативших методологию правоведения. Здесь можно выделить два наиболее крупных направления, каждое из которых получило определенное развитие в рамках конкретно-социологических исследований эффективности законодательства.
Первый и основной подход к измерению эффективности законодательства основывался на методологии распространенных на Западе, и прежде всего в США, так называемых оценочных исследований, направленных на оценку различного рода социальных программ. Исходя из принятой в советской юридической науке трактовки права как средства достижения внешних по отношению к нему социальных целей, норма законодательства вполне могла рассматриваться как некая социальная программа, направленная на реализацию соответствующих социальных целей. Поэтому для оценки ее эффективности могла использоваться методология оценочных исследований, осуществленных по типу целевой модели, для которой характерны “тщательное формулирование целей программы, перевод выделенных целей в измеряемые переменные, уточнение аудитории программы, выбор экспериментального плана, пре- и (или) посттестирование, анализ результатов измерения для определения степени реализации целей и внесение изменений в циклические программы”[371].
Конечно, при таком подходе терялась собственно правовая специфика проблем, игнорировались значение и ценность права как особого социального регулятора. Но это были издержки теоретического, а не методического характера. В методическом же отношении в ходе проводившихся конкретносоциологических исследований эффективности законодательства была проделана большая и важная работа по освоению современных приемов исследований, углублению и развитию социологической культуры правоведения. И прежде всего следует отметить овладение юристами системой приемов экспериментального анализа, о чем свидетельствуют многочисленные исследования, осуществленные на основе методологии эксперимента “экс-постфакто”.
Речь идет о ретроспективном естественном эксперименте, суть которого состоит в интерпретации естественно сложившейся в прошлом ситуации в качестве экспериментальной, когда событие прошлого (принятие правовой нормы) интерпретируется как ввод в действие экспериментального фактора.
В исследованиях эффективности законодательства эксперимент “экс-пост-факто” может быть применен в тех случаях, когда на практике сложились и функционировали в течение определенного времени различные способы законодательного регулирования одних и тех же (или сходных по своей природе) общественных отношений. Подобные ситуации возникают при следующих условиях: 1) когда изменилось законодательное регулирование, но объект регулирования существенных изменений не претерпел (здесь у исследователей появляется возможность сравнения на основе методологии последовательного эксперимента состояний изучаемого процесса “до” и “после” введения в действие новой нормы); 2) когда сходные общественные отношения регулируются различными нормами, т. е. имеющие место на практике различия в законодательном регулировании не обусловлены различиями в объектах регулирования (в этих случаях может быть использована методология параллельного эксперимента).
В качестве, примера исследования, основанного на параллельном эксперименте “экс-пост-факто”, можно сослаться на исследование эффективности норм об управлении качеством продукции[372]. Сравнивались показатели качества продукции на предприятиях, внедривших комплексную систему управления качеством продукции (экспериментальная группа) и не внедривших ее (контрольная группа). Примером исследования, осуществленного по типу повторного эксперимента, является, в частности, исследование эффективности локальных норм, регламентирующих выплату вознаграждения по итогам годовой работы предприятия[373]. Эффективность норм определялась путем сравнения состояния текучести кадров (так как основная цель данных норм состояла в уменьшении текучести кадров) “до” и “после” введения в действие норм о вознаграждении.
Основные методические требования, предъявляемые к экспериментальным исследованиям “экс-пост-факто”, — это требования представительности и чистоты исследования. Проблема представительности эксперимента “экс-пост-факто” представляет собой частный случай более общей проблемы репрезентативности любого социологического исследования. Она решается путем строгого определения выборочной совокупности объектов наблюдения на основе специальных методов математической статистики. Чистота эксперимента зависит от степени нейтрализации влияния побочных факторов на ход и результаты эксперимента. В экспериментальном исследовании “экс-пост-факто” чистота достигается прежде всего путем правильного выбора объекта наблюдения.
Какую бы теоретическую парадигму исследований эффективности законодательства мы ни избрали, методическую основу этих исследований всегда будет составлять методология экспериментального анализа, поскольку лишь она позволяет вычленить меру воздействия на общественные процессы изучаемого фактора, т. е. нормы законодательства, об эффективности которой идет речь. В методическом отношении разница будет лишь в подходе к выбору показателей, характеризующих влияние норм на состояние общественных отношений и динамику общественных процессов.
Поясним это на одном из приведенных выше примеров. Возьмем вопрос о качестве производимой продукции, который был и остается актуальным. С позиций предлагаемого нами подхода эффективность соответствующих норм законодательства не может сводиться к степени повышения качества продукции под влиянием действия этих норм. В то же время повышение качества является показателем того, что правовая регламентация данной сферы хозяйственной жизни адекватно отражает ее объективные потребности, что нормы нашли и поддерживают тот баланс интересов участников регулируемых отношений, который обеспечивает нормальное развитие этих отношений.
В общем виде можно сказать, что повышение качества продукции, рост эффективности производства, наполнение товарами потребительского рынка ит.д. и т. п. — это не цель правового регулирования, а его результат, причем побочный по отношению к собственно правовым целям, заключающимся в обеспечении свободного развития общественных отношений. Свобода как высшая социальная ценность самодостаточна. И свобода в хозяйственных отношениях нужна уже потому, что это свобода, а не потому, что необходимо иметь много товаров хорошего качества. Вместе с тем исторический опыт убедительно показал, что только свободное развитие человеческой активности может обеспечить нужное для общества качество и количество товаров.
В этом смысле мы можем и должны пользоваться такого рода показателями для оценки эффективности правового регулирования. Мы называем эти показатели показателями пассивной конфликтности ситуации, поскольку их недостаточный уровень в косвенной форме свидетельствует о том, что действие нормы не обеспечивает нужного обществу баланса интересов и, следовательно, эти интересы находятся в конфликте. Они должны быть дополнены другими показателями, характеризующими меру активной, а также латентной и потенциальной конфликтности исследуемых отношений. Ведь если в результате действия тех или иных норм законодательства качество производимой продукции повышается, но большинство работников в той или иной форме заявляют свое несогласие с требованиями норм, последние не могут считаться эффективными, поскольку они не обеспечивают согласования интересов.
Таким образом, и при предлагаемом подходе исследователю важно знать, какова динамика, например, состояния качества товаров и как она связана с введением в действие соответствующих норм законодательства. А такое знание может быть получено лишь на основе методологии экспериментального анализа.
В современных условиях использование методологии экспериментального анализа и, в частности, параллельного эксперимента “экс-пост-факто” для изучения эффективности законодательства приобретает особое значение в связи с образованием после распада Союза ССР независимых государств, которые проводят самостоятельную законодательную политику, являющуюся в то же время сопоставимой по целому ряду принципиальных положений. Каким образом, например, способ приватизации или те или иные варианты налогообложения повлияли и продолжают влиять на положение дел в экономической сфере в России, Украине, других республиках бывшего СССР? Сравнительный анализ этих процессов в названных государствах, по сути, приобретает характер экспериментального благодаря высокой степени исторически сложившейся общности исходных социально-экономических и политических условий, что обеспечивает достаточную чистоту подобного “эксперимента” То же самое можно сказать и применительно к субъектам Российской Федерации, в законодательстве которых проявляется немало своеобразия при высокой степени общности условий формирования и реализации соответствующих нормативно-правовых актов.
В последние годы в нашей юриспруденции наблюдается заметный интерес к проблемам сравнительного правоведения, в орбиту которого включилось законодательство стран СНГ, а также субъектов Российской Федерации. Однако основной акцент при этом обычно делается на изучении текстов однопредметных законопроектов и принятых законодательных актов. Гораздо меньше внимания уделяется сравнительному анализу Практики реализации принятых нормативно-правовых актов. Между тем очевидно, что лишь сравнительное изучение эффективности действующего законодательства, основанное на грамотном применении методологии экспериментального анализа, позволит в конечном счете определить оптимальный вариант правового регулирования. Организация таких сравнительных юридико-социологических исследований хотя бы в масштабах Российской Федерации, создание информационного банка данных о результатах исследований, учет соответствующей информации в деятельности депутатов, постоянных комиссий и комитетов Государственной Думы, представительных органов субъектов Федерации существенным образом усилили бы научное обеспечение законотворческого процесса, способствовали бы повышению качества и эффективности законодательства[374].
Другое направление методологии изучения эффективности законодательства, которое также получило определенное развитие в нашей социологии права, связано с использованием методологии экспертных оценок. В рамках такого подхода был, в частности, предложен (применительно к проблеме эффективности законодательства) ряд методических приемов, позволяющих в какой-то мере преодолеть известный субъективизм исследований, основанных на использовании экспертных оценок[375]. Методология экспертных оценок широко применялась при изучении эффективности законодательства, и этот опыт, несомненно, должен быть учтен в современных исследованиях.
§ 3. Современное российское законодательство: основные слагаемые эффективности
В современной России, переживающей сложный и противоречивый период формирования правовых основ государственной и общественной жизни, проблема эффективности принимаемого законодательства стоит особенно остро. В годы перестройки, положившей начало интенсивному обновлению законодательства, нередко можно было слышать сетования на то, что принято много хороших законов, способных “выдержать любую международную экспертизу”[376], жаль только, что они не действуют. При этом главную причину бездействия “хороших законов” обычно видели в их необеспеченности надлежащими механизмами реализации (т. е. в низкой эффективности правоприменительной деятельности, отсутствии необходимых институциональных форм разрешения конфликтов и т. п.), а также в недостаточной проработанности правовой формы нормативного материала (несбалансированность прав и обязанностей, нестыкуемость новых норм с системой действующего законодательства, необеспеченность норм надлежащими санкциями и т. д.). Такая оценка ситуации целиком укладывалась в русло доперестроечного инструменталистского подхода к праву как к специфическому инструменту в руках органов власти, который можно заставить работать путем создания эффективных механизмов его реализации.
Однако по мере обострения социальных противоречий и конфликтов становилось все более ясно, что качество законодательства определяется прежде всего его социальным содержанием, его соответствием общественным потребностям и интересам. Действительно хорошие законы, т. е. законы, согласующие различные социальные интересы на основе правосозидающей общей воли, обладают высокой потенцией к самореализации, зачастую восполняющей недоработки юридико-нормативного характера и недостатки правоприменительной деятельности.
В настоящее время есть все основания утверждать, что наиболее слабым звеном в системе правовых факторов эффективности действующего российского законодательства является низкое социально-правовое качество законов, их неадекватность социальным реалиям, неспособность законодательства обеспечить согласование социальных интересов в рамках правообразующего интереса. В силу целого ряда причин нынешний российский парламент стал не столько органом выражения общей воли, сколько ареной борьбы различных политических и корпоративных группировок, стремящихся (с переменным успехом) обеспечить принятие законодательных решений в пользу тех или иных частногрупповых интересов.
Ситуация усугубляется еще и тем, что у законодателя (у властных структур в целом) нет ясной концепции и продуманной программы проводимых реформ. Следствием этого зачастую является хаотичный, некомплексный характер преобразований, когда вырвавшиеся вперед так называемые прогрессивные законы “зависают” без должной опоры, входят в противоречие с действующим законодательством. Однако и при наличии у властных структур четкой программы действий трудно было бы ожидать согласованного, равномерно поступательного проведения рыночных реформ по всему фронту охватываемых ими отношений. Дело в том, что реформирование подобного уровня и масштаба требует высокой степени согласия со стороны общества, консенсуса между основными социально-политическими силами по поводу целей и средств реформирования общественных отношений. А такого согласия, как известно, в настоящее время нет.
В этих условиях резко возрастает значение научного, и прежде всего юридико-социологического, обеспечения законотворчества. Наука (юриспруденция, социология, социология права) как специфический социальный институт, призванный и способный формулировать и отстаивать интересы общества в целом, должна занять более активную социальную позицию. Необходимо, не дожидаясь правового упорядочения процедуры независимой научной экспертизы[377], активнее проводить инициативные исследования эффективности действующего законодательства, доводя результаты этих исследований до сведения не только законодателя, но и более широкого круга заинтересованных лиц, делая их достоянием общественности и предметом публичного обсуждения.
Задача таких исследований видится в том, чтобы в каждом конкретном случае найти причины того рассогласования социальных интересов, которое блокирует действие данного закона, и попытаться по возможности выявить формы и механизмы достижения консенсуса различных социальных позиций, найти приемлемые правовые компенсации для тех интересов, которые могли бы оказаться ущемленными в результате принятия того или иного законодательного решения. При этом важно иметь в виду своеобразие современного переходного периода, когда еще не сформировалась система действующего права и не сложился прочный правопорядок, а старое и новое сосуществуют и конфликтуют друг с другом как в обществе, так и в законодательстве.
Раздел VII. Государство: сущность, понятие, структура, функции
Глава 1. Сущность и понятие государства
§ 1. Феномен государства: уровни рассмотрения
Феномен государства можно рассматривать с разной “высоты” теоретического изучения, в разном контексте, в разном теоретическом приближении, “извне” и “изнутри”.
В первом приближении' “извне”, в контексте международных отношений или с “высоты” международного права, государство выступает как совокупность людей, проживающих на определенной территории и объединенных публичной политической властью (нация, публично-властная ассоциация или публично-правовой союз). В таком контексте, как “политическая целостность” или “коллективный гражданин”, государство выступает и как субъект, обладающий определенными “первичными” правами[378]. Это права государства как субъекта международного права — по отношению к тем субъектам, которые не входят в данную публично-властную ассоциацию (но не по отношению к отдельным гражданам, составляющим эту ассоциацию). В таком виде государство предстает “внешнему наблюдателю”, который может различать в государственном целом лишь наиболее крупные его элементы —- население государства, государственную территорию и организацию государственной власти.
Во втором приближении наблюдатель находится “внутри” того, что в первом приближении, “извне”, выглядело как публично-властная ассоциация. Здесь он вступает в отношения повеления-подчинения и, как подчиняющийся субъект, воспринимает государство в качестве повелевающей, властной организации. Он противопоставляет (или не противопоставляет) себя этой организации в той мере, в которой он участвует (не участвует) в формировании и осуществлении государственной власти. Но и как “рядовой гражданин”, и как носитель властных полномочий он не отождествляет государство со всем народом, со всей совокупностью граждан или подвластных.
Иначе говоря, для субъекта, существующего в обществе, в котором есть государство, последнее выступает как особый политический институт, организация, осуществляющая публичную политическую власть, или аппарат этой власти.
Рассматривая государство в таком виде, можно понять его социальное назначение, его функции в обществе, выявить его связи с другими политическими (политизированными) институтами в обществе — партиями, общественными организациями и т. д.
В этом контексте можно говорить о первичных (по отношению к законоустановленным) правах и обязанностях, связывающих человека (гражданина) и государство (аппарат власти). С одной стороны, у человека есть обязанность подчиняться государственной власти, быть законопослушным; соответственно у государства есть право принуждать к повиновению. Это “право” вытекает из самого факта существования государственной власти. С другой стороны, гражданин или свободный член общества (несвободные исключаются из государственно-правового общения) обладает первичными правами по отношению к государству, известными в Новое время как естественные права человека, — правами, гарантирующими человеку минимум свободы в обществе и отношениях с государством. Если у подвластных нет прав по отношению к власти, то это власть не государственная, а деспотическая.
Наконец, в третьем приближении появляется возможность рассмотреть аппарат государственной власти как сложную систему, совокупность властных органов и должностных лиц и их отношения, связи между ними. В таком контексте, в частности с “высоты” конституционного права, государство рассматривают как систему государственных институтов, органов законодательной, исполнительной и судебной власти. В этой системе связи между ее элементами — государственными органами и должностными лицами — определяются их компетенцией. Здесь изучают отношения субординации и координации “внутри” аппарата государственной власти.
В таком приближении для описания государства используются понятия строения и формы государства, механизма государственной власти. Эти понятия раскрывают внутреннюю организацию, структуру аппарата государственной власти, территориальное устройство государственной власти и т. д.
Таким образом, термин “государство” употребляется в трех значениях, а именно обозначает (1) государственно организованное сообщество, (2) аппарат государственной власти как целое (для краткости в этом контексте говорят просто “государственная власть”) и (3) систему государственных органов. Во всех трех случаях речь идет об организации и функционировании публичной политической власти как власти государственной, но о разных ее аспектах. Поэтому понятие государства, т. е. объяснение сущности феномена государства, охватывает все три аспекта государственности.
Так что три естественных значения термина “государство” — это не три разных понятия государства. Однако есть разные концепции государства. Каждая из этих концепций может учитывать все три значения термина “государство”, но при этом сущность государства в каждой концепции объясняется по-своему. При этом понятие государства всегда объясняют через понятие публичной политической власти. Но в разных концепциях по-разному объясняют, каково соотношение публичной политической власти и государства.
§ 2. Публичная политическая власть
Родовым понятием для всех вариантов понимания государства является понятие публичной политической власти.
В обществе существуют различные виды личной и социальной власти — власть главы семьи, власть господина над рабом или слугой, экономическая власть собственников средств производства, духовная власть (авторитет) церкви и т. д. Все названные виды представляют собой либо индивидуальную, либо корпоративную, групповую власть. Она существует в силу личной зависимости подвластных, не распространяется на всех членов общества, не осуществляется именем народа, не претендует на всеобщность, не является публичной.
Власть же публичная распространяется по территориальному принципу, ей подчиняются все, кто находится на определенной “подвластной” территории. Эти “все” представляют собой подвластный народ, население, совокупность абстрактных субъектов (подданных или граждан). Для публичной власти неважно, связаны подвластные кровнородственными, этническими узами или нет. Публичной власти на ее территории подчиняются все, включая иностранцев (за редким исключением).
Власть политическая — это власть, осуществляющая Управление народом в интересах благополучия общества в целом и регулирующая общественные отношения в целях достижения или поддержания стабильности и порядка.
Публичная политическая власть осуществляется особым слоем людей, профессионально занимающихся управлением и вставляющих аппарат власти. Этот аппарат подчиняет все слои общества, социальные группы своей воле (воле правителя, парламентского большинства, политической элиты и т. д.), управляет на основе организованного принуждения вплоть до возможности физического насилия в отношении социальных групп и отдельных людей. Аппарат публичной политической власти существует и функционирует за счет налогов с населения, которые устанавливаются и взимаются либо по праву — когда налогоплательщики являются свободными собственниками, либо произвольно, силой — когда они несвободны. В последнем случае это уже не налоги в собственном смысле, а дань или подати.
Аппарат публичной политической власти предназначен для того, чтобы действовать во всеобщих интересах. Но аппарат и прежде всего его руководители выражают интересы общества так, как они их понимают; точнее, при демократии аппарат выражает реальные интересы большинства социальных групп, а при авторитаризме правители сами определяют, в чем состоят интересы и потребности общества. В силу относительной независимости аппарата власти от общества корпоративные интересы аппарата и отдельных правителей могут и не совпадать с интересами большинства других социальных групп. Аппарат власти и правители всегда стремятся выдавать свои интересы за интересы общества в целом, а их интересы в первую очередь заключаются в сохранении и упрочении власти, в сохранении власти именно в их руках.
В широком смысле аппарат публичной политической власти включает в себя законодателя (им может быть и парламент, и единоличный правитель), правительственно-административные и финансовые органы, полицию, вооруженные силы, суд, карательные учреждения. Все высшие полномочия публичной политической власти могут быть соединены в одном лице или органе власти, но могут быть и разделены. В узком смысле аппарат власти, или аппарат управления, — это совокупность органов власти и должностных лиц, исключая выборных членов законодательного собрания (органов народного представительства) и судей.
Аппарат публичной политической власти обладает монополией на принуждение вплоть до насилия на всей подвластной территории и в отношении всего населения. Никакая другая социальная власть не может конкурировать с публичной политической властью и применять силу без ее разрешения. Это означает суверенитет публичной политической власти, т. е. ее верховенство на подвластной территории и независимость от организаций власти, действующих за пределами этой территории. Только аппарат публичной политической власти может издавать законы и другие общеобязательные акты. Все приказы этой власти обязательны для исполнения.
Таким образом, публичная политическая власть характеризуется следующими формальными признаками:
— объединяет подвластных (народ, население страны) по территориальному признаку, создает территориальную организацию подвластных, политическую ассоциацию, интегрируемую публично-властными отношениями и институтами;
— осуществляется специальным аппаратом, не совпадающим со всеми членами общества и существующим за счет налогов, организацией, управляющей обществом на основе принуждения вплоть до насилия;
— обладает суверенитетом и прерогативой законотворчества.
Организация публичной политической власти и ее функционирование могут быть регламентированы законами. При этом реальные политические публично-властные отношения могут более или менее существенно отклоняться от того, что установлено законом. Власть может осуществляться по закону и независимо от закона.
Наконец, публичная политическая власть может быть разной по содержанию, а именно возможны два принципиально противоположных типа: либо власть ограничена свободой подвластных и предназначена для защиты их свободы, либо она существует в обществе, где нет свободы, и является неограниченной. Таким образом, различаются правовой тип организации и осуществления политической власти (государственность) и силовой тип (от старого деспотизма до современного тоталитаризма)[379].
Если хотя бы часть подвластных свободна по отношению к власти, то это значит, что они политически свободны и участвуют в государственно-правовом общении, обладают правами по отношению к аппарату власти, а поэтому участвуют в формировании и осуществлении публичной политической власти. Противоположный тип, деспотия — это такая организация власти, при которой подданные несвободны, не имеют никаких прав. Власть такого типа формирует и регулирует все отношения между подвластными, создает и общественный порядок, и само общество.
В современной науке общепризнана взаимосвязь государства и права, необходимость правовой основы власти в государстве. Но если считать, что право и закон тождественны, то государственной можно считать любую организацию публичной политической власти, так как и деспотическая власть опирается на законы. Если же исходить из различения права и закона и либертарного понимания права, то следует признать, что государственной властью является лишь такая публичная политическая власть, при которой хотя бы часть подвластных, часть членов общества обладает свободой.
На такой основе строятся разные концепции государства, т. е. в разных концепциях сфера публично-властных политических явлений, описываемая как государство, оказывается более или менее широкой. В рамках позитивистского типа понимания права и государства известны социологическая и легистская концепции государства. В рамках непозитивистского, юридического типа правопонимания в современной науке развивается либертарная концепция[380], объясняющая государство как правовой тип организации и осуществления публичной политической власти.
§ 3. Социологическая концепция государства
Государство как социальная сила. В социологической концепции государством называется организация публичной политической власти любого типа независимо от формы и содержания. Общей чертой для всех вариантов социологической концепции государства является отрицание юридической природы государства и абсолютизация его силовой природы, рассмотрение в качестве основы государства фактических отношений властвования[381]. Это силовая концепция. Сущность государства объясняется здесь как организованное насилие, как политическая сила, которая не может быть ограничена правом и которая произвольно определяет меру свободы подвластных. Такое понимание допускает и политическую несвободу подвластных, неограниченность политической власти, а поэтому в круг объектов, описываемых здесь как “государство”, попадает и деспотия.
Общее определение государства в социологической концепции сводится к следующему: это наиболее действенная (наиболее сильная, верховная, суверенная) организация власти у населения определенной территории.
Эта концепция государства использовалась в классическом легистском позитивизме (Дж. Остин, Г. Ф. Шершеневич, Л. Гумплович) для объяснения права (при отождествлении права и закона): “Право — это приказ государства, верховной власти, суверена” При таком правопонимании получается, что государство как сила первично, а “право” (законы) вторично, что государство — это голая монополия силы, предшествующая закону. Поэтому законная форма власти, ее наличие или отсутствие, не имеет значения для социологической концепции. Верховная власть может осуществляться по закону и вопреки закону — на то она и верховная. Закон (“право”) — это то, чего желает верховная власть, волеизъявление суверенной власти. Поэтому социологическая концепция лишь допускает, что полномочия государственной власти могут быть регламентированы законом, но утверждает, что закон для государственной власти необязателен. Здесь государство — это фактические отношения повеления и подчинения, фактическая организация и деятельность власти, а не то, что формально предписывается законами о власти. Государство как социальная сила может соблюдать законную форму осуществления власти, но может и не соблюдать.
Разновидностью социологической концепции является марксистско-ленинская концепция государства. Здесь сущность государства объясняется через классовое господство и классовое насилие.
Согласно марксистско-ленинскому учению, общество со времени утверждения частной собственности разделяется на антагонистические классы, а государство является политической организацией экономически господствующего класса. Сущность государства — это диктатура, насилие господствующего класса для подавления других классов (В. И. Ленин). Государственный аппарат, опираясь на насилие, управляет обществом так, как это выгодно и угодно господствующему классу, и в принципе может не считаться с интересами других Классов. Государство есть машина в руках господствующего Класса для подавления сопротивления своих классовых противников (И. В. Сталин). По отношению к такой силе у поделанных, даже у представителей господствующего класса, не Может быть никаких естественных прав. Фактическая (экономическая) сила членов общества дает им большую или меньшую фактическую свободу произвола. Диктатура класса означает несвязанность власти какими бы то ни было законами. Диктатура есть власть, опирающаяся непосредственно на насилие, не связанная никакими законами (В. И. Ленин). Таким образом, марксизм-ленинизм объясняет государство как антиправовую организацию публичной политической власти, природа которой такова, что она не может быть ограничена даже законом.
Установленную большевиками в России “диктатуру пролетариата” (фактически — диктатуру большевистской элиты и ее вождя) марксизм-ленинизм объясняет как “полугосударство”, или “отмирающее государство” Диктатура класса пролетариата (“социалистическое государство”) уничтожает собственность на средства производства и тем самым основу антагонистических классовых противоречий. При диктатуре пролетариата уже нет эксплуататорского, экономически и политически господствующего класса, а поэтому политическое насилие постепенно исчерпает свою роль, власть перестанет быть политической, и на месте диктатуры пролетариата сформируется организация коммунистического общественного самоуправления. Правда, руководивший процессом “отмирания государства” Сталин объявил, что классовая борьба в стране будет обостряться по мере строительства социализма и диктатура пролетариата будет “отмирать” через ее усиление (чем сильнее будет диктатура, тем быстрее она решит свою историческую задачу и “отомрет”; но закономерно возникает вопрос: пожелает ли столь сильная диктатура “отмереть”, не будет ли она изобретать для себя новые “исторические задачи”, решаемые путем тотального насилия?). После смерти “вождя” в СССР было официально объявлено, что диктатура пролетариата уже завершилась, в стране сложился монолитный советский народ, состоящий из дружественных классов (рабочий класс, колхозное крестьянство и социальная “прослойка” — трудовая интеллигенция); но государство еще не “умерло”, а превратилось в “общенародное социалистическое государство”, в котором установится режим “социалистической законности” (имелось в виду, что при сталинском режиме допускались “нарушения социалистической законности”, связанные с трудностями строительства социализма во враждебном империалистическом окружении).
С последовательной марксистско-ленинской точки зрения “общенародное государство” — это нонсенс: если власть принадлежит всему народу, то эта власть не государственная, не политическая. Политическая власть в марксистско-ленинском понимании должна осуществляться в интересах класса, части народа. Если такого класса нет, подвластные составляют однородную массу, а власть тем не менее остается политической, принудительной, то получается, что она действует в интересах самого аппарата политической власти, в интересах господствующей в обществе бюрократии. Значит, это не “общенародное”, а бюрократическое государство. (Конечно, такой вывод для официальной советской идеологии был неприемлем.)
Поскольку марксистско-ленинское понимание государства было единственным официально допускавшимся в СССР, его влияние сохранилось в преподавании учебных дисциплин. Определение государства, данное в одном из последних учебников, гласит: “Государство — это особая организация публичной, политической власти господствующего класса (социальной группы, блока классовых сил, всего народа), располагающая специальным аппаратом управления и принуждения, которая, представляя общество, осуществляет руководство этим обществом и обеспечивает его интеграцию”[382]. Никакая “особость” государства из данного определения не вытекает. Любая организация публичной политической власти, в частности деспотическая, подпадает под признаки, приведенные в этом определении. С позиции такого понимания государства, чем сильнее власть, чем она деспотичнее, тем она “государственнее”, тем больше она выражает природу государства вообще.
Сторонники социологической концепции государства не обязательно выпячивают политическое насилие. Со времен древности политическая мысль различала две наиболее яркие стороны политической власти: (1) организованное насилие как средство достижения цели и (2) решение общих дел, достижение общественного благополучия как цель власти. Если хотят подчеркнуть силовой момент, говорят: государство — это организация принудительного управления обществом (диктатура, аппарат насилия и т. д.). Если же хотят подчеркнуть социальную цель политической власти, то говорят: государство — это власть, призванная решать общие дела.
Вообще политическое общение — это вовсе не обязательно организованное насилие, произвольное силовое регулирование отношений. У древних греков, т. е. в первоначальном значении слова, политика — это искусство управления сообществом людей с целью достижения общего блага. Современная политология видит социальный смысл политики, политической власти не в том, что одни социальные группы силой навязывают свою волю другим, а в том, что политическая власть умеряет столкновения социальных сил, создает стабильный порядок в обществе. При этом стабильность в обществе может достигаться и за счет организованного насилия, предотвращающего распад общества, и за счет достижения согласия социальных групп ради прекращения конфликтов, ослабляющих общество в целом. Политика как организованное насилие есть признак исторической неразвитости цивилизации.
По мере исторического прогресса организованное насилие в интересах одного класса, одной группы все дальше-отходит на задний план политической жизни, а на передний выдвигается общесоциальная деятельность политической власти. В постиндустриальном обществе, в наиболее развитых странах социальные противоречия утрачивают остроту, умеряются до такой степени, что и политическое насилие в отношении больших социальных групп становится ненужным. Здесь просто нет классов в марксистском понимании. Политическая власть устанавливает цивилизованные рамки разрешения конфликтов между социальными группами и, выражая стремление большинства членов этого благополучного общества к гражданскому миру, не только гарантирует интересы социально сильных, но и защищает интересы социально слабых. Государство занимается перераспределением национального дохода, в частности, для того, чтобы примирить интересы социально сильных и социально слабых. Главной целью его политики являются социальный мир и гражданское согласие. Средство достижения этой цели — не организованное насилие, а нахождение компромисса, согласование интересов разных социальных групп.
Итак, теория насилия непригодна для объяснения публичной политической власти в постиндустриальном обществе. Сегодня сторонники социологической концепции государства полагают, что классовый, диктаторский, деспотический xapaктер власти присущ лишь частным историческим формам государства, а именно решение общих дел населения преимущественно силовым путем характерно для исторически неразвитого государства, а для современного государства более характерно стремление власти к социальным компромиссам.
“Деспотическое государство”. В любом варианте социологическая концепция государства не позволяет различать государство и деспотию. Здесь сущность явлений, определяемых как государственные, усматривается в организованном принуждении вплоть до насилия (пусть даже для решения общих дел населения страны) и поэтому допускается “государственная” власть, не ограниченная свободой подвластных. Тем самым безосновательно расширяется сфера политических явлений и отношений, обозначаемая термином “государство” Государство может быть демократическим, либеральным, диктаторским, деспотическим, тоталитарным и т. д. Во всех случаях это будет государство. Власть можно оценивать как хорошую или плохую, справедливую или несправедливую и т. д., но все эти оценки не имеют отношения к понятию государства в социологической концепции. Получается, что любая организация произвольного насилия называется государством только потому, что она оказывается наиболее сильной на определенной территории у определенного народа.
В таком случае, чем, в сущности, отличается понимаемое таким образом “государство” от большой разбойничьей шайки? Этот вопрос задавал еще в V в. один из “отцов церкви”, Блаженный Августин, стремясь доказать, что государственно-организованное сообщество (civitas) основывается на справедливости, а деспотические царства (regnum) язычников нельзя называть государствами. “Что суть царства, лишенные справедливости, — риторически вопрошал Августин, — как не большие разбойничьи шайки?” В представлении христианского мыслителя, в языческих царствах нет государственноправового общения, но в них, как в разбойничьих шайках, есть власть одного предводителя, которому никто не смеет прекословить, а “право” сводится к тому, что захваченная на войне добыча делится по установившемуся обычаю.
Через полторы тысячи лет Августину возразил Г. Кельзен, возразил именно с позиции социологической концепции государства: разбойничью шайку нельзя считать государством Лишь потому, что на той же территории, на которой действует разбойники, есть другая социальная сила, власть, более Могущественная, чем власть разбойничьей шайки. Она-то и Называется государством. Поэтому приказы уличных грабителей нельзя отождествлять с велениями государства, правовыми актами государственных органов. Но уж если порядок, навязываемый бандой грабителей, будет на определенной территории наиболее действенным, то его следует считать правопорядком, а социум, организованный в рамках такого правопорядка, — государством. В качестве примера Г. Кельзен ссылался на так называемые пиратские государства, существовавшие в XVI—XIX вв. на северном побережье Африки (Алжир, Тунис, Триполи), а также на тоталитарный режим большевиков, отменивших в России частную собственность на средства производства. Сначала, писал Г. Кельзен, суды США не признавали акты большевистского режима государственно-правовыми актами, так как считали, что власть большевиков — это преступная власть банды гангстеров, и она скоро кончится; но когда стало очевидным, что этот режим устойчив и более эффективен, чем любая другая власть на территории СССР, признали его в качестве государственно-правового порядка. Интересно, что Г. Кельзен несколько изменил свои взгляды после того, как он пострадал от преследований нацистов.
Правовое государство и государство законности. Социологическая концепция государства отрицает естественные права человека и понятие правового государства. Все субъективные права считаются октроированными, производными от воли законодателя.
В социологической концепции понятие суверенной власти означает политическую власть, которая по своей природе не может быть связана какими-то дозаконотворческими правами подвластных или международным правом. “Право” здесь объясняется как приказы верховной власти, а основные права и свободы человека — как продукт властного законотворчества. Получается, что не государство связано правом, а наоборот: право -— это то, что находится в полном распоряжении государства. Следовательно, в социологической концепции “правовое государство” — это нонсенс: государство может быть деспотическим, но не может быть правовым в смысле связанности власти свободой подвластных; никакая сила не может ограничивать государство, поскольку, по определению, это наиболее сильная организация власти. Если другая социально- политическая сила способна ограничить политическую власть неким “правом”, то в такой ситуации государством следует считать не ту власть, которую можно ограничить, а ту силу, которая ограничивает других, но сама остается полновластной, неограничиваемой. Поэтому, в частности, в рамках социологической концепции невозможно объяснить природу конституционного права и международного права, ограничивающих политическую власть.
Понятие правового государства невозможно гносеологически и логически, если объяснять природу государства вообще как организацию власти силового типа. Вот типичные рассуждения, показывающие отношение к теории правового государства с такой позиции: “В научном отношении эта теория несостоятельна потому, что право по своей природе таково, что не может стоять над государством. К тому же совершенно необъяснимы по природе и неопределенны по содержанию те “абсолютные правовые принципы и начала... которые якобы должны стоять над государством, связывать его... Буржуазная теория “правового государства’’ — лживая и фальшивая теория”[383].
Но после того как в современной России понятие правового государства стало, по меньшей мере, модным, сторонники социологической концепции государства вынуждены объяснять это понятие, несмотря на то что эта концепция и понятие правового государства несовместимы. Правда, возникает проблема: как в рамках силового понимания государства объяснить подчинение власти праву, или господство права? И поскольку при таком понимании право отождествляется с законом, то господство права, требование правового содержания законодательства, подменяется формальным требованием верховенства закона. В лучшем случае сторонники силовой трактовки государства признают, что верховенство закона не тождественно господству права, так как законы могут быть и неправовыми; но и в этом случае остается неразрешимый для них вопрос: что такое “право”, если право не тождественно закону, приказу государства? Поэтому и понятие правового государства остается для них необъяснимым: “...основной недостаток теории правового государства конца XIX — начала XX в. — неясность в вопросах о том, какое конкретно право Должно связывать государство, кто является источником такого права, каков механизм связанности государства правом, — остается неустраненным и по настоящее время”[384].
Социологическая концепция государства допускает лишь Понятие “государство законности” Последнее означает государство, “самоограничивающееся” своими законами, т. е. такое, в котором власть “связана” законами, но в то же время может произвольно изменять законы. Получается конструкция государства, в котором власть связана собственным произволом: “Тот факт, что нормы права исходят от государства... не противоречит положению о связанности органов государства этими нормами. Речь идет не о подчинении органов государства каким-то абсолютным правовым принципам, а о связанности государственных органов нормами действующего права (т. е. законами. — В. Ч.)... Конечно, высшие органы государственной власти вправе издавать любые юридические акты. Никакой ранее изданный закон не связывает органы государственной власти в том смысле, что любой закон, включая конституционный, в установленном порядке может быть отменен или исправлен”[385]. Такая конструкция государства законности в принципе не опровергает тезис Ленина о том, что государство есть диктатура, не связанная никакими законами.
§ 4. Легистская концепция государства
Легистская концепция государства возникла в Германии во второй половине XIX в. и доведена до логического завершения в теории Г. Кельзена в XX в.[386] Сегодня она распространена в государствоведении в Западной Европе.
В этой концепции феномен государства отождествляется с содержанием законов о публичной политической власти. Прежде, с позиции отождествлении права и закона, эта концепция государства называлась “юридической”, т. е. “правовой” Но правильнее называть ее именно легистской, т. е. за- коннической.
Легистская концепция государства подразумевает оформленный законами аппарат политической власти, его законную организацию и функционирование, законную компетенцию властных органов. Фактически государство отождествляется с предписаниями конституционного и административного законодательства, законодательства о судоустройстве и т. д. Государством считается то, что предписывают законы о монархе, президенте, правительстве, суде, прокуратуре, полиции и других институтах власти и должностных лицах, причем независимо от того, что именно предписывают эти законы. Содержание законов о власти может быть любым, произвольным. Государство определяется через законную форму власти, но не через содержание законов.
Социологическая концепция государства называет элементами государства подвластную территорию, подвластное население и суверенную власть. В легистской концепции государства эти элементы получают законническую трактовку. Так, население государства — это “сфера действия законов страны по кругу лиц” Государственная территория — это “сфера действия законов в пространстве” Государственная власть — это сами предписания законов, действующие в определенном пространстве и по определенному кругу лиц.
Распространение легистской концепции государства вызвано стремлением позитивистской науки рассматривать государство с “чисто юридической”, вернее, с легистской точки зрения: социологи и политологи изучают реальные властные отношения, философы задаются вопросом об идеальном государстве, а юристы-законоведы должны изучать действующие законы; следовательно, государство представляет профессиональный интерес для законоведов только как содержание законов о власти.
Действительно, законная форма является неотъемлемой чертой государственной власти. Законы регулируют организацию и деятельность государственного аппарата (в меньшей мере это относится к деспотической власти), устанавливают компетенцию государственных органов и должностных лиц. Поэтому если реальные публично-властные отношения совпадают с предписаниями законов, то знания об организации и функционировании власти законоведы могут черпать из законов. Но при этом не следует забывать, что предписания закона — это еще не само государство, что законы устанавливаются законодательной властью и что действительность публичной политической власти может и не совпадать с тем, что предписано законом.
В легистской же концепции государства получается, что не власть создает законы, а законы создают государственную власть. Если социологическая концепция государства ориентируется только на фактические отношения властвования и пренебрегает законной формой власти, то легистская концепция, наоборот, абстрагируется от фактических политических отношений и изображает государство в виде законодательных предписаний о власти. То, что в действительности власть может Функционировать и не так, как это предписано законом, в Легистской концепции не учитывается.
Законнический способ понимания государства широко распространился в тех странах, где социально-политическая действительность мало чем отличается от требований конституции и законов. Например, для ученых-конституционалистов в этих странах характерна убежденность в том, что их профессиональное знание о государстве заключается в знаниях законов о власти, что государство — это то, что написано о нем в конституции. Если попросить такого государствоведа описать государство в определенной стране, ему будет достаточно прочитать действующую в этой стране конституцию. А если возразить, что на самом деле в этой стране власть осуществляется не так, как предписывает конституция, он ответит, что не изучает “то, что есть на самом деле” и для него как “юриста” (читай — законоведа) в отличие от социологов или политологов важно только то, что написано в официальных текстах, прежде всего в конституции страны. И в определенном смысле он будет прав. Если конституция не фиктивная, а реально действующая, то, в частности, из нее следует черпать знания о государстве.
Но конституции и законы могут быть и фиктивными. Деспотическая власть, не связывающая себя никакими законами, может прикрываться внешней государственно-правовой атрибутикой, создавать видимость конституционной законности, издавать конституции как пропагандистские документы,, не рассчитанные на их применение. Фиктивными были, например, советские конституции. Они провозглашали демократию, власть рабочего класса, трудящихся, всего народа, но в действительности существовала жесткая диктатура, которая лишь имитировала демократические учреждения. Советские конституции описывали федеративное устройство страны, а в действительности власть была сверхцентрализованной и не допускала никакой самостоятельности местных властей и т. д.
Таким образом, легистская концепция государства оказывается явно несостоятельной применительно к политическим режимам с фиктивными конституциями. Но с точки зрения самих легистов, это не так. Для них как бы не существует никаких реальных отношений властвования, кроме тех, которые предписаны конституцией и законом. Их не интересует, в какой мере власть отклоняется от законодательных предписаний. Вообще для легизма характерны представления о первичности законодательных текстов и вторичности общественных отношений, о том, что в жизни все должно быть так, как предписано официальными актами. Такие представления о соотношении закона и общественной жизни — это “юридический идиотизм” или “юридический кретинизм”
Легистская концепция государства, так же как и социологическая, не позволяет разграничивать государство и деспотию (например, тоталитарные системы XX в.). Если считать, что государство — это предписания законов о власти, то получится, что деспотический, насильственный порядок будет государственным только потому, что он закреплен в законах.
С позиции легистской концепции государства невозможно объяснить, что такое правовое государство. В зависимости от того, что предписывают законы, как они описывают организацию власти, государство, в легистском понимании может быть названо демократическим, республиканским, тоталитарным, фашистским, пиратским и т. д. Но понятие “правовое государство” становится здесь бессмысленным, а сам этот термин представляет собой плеоназм (речевое излишество, добавление ненужного слова). Поскольку для легистов законы любого содержания — это “право”, а государство — это предписания законов, т. е. “правовые” предписания, то всякое государство является “правовым” установлением уже по определению', не бывает неправового государства. Любая организация власти произвольно-силового типа оказывается “правовой” в той мере, в какой она оформлена произвольными законами.
Легистская концепция государства неверна гносеологически. С одной стороны, бесспорно, что в условиях развитой государственно-правовой культуры публичная политическая власть существует в законной форме. Столь же бесспорно и нормативно-законническое требование: государственная власть должна быть организована и функционировать в строгом соответствии с законом. Но из того, что в определенной стране содержание государства в основном исчерпывается предписаниями законов о государственной власти, не следует, что общее понятие государства можно сводить к таким предписаниям.
С другой стороны, современная юридическая теория объясняет государство как правовую организацию политической власти, как власть, ограниченную правовым законом, и противопоставляет государству антиправовую, силовую организацию политической власти. Поэтому можно говорить, что государство не существует за пределами ограничения силы правом. Легистская же конструкция государства как власти, описанной “позитивным правом” (законом), не дает никакого объективного содержательного критерия правового характера законов и, следовательно, государственной власти. “Позитивное право” в легистской концепции — это то, что власть установила в законе, причем не исключено, что установила произвольно (этот вопрос для легистов не имеет значения). Получайся новая конструкция “государства законности” В социологической концепции считается, что власть может по своей прихоти устанавливать (или не устанавливать) в законе пределы ее осуществления; причем, если такие пределы не установлены, политическая власть все равно не утрачивает качество государства. В легистской же концепции власть, не связанная законом, не признается государственной, но при этом допускается чисто произвольный характер законов, “связывающих” власть. Иначе говоря, в легистской концепции государством называют такую (и только такую) организацию политической власти, какую она сама предписывает себе в законах[387].
§ 5. Понятие государства в современной либертарной теории
Государство как правовая форма власти. Юридическое понимание государства, объяснение государства как соединения силы с правом или ограничения власти правовым законом, противопоставление государства и деспотии имеют древнюю традицию — начиная с древнегреческой политической мысли[388]. Полный список классиков юридической теории государства, перечисление ее направлений заняли бы слишком много места. Достаточно сказать, что социологическая и легистская концепции государства воцарились в политической мысли лишь в период господства в науке позитивизма, но во второй половине XX в. юридическое понимание государства восстанавливает некогда утраченные позиции в науке.
Смысл юридического понимания государства выражен в определении, предложенном В. С. Нерсесянцем: государство — это правовая форма (правовой тип) организации и функционирования публичной политической власти. Термин “правовая”, естественно, предполагает различение права и закона. В противном случае, при отождествлении права и закона, суждение “государство — правовая организация власти” будет содержать элемент тавтологии — объяснение государственной власти через понятие закона, т. е. через то, что является результатом самой властной деятельности.
Это вовсе не означает, что государство нельзя рассматривать через призму правового законодательства, конституирующего государственные институты и отношения. Современная либертарная теория объясняет законы о государственной власти как необходимую форму обеспечения свободы подвластных и оценивает законы в зависимости от того, как они сообразуются с основным предназначением государственной власти — обеспечивать свободу, безопасность и собственность. Если законы о власти отрицают свободу подвластных, то с юридической точки зрения такие законы соответствуют не государству, а деспотии. Государство — это форма институционального бытия и осуществления свободы людей в их социальной жизни[389].
Таким образом, понятие государства предполагает организацию публичной политической власти, но государством является лишь организация публичной политической власти правового типа. Это значит, что, с одной стороны, внешними признаками государства являются подвластное население, подвластная территория и суверенная власть, но, с другой стороны, этим признакам, или элементам, государства дается юридическая трактовка. В частности, государственный суверенитет означает, что государственная власть является верховной, но не всесильной. Государственная власть -— это такая публичная политическая власть, которая введена в правовые рамки, хотя бы минимально ограничена свободой граждан (подданных), участников государственно-правового общения. Это такой “механизм” политического господства (принуждения вплоть до организованного насилия), который так или иначе опосредован правом, действует не произвольно, а в рамках правомочий. Оговорки “хотя бы минимально”, “так или иначе” вызваны тем, что “всякое государство связано правом в меру его цивилизованности, развитости права и правовой культуры у соответствующего народа и общества”[390]. Эта мера является разной для государства в архаичном аграрном обществе и в современном индустриальном или постиндустриальном обществе, для государства авторитарного и демократического, для государства с вековыми традициями конституционализма и государства посттоталитарного и т. д Далеко не всякое государство соответствует сегодняшним стандартам правового государства. Но всякое государство является государством постольку, поскольку власть в нем хотя бы минимально ограничена хотя бы минимальной свободой хотя бы части подвластных.
Либертарное понимание государства терминологически неочевидно в русском языке, ибо термин “государство” этимологически является родственным слову “суд” (“государь” — судья”). Но если считать, что русский термин “государство” в современном понимании означает, в сущности, то же, что и греческие πόλις, πολιτεία, латинские civitas, respublica и, наконец, термины, возникшие в романских и германских языках на основе латинского status (stato, state, Staat, Etat etc.), тогда следует считать, что “государство” означает публично-властное и публично-правовое состояние общества.
Термин “stato” применительно к организации публичной политической власти ввел в литературный оборот в XVI в. великий итальянский политический мыслитель Николо Макиавелли. До Макиавелли в политическом языке использовались термины “республика”, “правление”, “империя”, “княжество” и т. п., т. е. европейские политические мыслители не знали общепринятого термина “государство вообще” и оперировали названиями конкретных государственных форм. В итальянском языке “stato” (как и латинский термин “status”) означает также состояние, положение, сословие и т. д. Термин “stato”, как и немецкий “Staat” или английский “state”, этимологически не связан с такими понятиями, как “государь”, “царь”, “господин”, “властелин” и т. п. Эти термины, производные от “stato”, возникли в европейской персоноцентристской цивилизации применительно к типу организации публичной политической власти, складывавшейся здесь в Новое время[391].
Государство и деспотия. Современное либертарное понимание государства учитывает различение власти в персоноцентристских и системоцентристских цивилизациях[392] и опирается на следующие доводы. В любой относительно развитой цивилизации существует публичная политическая власть. Однако типы публичной политической власти в цивилизациях системоцентристского и персоноцентристского типов противоположны. Если политическая власть в персоноцентристской цивилизации называется государством, тогда противоположный вариант является антигосударством.
А именно: в условиях системоцентризма власть первична, а в условиях персоноцентризма власть вторична по отношению к обществу. Публичная политическая власть, полностью подчиняющая человека интересам социального целого, задающая его место в системе разделения труда, закрепляющая его принадлежность к сословию, касте, создает саму системоцентристскую цивилизацию, формирует ее социальные и экономические структуры, ее культуру, духовный мир. Здесь все социальное бытие политизировано, человек всегда существует в политических отношениях повеления-подчинения. Это деспотия. В персоноцентристской цивилизации люди, живущие в определенном социально-экономическом и духовно-культурном мире, для решения общих дел создают институты публичной политической власти, исполняющие служебную роль по отношению к уже существующему обществу. Так формируется государство. В государственно организованном обществе хотя бы часть членов общества свободна по отношению к власти и может существовать независимо от политических отношений.
Причем рабы и другие несвободные в исторически неразвитой цивилизации персоноцентристского типа просто исключены из политических отношений, они представляют собой объекты собственности частных лиц. Государство в доиндустриальном обществе — это не диктатура класса или сословия свободных над классом несвободных. Если общество делится на свободных собственников и несвободных (рабов, крепостных крестьян), принадлежащих частным хозяевам, то несвободные суть объекты собственности, а не государственной власти.
Политическое силовое господство над несвободными означает деспотизм, в частности, тоталитаризм. Так, крестьяне-общинники, бывшие основной производительной силой в древневосточных деспотиях, составляли подвластное сословие (касту). Они, как и все подданные деспота, были несвободны политически, но они не принадлежали частным лицам, не являлись объектами собственности. Они управлялись аппаратом политической власти, которая в лице деспота выступала верховным управителем всего достояния страны, “общинной собственности” Вообще политические отношения силового типа не допускают или не гарантируют частную собственность.
Всякая публичная политическая власть служит обществу в целом и поэтому выражает такой всеобщий интерес, который состоит в обеспечении целостности и стабильности социальной системы. Но государственная власть выражает еще и общие интересы частных лиц — обеспечение свободы, безопасности и собственности.
Сущность государственного общения, отношений повеления-подчинения в государстве — это обеспечение свободы, безопасности и собственности членов общества в обмен на их повиновение власти в пределах, установленных правом. Сила государства заключается не в том, что власть способна ограничивать свободу подвластных, а в том, что она способна эффективно обеспечивать их свободу, безопасность и собственность, действуя в пределах, установленных правовыми законами.
Исторический прогресс государственности выражается в распространении государственно-правового общения на все более широкий круг членов общества и в расширении объема свободы, гарантированной в политических отношениях. В древних полисах, городах-республиках не только несвободные полностью исключались из государственно-правового общения, но и свободное население подвластных (покоренных) территорий, колоний, провинций не включалось в число полноправных граждан. Для феодальных государств была характерна разная мера участия различных сословий в государственноправовой жизни, причем большая мера являлась привилегией. В Новое время первоначально существовали цензовые демократии, в которых неимущие были юридически свободны, но их участие в формировании и осуществлении государственной власти существенно ограничивалось; в то же время крупные землевладельцы пользовались здесь особыми привилегиями. Лишь в XX в. возникает развитый феномен государства, в котором человеку и гражданину гарантированы равные права независимо от половых, национальных, имущественных, религиозных и других различий.
Деспотия характерна для доиндустриального, аграрного общества, в эпоху индустриального развития она неконкурентоспособна по отношению к государственно-правовым системам. Однако деспотия оказалась способной приспосабливаться к условиям индустриального общества. В XX в. в рамках персоноцентристской цивилизации произошел исторический рецидив деспотии, возникла новая форма деспотизма — тоталитаризм. Вначале тоталитарные режимы установились в России, Италии и Германии как реакция на кризис индустриального развития в этих странах[393], а затем и в некоторых азиатских странах — как модернизация традиционной деспотической власти. Странам Восточной Европы тоталитаризм был навязан Советским Союзом, занявшим их в ходе второй мировой войны, так что эти страны относительно легко избавились от тоталитаризма после крушения советской империи. В Германии и Италии тоталитарные режимы были уничтожены в ходе второй мировой войны западными державами-победительницами. Тоталитарные режимы, сохраняющиеся в более или менее жестком виде в Китае, в Северной Корее, на Кубе и в Некоторых других странах, постепенно разлагаются.
Подобно тому как в древневосточных деспотиях власть создавала аграрную цивилизацию, в тоталитарных системах XX в. власть искусственно создавала подобие индустриального общества. Тотальная (всеобъемлющая) власть является антиподом государственной власти. Так что не может быть “тоталитарного государства” Например, так называемое советское государство лишь имитировало государственно-правовые формы. Законодательство тоталитарных систем в общем и целом является неправовым, произвольным, силовым, уравнительным, хотя в некоторых сферах общественной жизни, в ограниченной мере может сохраняться или использоваться правовое регулирование. Но в любой момент тотальная власть способна отбросить любой закон и прибегнуть к открытому насилию, террору. Эта власть уничтожает свободу подвластных, и если допускает “личную потребительскую собственность’’, то не гарантирует ее[394].
Правовое государство и полицейское государство. Понятие правового государства возможно только в рамках более общего юридического понятия государства вообще. Как уже говорилось, с позиции социологической концепции государства правовое государство — это нонсенс, а с позиции ле- гистского понятия — это плеоназм.
В любом государстве власть в общем и целом существует в правовой форме. Но в конкретных государствах бывают периоды авторитарного правления, когда власть нарушает правовую форму, действует насилием вопреки закону, а затем постепенно восстанавливается государственно-правовая форма. Авторитарное государство не уничтожает свободу подвластных, но оно не дает надлежащих гарантий свободы, безопасности и собственности.
Государство может быть либеральным, т. е. максимально ограниченным свободой подвластных и минимально вмешивающимся в их жизнедеятельность. В либеральном (минимальном) государстве институты власти рассчитаны на то, что граждане, как автономные субъекты, способны самостоятельно решать свои частные дела, и поэтому государство приходит им на помощь лишь тогда, когда они требуют полицейской или судебной защиты свободы, безопасности и собственности. В таком государстве власть, как правило, не вмешивается в экономику или сферу культурной жизни общества, не ставит задачу оказывать помощь неимущим за счет богатых, не стремится перераспределять национальный доход и т. д.
Наоборот, в социальном государстве власть максимально вмешивается в жизнедеятельность подвластных (в современном государстве “максимально” означает — до тех пор, пока такое вмешательство не нарушает естественные права и свободы человека и гражданина), оказывает всевозможные социальные услуги, причем неимущим — бесплатно (за счет перераспределения национального дохода). Но и в либеральном, и в социальном государстве власть так или иначе связана правом.
Наконец, известны разные исторические типы государства: в доиндустриальном обществе государство признает и защищает свободу только части членов общества, в индустриальном обществе все становятся равными в свободе перед государством, равными в правах.
Таким образом, в реально существующих государствах власть в разной мере ограничена правом. Понятие же правового государства предполагает максимальное ограничение власти правом. Это идеал, идеальный тип государства, понятие с исторически изменяющимся содержанием. Ибо источником знания о том, что такое максимальное ограничение власти правом, является исторически развивающаяся реальность государства. Представления о правовом государстве изменяются в ходе исторического прогресса государства. То, что считалось максимальным ограничением власти правом в Германии в первой половине XIX в., когда возникло понятие правового государства (Rechtsstaat), сегодня уже таковым не считается. Знание о правовом государстве постоянно обогащается. Так что правовое государство — это нормативная модель, предполагающая высокий уровень развитости права и государственности, отражающая уровень, уже достигнутый в наиболее развитых странах. Иначе говоря, правовое государство — это наиболее развитая с сегодняшней точки зрения, с позиции сегодняшнего знания, институциональная форма свободы.
Противоположностью правового государства является полицейское государство. Это также идеальный тип, предполагающий лишь минимальное ограничение власти свободой подвластных.
Понятия правового государства и полицейского государства применимы только к реальной государственности Нового времени; государственность более раннего времени следует оценивать как исторически неразвитую, хотя в ней прослеживается развитие отдельных компонентов правовой государственности. В индустриальном обществе критерием минимально необходимого ограничения власти правом служат естественные и неотчуждаемые права человека и гражданина, объем и Содержание которых обогащаются по мере развития общества. Таким образом, с позиции сегодняшнего знания любое современное государство, а не только правовое, должно хотя бы минимально соблюдать права человека и гражданина.
В полицейском государстве законы дозволяют правительственно-административным (полицейским) институтам власти все, что не нарушает права человека, а нередко и более того, класть всегда стремится вырваться из правовых рамок, и в полицейском государстве законы чрезмерно ограничивают права человека (под предлогом защиты нравственности, общей пользы, государственной безопасности и т. п.), дозволяют полицейским органам вторгаться в сферу минимальной неотъемлемой свободы. Типичными являются неправовые, хотя и законные, ограничения свободы выражения мнений и средств массовой информации, свободы передвижения, неприкосновенности жилища и частной жизни, свободы создания политических партий и профсоюзов, свободы собраний и манифестаций, а также свободы предпринимательства. Формально полицейское государство может и не отрицать эти права и свободы, но оно дозволяет административной власти контролировать их осуществление. Например, действует цензура, собрания и манифестации не запрещаются, но для их проведения требуется разрешение административных органов. Гражданам не запрещается выбирать место жительства, но с разрешения тех же административных органов. В сфере предпринимательства административная власть разрешает, регулирует, контролирует, квотирует, лицензирует и т. д. деятельность частных лиц.
В результате в полицейском государстве получается следующая картина. С одной стороны, государство гарантирует определенный набор прав и свобод. С другой стороны, законы прямо или косвенно запрещают почти любую деятельность, не контролируемую государством, запрещают делать что-либо без разрешения соответствующих полицейских органов. Полицейское государство сводит к минимуму действие принципа “незапрещенное разрешено”. Оно как бы исходит из презумпции, что граждане склонны злоупотреблять свободой, а поэтому нуждаются в контроле. Полицейское государство более или менее эффективно защищает свободу, безопасность и собственность от посягательств частных лиц, но не от полицейского вмешательства.
Полицейское государство отличается от деспотии, в частности от тоталитарного режима, тем, что последний вообще не признает права и свободы человека и гражданина по отношению к власти, в то время как идеальное полицейское государство считается минимально связанным неотъемлемой свободой граждан. Деспотическая власть — это власть иного, силового, типа, существующая в принципиально иной политической культуре, где просто нет никакой неотъемлемой свободы подвластных.
Правовое и полицейское государство — это идеальные типы. Реальные современные государства лишь ориентируются на эти идеальные типы. Формирующееся ныне российское государство лишь делает свои первые шаги на пути к конституционно провозглашенному правовому государству.
Глава 2. Элементы государства
§ 1. “Теория трех элементов”
Государство в целом представляет собой единство трех элементов: государство существует постольку, поскольку существуют 1) население государства (нация, государственноорганизованный народ), 2) государственная территория и 3) государственная власть.
В позитивистском социологическом понимании государства определяющим выступает элемент власти: государство — это организация власти, наиболее сильная (эффективная) у данного народа на данной территории[395]. В легистском понимании (например, в теории Г. Кельзена) государство изображается как принудительный нормативный порядок (законопорядок), обладающий наибольшей силой у данного народа на данной территории. В обоих вариантах властно-принудительный элемент как бы формирует два других элемента: государственная власть превращает общность людей (народ, этнос) на соответствующей территории в население государства (нацию) и создает государственную территорию. В обоих вариантах государство воспринимается как данность, и то обстоятельство, что именно общность людей на определенной территории создает организацию государственной власти, а не наоборот, остается за рамками объяснения элементов государства.
Так, для Кельзена население государства — это не этническая или социокультурная общность, а единство людей, подчиненных общему для них законопорядку, а государственная территория — не географическое пространство, а пространственная сфера действия законопорядка. При таком понимании отрицается необходимость какого-либо внепотестарного (внесилового) критерия, объясняющего формирование нации и определяющего границы государственной территории.
Напротив, современная юридическая теория государства и современное международное право трактуют понятия нации и государственной территории как элементы, относительно самостоятельные по отношению к государственной власти. В современном понятии государства нация признается субстанциональным, исходным, основным образующим элементом государственности[396]. Причем современное государство (в более широком смысле — государство Нового времени) признается результатом исторического этнополитического развития, а именно результатом, достигнутым на определенной стадии исторического процесса формирования нации[397].
В современном мире юридическое основание государственности (равно как и в современной теории понятия государственной власти и государственного суверенитета) связывается с естественными правами человека. Причем внешний государственный суверенитет объясняется не как силовые внешнеполитические отношения, а как международно-правовые отношения, вытекающие из права народов или наций на политическое самоопределение. Права народов (наций) признаны современным международным правом как особые права человека, или “права третьего поколения” В частности, эти права зафиксированы в ст. 1 Устава ООН и ст. 1 Международного пакта о гражданских и политических правах.
§ 2. Субстанциональный элемент государства
Этнос как естественный субстрат общества и государства. Каждое общество (культура, цивилизация) и государство создается конкретным народом — этносом или суперэтносом (группой этносов, возникших в одном регионе и противопоставляющих себя другим суперэтносам)[398]. Этнос — это естественный субстрат, в котором формируются общество и государство. Конкретное государство возникает в процессе этногенеза — исторического развития этноса и является формой существования этноса. При этом происходит внешнее (по отношению к другим этнополитическим образованиям) политическое самоопределение этноса. Политически самоопределяющийся этнос — это субстанция государства. В процессе политического самоопределения этносов (суперэтносов) возникают нации, или “государствообразующие народы” Именно нация представляет собой субстанциональный элемент государства.
Однако возникновение и формирование государства — это не естественно-исторический, а общественно-исторический процесс. Причиной возникновения государственности у определенного этноса является не непосредственно этногенез[399], а социальный контекст, в котором он происходит.
Тезис о государстве как форме существования этноса не означает, что государство — это непременно моноэтническое политическое образование. Вместе с тем полиэтническое государство не создается множеством этносов, объединенных общей властью. Полиэтническое государство (в частности, империю) можно рассматривать, во-первых, как государство, которое образовано одним этносом, выступающим в качестве так называемой титульной нации, и в котором другие этнические группы существуют как этнические меньшинства в составе “государствообраэующего народа” Во-вторых, его можно рассматривать как государство, образованное суперэтносом (например, принято считать, что российское государство в XVI—XVII вв. создавалось русско-евразийским суперэтносом[400]); но в рамках суперэтноса, создающего государство, тоже есть этническое ядро, выступающее в качестве “титульной нации”
Понятие этноса и права народов на самоопределение. Этнос — это сообщество людей, обладающее естественными правами на политическое, а также культурное и социально- экономическое самоопределение. Поэтому вопрос о понятии этноса актуален не только для этнологии, но и для теории права и государства.
В литературе[401] уже указывалось на предпочтительность теории этногенеза для объяснения этноса в контексте теории государства в сравнении с канонизированным в бывшем СССР объяснением этноса как социального явления, подчиненного законам развития общества и не имеющего собственных закономерностей. При рассмотрении этноса как социального явления он определяется как исторически возникшее на определенной территории сообщество людей, обладающее общностью языка, культуры, религии и другими социально обусловленными признаками. К этим другим признакам относится и общность государственной власти, если этнос существует в государственно-организованном обществе. Такой подход ничего не дает для понимания субстанционального элемента государства.
Согласно теории этногенеза, этнос — это общность естественная. Однако антропологический признак не может быть определяющим для идентификации этноса, так как этносы возникают из этнически неоднородного субстрата, состоят из смешения двух и более рас первого или второго порядка, а каждая раса входит в состав многих этносов[402]. Этнос — это сообщество, допускающее антропологическую несхожесть составляющих ее людей.
На первый взгляд такое отрицание определяющего характера антропологического признака позволяет предположить, что этнос — это социобиологическое явление. А именно этнос — это не только естественная, но и социокультурная общность, т. е. сообщество людей, связанных общностью языка, религии, материальной культуры и т. д.
Конечно, эти признаки в той или иной мере есть у каждого этноса. Но они либо недостаточны для идентификации этноса, либо необязательны. Например, общность языка может быть присуща не одному этносу (суперэтносу), а нескольким. Если этнос в определенной фазе этногенеза существует во враждебной этнической среде, то определенная религия может быть фактором, укрепляющим этническое сообщество. Но это отнюдь не обязательный признак этноса: для большинства этносов в поздних фазах этногенеза характерна религиозная и духовно-культурная дифференциация внутри одного и того же этноса. Аналогичные доводы можно привести против всех социокультурных признаков. Это свидетельствует о том, что социокультурные признаки вторичны и порождаются условиями взаимодействия этносов со средой обитания.
Этнос — это природная общность людей, которая противопоставляет себя всем другим таким же общностям из чувства комплиментарности (подсознательного ощущения взаимной симпатии и общности людей), определяющего противопоставление “мы — они” и деление на “своих” и “чужих” Ощущение этнической принадлежности является разновидностью системной связи между людьми и отражает объективно существующую общность. Различаются этносы стереотипами поведения[403]. Естественное обособление этносов влечет за собой их социокультурное обособление (однако естественное и социокультурное развитие подчинены разным закономерностям).
По мере исторического развития социальных структур происходит культурное, социально-экономическое и политическое самоопределение этносов, их политико-территориальное обособление в отношениях с другими этносами. Естественное стремление этносов противопоставить себя другим этносам особенно наглядно проявляется в их стремлении к созданию своей организации политической власти. В условиях правового международного общения такое естественное стремление признается как естественное право народов на политическое самоопределение.
Этнос возникает в определенном ландшафте, что порождает связь этноса с определенной территорией. Эта географическая территория является для этноса родиной, и связь с этой территорией становится определяющим фактором формирования этноса. Следовательно, этнос имеет право на территориальное самоопределение, или право на родину, в частности, право создавать свою организацию публичной политической власти на той географической территории, на которой он сформировался, с которой он связан естественно-исторически.
Итак, в рамках данной темы этнос можно рассматривать как общность людей, объединенных чувством общей этнической принадлежности, возникающую на определенной территории (в определенном ландшафте), приобретающую социокультурные особенности и стремящуюся к политическому самоопределению в отношениях с другими такими же общностями.
Понятие нации в международном праве. Термин “нация” употребляется в двух значениях. Во-первых, как синоним термина “этнос”[404]. Во-вторых, в международном праве этот термин употребляется как синоним термина “государство”, а “национальность” понимается как принадлежность к определенному государству, гражданство или подданство. Такое понятие нации связано с пониманием государства в качестве независимого политического сообщества людей, публично-властной ассоциации. Иначе говоря, “нация” в смысле международного права — это “государствообразующий” народ, в состав которого входят все, кто относится к определенному государству, независимо от этнической принадлежности. Таким образом, Объединенные Нации (ООН) — это Объединенные Государства, но не этносы. Также международное право (International Law) — это межгосударственное, а не межэтническое право.
В практике ООН субъектами права на самоопределение признаются прежде всего нации, а также народы, находящиеся в колониальной зависимости. Но право наций на политическое самоопределение — это совсем не то, что право народов (этносов). Нация (в смысле международного права) — это уже существующее государство, точнее, субстанциональный элемент государства. Поэтому о праве наций на политическое самоопределение можно говорить лишь в смысле принципа невмешательства во внутренние дела государств[405]. Правда, возможно политическое самоопределение нации в виде свободного присоединения к другому государству. Но действительно добровольный отказ “государствообразующего народа” от своей государственности является скорее исключением, чем правилом.
Также право наций на политическое самоопределение не следует понимать в смысле так называемого “народного суверенитета” Последний означает, что власть принадлежит народу и осуществляется народом непосредственно (прямая демократия) и через органы государственной власти (представительная демократия). Обычно при этом подчеркивается, что никто не вправе присваивать власть в государстве: только народ через демократические процедуры вправе определять внешнюю и внутреннюю политику государства. Однако “народный суверенитет” — это санкция, ибо государственную власть, по определению, осуществляет государственный аппарат, а не народ или нация.
Право на внешнее политическое самоопределение. Субъектом этого права является любой народ (этнос, суперэтнос), компактно проживающий на определенной территории, не рассеянный по миру. Причем нация (политически самоопределившийся, “государствообразующий” народ) — это народ, уже реализовавший свое право на внешнее политическое самоопределение.
Это право этноса либо создавать свое независимое, суверенное государство, либо не создавать и войти в состав уже существующего государства. Следовательно, право на внешнее политическое самоопределение особенно актуально для тех народов, которые еще не создали свое национальное государство. Любой этнос, выражающий волю к внешнему политическому самоопределению, вправе создать свое государство. Не может быть никаких юридических аргументов против внешнего политического самоопределения любого, даже малочисленного этноса.
Однако осуществление права на внешнее политическое самоопределение, как и любого субъективного права, не должно нарушать права других субъектов. Международное право защищает территориальную целостность и суверенитет государства. Так что стремление этноса стать независимой нацией не должно нарушать права других этносов на политическое самоопределение и суверенитет существующих государств.
В этом контексте следует различать понятия “титульная нация” и “этнические (национальные) меньшинства” “Титульная нация” — это этнос, создающий свое независимое государство, дающий государству название, официальный язык и т. д. Но в состав “государствообразующего народа” может входить не только “титульная нация”, но и другие этнические общности (этнические меньшинства). Они бывают двух типов. Во-первых, это этносы или части этносов, живущие на своей исконной территории и не имеющие своей национальной государственности за пределами данного государства. Эти этнические меньшинства, как и все этносы, имеют право на внешнее политическое самоопределение. Это право применительно к этническим меньшинствам означает возможность отделения от государства с целью либо создать свое национальное государство, либо присоединиться к другому, уже существующему государству (с согласия последнего).
Во-вторых, национальным меньшинством в государстве может быть часть этноса, имеющего свою национальную государственность за пределами государства, в котором оно составляет меньшинство. Если территория проживания такого меньшинства является его исторической родиной, то оно вправе претендовать на внешнее политическое самоопределение. Но оно не вправе претендовать на внешнее политическое самоопределение, если территория является родиной для титульной нации или другого меньшинства. Однако все национальные меньшинства имеют право на внутреннее политическое самоопределение.
Общепризнанно, что право на внешнее политическое самоопределение этнических меньшинств ограничено суверенитетом государств, в которых живут эти меньшинства. Это порождает следующую коллизию. Реализация этническим меньшинством права на внешнее политическое самоопределение означает сецессию — отделение от существующего государства его части. Но сецессия, по общему правилу, юридически недопустима без согласия этого суверенного государства (суверенной организации власти, выступающей от имени нации в целом). В частности, субъект федерации не вправе выйти из состава федерации без ее согласия. Нередко сецессия фактически невозможна в одностороннем порядке, без поддержки мирового или макрорегионального сообщества государств.
Получается, что право этнических меньшинств на внешнее политическое самоопределение — это право отделиться от существующего государства с согласия этого государства.
Вместе с тем существующие государства не вправе вообще отрицать право этнических меньшинств на политическое самоопределение. Практика же такого отрицания порождает терроризм на этнической почве и даже войны за национальную независимость. Так что если происходит силовое решение данной коллизии, то оно возможно и в пользу сецессии — если у самого этнического меньшинства достаточно для этого силы, или же оно опирается не только на правовую, но и на силовую поддержку мирового сообщества государств. Такая поддержка допускается международным правом в тех случаях, когда борьба этнического меньшинства за политическое самоопределение вызвана массовыми грубыми нарушениями индивидуальных прав человека в отношении представителей этого меньшинства[406].
Однако оптимальным является такое решение данной коллизии, которое приводит к внутреннему самоопределению этнических меньшинств.
Право на внутреннее политическое самоопределение. Это право их меньшинств на политическое самоопределение без сецессии — в рамках того государства, в котором они существуют как меньшинства. Цель такого самоопределения — обретение этническим меньшинством регионального самоуправления в рамках существующего государства. В данном контексте региональное самоуправление означает формирование этническим меньшинством на территории его компактного проживания органов государственной власти, самостоятельных в отношениях с центральными органами государственной власти. Такая самостоятельность достигается на основе конституционного разграничения компетенции между центральными государственными органами и государственными органами самоуправляющегося образования.
В унитарном государстве самоуправление национальных меньшинств — это этнотерриториальная автономия, т. е. предоставление отдельным административно-территориальным единицам самостоятельности по этническому принципу.
Другой вариант решения проблемы — федеративное государственное устройство, в рамках которого этническими меньшинствами создаются субъекты федерации. При этом другие субъекты федерации создаются по территориальному принципу — территориальными общностями “титульной нации” По такому смешанному, территориально-этническому принципу образована Российская Федерация.
Таким образом, внутреннее политическое самоопределение — это создание этносом (этническим меньшинством) либо автономного образования в унитарном государстве, либо субъекта федерации в государстве федеративном.
Для того чтобы этнические меньшинства могли претендовать на внутреннее политическое самоопределение, не требуется никаких причин вроде грубого нарушения государством прав человека в отношении представителей этих национальных меньшинств. Достаточно ясного волеизъявления национального меньшинства по правилам, установленным в государстве (например, референдум). Государство в силу своего суверенитета вправе противиться сецессии, но, по общему правилу, оно не должно отказывать своим меньшинствам в самоуправлении, ибо последнее не нарушает суверенитет. Но в силу того же суверенитета внутреннее политическое самоопределение части нации возможно только с согласия суверенной государственной власти.
Вместе с тем если осуществление внутреннего политического самоопределения не противоречит названным ниже условиям, то уже сам отказ в предоставлении этническим меньшинствам самоуправления следует расценивать как грубое нарушение (коллективных) прав человека.
При реализации права на внутреннее политическое самоопределение должны соблюдаться два условия. Во-первых, внутреннее политическое самоопределение не должно преследовать такие цели, которые несут в себе нарушение индивидуальных прав человека, например равноправия (независимо от пола, расы, национальности, языка и т. д.), свободы вероисповедания, свободы выражения мнений и т. д. Во-вторых, не должны нарушаться права других этнических групп, если таковые живут на территории, на которой происходит внутреннее политическое самоопределение этнического меньшинства. В частности, государство вправе препятствовать внутреннему политическому самоопределению этнической группы на такой территории, на которой представители этой группы составляют меньшинство населения.
В последнем случае внутреннее политическое самоопределение этнического меньшинства возможно в форме так называемой этнокультурной автономии, имеющей экстерриториальный характер. В этом случае этническим меньшинствам гарантируется представительство в центральных или региональных представительных органах государственной власти.
Таким образом, субстанциональный элемент государства — это нация, т. е. политико-правовая общность, которая возникает в результате внешнего политического самоопределения этносов и в рамках которой возможно внутреннее политическое самоопределение этнических групп.
§ 3. Территориальный элемент государства
Территориальный принцип действия государственной власти. Государственная власть территориально “распространяется”, т. е. воздействует, не на саму территорию, не на пространство, а на людей, находящихся в пределах определенной территории, в определенном пространстве, включая водное и воздушное. Таким образом, территориальный элемент государства — это пространство, в пределах которого действует власть определенного государства и которое эта власть защищает как жизненное пространство граждан или подданных.
Любая публичная власть в той или иной мере регулирует отношения подвластных к объектам, находящимся на территории действия этой власти, в частности, отношения к земле и другим природным ресурсам. Но территориальный элемент государства — это не объекты, составляющие государственную территорию.
Государство возникает с появлением собственности, с разделением частного владения (dominium) и публичной власти (imperium). Это еще не обособление сфер гражданского общества и государства, которое достигается в индустриальном обществе (в доиндустриальном, например феодальном, обществе власть может быть соединена с собственностью на землю), но это уже появление сферы экономической деятельности, свободной от публичной власти. Так что государственная власть может распространяться на объекты, включая природные, в пределах территории государства постольку, поскольку они находятся в государственной собственности, или постольку, поскольку отношения людей к этим объектам являются предметом правового регулирования.
Деспотическая же власть исключает свободу подвластных в отношении территориальных объектов, особенно в отношении земли и других природных ресурсов. Следовательно, она распространяется на определенную территорию в более широком смысле, нежели государственная власть, а именно она распространяется на все объекты, включая природные, находящиеся в пределах ее пространственного действия, полностью определяет отношения людей к этим объектам.
Территориальный и субстанциональный элементы государства. Территориальный элемент непосредственно свяэан с субстанциональным элементом государства. Территории, на которых возникают государства, суть территории, освоенные этносами, формирующими государство.
Исторически государственность возникает в процессе перехода от кровнородственных форм социальной организации этносов к территориальной социальной (политической) организации. И первоначально государственная власть распространяется только на территорию обитания этнической общности, создающей государство. Затем кровнородственные связи на этой территории и даже этническая принадлежность отдельных людей утрачивают свое определяющее значение для социальной организации: государственная власть — это такая власть, которая распространяется на всех, кто находится на территории ее действия. Подобно тому как нация формируется на этнической основе, но затем в ее состав включаются подвластные независимо от их этнической принадлежности, территория государства возникает как территория обитания этноса, формирующего государство, но государственная власть распространяется на всех находящихся в пределах этой территории независимо не только от их этнической, но и от их государственной принадлежности.
Вместе с тем положение на территории государства лиц, принадлежащих и не принадлежащих к этому государству, различно. С точки зрения идеологии естественных прав человека граждане и неграждане должны быть равноправны в сфере личной свободы и собственности. Но в государстве до- индустриального общества даже в этой сфере положение граждан и неграждан могло существенно различаться. Кроме того, даже современное государство возлагает на своих подданных такие обязанности и дает им на своей территории такую защиту и покровительство, которые не распространяются на иностранцев.
Итак, территориальный элемент — это не просто территория в признанных границах государства, а географическая область существования этнической общности, образовавшей государство. Это область, естественные границы которой предопределяют демаркацию и политическое признание границ- Но в тех случаях, когда территория государства изменяется в результате захвата других территорий, граница может быть установлена произвольно, вне связи с естественными границами проживания этносов, особенно если захватчика интере- суют не людские, а природные ресурсы территории.
Политическое самоопределение этносов происходит на территории, которая является для них родиной. Следовательно, территория государства — это страна, являющаяся родиной для нации или ее этнического ядра[407]. Признание в современном мире естественных прав на самоопределение с необходимостью ведет к признанию естественного права этноса на родину, т. е. территориальное самоопределение[408]. С этой точки зрения территориальный элемент государства можно рассматривать как территорию, на которую нация, этнос, создающий государство, имеет право — право на родину. Однако возможна такая конфликтная ситуация, когда два этноса или две нации претендуют на одну и ту же географическую область как на свою родину. Примером служит Палестина, являющаяся родиной и для евреев, и для палестинских арабов. Разрешение такого конфликта происходит в пользу той нации (этноса), у которой достаточно силы для реализации территориальных притязаний и за которой стоит силовая поддержка мирового сообщества (великих держав). Вместе с тем силовое решение такого конфликта в пользу одного этноса не лишает другой этнос права на внутреннее политическое самоопределение на своей родине.
Изменение государственной территории. В общем учении о государстве основания изменения государственной территории ранее (до возникновения современного международного права) трактовались главным образом с силовой позиции. В частности, различались “оккупация”, аннексия, цессия и адъюдикация[409].
“Оккупацией” (лат. occupatio — занятие, завладение) называлось занятие территории, не принадлежащей другому государству. Так, колониальные державы придерживались доктрины, согласно которой “ничья” территория или страна, населенная неевропейскими аборигенами, может быть правомерно (в смысле старой доктрины) присоединена к европейскому государству путем “оккупации”, в результате длительного фактического владения. Это понятие “оккупации” не имеет ничего общего с существующими в международном праве понятиями occupatio belloca и occupatio pacifica. Последние означают захват территории другого государства без ее формального включения в состав оккупирующего государства. Аннексия (лат. annexio — присоединение) означает одностороннее, не основанное на договоре присоединение территории другого государства.
Сегодня с юридической точки зрения очевидно, что в обоих случаях речь идет лишь о расширении государственной территории de facto. Но ни факт аннексии, ни факт “оккупации” сами по себе не могут порождать юридических основании для включения территории в состав других государств, даже если речь не идет о присоединении территории в результате агрессии. Ибо если эти территории населены, то вопрос об их вхождении в то или иное государство может решаться только политическим самоопределением населения.
Цессия (лат. cessio — официальная уступка, передача своих прав другому лицу) означает переход территории от одного государства к другому по договору. Нередко цессия происходит по окончании войны в результате заключения мирного договора. Как правило, при этом меняется государственная принадлежность населения передаваемой территории. Но чтобы не унижать национальное самосознание этого населения, жителям передаваемой территории часто предоставляется возможность оптации — право выбора гражданства.
Адъюдикация (лат. adjudicatio — присуждение) — это переход спорной территории по решению компетентного международного суда. Здесь, как и в случае “оккупации безгосударственной территории”, территория, присоединяемая к государству, рассматривается как некий “объект”, на который некий властный “субъект” приобретает право собственности по давности владения, в результате присуждения и т. д. Очевидно, что такая позиция в вопросе о юридических основаниях присоединения к государству других территорий является результатом силовой трактовки права. Она соответствует феодальным или абсолютистским представлениям о территории государства как о принадлежащей суверену с “людишками”, “городишками”, “сельцами” и т. д. и никоим образом не соответствует современному международному праву, праву народов на самоопределение. Если бы речь шла о ненаселенных территориях, тогда можно было бы говорить об этих территориях как “объектах”. Но если речь идет о населенных территориях, то в контексте современного международного правопорядка вопрос о правомерности изменения государственной принадлежности этих территорий не может решаться без и помимо волеизъявления населения этих территорий. В частности, адъюдикация возможна лишь как подтверждение правовых последствий такого волеизъявления.
Таким образом, следует различать два принципиально возможных варианта изменения государственной территории — силовой и правовой. Критерий их различения — политическое самоопределение населения территорий.
§ 4. Институциональный элемент государства
Государственная власть и право на неповиновение. Государство — это институциональная форма свободы, или политическая институция, обеспечивающая свободу хотя бы части членов общества, организация публичной политической власти правового типа. Такая институционально-правовая природа государственности все больше проявляется по мере исторического прогресса свободы и права. Применительно к государству индустриального общества можно говорить, что государственная власть является таковой, а не произвольным диктатом силы, поскольку это власть, ограниченная естественными и неотчуждаемыми правами и свободами человека и гражданина.
Патерналистская концепция правового положения индивида в государстве, сформировавшаяся в условиях абсолютизма и авторитаризма, ставила на первое место безусловную обязанность подчиняться власти и допускала только октроированные права подвластных по отношению к государству. С позиции же господствующей ныне доктрины естественных прав человека государственная власть, государственный суверенитет производны от свободы подвластных. Следовательно, с юридической точки зрения оправданна обязанность повиновения государственной власти, но не может быть безусловной юридической обязанности повиноваться любой политической власти. Со времен античности политико-правовая мысль признает естественное право на неповиновение, в частности, в современной науке различаются “консервативное” право на сопротивление попыткам узурпировать власть в демократическом конституционном государстве (право на защиту существующего правового порядка) и революционное право на неповиновение тиранической, правонарушающей власти[410]. Если власть нетерпимо нарушает права человека, то это дает подвластным основание реализовать свое право на (гражданское) неповиновение вплоть до восстания. Правда, ни теория, ни международно-правовая практика не ставят вопрос о четких критериях, позволяющих установить, до какого предела подвластные обязаны повиноваться и терпеть противоправные проявления власти. Очевидно, это вопрос конкретной правовой и политической традиции, культуры.
Право на неповиновение правонарушающей власти — это “право против государства” (разумеется, речь не идет о “праве” на неповиновение деспотической власти, так как последняя существует в принципиально ином социально-политическом, цивилизационном контексте, в условиях несвободного социального бытия). Следовательно, это особое естественное право, которое не может быть гарантировано существующим государством. Но в современном мире оно может и должно быть гарантировано мировым или макрорегиональным государственно-правовым сообществом. Здесь возникает вопрос о допустимости силового вмешательства (“гуманитарной интервенции”) и правовых основаниях такого вмешательства со стороны правового сообщества государств. По существу, это тот же вопрос о пределах противоправности власти: до какого предела международно-правовое сообщество обязано уважать суверенитет государства, в котором грубо нарушаются права человека? Или: каковы критерии, позволяющие различать правомерные и юридически неоправданные акции неповиновения (сопротивления) противоправному режиму? В каких случаях юридически допустимо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства ради защиты прав человека?
Исторический опыт показывает, что на практике о праве на неповиновение, на восстание говорят тогда, когда восстание победило. В противном случае говорят, что был бунт против законной власти или попытка государственного переворота, но власть восстановила законный порядок. Отсюда можно заключить, что право на неповиновение вплоть до восстания — это не нормативная, а объяснительная категория: с помощью этой категории нельзя установить, до каких пор следует терпеть произвол власти и когда его следует считать нестерпимым; зато эта категория позволяет post factum давать правовое объяснение революций, меняющих организацию власти.
По существу, то же самое относится и к правам на политическое самоопределение, на родину: если у определенной этнической группы достаточно силы или за ней стоит силовая поддержка мирового или макрорегионального сообщества, то в случае сецессии признается, что эта этническая группа реализовала свое право на создание государства на территории, которая является ее родиной. Но если такой силы (силовой или иной авторитетной поддержки) нет, то эту этническую группу просто не признают субъектом права на внешнее политическое самоопределение, а ее стремление к сецессии расценивается как преступная деятельность, угрожающая целостности государства. Возникает впечатление, что права на неповиновение и внешнее политическое самоопределение существуют лишь как право сильного, “право силы”, достаточной для революции или сецессии.
Но не всякая сила, способная осуществить государственный переворот или сецессию, признается современным международно-правовым сообществом в качестве силы, имеющей правовые основания. Так что оценка прав на неповиновение и на внешнее политическое самоопределение в качестве объяснительных категорий отнюдь не отрицает собственно юридический характер этих категорий.
Юридическое понятие государственного суверенитета. В социологической концепции государства, при чисто силовой трактовке государственности суверенитет государства изображается как “право силы”, как верховенство власти, не имеющей правовых границ. С этой позиции внутренний суверенитет государства означает патерналистское отношение верховной организации власти к подвластным, ничем не связанную монополию на политическое принуждение, на применение силы внутри страны (никакая другая социальная власть не вправе применять силу, во всяком случае без дозволения государственной власти). Внутренний суверенитет здесь трактуется как “полновластие” в том смысле, что организация верховной власти сама является источником и носителем всех возможных властных полномочий и сама, произвольно, определяет пределы этих полномочий. Внешний суверенитет государства в такой трактовке означает не просто независимость от других государств или от их объединений (от мирового сообщества), но и принципиальную несвязанность государства международными договорами, выполнение государством внешних обязательств лишь по соображениям силы или целесообразности[411]. Такая авторитарная и патерналистская парадигма соответствовала эпохе абсолютных монархий (первоначально, например в учении Ж. Бодена, суверен — это абсолютный монарх, источник всех властных полномочий), но уже в XIX в. она устарела. В частности, в этой парадигме невозможно объяснить природу и назначение конституционного права (как отрасли, устанавливающей правовые пределы власти внутри страны) и международного права (как правовой системы, ограничивающей силу в межгосударственных отношениях). Социологическая концепция государства вообще отрицает возможность такой отрасли права и такой правовой системы.
В современной юридической трактовке государственный суверенитет означает верховенство и независимость власти, подчиненной праву, монополию на принуждение в рамках государственных правомочий и независимость государства в рамках международного правопорядка.
Внутренний суверенитет в современном понимании — это право государства на принуждение по отношению к другим субъектам права, ограниченное обязанностью государства признавать и соблюдать права этих субъектов. Доктрина естественных и неотчуждаемых прав человека исходит из того, что свобода индивидов в современном обществе первична по отношению к создаваемой ими организации государственной власти и правомочия государственной власти производны от этой свободы. Устанавливая государственную власть, индивиды, образующие публично-правовую ассоциацию, отчуждают в пользу учреждаемой власти часть своей естественной свободы и в этих пределах обязуются подчиняться власти. Объем отчужденной свободы эквивалентен объему правомочий государственной власти, закрепленных в конституции и законах. Оставшаяся часть свободы состоит из:
1) наиболее фундаментальных прав и свобод, которые формулируются прежде всего в конституции и не подлежат отчуждению;
2) других прав и свобод, существование и значение которых не отрицается и не умаляется перечислением наиболее фундаментальных прав и свобод и которые впоследствии также могут быть сформулированы в качестве неотчуждаемых.
В такой теоретической конструкции правовое положение человека в государстве модельно описывается не одним, а двумя фундаментальными правоотношениями между человеком (гражданином) и государством. Первое, конституционноправовое, отношение означает, что у человека существуют естественные (естественные и неотчуждаемые права и свободы человека и гражданина) по отношению к государственной власти и этим правам соответствует безусловная обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. В рамках этого правоотношения у государства нет никаких прав по отношению к человеку (гражданину), а у последнего нет никаких обязанностей по отношению к государству, нет обязанностей, исполнением которых обусловлена реализация его прав и свобод. Естественные права человека — это безусловные притязания индивида на свободную самореализацию в обществе и государстве.
Второе правоотношение вытекает из существования в обществе государственной власти, обладающей принудительной силой для защиты свободы, безопасности и собственности членов общества и решения социальных задач. В рамках этого второго отношения государство выступает как власть, обладающая правом на принуждение. В этом отношении у государства есть право устанавливать законы и принуждать к их соблюдению, к законопослушности. Этому праву корреспондирует обязанность человека (гражданина) соблюдать законы, быть законопослушным. Причем человек должен быть законопослушным постольку, поскольку законы и другие официальные акты в общем и целом не нарушают его естественные и неотчуждаемые права. Если же власть своими законами грубо нарушает права человека, то подвластные могут реализовать свое естественное право на гражданское неповиновение вплоть до восстания.
Итак, есть и в принципе возможна только одна обязанность человека (гражданина) по отношению к государству — это абстрактная обязанность выполнять любые конкретные обязанности, установленные законами. Причем поскольку государственная власть в общем и целом соблюдает права человека, то действует презумпция правового характера и правового содержания отдельных законов (это не исключает возможности отдельных правонарушающих законов и других противоправных властных актов). И если человек (гражданин) считает, что конкретный закон или основанный на законе административный приказ нарушает его права, возлагает на него неправовые обязанности, то это еще не значит, что он вправе отказаться выполнять предписания закона (законные требования административных органов) и что государство в лице административных органов не может принуждать его к законопослушности. Если допускать, что частные лица вправе сами определять, какие законы — правовые и поэтому обязательные для исполнения, а какие — правонарушающие, и их можно не соблюдать, то получится анархия. Обязанность быть законопослушным в конкретных случаях является безусловной обязанностью человека (гражданина) в государстве до тех пор, пока речь не идет о праве на гражданское неповиновение власти и ее законам в целом. В то же время в государстве должны быть правоохранительные институты и юридические механизмы, позволяющие индивиду восстанавливать и защищать свои права, если они нарушены, в частности, государственными органами и должностными лицами государства.
Если человек (гражданин) считает, что решения или действия государственной власти нарушают его права и свободы, то конечно же он не может препятствовать осуществлению власти, например административным действиям, особенно если это законные действия. Но после того как эти действия совершены, он вправе использовать юридические механизмы и процедуры для защиты и восстановления своих прав. При этом человек (гражданин) вступает в спор о праве с государственными органами, а в правовом государстве он может вступать в спор о праве с самим законодателем. Отдельные законы, нарушающие конституционные права человека (гражданина), в правовом государстве можно обжаловать в суд конституционной юрисдикции.
Обязанность быть законопослушным неверно изображать так, как будто она корреспондирует естественным правам в рамках конституционно-правового отношения между человеком и государством. Отношение, в котором власть обязана признавать, соблюдать и защищать права человека, и отношение, в котором человек обязан быть законопослушным, — это не рядоположенные отношения. Если соединить их в одно, то получится некая конструкция “общественного договора”, юридическая фикция, порожденная исторически неразвитыми представлениями о правах человека. Согласно такой конструкции подвластные и государственная власть (как некая внешняя по отношению к подвластным сила) заключают соглашение о взаимных правах и обязанностях, по которому первые вправе требовать от власти защиты своей свободы и обязаны соблюдать законные ограничения свободы, а власть обязана защищать свободу подвластных и вправе для этого налагать на них законные ограничения свободы.
Естественные права и свободы вытекают из условий существования человека в индустриальном обществе. Они описывают сферу неотъемлемой свободы человека и устанавливают правовые пределы государственного суверенитета и законных ограничений свободы. Права человека не “даются” властью в награду за законопослушность. В противном случае получилось бы, что человек, нарушающий обязанность быть законопослушным, не говоря уже о конкретных “основных обязанностях” (платить законно установленные налоги и т. п.) может быть лишен прав. Однако права человека по отношению к государству — это права естественные, не дарованные государством, неотъемлемые. И государство не может отнять у человека его естественные права и свободы, даже если он нарушает обязанность быть законопослушным. Государство вправе ограничить осуществление человеком его прав и свобод в качестве наказания за совершение им преступления (по существу, то, что называется лишением свободы, — это временное или пожизненное ограничение возможности использовать некоторые права и свободы). Государство, применяя правовую санкцию, может лишить человека права собственности на конкретное имущество. Но оно не вправе, даже в наказание за преступление, лишать человека права быть собственником или отказать ему в признании его человеческого достоинства. Даже смертная казнь — это лишение жизни, а не права на жизнь.
Конкретные обязанности человека (гражданина) по отношению к государству устанавливаются законами, а права человека по отношению к государству имеют внезаконотворческий характер. Никаких конкретных дозаконотворческих и внезаконотворческих обязанностей, аналогичных естественным правам, у человека по отношению к государству нет, и закреплять, например, в конституции какие-то особые обязанности человека и гражданина просто бессмысленно. Любая законная обязанность, если она не противоречит естественным правам и свободам, действительна уже постольку, поскольку она установлена законом. И если такие обязанности ставить в один ряд, на один уровень с неотчуждаемыми правами человека, то это значит принижать права человека, умалять их юридическую силу, низводить до уровня произвольных суждений законодателя, иначе говоря, считать их октроированными.
Государство обязано признавать и соблюдать не только индивидуальные, но и коллективные права, в частности права этносов (этнических меньшинств) на самоопределение.
Последнее обстоятельство не укладывается в силовую парадигму суверенитета, в рамках которой “государственноорганизованный народ” выступает как “достояние” суверена, верховной власти, которая монопольно распоряжается судьбами народов. С этой точки зрения возникает впечатление, что необходимость признать права народов разрушает государственный суверенитет: “...если считать, что субъектами права на самоопределение, о котором говорится в международном пра- являются народы в социологическом понимании (т. е. этносы. — В. Ч.), то это значит подрывать суверенитет существующих государств. Противное означает полную свободу государства угнетать национальные меньшинства”[412].
В действительности здесь нет противоречия. Признание верховной организацией власти прав других субъектов — это не подрыв суверенитета, а проявление правовой природы государственного суверенитета. Признание прав этнических меньшинств отнюдь не означает оправдание безусловных притязаний на сецессию. Напротив, признание и соблюдение этих прав дают юридическое оправдание государственного принуждения.
“Народный суверенитет” и права человека. Пределы воли большинства в конституционном государстве. В прежней авторитарной трактовке суверенитета эпохи абсолютизма сувереном выступал монарх. В условиях демократии сторонники той же старой силовой трактовки суверенитета провозглашают сувереном (“носителем суверенитета”) народ.
По существу, конструкция “народного суверенитета”, как и “непосредственное осуществление народом своей власти”, — это фикция, выполняющая легитимирующую функцию в демократическом государстве[413]. Это своего рода демократический эквивалент суверена-монарха. Народ здесь мыслится как носитель и источник всей полноты государственной власти. Идея народного суверенитета используется в политических документах в целях создания эффекта “народности” гос} дарственной власти, производности государственного суверенитета от народа как некоего сакрального источника власти, в Новое время занявшего место Бога. Народ обычно представляют как коллективное целое, что очень удобно для того, чтобы преподносить политически оформленную волю политической элиты или части общества как волю этого коллективного целого (“всеобщую волю”). Так что серьезное восприятие идеологической конструкции “народ — носитель суверенитета” — это шаг назад даже в сравнении с учением марксизма-ленинизма, не говоря уже о том, что эта конструкция, по существу, несовместима с современной теорией конституционализма, ограничения публичной политической власти правами человека.
Во-первых, суверенитет не может принадлежать народу, если он принадлежит государству как организации публичной политической власти, не совпадающей с народом. Понятие суверенитета означает качество верховенства власти; этим качеством обладает государственная власть, и там, где есть государственная власть, возможен только государственный суверенитет. Если народ — “носитель суверенитета”, то получается, что институциональный элемент государства (организация суверенной власти) и народ суть одно и то же. Либо получается два суверенитета — народный и государственный (или два аспекта суверенитета, который, видимо, обладает идеальным бытием, существует сам по себе —- как “эйдос”), что противоречит понятию суверенитета. Так что институциональный элемент государства —- организация верховной власти — не допускает иного суверенитета, кроме государственного.
Народный суверенитет — это конструкция из утопического учения Ж.-Ж. Руссо, противопоставлявшего Правительство как аппарат государственной власти и Государство как совокупность граждан, решающих (в традициях непосредственной демократии швейцарских кантонов) все основные политические вопросы. Только в утопии Руссо народ существует как “носитель суверенитета”: когда действует народное собрание, полномочия государственного аппарата приостанавливаются. Такая конструкция отвергает саму постановку вопроса об ограничении верховной политической власти свободой подвластных, т. е. о конституционности власти. “Народный суверенитет” предполагает верховную (народную) власть, ничем не ограниченную. Здесь свобода индивида, действующего в отношениях гражданского общества, “снимается” свободой политического коллективного целого — народа.
Во-вторых, следует иметь в виду, что в демократическом правовом государстве (а именно к такому государству применяют конструкцию “народного суверенитета”) народ как “источник государственной власти” выступает не только в качестве коллективного целого, но и в качестве совокупности отдельных граждан, обладающих естественными и неотчуждаемыми правами и свободами. Каждый отдельный гражданин обладает неотъемлемой свободой по отношению к народу как Коллективному целому или к большинству, формирующему Политическую волю, и государству (организации суверенной власти), выражающему эту волю. В этом отношении права человека и гражданина означают правовую защиту индивида от произвола большинства, от “народного суверенитета”, как и от любого абсолютизма[414]. В частности, такую защиту призван обеспечивать суд конституционной юрисдикции. Такой суд вправе признавать законы, принятые органами народного представительства, даже квалифицированным большинством, недействительными (утратившими силу). Это оправдано в демократическом правовом государстве тем, что высшей ценностью в этом государстве являются отдельный человек, его права и свободы, а не воля народа — даже если она выражена в законе, принятом путем референдума.
Глава 3. Аппарат (механизм) государственной власти
§ 1. Понятие аппарата (механизма) государственной власти
Аппарат государственной власти и механизм государства. Институциональный элемент государства — это организация государственной власти. Говорить о государстве как об организации можно в разном контексте. В широком смысле государство —- это иерархическая организация, охватывающая все население определенной страны; в данном контексте речь идет о субстанциональном элементе государства. В этой организации всего населения страны есть ее “рядовые члены” (“простые” граждане и т. п.) и ее аппарат, осуществляющий управление всей организацией. Аппарат —- это совокупность управленческих должностей или органов управления организацией, делами организации. В то же время аппарат можно рассматривать как совокупность лиц, замещающих эти должности (совокупность должностных лиц), и лиц, подчиненных должностным лицам, помогающих должностным лицам, обеспечивающих выполнение функций должностных лиц. Отсюда понятно, что аппарат организации — это тоже организация, или организация в узком смысле, управляющая организация в более широкой иерархической организации, это организация, управляющая общими делами более широкого объединения людей, нежели те, кто служит в аппарате.
Таким образом, институциональный элемент государства — это организация власти в узком смысле, или иерархическая организация, осуществляющая государственную власть. Для ее описания используются понятия “аппарат государственной власти” (“государственный аппарат”) и “механизм государственной власти” (“механизм государства”).
Аппарат государственной власти обычно определяют как систему органов, посредством которых осуществляется государственная власть, реализуются функции государства, достигаются стоящие перед ним задачи[415]. При этом иногда понятие “государственный аппарат” отождествляют с понятием “механизм государства”[416]. Вместе с тем существует точка зрения, согласно которой понятие “государственный механизм” более широкое, нежели “государственный аппарат”, а именно если субъектный состав государственного аппарата означает только систему органов государственной власти (законодательную, исполнительную и судебную подсистемы), то механизм государства включает в себя не только государственные органы в данном понимании, но и так называемые силовые структуры, аппарат принуждения, материальные средства государственной власти, государственные учреждения[417].
Очевидно, что во всех случаях речь идет об институциональном элементе государства, который в данном контексте выступает как управляющая система с определенной структурой, состоящая из специфических элементов, связи между которыми определяют форму государства. Причем ключевым понятием, объясняющим и “аппарат”, и “механизм” государства, является понятие “орган государственной власти” (“государственный орган”).
Ниже термины “аппарат государства” и “механизм государства” будут считаться синонимами. Для удобства будет использоваться один термин — “аппарат государства” (“государственный аппарат”). Он будет обозначать систему государственных органов, включая “силовые структуры” и иные организации, осуществляющие государственную власть. При этом необходимо различать государственный аппарат и государственные учреждения, подчиненные государственному аппарату (хозяйственные единицы, системы коммуникаций, СМИ, транспорт, научные, образовательные, медицинские и другие социально-культурные учреждения). Государственные учреждения не участвуют в осуществлении государственной власти, но способствуют решению задач государства.
Термин “механизм” применительно к осуществлению государственной власти может нести особую смысловую нагрузку. “Механизм” — это всегда некая функциональная характеристика объекта. Поэтому термин “механизм” следует использовать не для структурного описания системы государственных органов, а для уяснения функциональной специфики различных частей (подсистем) и элементов государственного аппарата. В этом контексте можно говорить о механизме осуществления государственной власти, или о механизме функционирования государства. В общем и целом этот механизм строится на основе разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти, выполняющие разные функции единой государственной власти.
Государственные органы. Государственный орган — это основной элемент аппарата государства, наделенный определенной компетенцией. Компетенция государственного органа означает установленные правом полномочия (правомочия) в определенной сфере государственной деятельности, по определенным предметам ведения. Государственный орган обязан осуществлять свою компетенцию. В то же время в компетенцию некоторых государственных органов входят отдельные полномочия, которыми орган вправе пользоваться по своему усмотрению. Например, высшие государственные органы обладают правом (но не обязанностью) законодательной инициативы, вправе (но не обязаны) обращаться в конституционный суд с запросом о конституционности закона и т. д. Компетенция государственных органов устанавливается по принципу “запрещено все, что прямо не разрешено правом (правовым законом)” Но возможны и такие случаи, когда компетенция органа расширяется путем установления прецедента; если такой прецедент не признается правонарушающим, то он становится достаточным основанием компетенции. Например, Верховный Суд США своим прецедентом приобрел правомочия конституционного надзора. Наконец, возможны дискреционные Полномочия, позволяющие государственным органам действовать по своему усмотрению в чрезвычайных ситуациях. Возможность дискреционных полномочий тоже должна быть предусмотрена законом.
Организационно государственный орган складывается из Публично-властной должности или должностей, обычно иерархически связанных, и так называемого технического аппарата, обеспечивающего публично-властную деятельность государственного органа. Соответственно различаются единоличные и коллегиальные органы. Единоличный состоит из одного должностного лица государства. При этом единоличный орган, например президент, отличается от должностного лица государства, не являющегося государственным органом, тем, что в первом компетенция должностного лица и государственного органа совпадают. Глава коллегиального государственного органа может одновременно выступать и как единоличный орган, если он обладает самостоятельной компетенцией не только в рамках компетенции возглавляемого им коллегиального органа. Например, председатель правительства может обладать самостоятельной компетенцией при формировании правительства — коллегиального органа.
В зависимости от порядка формирования различаются органы, представляющие собой наследственную должность или состоящие из таких должностей (монарх, отчасти палата лордов в Великобритании), а также органы, избираемые гражданами (представительные органы) или формируемые другими государственными органами.
В последнем случае порядок формирования может быть простым и сложным. Простой означает избрание или назначение должностных лиц одного органа другим государственным органом. Например, Уполномоченный по правам человека в РФ назначается (по существу — избирается) Государственной Думой Федерального Собрания РФ. Правительство РФ формируется путем назначения Председателя и членов Правительства указами Президента РФ, причем назначению Председателя Правительства предшествует голосование по его кандидатуре в Государственной Думе. Судьи Верховного Суда США назначаются Сенатом по представлению Президента США.
Сложным способом формируются коллегиальные органы, в состав которых “по должности” входят представители других государственных органов. Так, верхняя палата парламента ФРГ — Бундесрат — состоит из членов правительств земель (субъектов федерации). Еще более сложным является порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ, в состав которого по должности входят главы исполнительной власти и главы законодательных собраний субъектов РФ. В частности, представитель законодательного органа субъекта РФ, являющийся одновременно членом Совета Федерации, сначала избирается (гражданами) депутатом этого законодательного органа, а затем избирается (депутатами) главой этого органа субъекта РФ. Глава исполнительной власти субъекта РФ, избранный гражданами на эту должность, автоматически становится членом Совета Федерации.
В зависимости от государственно-территориального устройства различаются органы центральные и местные (региональные), а в федеративном государстве — органы федеральные и органы субъектов федерации. Государственный орган субъекта федерации —- это не просто орган, действующий на территории субъекта федерации. Такой государственный орган образуется на основании закона субъекта федерации, формируется населением или другим государственным органом этого субъекта федерации и, наконец, финансируется из бюджета субъекта федерации. (То же самое относится и к государственным органам автономии.) В федеративном государстве местные государственные органы могут быть как федеральными, так и образованными субъектами федерации.
Органы, называющиеся органами местного самоуправления (в действительности это могут быть местные государственные органы), обычно не являются государственными и не входят в систему органов государства. Но как правило, они не только осуществляют местное самоуправление (самостоятельно решают вопросы местного значения), но и выступают как специфические элементы механизма государственной власти, поскольку по закону наделяются отдельными государственными полномочиями, реализация которых подконтрольна государству.
§ 2. Организационная структура аппарата государственной власти
Системное единство государственной власти и разделение властей. Государственная власть едина в том смысле, что она осуществляется государственным аппаратом в целом (институциональным элементом государства) и что не существует нескольких конкурирующих “государственных властей” В частности, в этом заключается государственный суверенитет. Но во-первых, единую государственную власть осуществляют законодательные, исполнительные и судебные органы. Во-вторых, по мере исторического развития государственности и права формируется определенный принцип взаимоотношений и кооперации этих органов, который называется разделением властей. Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви (разделение властей “по горизонтали”) — это не раздробление единой власти, а принцип строения институционального элемента государства, структурно-функциональная характеристика организации, или механизма, государственной власти.
Единую государственную власть осуществляет государственный аппарат, который представляет собой систему государственных органов. В рамках этой системы различаются три подсистемы (три относительно самостоятельные и взаимодействующие системы), образующие законодательную, исполнительную и судебную ветви аппарата государственной власти как целого. В основе такого структурного строения аппарата государства лежит функциональная дифференцированность государственной власти[418]. Обычно эту функциональную дифференцированность объясняют как разделение труда по государственному управлению. Имеется в виду, что государственная власть функционально предназначена для законотворчества, исполнения законов (принуждения к соблюдению законов) и отправления правосудия. Рациональная организация и разделение труда по государственному управлению порождают государственные органы, обладающие разной компетенцией: есть органы, которые устанавливают общеобязательные нормы, органы, которые управляют в соответствии с этими нормами, и органы, которые в соответствии с этими нормами разрешают споры о праве.
Подчеркнем, что теоретическая конструкция разделения труда по государственному управлению объясняет лишь наличие законодательных, исполнительных и судебных органов. Причем из этой конструкции вовсе не вытекает разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви, не вытекает разграничение законодательных, исполнительных и судебных полномочий. Например, эта конструкция допускает, что орган исполнительный, управляющий в соответствии с общеобязательными нормами, одновременно Сам может издавать общеобязательные нормативные акты. Эта конструкция не отрицает и такое разделение труда по государственному управлению, при котором один и тот же орган устанавливает и исполняет законы, например может принять закон по любому вопросу индивидуального характера.
В любом более или менее развитом государстве в структуре государственного аппарата различаются законодательные, исполнительные и судебные органы. Но наличие этих органов еще не говорит о разделении властей. Так, в абсолютной монархии есть законодатель (сам монарх, при котором может быть законосовещательный орган), исполнительные органы (правительство или министры, административные органы) и суды. Но здесь нет разделения властей, все государственные органы замыкаются на фигуру монарха. Абсолютный монарх не только законодатель, но и глава исполнительной власти и верховный судья.
В структуре деспотической организации власти тоже есть властные институты, порожденные разделением труда по управлению. Например, в советской тоталитарной системе были органы, реально принимавшие общеобязательные решения, и органы, ответственные за выполнение этих решений, был номинальный законодатель, были формально разделенные суд и прокуратура. Но, разумеется, власть тотальная исключает какое бы то ни было разделение властей или разграничение полномочий.
Разделение властей —- это не любое разделение труда по государственному управлению, а такое, которое обеспечивает свободу субъектов государственно-правового общения. Это такой принцип организационной структуры государственного аппарата, который достигается в исторически развитых государственных формах и создает институциональные гарантии свободы, безопасности и собственности.
Концепция единой государственной власти, отрицающая разделение властей. Для диктаторских режимов Нового времени, особенно для тоталитарных диктатур XX в., характерна идеология, отрицающая саму возможность разделения властей. По этой идеологии власть принадлежит одному коллективному субъекту — нации, народу, политически господствующему классу, “трудящимся” и т. п., и этот субъект ее ни с кем не делит (социальное единство власти). От имени этого субъекта, например народа, власть осуществляется иерархической системой органов, в рамках которой может быть только разделение труда, но не разграничение компетенции (организационное единство власти). Имеется в виду, что в единой иерархической системе есть высший властный орган, получающий свои полномочия как бы непосредственно от народа, а все остальные органы получают свои полномочия от этого высшего органа, подотчетны ему и подконтрольны. Следовательно, этот высший орган прямо или косвенно определяет деятельность всех остальных органов, может вмешиваться в их компетенцию[419]. По смыслу этой концепции власть является не только единой в ее социальной сущности, но и неделимой в ее организационной форме.
Разновидностью такой идеологии является концепция системы Советов, официально принятая в СССР. С точки зрения этой концепции “органами государственной власти" являются только Советы депутатов (рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов, депутатов трудящихся, народных депутатов). Вся полнота власти принадлежит системе Советов, включающей в себя верховный и местные Советы. Советы полновластны (всевластны), так как получают полномочия непосредственно от якобы первичного носителя власти — пролетариата, трудящихся и т.д. Все остальные органы формируются и контролируются Советами. Все эти органы, создаваемые “Советской властью”, не считаются органами государственной власти" и делятся на органы государственного управления, суды и прокуратуру. Функционеры органов управления, судьи и прокуроры могут быть одновременно депутатами Советов, законодателями; в этом случае исполнители законов, выступая как законодатели, будут заботиться о качестве решений, которые им надлежит выполнять.
Концепция системы Советов претендует на радикальный демократизм. Она отвергает разделение властей как такую структурную организацию государственной власти, при которой государственные органы не могут вмешиваться в компетенцию друг друга, следовательно, органы, избираемые народом, не всевластны и не могут контролировать другие государственные органы. В действительности это антидемократическая, авторитарная концепция, оправдывающая сосредоточение власти в одном органе и узурпацию государственной власти кликой, которая прикрывает свою диктатуру видимостью демократических учреждений. Хорошо известно, что всевластные органы реально не избираются народом и что диктаторская власть может лишь имитировать выборы в такие органы. Система Советов в СССР и подобные системы сталинистского типа в Китае, Северной Корее, странах Восточной Европы служили псевдодемократическим фасадом тоталитарных режимов, при которых единство власти реально объясняется не “народовластием”, а неограниченной деспотической властью диктатора, вождя.
Сторонники псевдодемократической концепции единства государственной власти безосновательно приписывают государству вообще и современным развитым государствам в частности организационное деление государственного аппарата на органы власти, управления, суды и прокуратуру. “Органами государственной власти” они называют парламенты — представительные законодательные органы. Поскольку эти законодательные органы избираются народом (а народ здесь объявляется источником государственной власти), то вместо разделения властей в этой конструкции получается верховенство законодателя[420]. Органы исполнительной власти (правительство, административные органы) в этой конструкции оказываются подконтрольными парламенту "органами государственного управления”[421]. В этой конструкции не находится места для президента — главы исполнительной власти. Такой президент избирается народом, следовательно, не несет ответственности перед парламентом и его нельзя относить к органам государственного управления, подотчетным парламенту; но в этой конструкции его нельзя считать и “органом государственной власти”, так как президент осуществляет исполнительную власть, исполняет решения “органов государственной власти” Далее в этой конструкции следуют суды, применяющие законы, и органы прокуратуры, надзирающие за законностью[422]. Получается, что государственную власть осуществляет только демократически избранный законодатель, а остальные звенья государственного аппарата подчинены законодателю и лишь исполняют его волю, осуществляют решения “органов государственной власти”
Рассмотренная конструкция отрицает ценность разделения властей исходя из ложной посылки, что существует некая “власть народа”, которая сама по себе представляет абсолютное политическое благо. Здесь считается, что общество может застраховать себя от тиранической диктатуры лишь тогда, когда в государстве будет верховный орган, получающий власть от народа, а все остальные органы будут подчиняться верховному органу, будут ему подконтрольны. Но во-первых, сама “власть народа” может быть формальным источником диктатуры. Классический пример: национал-социалисты в Германии пришли к власти после того, как на демократических выборах в 1932 г. они получили относительное большинство (40%) в Рейхстаге. Во-вторых, демократически избранный орган является относительно независимым от избравшего его народа. И если власть этого органа не ограничена компетенцией других органов, если все остальные органы ему подчинены, то, ссылаясь на волю народа, он легко может превратиться в коллективного тирана или выдвинуть из своей среды диктатора и даже начать террор против собственного народа, о чем красноречиво свидетельствует практика Национального конвента в 1793 г. во Франции. Наконец, история свидетельствует, что при отсутствии разделения властей верховный представительный орган становится псевдодемократическим прикрытием для диктатуры политического лидера, победившего в борьбе за власть внутри этого органа.
Напротив, теория разделения властей признает высшей политической ценностью не “власть народа”, а свободу. Свобода обеспечивается такой структурой аппарата государственной власти, в которой нет верховного органа, и никакой государственный орган не может сосредоточить в своих руках власть, достаточную для установления диктатуры.
§ 3. Разделение властей как надлежащая правовая форма организации аппарата государственной власти
Разделение властей в контексте философии права. Государственная власть состоит из трех относительно самостоятельных ветвей, каждая из которых имеет свое юридическое обоснование. Эти ветви власти — законодательная, исполнительная и судебная — обособились как три основополагающие институционально-правовые формы публично-властной деятельности.
Обособление именно этих ветвей власти и соответствующих им форм не есть просто проявление некой целесообразности, упорядочивающей управление обществом. Это проявление правовой природы государственности в целом и естественных различий трех направлений и правовых форм публично-властной деятельности. По мере того как в ходе истории все больше проявлялось правовое начало государственности, обособлялись именно законодательная, исполнительная и судебная власти, но не “контрольная” или, скажем, “карательная” Ибо именно эти три власти, и только они (четвертой в этом ряду не дано), исчерпывают предназначение государства — публично-властное обеспечение свободы, безопасности, собственности.
Законодательная ветвь государственной власти в официальной форме устанавливает правовые нормы, общие правила, определяющие меру свободы человека в обществе и государстве. В частности, законодатель устанавливает правила применения политической силы, необходимого и допустимого с точки зрения обеспечения свободы, безопасности, собственности. Исполнительная власть воплощает в себе принудительную силу государства. Это система органов, обладающих, в частности, полицейскими полномочиями, способных осуществлять организованное принуждение вплоть до насилия. Эти полномочия должны быть правомочиями, т. е. должны быть установлены законом для обеспечения свободы, безопасности, собственности. Судебная власть разрешает споры о праве, устанавливает право (права и обязанности) в конкретных ситуациях, для конкретных субъектов. В частности, судебные решения дозволяют или предписывают правовые меры государственного принуждения в отношении конкретных субъектов.
Разделение властей означает, что органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны в пределах своей компетенции и не могут вмешиваться в компетенцию друг друга. В то же время компетенция этих органов такова, что они не могут действовать изолированно, и государственная власть осуществляется в процессе кооперации трех ее самостоятельных ветвей: деятельность законодателя не принесет желаемого результата без соответствующей деятельности исполнительной и судебной власти, осуществление правосудия невозможно без власти законодательной и судебной и т. д. Кроме того, во взаимоотношениях ветвей власти должны быть сдержки и противовесы, не позволяющие каждой из ветвей власти выходить за пределы ее компетенции и, наоборот, позволяющие одним ветвям власти удерживать другие в рамках компетенции.
Юридический смысл разделения властей выражен в следующем рассуждении великого французского просветителя Ш. Л. Монтескье в его основном сочинении “О духе законов”: “Если власть законодательная и исполнительная будут соединены в одном лице или учреждении, то свободы не будет, так как можно опасаться, что этот монарх или сенат станет создавать тиранические законы для того, чтобы так же тиранически применять их. Не будет свободы и в том случае, если судебная власть не будет отделена от власти законодательной и исполнительной. Если она соединена с законодательной властью, то жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная власть соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать угнетателем”[423]. Следует пояснить, что Монтескье отводит роль главы исполнительной власти монарху не потому, что он сторонник монархии и противник республики (в этом контексте его теорию рассматривать неуместно), а потому, что исполнительная более эффективна, когда она осуществляется единоличным органом власти.
Из этого рассуждения Монтескье вытекает, что разделение властей существует в трех аспектах или на трех уровнях — функциональном, институциональном и персональном.
1. Функциональное разделение властей. Ради обеспечения свободы необходимо установить раздельно функцию принятия решений о принуждении (применении силы) и функцию осуществления государственного принуждения. Законодательная власть устанавливает правила применения силы, судебная власть допускает или предписывает конкретные меры применения силы. Следовательно, эти ветви власти не должны обладать принудительной силой, не должны осуществлять государственное принуждение. Поскольку такой силой обладает исполнительная власть, она сама не должна принимать нормативные или индивидуальные решения о применении силы. Следовательно, исполнительная власть должна действовать на основании и во исполнение законов и судебных решений.
В правовом государстве во всех случаях, когда действия исполнительной власти связаны с ограничениями свободы и собственности, эти действия не только должны быть законными, но и должны сопровождаться предварительным или последующим судебным контролем за их законностью и обоснованностью. В частности, ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) устанавливает, что: (1) арест (заключение под стражу), задержание, содержание под стражей возможны лишь на законном основании и в порядке, предусмотренном законом; (2) эти ограничивающие свободу административные действия допустимы лишь с санкции суда или для выполнения соответствующего судебного решения; (3) несанкционированные судом арест (заключение под стражу), задержание нуждаются в незамедлительной судебной проверке их законности и обоснованности; (4) содержание под стражей допустимо лишь на основании обвинительного приговора суда.
2. Институциональное разделение властей. Осуществление функций законодательной, исполнительной и судебной не должно быть соединено в одном лице или учреждении. Разделение властей означает отделение инстанций, обладающих принудительной силой, от инстанций, принимающих решение о применении силы. Иначе говоря, нужно разделить государственные органы, компетентные применять силу и компетентные принимать решения о применении силы.
В этом контексте разделение законодательной и исполнительной власти означает, во-первых, что органы исполнительной власти не вправе заниматься первичным нормотворчеством, издавать нормативные акты, имеющие силу закона.
Российская Конституция (ст. 10) провозглашает разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. Но в противоречие функциональному и институциональному разделению властей ст. 90 Конституции позволяет Президенту РФ — главе исполнительной власти — издавать указы не на основании и во исполнение законов, а всего лишь не противоречащие Конституции и законам. Это означает конкурирующую нормотворческую компетенцию номинального законодателя (Федерального Собрания) и Президента. Так, если вопрос не урегулирован законодательно, Президент имеет право издать по этому вопросу свой нормативный акт. Президент может внести законопроект, а в случае отклонения законопроекта — издать по этому вопросу указ. Президент может реализовать свое право отлагательного вето, отклонить федеральный закон и издать по этому вопросу указ. Следовательно, в России возглавляемая Президентом исполнительная власть выполняет функцию законодательной власти. Нормативные указы Президента, не противоречащие Конституции, имеют силу закона до тех пор, пока иное не установлено вступившим в силу федеральным законом. Конституционный Суд РФ признал такое положение не противоречащим Конституции: Президент РФ вправе издавать указы, восполняющие пробелы в законодательном регулировании, а их действие во времени ограничивается периодом до принятия соответствующих законов[424]. Между тем такое нарушение разделения властей несовместимо с конституционным идеалом правового государства.
Во-вторых, законодатель не вправе вмешиваться в деятельность исполнительных органов, не вправе принимать решения индивидуального характера, входящие в компетенцию исполнительной власти. В противном случае законодатель превратится в институциональную силу, одновременно устанавливающую правила применения силы.
Концепция, отрицающая ценность разделения властей, исходит из того, что законодатель (орган народного представительства) должен контролировать деятельность исполнительных органов и может своим законом или иным актом решить любой вопрос, входящий в компетенцию исполнительной власти. Получается, что законодательная власть должна быть одновременно и исполнительной, по меньшей мере, руководить исполнительно-распорядительной деятельностью. Но можно оценить такое положение и с другой стороны: орган исполнительной власти становится законодателем. Ибо с точки зрения политической арифметики безразлично, законодатель ли становится исполнителем или исполнитель — законодателем. Возникает своего рода “симбиоз” органов законодательной и исполнительной власти, в котором законодатель уже не заботится о гарантиях свободы, безопасности и собственности, а подводит законодательную базу под административный произвол.
Недопустимость соединения судебной власти с законодательной достаточно очевидна. Если судья будет сам устанавливать и менять правила, по которым он судит, то получится “Шемякин суд”, в котором дело будет выигрывать та сторона, которая больше заплатит. Но это требование не отрицает возможность прецедентного права. При установлении прецедента суд создает норму, но в дальнейшем судьи связаны этой нормой.
Законодатель не вправе косвенно вмешиваться в процесс отправления правосудия, изменяя законы, которые должны применяться в делах, интересующих законодателя, если такое вмешательство угрожает свободе, безопасности, собственности. Поэтому существует правило: “закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет” Вместе с тем допустима юридическая ответственность лишь за те деяния, которые признаются правонарушениями в момент применения санкции. Поэтому смягчающий закон имеет обратную силу. По аналогичным мотивам амнистию, объявляемую законодателем, следует считать допустимым вмешательством в процесс отправления правосудия.
Отмечая недопустимость соединения судебной власти с исполнительной, Монтескье обратил внимание лишь на одну сторону проблемы — “судья получает возможность стать угнетателем” Действительно, полицейские органы, творящие “суд и расправу”, напоминают чрезвычайный карательный аппарат тоталитарных режимов, например Особое совещание при НКВД и “тройки”, действовавшие в СССР в 1938 г. Но есть и другая сторона: если суд не отделен от администрации, то нет государственного органа, который давал бы правовую защиту от административного произвола. Суд должен быть независим от любых органов исполнительной власти, включая министерство юстиции.
Если же судьи, хотя бы в силу так называемого организационного подчинения суда министерству юстиции или же в силу их фактической зависимости от бюрократического аппарата, ведающего распределением социальных благ, так или иначе инкорпорированы в структуры исполнительной власти, они объективно вынуждены защищать корпоративные интересы этой власти, если таковые затрагиваются спором о праве. При таком положении суд не может быть гарантом законности, противовесом незаконным акциям исполнительной власти. В целях достижения административной независимости судов от органов законодательной и исполнительной власти в США, Японии и некоторых европейских странах формирование бюджета судов, назначение персонала, расходы на ведение дел и тому подобные вопросы находятся под судебным контролем.
3. Персональное разделение властей. В состав законодательных органов не входят функционеры исполнительной власти и судьи, т. е. депутатами легислатуры не могут избираться будущие исполнители законодательных решений. Однако этот, казалось бы, очевидный принцип несовместимости депутатского мандата с занятием других государственных должностей не соблюдается в парламентарных странах (Великобритания, ФРГ и др.), где члены правительства одновременно являются депутатами парламента. Причем такое нарушение персонального разделения властей — это не упущение в процессе формирования системы разделения властей в отдельных странах, а принципиальная черта парламентарных стран.
Контрольные органы государственной власти в системе разделения властей. В науке существует точка зрения, согласно которой не все государственные органы можно отнести к законодательным, исполнительным и судебным, и существует четвертая — контрольная ветвь власти[425]. Следует подчеркнуть, что существование в странах с недостаточно развитой государственностью таких органов, которые не укладываются в разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, свидетельствует о том, что в этих странах либо вообще нет разделения властей, либо оно принципиально нарушено.
Также существует понятие “учредительная власть”, но оно не относится к характеристике аппарата государственной власти. Обычно об “учредительной власти” говорят как о “власти народа”, выражающейся в принятии конституции путем референдума. Либо имеется в виду компетенция особого представительного органа — учредительного, или конституционного, собрания, которое принимает конституцию и тем самым как бы учреждает новое государство. Понятие “учредительная власть” не стоит в одном ряду с понятиями законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, объясняющими структуру “учреждаемого” или уже существующего аппарата государственной власти.
Если механизм государства построен на основе разделения властей, то есть только органы законодательной, исполнительной и судебной власти. При этом возможно такое соотношение законодательных и исполнительных органов, которое отклоняется от строгого разделения законодательной и исполнительной властей в президентских республиках, образцом которого служат США. Но такое отклонение не порождает новые ветви государственной власти наряду с законодательной и исполнительной.
Там, где есть разделение властей, там не бывает власти президентской, не совпадающей с исполнительной, “отделенной” от законодательной и исполнительной, и самостоятельной контрольной власти, выходящей за пределы контрольных полномочий законодательной, исполнительной или судебной. Иначе говоря, если есть разделение властей, то нельзя в одном ряду ставить “власти” президентскую, законодательную, исполнительную, судебную, контрольную и т. д. Такой ряд, по существу, отрицает не разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, а разделение властей вообще.
Там, где нет разделения властей (притом что в рамках “разделения труда по государственному управлению” есть законодательные, исполнительные и судебные органы), реальный глава государства (монарх, диктатор, “суперпрезидент” и т. д.) действительно играет самостоятельную роль. Но фигура такого реального главы государства стоит не в одном ряду с другими государственными органами (законодательными, исполнительными, судебными), а над ними. Здесь может имитироваться разделение властей, притом что глава государства обладает решающим комплексом полномочий в законодательной и исполнительной сферах и, возможно, даже полномочиями высшей кассационной или надзорной судебной инстанций.
Если специальные контрольные (надзорные) органы играют самостоятельную роль в аппарате государства, даже стоят в одном ряду с парламентом, правительственными органами и
судами общей юрисдикции, то это еще не означает особую “контрольную” ветвь власти. Так, прокуратура, осуществляющая надзор за законностью, вместе с правительственно-административными органами относится к исполнительной власти. Для контроля за конституционностью законов и действий высших государственных органов не требуется особая ветвь государственной власти. По существу, конституционный контроль — это проверка правового характера законов, и такой контроль входит в задачу судебной власти, разрешающей споры о праве. Конституционный контроль осуществляют суды общей юрисдикции или специальные конституционные суды. В тех редких случаях, когда конституционный контроль осуществляют квазисудебные органы (например, Конституционный совет во Франции), полномочия такого контроля ограниченны и не позволяют органу конституционного контроля встать в один ряд с законодателем.
Контрольные полномочия могут осуществлять и вспомогательные органы при законодателе, например счетная палата, омбудсман (уполномоченный по правам человека). Разумеется, такие вспомогательные органы не образуют самостоятельную ветвь государственной власти.
§ 4. Законодательная власть
В условиях разделения властей законодательную власть осуществляет демократически избираемый парламент — один из высших государственных органов. В федеративном государстве законодательную власть на основе разграничения компетенции осуществляют легислатуры (законодательные органы) федерации и субъектов федерации. Не бывает местных органов законодательной власти.
Демократически избираемый законодатель — это представительный орган. Он принимает решения в рамках открытого, гласного политического процесса, дающего формально равный доступ к законотворчеству всем носителям социальных интересов. Легитимация закона с помощью демократической процедуры — необходимое, но еще не достаточное условие правового характера, юридичности закона. Поэтому необходим институт конституционного контроля, предназначенный Для защиты от возможных законодательных нарушений прав человека.
Понятия “представительный орган” и “законодательный орган” не тождественны. Во-первых, “представительный” означает избираемый гражданами, представляющий интересы субъектов гражданского общества (“представительная демократия”); избираемый народом президент — это тоже представительный орган, хотя он представляет далеко не все интересы, представленные в парламенте. Во-вторых, органы местного самоуправления — это тоже представительные органы, но — это не органы государственной власти, они не устанавливают “местные” законы.
Современные парламенты обычно состоят из двух палат — верхней и нижней. Такая двухпалатная организация легислатуры является элементом сдержек и противовесов в рамках законодательной власти: обычно нижняя палата является фактическим законодателем (парламент в целом является номинальным законодателем), а верхняя обладает контрольными полномочиями в законодательном процессе. Верхняя палата далеко не всегда формируется путем всеобщих прямых выборов. В большинстве стран часть или все члены верхней палаты назначаются или избираются путем косвенных выборов.
В некоторых странах общего права, прежде всего в Великобритании, считается, что в состав парламента входят не только две палаты, но и номинальный глава государства. Так, британский парламент состоит из монарха, полуаристократической палаты лордов и демократически избираемой палаты общин, и все три элемента участвуют в осуществлении законодательной власти.
Сдержки и противовесы в отношениях между ветвями государственной власти проявляются и в сфере законодательного процесса.
Теория различает в законодательном процессе пять стадий. Первая стадия — внесение законопроекта в нижнюю палату парламента субъектами законодательной инициативы. Прежде всего такими субъектами являются сами депутаты нижней палаты. Строгое разделение властей на законодательную и исполнительную должно исключать право законодательной инициативы для органов исполнительной власти. Ибо подготовка законопроекта органом исполнительной власти означает, что будущий исполнитель закона закладывает его фундамент, задает содержание закона номинальному законодателю- Однако такое строгое разделение властей соблюдается только в президентской республике (США).
Вторая стадия — рассмотрение законопроекта в нижней палате, как правило, в трех чтениях. Необходимость трех чтений вызвана самой логикой демократической процедуры законотворчества. Первое чтение означает первое формальное ознакомление законодателей с законопроектом. Если законопроект принимается в первом чтении, то назначается второе чтение, во время которого происходит обсуждение законопроекта по существу. Затем в него вносятся поправки, снимаются взаимоисключающие поправки, после чего он выносится на заключительное, третье чтение, по итогам которого законопроект утверждается в окончательном виде.
Третья стадия — вотирование закона нижней палатой, т. е. голосование по законопроекту, в результате которого либо закон считается не принятым, либо вотированный закон направляется в верхнюю палату парламента. Таким образом, вотирование еще не означает принятие закона: закон принимается не нижней палатой, а парламентом. Обычно для вотирования простых законов требуется простое большинство голосов от общего числа депутатов нижней палаты. Для органических или конституционных законов требуется квалифицированное большинство.
Четвертая стадия — одобрение вотированного закона верхней палатой парламента. Как правило, если простой закон в течение определенного срока не рассмотрен верхней палатой, то он считается “одобренным по умолчанию” Органические или конституционные законы, а также законы по определенным вопросам, указанным в конституции, не могут быть “одобрены по умолчанию” Рассмотрев закон, верхняя палата может одобрить его требуемым большинством голосов либо не одобрить (отклонить, заявить возражения). Во втором случае закон, как правило, направляется в нижнюю палату парламента, которая вправе преодолеть возражения верхней палаты квалифицированным большинством голосов. В противном случае закон считается не принятым.
Пятая стадия — промульгация. Закон, принятый палатами парламента, не вступает в силу автоматически. В условиях разделения властей номинальный глава государства или глава исполнительной власти, на которого возложены обязанности номинального главы государства, должен подписать закон и опубликовать его для всеобщего сведения. Если иное не предусмотрено в самом законе, то он вступает в силу с момента его опубликования. Если государственный орган, промульгирующий законы, обладает правом отлагательного вето, то палатам парламента дается право преодолевать вето квалифицированным большинством голосов каждой из палат. Существующее в некоторых монархических государствах (дуалистические монархии) абсолютное вето не может быть преодолено парламентом.
§ 5. Исполнительная власть
Система органов исполнительной власти обладает заключенной в правовые рамки институциональной принудительной силой, обеспечивающей исполнение законов и судебных решений. Государственное принуждение непосредственно осуществляют полиция, внутренние войска, уголовно-исполнительные учреждения. Оборону страны и обеспечение внешней безопасности государства осуществляют находящиеся в ведении исполнительной власти вооруженные силы, учреждения тайной полиции, внешней разведки и контрразведки. Не вполне верно называть все эти институты и учреждения “силовыми структурами” Такое название создает впечатление, что часть аппарата государства воплощает в себе организацию власти не правового, а силового типа.
Если органы исполнительной власти обладают автономными нормотворческими полномочиями, то это значит, что они не только обладают принудительной силой, но и сами для себя устанавливают нормы, позволяющие осуществлять принуждение. Такие органы фактически будут доминировать в аппарате государства, ибо в отличие от номинального законодателя они обладают не только властью принимать нормативные решения, но и силой, чтобы проводить эти решения в жизнь. Это в очередной раз показывает, что разделение властей нельзя отождествлять с разделением труда. Разделение нормотворческой компетенции между органами законодательной и исполнительной власти можно рассматривать как “разделение труда” по осуществлению государственного нормотворчества. Но такое “разделение труда” является нарушением разделения властей.
С точки зрения права органы исполнительной власти должны быть подчинены требованию “запрещено все, что прямо не разрешено правом (правовым законом)” Исполнительные органы не должны заниматься нормотворчеством, но должны действовать во исполнение закона и в рамках бюрократических процедур, регламентированных законом. Если высшие исполнительные органы все же издают нормативные акты (в современном обществе издание таких актов по частным вопросам может быть более целесообразным, нежели детальная законодательная регламентация), то это не может делаться в силу какой-то общей нормотворческой компетенции исполнительной власти. Президентское или правительственное нормотворчество оправданно лишь в рамках полномочий, специально делегированных законодателем по конкретному вопросу. Законность актов исполнительной власти может быть оспорена в судебном порядке. Недопустимо издание секретных нормативных актов, тем более в порядке делегированного нормотворчества, ибо акты правительственно-административных органов не могут быть легитимированы демократической процедурой законотворчества. Существует правовая аксиома: нормативный акт, не опубликованный официально для всеобщего сведения, не применяется.
Органы исполнительной власти занимаются не только исполнением законов, но и административной, распорядительной деятельностью — управляют подчиненными им органами и учреждениями.
В условиях разделения властей высшими исполнительными органами являются монарх (в дуалистической монархии), президент (в президентской или полупрезидентской республике) и правительство, формируемое монархом или президентом либо ответственное перед парламентом (в парламентарных странах и в полупрезидентской республике). Прокуратура как контрольная подсистема исполнительной власти должна быть независимой от этих высших исполнительных органов. Местные административные органы обычно формируются центральными органами исполнительной власти. В федеративном государстве компетенция исполнительной власти разделена между федеральными органами и органами субъектов федерации. Наряду с исполнительными органами субъектов федерации могут создаваться местные органы федеральной исполнительной власти.
Система органов исполнительной власти имеет иерархическую структуру, нижестоящие органы несут ответственность перед вышестоящими. Вместе с тем в правовом государстве иерархически соподчиненные органы исполнительной власти самостоятельны в рамках своей компетенции и вышестоящие органы не вправе вмешиваться в компетенцию нижестоящих.
§ 6. Судебная власть
Суды общей, административной и конституционной Юрисдикции. Разрешая споры о праве, суд защищает права в Рамках надлежащей правовой процедуры: субъект, права которого нарушены, как равноправная сторона вступает в спор о праве с любым частным или должностным лицом, с любым государственным органом, нарушившим его права. Перед лицом суда все формально равны — и частные лица, и носители публично-властных полномочий.
Различают суды общей, административной и конституционной юрисдикции. Суды общей юрисдикции рассматривают споры о праве, возникающие между формально равными субъектами. Это гражданско-правовые споры, возникающие между частными лицами, и уголовные дела. В последних формально равными субъектами (сторонами спора о праве) выступают обвиняемый (подсудимый) и общество (народ), от имени которого действует государство в лице компетентных органов.
Суды административной юрисдикции рассматривают споры о праве, возникающие между частными лицами и правительственно-административными органами по поводу законности их решений, которыми, по мнению частных лиц, нарушены их права. Если суд признает такое решение незаконным, то он объявляет его недействительным. Если суд установит, что административное решение законно, но закон, лежащий в его основе, противоречит конституции, то он признает административное решение недействительным. Однако в последнем случае суд административной юрисдикции не вправе объявлять недействительным сам закон.
В России нет специальных административных судов. В случаях нарушения прав физических лиц административную юрисдикцию осуществляют суды общей юрисдикции, юридические лица обращаются в арбитражные суды.
Суды конституционной юрисдикции рассматривают споры о праве между гражданином и законодателем по поводу конституционности закона, нарушающего, по мнению гражданина, его конституционные права и свободы. Закон, признанный судом противоречащим конституции (нарушающим конституционные права и свободы), объявляется недействительным полностью или частично. Причем закон утрачивает силу по решению конституционного суда, т. е. не требуется отмена закона издавшим его законодателем.
Различаются европейская (австрийская) и американская модели конституционной юрисдикции.
Европейская модель конституционной юрисдикции. По европейской модели специально создается судебный или квазисудебный орган (он может называться “конституционный суд”, “конституционный трибунал”, “конституционный совет” и т. д.), который один обладает правом признавать законы противоконституционными и недействительными. У других судов, в частности у верховного суда (высшего суда общей юрисдикции), такого права нет. Первый конституционный суд был создан в Австрии, отсюда и название — австрийская модель.
Конституционный суд рассматривает особые, конституционно-правовые дела. В основном это либо проверка конституционности законов и других актов высших органов власти, либо рассмотрение споров о конституционной компетенции государственных органов. Для этого ему даются полномочия конституционного надзора или конституционного контроля.
Конституционный надзор означает, что конституционный суд не только проверяет конституционность государственных актов, но и наблюдает за тем, чтобы высшие государственные органы в своих решениях не нарушали конституцию. Если конституционный суд усомнится в конституционности подсудного ему акта, то он может сам, по собственной инициативе, возбудить процедуру проверки конституционности этого акта. Нетрудно заметить, что в этом случае он выступает как судья в своем деле, что противоречит природе правосудия и одному из основополагающих правовых принципов. Иначе говоря, конституционный надзор несовместим с конституционным правосудием.
Конституционный контроль допускает проверку конституционности законов и других актов лишь в случае обращения в конституционный суд с запросом о конституционности акта или с иском о защите конституционных прав и свобод.
Различают абстрактный и конкретный, предварительный (превентивный) и последующий (репрессивный) конституционный контроль.
Конкретный контроль осуществляется в отношении закона, который применен или может быть применен в конкретном случае, к конкретным лицам. Абстрактный контроль осуществляется по запросам компетентных государственных органов — независимо от того, применяется закон, нарушает он чьи-либо права или нет.
Предварительный контроль осуществляется в отношении законов, не вступивших в силу, или законопроектов. Соответственно последующий — в отношении законов, вступивших в силу. Абстрактный контроль может быть как предварительным, так и последующим, конкретный — только последующим.
Конкретный конституционный контроль возможен в двух вариантах. Во-первых, инцидентный контроль: суд общей или административной юрисдикции, рассматривающий конкретное Дело, вправе обратиться в конституционный суд с запросом о Конституционности закона, примененного или подлежащего Применению в этом деле, и конституционный суд будет проверять конституционность закона в связи с тем, что возник конкретный повод для проверки. Во-вторых, и это главное, граждане обладают правом так называемой индивидуальной конституционной жалобы, т. е., по существу, они вправе обращаться в конституционный суд с иском о признании недействительным закона, применение которого нарушает их конституционные права и свободы.
Право индивидуальной конституционной жалобы выражает сущность и предназначение конституционной юрисдикции, осуществляемой по европейской модели. Если в государстве создается специальный орган, компетентный признавать законы недействительными, т. е. фактически стоящий над законодателем, то это может быть оправдано лишь тем, что гражданин обладает естественными правами по отношению к законодателю и должен защищать их от законодательного произвола в особой судебной процедуре. Поэтому нельзя учреждать конституционный суд и при этом не предоставлять гражданину право индивидуальной жалобы.
В любом случае конституционный суд в системе сдержек и противовесов играет роль “суперзаконодателя” (“негативного законодателя”). Во-первых, он вправе признавать законы недействительными. Во-вторых, он дает официальное (казуальное и нормативное) толкование конституции. В-третьих, признав закон не противоречащим конституции, суд может дать такое толкование закона, которое изменяет смысл, вложенный в него законодателем. Причем формально нет никаких оснований считать, что узкая коллегия профессиональных юристов — назначаемых судей конституционного суда (“аристократический элемент разделения властей”) — будет защищать права граждан надежнее, чем избранные гражданами законодатели.
Но не следует забывать, что смысл разделения властей состоит не столько в том, чтобы “создать свободу”, сколько в том, чтобы затруднить нарушения прав и свобод граждан государственными органами. В системе разделения властей конституционный суд является элементом, “сдерживающим” законодателя. Он не позволяет законодателю существенно изменить конституционный строй ни в отрицательную, ни в положительную сторону.
Американская модель конституционной юрисдикции. По этой модели, возникшей в США, не создается конституционный. суд, а полномочия конституционной юрисдикции осуществляются верховным судом — высшим судом общей юрисдикции, выступающим, как правило, в качестве апелляционной или надзорной инстанции.
Американская модель имеет свою предысторию. Еще в XVII в. британские суды создавали прецеденты общеправового судебного контроля за законодательством. Начало было положено установлением прецедента в судебном решении по делу врача Томаса Бонхэма против Врачебной палаты (1610 г.)[426]. В основе этого прецедента лежит аксиоматический принцип права “никто не может быть судьей в своем деле”. Применение этого принципа как общепризнанного правового критерия при оценке законов позволяет признавать соответствующие законы противоправными, а значит, недействительными.
В Англии существовал орган сословного самоуправления врачей — Врачебная палата. Она рассматривала споры между врачами и жалобы на врачей. По закону Врачебная палата могла наложить штраф на врача, причем половина суммы штрафа поступала председателю Палаты. Врач Томас Бонхэм, приговоренный Палатой к уплате штрафа, счел решение Палаты необоснованным и обжаловал его в суд. Знаменитый английский судья сэр Эдуард Коук, рассмотрев дело, установил, что Врачебная палата не вышла за пределы своей законной компетенции. Однако, заявил судья, есть общеизвестный правовой принцип “никто не может быть судьей в своем деле”, и никакой закон не может отменить этот принцип. Если же закон нарушает этот принцип, то такой закон противоречит праву, а значит, является недействительным и не применяется судом. Закон (парламентский акт), дозволяющий председателю Врачебной палаты получать в свое распоряжение половину суммы назначенного штрафа, ставит председателя и подчиненных ему судей Палаты в положение судей в своем деле. Ибо поскольку председатель и судьи Палаты прямо заинтересованы во взыскании штрафа, в каждом подобном деле они фактически выступают не только как судьи, но и как сторона. Закон был признан недействительным, и тем самым был установлен судебный прецедент, в соответствии с которым любой закон, противоречащий требованию “никто не может быть судьей в своем деле”, не применяется судом[427].
Это был первый известный случай судебного инцидентного надзора за правовым содержанием закона. Такой инцидентный надзор означает проверку судом правового характера закона, примененного или подлежащего применению в том деле, которое рассматривает этот суд.
Верховный Суд США как суд общей юрисдикции является высшим судом по всем вопросам, которые в странах европейского континентального права составляют предмет гражданского, уголовного и административного судопроизводства. Это не такой суд, который специально предназначен для решения конституционно-правовых вопросов и проверки конституционности законов, а такой, в компетенцию которого, в частности, входит инцидентный конституционный надзор — проверка конституционности нормативных актов в процессе разрешения гражданских, уголовных и административных судебных дел.
Верховный Суд США не занимается абстрактным конституционным контролем. Нижестоящие суды не обращаются в Верховный Суд США с запросами по конкретному поводу, они должны сами решать вопрос о конституционности закона, применяемого или подлежащего применению в конкретном деле. Здесь нет специального института индивидуальной конституционной жалобы, которую можно было бы подавать непосредственно в Верховный Суд, и граждане вправе обращаться за защитой любых своих прав в нижестоящие суды (по подсудности).
Верховный Суд США, осуществляя конституционный надзор, проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в деле, которое он сам рассматривает. Нетрудно заметить, что при этом Суд выступает как судья в своем деле — выбирает законы, которые, по его мнению, неконституционны (правда, он редко пользуется этим правом). Вместе с тем Суд связан инцидентом — делом, спором о праве, в Связи с рассмотрением которого возникает повод проверить конституционность (правовой характер) применяемого закона. Тем самым Верховный Суд устанавливает обязательный для всех судов прецедент применения или, наоборот, неприменения закона по причине его соответствия или несоответствия Конституции США. По существу, то же самое может делать и любой другой суд. Но только Верховный Суд создает общеобязательный прецедент недействительности закона в случае, если он установит его несоответствие Конституции США. Это право Верховного Суда не предусмотрено в Конституции. Верховный Суд приобрел его своими действиями в результате установления прецедента по делу Мэрбери против Мэдисона (1803 г.)[428].
Вкратце содержание этого дела сводится к следующему[429]. Джона Адамса, шестого Президента США, представителя партии федералистов, в 1801 г. сменил республиканец Томас Джефферсон. Но прежде, стремясь сохранить влияние федералистов в государственных органах, Адамс добился учреждения новых судебных должностей, в частности, в результате принятия Конгрессом США Органического закона о федеральном округе Колумбия (столица США город Вашингтон). Это довольно искусственное образование в федеративной структуре США. Его создание, в частности, объясняется тем, что каждому новому Президенту США “достаются в наследство” судьи, назначенные при его предшественниках. Выделив столицу страны в самостоятельную единицу, Адамс создал ранее не существовавшие судебные вакансии и добился назначения судьями сторонников федералистов. Голосование в Сенате по их кандидатурам и оформление судейских патентов затянулось до полуночи в последние сутки пребывания Адамса в должности (отсюда название — “полуночные судьи”). Когда они обратились уже к новой государственной администрации за получением судейских патентов, Джеймс Мэдисон — государственный секретарь в администрации Джефферсона — отказал им, откровенно нарушив свои обязанности. Тогда один из “полуночных судей”, Мэрбери, обратился в Верховный Суд с иском, в котором требовал обязать Мэдисона выдать судейский патент.
Судьи Верховного Суда и его председатель Джон Маршалл были федералистами. Последний, видимо, хорошо понимал, что заставить Мэдисона выдать патент фактически невозможно, и если решение будет принято в пользу Мэрбери, а республиканцы его не выполнят, то престиж Верховного Суда упадет и позиции федералистов в политике ослабеют. Поэтому Маршалл решил пожертвовать сиюминутными интересами и выиграть в долгосрочной политической перспективе. Решение было принято в пользу Мэдисона, но с таким расчетом, чтобы извлечь из него максимум пользы для Верховного Суда, а значит, для федералистов. А именно: Маршалл, формулируя мнение Суда, указал, что Мэрбери имеет право на назначение, а по закону (Акту о судоустройстве 1789 г.) Верховный Суд вправе давать предписания государственной администрации о выполнении требований истца. Но по Конституции, подчеркнул Маршалл, власть в США разделена на законодательную, вверенную Конгрессу, исполнительную, врученную Президенту, и судебную, возглавляемую Верховным Судом; и нигде в Конституции не сказано, что одна ветвь власти может вмешиваться в компетенцию другой. Отсюда вытекает аксиоматичный для Маршалла вывод (власти все, что не разрешено, запрещено): если какой-либо закон дозволяет такое вмешательство, то он противоречит Конституции и его следует считать недействительным.
Таким образом, в иске Мэрбери было отказано по чисто формальным основаниям: закон, позволяющий дать предписание Мэдисону, недействителен. Тем самым Верховный Суд несколько сузил свою юрисдикцию — в отношении права отдавать предписания. Но одновременно федералисты в Верховном Суде получили право признавать любые акты, противоречащие Конституции, недействительными., Был установлен судебный прецедент, по которому Верховный Суд приобрел право инцидентного конституционного надзора, т. е. пра,во устанавливать обязательный для других судов прецедент конституционности или неконституционности закона.
Глава 4. Форма государства
§ 1. Понятие формы государства
В наиболее общем виде государство предстает как множество людей (субъектов государственного общения, граждан или подданных), объединенных на определенной территории публичной политической властью правового типа. Отдельные государства, их виды, различаются не только по содержанию публично-властных отношений, функций и задач государственной власти, но и по форме объединения людей в государство.
Существуют две основополагающие формы объединения людей под властью высших органов государства — форма подданства и форма гражданства. Эти исходные формы предопределяют формы государства, различаемые в современной теории, форму правления, государственный режим и территориальное устройство государства.
Форма подданства (реальная монархия) представляет собой исторически неразвитую форму государства. В этой форме субъекты государственного общения (те, на кого распространяется государственная власть) объединены под властью династического правителя (монарха) как его поданные, отделенные от института верховной власти. По существу, это такая форма государства (форма правления), при которой субъекты государственного общения по происхождению делятся на тех, кто допущен и кто не допущен к осуществлению верховной власти, кто может быть только подданным государя, даже занимая высокие посты на “государевой службе”
Со времен античного полиса известна противоположная форма, при которой субъекты государственного общения составляют совокупность граждан государства. Граждане обладают политическими правами, участвуют в формировании и осуществлении государственной власти. Такая форма государства в политической мысли прошлого обозначалась как демократия или республика. Демократия в этом контексте означает причастность каждого полноправного гражданина к управлению общими делами, принципиальную возможность участвовать в формировании и деятельности высших магистратов. Смысл понятия “республика” в этом контексте выражается Известной формулой Цицерона “respublica — res populi” (республика, т. е. государство, — это дело народа).
Современная теория описывает эти исходные формы государства прежде всего понятием “форма правления” и различает по форме правления монархии и республики. Но при этом, с одной стороны, в категорию монархий попадают не только государства, в которых реальная власть принадлежит монарху, отделенному от подданных, но и номинальные монархии, в которых у монарха нет реальной власти; последние — это, как правило, демократические государства, которые, по сути, представляют собой республики. С другой стороны, под республиканскую форму правления подпадают и такие государства, в которых гражданская политическая активность существенно ограничена, политические права и свободы грубо нарушаются.
Иначе говоря, и монархии, и республики могут быть реальными и номинальными. Поэтому в современной теории форма государства описывается не только понятием формы правления, но и понятием “государственный режим” Последнее позволяет различать демократическую форму государства, реально обеспечивающую политическую свободу, и авторитарную форму,- при которой политическая свобода либо еще не достигнута, либо ущемляется, подавляется. Различение демократических и авторитарных режимов показывает, что субъекты государственного общения в номинальной монархии лишь формально остаются подданными, но фактически они являются гражданами, причастными к формированию и осуществлению реальной государственной власти. Наоборот, при авторитарном режиме в номинальной республике большинство граждан фактически могут превратиться в пассивный объект власти, в подвластных, не способных влиять на формирование и осуществление власти.
Наконец, в современной теории при описании формы государства используется понятие “территориальное устройство государства”, или “форма территориального устройства” Возможны централизованная и децентрализованная формы территориального объединения людей в государство. Причем территориальная организация государственной власти, мера ее централизации или децентрализации определяются не только географическим фактором. Авторитарная власть требует большей территориальной централизации власти (унитаризм), хотя при больших размерах страны центральная власть, создавая региональные органы власти, может предоставлять им некоторую автономию. Демократическая, же власть, даже при относительно малой территории страны, допускает как централизованную, так и децентрализованную форму территориальной организации государства. При этом население регионов (частей, из которых складывается территория государства) может самостоятельно формировать региональные органы государственной власти, обладающие компетенцией, в которую центральные органы государства вмешиваться не вправе (федерализм). В той мере, в которой граждане обладают политической свободой, они с учетом исторических, территориальных и этнических факторов определяют меру территориальной централизации или децентрализации государственной власти.
Таким образом, форма государства — это понятие, объясняющее характер объединения людей в государство, способы формирования и осуществления государственной власти, меру ее территориальной централизации. Форма государства складывается из трех элементов: форма правления, государственный (политический) режим, территориальное устройство государства.
Не существует строгой взаимосвязи между формой государства и содержанием или функциями государственной власти. Так, и правовое, и полицейское государство допускают республиканскую и монархическую формы правления, унитарное и федеративное территориальное устройство. Государственная власть в форме монархии и в форме республики может решать одни и те же задачи. Социальная направленность государственной политики, патерналистские функции государства возможны в условиях и демократического, и авторитарного государственного режима. В истории известны не только демократические, но и аристократические республики, а парламентарная монархия в постиндустриальном обществе обеспечивает реальное политическое участие большинства социальных групп. Вместе с тем абсолютная монархия или авторитарный режим несовместимы с правовой государственностью.
Категории формы государства нельзя применять к тоталитарным системам XX в. Тоталитаризм имитирует республиканские демократические институты, но по существу он означает деспотизм. Тоталитарные системы в территориальном аспекте являются сверхцентрализованными. Например, “советская федерация” — это нонсенс, ибо федерализм — это форма децентрализации государственной власти.
§ 2. Форма правления
Понятие формы правления объясняет, из каких основных институтов складывается организация государственной власти, как они формируются и как они взаимодействуют друг с другом. По форме правления прежде всего различаются монархии и республики.
В монархии высшие полномочия государственной власти (реальные или номинальные) приобретаются единоличным правителем обычно по наследству и осуществляются, как правило, пожизненно. Но династический принцип наследования короны соблюдается не всегда. Во-первых, династии могут меняться в результате захвата власти. Во-вторых, известны выборные монархии, в которых судьбу короны решала аристократия. Власть монарха (и сам институт монархии) легитимируется ее божественным происхождением. Даже в номинальной монархии монарх не подлежит юридической ответственности. Монарх, осуществляющий реальные властные полномочия, не несет законной политической ответственности за свою деятельность.
В республике высшие полномочия государственной власти осуществляются должностными лицами (президент, депутаты парламента и т.д.), избираемыми на определенный срок. Признаки реальной республики — это выборность, коллегиальность одного или нескольких высших государственных органов, законность, краткосрочность легислатур и замещения высших должностей исполнительной власти.
Различение монархии и республики по критериям выборности, коллегиальности, законности и краткосрочности осуществления должностных обязанностей весьма условно, если учитывать, что выборы монарха не составляют редкое исключение, что коллегиальность в республике характерна не для всех государственных органов, что судьи несменяемы и т. д. Когда противопоставляют монархию и республику, то под монархией подразумевается монархия реальная — прежде всего абсолютная монархия, которая складывается в период позднего феодализма и которая действительно является противоположностью республике. Как реальные монархии к абсолютным монархиям примыкают древние монархии[430], в частности Римская империя эпохи домината, а также раннефеодальные и сословно-представительные монархии, в которых власть монарха была ограничена привилегиями вассалов или органом сословного представительства типа парламента, созывавшимся монархом. Реальные монархии характерны для доиндустриального общества, а для индустриального характерны республики и номинальные монархии, причем в XX в. номинальная монархия сохраняется как традиция во многих наиболее развитых странах. О номинальных или конституционных монархиях нельзя говорить как о противоположности республиканской формы правления.
В теории различаются монархии неограниченные, или абсолютистские (абсолютарные и примыкающие к ним монархии)[431], и ограниченные (конституционные). При этом последние обычно подразделяются на дуалистические и парламентарные. Следует иметь в виду, что парламентарная — это номинальная монархия, в которой у монарха нет реальных властных полномочий, в то время как в дуалистической монархии есть реальные прерогативы монарха. Поэтому правильнее различать монархии реальные (неограниченные и ограниченные, абсолютистские и конституционные) и номинальные (парламентарные). Или же можно рассматривать дуалистическую монархию как форму правления, переходную от абсолютистской монархии к парламентарной.
В абсолютистской монархии нет разделения властей, монарх (реальный глава государства) сосредоточивает в своих руках все высшие полномочия государственной власти. Он является единственным или верховным законодателем — только по его волеизъявлению нормативные установления могут приобретать силу закона[432]. Он является верховным судьей, от его имени творится правосудие, он обладает правом помилования. Он назначает и смещает должностных лиц исполнительной власти, перед ним ответственно правительство. Абсолютный монарх подчиняется законам в той мере, в которой он желает им подчиняться. В этом отношении абсолютистская монархия противостоит республике, где все должностные лица обязаны действовать в соответствии с законом. Законность, власть законов — явление, характерное для республики; для абсолютистской монархии характерно правление людей — добрых или злых монархов, справедливых или несправедливых, “грозных” и “тишайших” и т. д.
Вместе с тем не следует путать неограниченную (абсолютистскую) монархию как форму государства с деспотией — властью силового, антигосударственного типа. При неограниченной монархии единоличный правитель пользуется полномочиями государственной власти неограниченно и независимо от каких-то других государственных органов. Например, парламент здесь может созываться лишь по воле монарха, а решения парламента не будут иметь силы, если монарх с ними не согласен. Но государственная власть, которую осуществляет такой монарх, не является властью неограниченной. В неограниченной монархии государственная власть — это власть, минимально ограниченная свободой части членов общества, например привилегиями высших сословий.
В конституционной монархии власть монарха либо существенно ограничивается конституцией, либо превращается в номинальную. В дуалистической конституционной монархии устанавливается разделение властей такого рода, что монарх как минимум лишается законодательных и судебных прерогатив. Следует отметить, что теория разделения властей, исторически формировавшаяся в условиях господства монархической формы правления, первоначально отводила роль главы исполнительной власти именно монарху.
В дуалистической монархии (пример — Северогерманский союз и Германская империя, Австро-Венгрия в XIX—XX вв.) законодательную власть осуществляет избираемый народом парламент, а исполнительную — правительство, ответственное перед монархом. Здесь власть монарха существенно ограничена прерогативой парламента принимать государственный бюджет. Но в случае конфликта между правительством и парламентом монарх выступает на стороне формируемого им правительства. В частности, в конфликтной ситуации он вправе распустить неугодный ему парламент, а правительство фактически законодательствует до тех пор, пока не будет избран новый парламент. Право монарха распускать парламент не ограничивается.
Иное дело — парламентарная монархия (все монархии в современных развитых странах — Японии, Великобритании, Австралии, Испании, Швеции, Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии и др.). Здесь монарх — номинальный глава государства, т. е. такое должностное лицо, у которого нет реальных полномочий какой-либо ветви государственной власти. “От имени” или “по поручению” монарха фактические полномочия высших органов законодательной и исполнительной власти осуществляют парламент и образуемое им правительство. Конституция формально относит к компетенции номинального монарха широкий круг вопросов, но монарх не вправе решать их самостоятельно. В парламентарной монархии существует институт контрасигнатуры, означающий, что подпись монарха действительна лишь при наличии подписи премьер-министра или другого компетентного члена правительства.
Система разделения властей в парламентарной монархии ничем не отличается от парламентарной республики (ФРГ, Италия и др.). С точки зрения формирования высших государственных органов есть одно формальное различие: в республике номинальный глава государства — президент — избирается на определенный срок обычно верхней палатой парламента; в монархии номинальным главой государства становятся в порядке престолонаследия. Но с точки зрения распределения реальных властных полномочий неважно, избирается или нет номинальный глава государства. Поскольку в обоих случаях речь идет о конституционно-правовой фигуре без реальных властных полномочий, то, по существу, нет никакой разницы между номинальной монархической и республиканской формами парламентарного правления.
Для современных развитых государств характерны парламентарные монархии и республики — президентские, парламентарные и смешанные (полупрезидентские). Причем, поскольку парламентарные монархии, по существу, ничем не отличаются от парламентарных республик, эти варианты одной и той же формы правления объединяют в одном понятии: “парламентарные страны”, или “страны с парламентарной формой правления” Таким образом, для современных развитых государств характерны следующие три формы правления: 1) президентская республика; 2) парламентарная форма правления; 3) смешанная (полупрезидентская) республика.
Форма правления и разделение властей. В президентской республике, образцом которой являются США, существует строгое разделение властей на законодательную и исполнительную. В частности, здесь соблюдается разделение властей на персональном уровне: депутатский мандат несовместим с занятием иной платной государственной должности.
Президент, являющийся главой исполнительной власти, избирается народом и не несет политической ответственности перед парламентом. Соответственно здесь нет и парламентской ответственности правительства. Правительство существует при президенте. Парламент только законодательствует, не вмешивается в формирование правительства и осуществление исполнительной власти. Парламент несет ответственность за свою законодательную деятельность только перед избирателями в процессе очередных выборов в парламент; поэтому здесь невозможен досрочный роспуск парламента. Президент не обладает правом законодательной инициативы и не вмешивается в законодательный процесс до тех пор, пока закон не принят парламентом. Фактически исполнительная власть подготавливает наиболее важные законопроекты, но она вынуждена находить окольные пути для внесения законопроекта в парламент. Правительственный законопроект может быть изменен парламентариями без согласия правительства, и такой законопроект, переработанный в парламенте, может быть не похож на первоначальный[433].
Действующая в президентской республике система сдержек и противовесов не позволяет органам законодательной и исполнительной власти выходить за пределы их компетенции. Президент обладает правом отлагательного вето в отношении законов, принимаемых парламентом, но оно преодолевается квалифицированным большинством голосов (обычно две трети) в обеих палатах парламента. В случае нарушения президентом конституции нижняя палата вправе возбудить против президента процедуру импичмента; но решение об отрешении президента от должности может принять только верхняя палата парламента. В США, стране общего права, деятельность законодательной власти контролируется Верховным Судом страны. Последний вправе устанавливать обязательный для всех судов прецедент неприменения закона, если закон признается противоречащим Конституции США. Верховный Суд дает толкование Конституции, обязательное для законодателя. Но и здесь действует “противовес”: данное Судом толкование Конституции может быть отменено принятием поправки к ней. Судьи Верховного Суда назначаются Президентом США (с согласия Сената), но назначаются пожизненно, и каждому Президенту “достаются” судьи, назначенные его предшественниками.
В парламентарных странах парламент не только осуществляет законодательную деятельность, но и формирует правительство. Точнее, правительство формируется партией или коалицией партий, располагающей большинством мест в нижней палате парламента. Поэтому здесь нет стрргого разделения властей на законодательную и исполнительную ветви.
В контексте различения законодательной и исполнительной ветвей власти в парламентарных странах можно обнаружить только институциональное разделение властей: есть парламент — институт законодательной власти, и есть правительство — институт исполнительной власти. Однако здесь нет функционального и персонального разделения властей на законодательную и исполнительную ветви. Премьер-министр и, как правило, все остальные члены правительства одновременно являются депутатами нижней палаты парламента. Поэтому на парламентских выборах избиратели фактически голосуют и за будущее правительство: избирательные списки партий возглавляют кандидаты на должности премьер-министра и членов правительства. Законодательную и правительственную политику здесь определяет партия, побеждающая на парламентских выборах, точнее, партийная политическая элита, контролирующая нижнюю палату парламента и формирующая правительство. Столь важная роль политических партий в сферах деятельности законодательной и исполнительной властей позволяет характеризовать парламентарные страны как “государство партий”[434].
В “государстве партий” правительство правит, опираясь на законодательную поддержку парламентского большинства. Одни и те же лица, составляющие правительство и представляющие большинство в нижней палате парламента, проводят законы через парламент и организуют исполнение этих законов. Законопроекты готовятся правительством, и обычно парламент не вносит изменения в законопроекты. Если премьер-министр и другие министры не вправе вносить законопроекты как члены правительства, то фактически они делают это как депутаты парламента. Следовательно, правом законодательной инициативы не обладают только такие члены правительства, которые не являются депутатами парламента. Однако для министра утрата депутатского мандата обычно влечет за собой уход из правительства. Кроме того, в парламентарных странах распространена практика делегированного, законодательства, когда парламент поручает правительству издавать нормативные акты, фактически имеющие силу закона.
Тем не менее в “государстве партий” в правовом поле деятельности институтов законодательной и исполнительной власти существует функциональное и персональное разделение властей. Правда, функционально здесь различаются не законодательная и исполнительная, а так называемая партийная и административная ветви власти. Термин “партийная” отнюдь не означает, что аппарат какой-то политической партии подменяет собой государственную власть. “Партийную” ветвь власти составляют парламентское большинство (возможно, коалиционное) и образованное им правительство. “Партийная” власть — это не “власть партии”, а такая сфера осуществления государственной власти, в которой действует политическая партия (коалиция партий), победившая на выборах.
Административную власть осуществляет внепартийная профессиональная бюрократия, организованная в систему органов (институтов) исполнительной власти. Состав функционеров административной власти не меняется в зависимости от того, какая партия приходит к власти и формирует правительство. Административная власть действует на основании и во исполнение законов (или актов, имеющих силу закона), но не партийных решений. Она не подчиняется политическим решениям, не получившим законодательного оформления.
Таким образом, в парламентарных странах высшие государственные решения, прежде всего законодательные, принимаются номинальным законодателем, но фактически предопределяются правительством. Исполняются эти решения бюрократическим государственным аппаратом, составляющим административную власть, аппаратом, которым правительство (“партийная” власть, правящая партия) не может распоряжаться по своему усмотрению. Получается, что в парламентарных странах функцию законодательной власти выполняет не только парламент, но и правительство, институционально отделенное от парламента, но функционально выступающее “продолжением” нижней палаты парламента, парламентского большинства. Вместе с тем правительство выполняет и функцию исполнительной власти. Однако исполнительную власть осуществляет не только правительство, но и система органов административной власти, и в правовом государстве правительство не может вмешиваться в компетенцию этих органов.
Конечно, то, что называется системой органов административной власти, существует и в президентской республике. Но в последней президент -и правительство строго отделены от законодателя, президент и парламентское большинство могут принадлежать к разным партиям. Так что в президентской республике партии играют важную, но не главную роль в системе разделения властей. Здесь прежде всего есть строгое разделение властей на законодательную и исполнительную, и в сравнении с этим разделением властей самостоятельная компетенция административных органов в отношениях с правительством не имеет принципиального значения.
В парламентарных странах правительство ответственно перед парламентом, т. е. нижняя палата вправе выразить правительству недоверие или отказать в доверии. Парламентская ответственность правительства означает, что недоверие (отказ в доверии) неизбежно влечет за собой прекращение полномочий правительства; прежде всего, возможна его незамедлительная отставка. Но возможно и другое развитие событий: в ответ на недоверие премьер-министр вправе рекомендовать номинальному главе государства досрочно распустить нижнюю палату парламента и назначить новые парламентские выборы. В этом случае правительство слагает свои полномочия после избрания нового парламента. Хотя фактически оно может сохраниться, если в новом составе нижней палаты парламента прежний премьер-министр получит поддержку абсолютного большинства. Формально решение о роспуске, как и решение о назначении премьер-министра, принимает номинальный глава государства, но при этом он связан мнением премьер-министра или решением лидеров парламентских фракций, если правительство не сформировано.
Досрочный роспуск нижней палаты парламента как противовес требованию отставки правительства имеет свою логику. Досрочный роспуск происходит обычно в случаях правительственного кризиса. (1) Когда ни одна из партий или образующихся коалиций в нижней палате парламента не располагает абсолютным большинством, необходимым для формирования правительства, тогда такой неработоспособный состав палаты следует распустить и назначить новые выборы. (2) Если коалиционное правительство утратит поддержку нижней палаты в результате распада правящей коалиции и при этом не возникнет новая коалиция, располагающая абсолютным большинством, то правительство может сохраниться как “правительство меньшинства” Если такому правительству выражено недоверие или его решения не получают необходимой законодательной поддержки, то на этот случай у премьер-министра должно быть право рекомендовать главе государства распустить нижнюю палату и назначить новые выборы. (3) Когда однопартийное правительство утрачивает поддержку абсолютного большинства в результате внутрипартийных разногласий, то премьер-министр, как фактический лидер правящей партии, должен решать вопрос о дальнейшей судьбе правительства.
Особенности сдержек и противовесов в отдельных парламентарных странах облегчают или, наоборот, затрудняют досрочный роспуск нижней палаты. В Великобритании досрочный роспуск палаты общин происходит тогда, когда правящая партия (премьер-министр, кабинет) считает целесообразным проведение досрочных выборов — независимо от правительственного кризиса. Такая возможность вытекает из самой сущности парламентарной формы правления. Ибо, по существу, здесь для роспуска нижней палаты достаточно одного желания правящего партийного большинства: это большинство, руководимое правительством, по конъюнктурным соображениям может формально выразить своему правительству недоверие, и в ответ последует роспуск нижней палаты. Все это подчеркивает, что досрочный роспуск парламента в государстве партий не следует расценивать как роспуск законодательного органа по решению органа исполнительной власти. Роспуск и досрочные выборы или отставка правительства — это внутреннее дело “партийной” власти.
В ФРГ во избежание частых роспусков нижней палаты допускается только конструктивный вотум недоверия. Последний означает, что отставка правительства по воле парламентского большинства происходит лишь тогда, когда абсолютным большинством избран новый премьер-министр. Такое положение исключает досрочный роспуск нижней палаты парламента в ответ на недоверие (отказ в доверии) правительству.
Необходимо подчеркнуть, что в парламентарных странах механизмы сдержек и противовесов не исчерпываются полномочиями нижней палаты и правительства внутри “партийной” власти. Так, в Великобритании — в классическом варианте парламентарной формы правления — важнейшую роль играет судебная власть. Здесь, в стране общего права, именно судебная власть составляет основной противовес “партийной” власти: законы и правительственные нормативные акты приобретают реальную юридическую силу постольку, поскольку они применяются судами и трансформируются в прецедентное право. В ФРГ основными противовесами "партийной” власти являются верхняя палата парламента и конституционный суд.
Смешанная республика (Пятая республика во Франции, Португалия, Финляндия, большинство посттоталитарных стран Европы) соединяет в себе институты президентской и парламентарной республик. От президентской республики заимствуется институт избираемого народом президента, обладающего полномочиями исполнительной власти. От парламентарной формы берется парламентская ответственность правительства, возглавляемого премьер-министром. Такая система исполнительной власти называется бицефальной (“двуглавой”). Если президент и парламентское большинство принадлежат к одной партии (коалиции), то президент сам формирует правительство и фактически является его главой. Если же они принадлежат к разным партиям, то президент вынужден назначить премьер-министром лидера парламентского большинства, и возникает ситуация так называемого сожительства президента и правительства. В этой ситуации президент политически относительно “слаб”, но правительство тем не менее вынуждено учитывать позицию президента.
Так, во Франции президент и в ситуации “сожительства” остается важной политической фигурой, сохраняющей самостоятельные полномочия. Он является верховным главнокомандующим, принимает решение о проведении референдума, а главное — издает регламентарные акты по вопросам, которые не могут быть предметом законодательства. Правда, регламентарные акты контрасигнуются премьер-министром и в случае необходимости — ответственными министрами. Так что можно говорить, что регламентарные акты издаются правительством с учетом позиции президента. Как бы то ни было, в период “сожительства” президент и правительство вынуждены учитывать интересы друг друга[435].
Для смешанной республики характерно то, что президент и парламентское большинство (если они политические оппоненты) могут конкурировать при формировании правительства. Премьер-министра назначает президент, но реально премьером может стать лишь тот, кто получит поддержку нижней палаты. Президент не обязан назначать премьером представителя парламентского большинства, но нижняя палата вправе не одобрить программу правительства или выразить ему недоверие. В обоих случаях премьер-министр обязан подать президенту заявление об отставке правительства. Но в ответ президент вправе, не приняв отставку, один раз распустить нижнюю палату парламента и назначить новые выборы.
Так, во Франции президент вправе досрочно распустить нижнюю палату, если она отвергнет кандидатуру премьер- министра, назначенного президентом, или примет резолюцию порицания правительства. Тем самым президент вынесет свой спор с парламентом на суд народа. Но вновь избранную нижнюю палату в течение одного года нельзя распустить ни по каким основаниям. И если народ изберет новый состав нижней палаты с прежним партийным большинством и это большинство примет резолюцию порицания, то президент будет вынужден принять отставку правительства и назначить премьером представителя парламентского большинства. Ибо нижняя палата одобрит только то правительство, которое представляет парламентское большинство, а распустить палату президент уже не имеет права. Реально президент может распустить нижнюю палату в связи со спором по вопросу о правительстве лишь тогда, когда он избран на свой пост после парламентских выборов. В этом случае есть вероятность того, что в новом составе нижней палаты оппозиция президенту не получит абсолютного большинства.
Если в смешанной республике президент и парламентское большинство не находятся в оппозиции друг другу, то складывается “партийная” власть, в рамках которой главную роль играет президент. Если же они стоят в оппозиции друг другу, то возникает специфический вариант разделения властей на законодательную и исполнительную. При этом исполнительную власть осуществляют президент и правительство, которое ответственно перед парламентом, но в то же время оно вынуждено учитывать позицию президента. В таком варианте разделения властей правительство находится в существенно меньшей, зависимости от парламента, чем правительство в парламентарных странах.
Россия по Конституции 1993 г. похожа на смешанную республику[436], но у российского Президента существенно больше полномочий, чем, например, у французского. Президент Российской Федерации — это прежде всего конституционно-правовой институт исполнительной власти. Он обладает решающими полномочиями в сфере исполнительной власти, в сравнении с которыми фигура премьер-министра оказывается слабой и зависимой. Он формирует Правительство Российской Федерации и самостоятельно принимает решение об отставке Правительства, непосредственно руководит деятельностью важнейших федеральных министерств и ведомств, является верховным главнокомандующим. Но у Президента РФ есть конституционные полномочия, выводящие его власть за границы исполнительной власти, нарушающие баланс законодательной и исполнительной ветвей власти. Полномочия Президента в области законодательной власти включают в себя: право законодательной инициативы; право издавать указы по любым вопросам, не урегулированным законом, т. е. неподзаконные указы; право отлагательного вето в отношении федеральных законов. В совокупности эти полномочия создают конкурирующую нормотворческую компетенцию парламента и Президента.
Главное, чем отличается российская республика от смешанной, состоит в том, что Правительство РФ несет ответственность только перед Президентом. Правда, российская Конституция 1993 г. создает иллюзию парламентской ответственности Правительства. Во-первых, нижняя палата парламента — Государственная Дума — вправе дважды отклонить представленную ей Президентом кандидатуру Председателя Правительства; но если Дума отклонит кандидатуру в третий раз, то она будет распущена и Президент назначит премьер- министра без согласия Думы. Президент не вправе распускать Думу в экстраординарных ситуациях, а также в течение последних шести месяцев срока президентских полномочий; но в таких случаях Президент может, не распуская Думу, тем не менее назначать премьера вопреки позиции нижней палаты парламента. Причем Президент не обязан назначать премьер- министром того, чью кандидатуру Дума трижды отклонила; он может предлагать заведомо неприемлемые кандидатуры только для того, чтобы распустить Думу. Получается, что процедура одобрения кандидатуры премьера Думой направлена против самой нижней палаты парламента.
Во-вторых, Дума вправе выразить недоверие (или отказать в доверии) Правительству; в этом случае Президент обязан либо принять решение об отставке Правительства, либо распустить Думу. Резонно предположить, что Президент не будет отправлять в отставку сформированное им Правительство (он может сделать это и без подсказки Думы) и распустит Думу. Правда, вновь избранную Думу нельзя распускать за выражение недоверия (отказ в доверии) в течение года после ее избрания. В такой ситуации Президент будет вынужден формально принять решение об отставке Правительства. Но он может сразу же его восстановить, предложив Думе кандидатуру прежнего Председателя Правительства; если Дума, добившаяся формальной отставки Правительства, трижды отклонит эту кандидатуру, она будет распущена, а Президент формально восстановит Правительство в его прежнем составе. По меньшей мере, Президент восстановит Правительство, не распуская Думу. Так или иначе в случае конфронтации Президента и нижней палаты парламента позиция последней не может реально влиять на судьбу Правительства.
Необходимо подчеркнуть, что Президент РФ вправе неоднократно распускать Думу, и при этом он не связан волей Избирателей, участвующих в выборах Думы. Поэтому нельзя говорить, что Президент, распуская Думу, выносит свой спор с Думой на суд народа. Исход выборов в Думу не предрешает судьбу Правительства, сформированного Президентом. Такое полномочие российского Президента распускать нижнюю палату независимо от воли избирателей означает, что Президент выступает в споре с Думой как судья в своем деле; следовательно, это полномочие противоправно по существу. Такого полномочия нет ни в парламентарных странах, ни в смешанной республике. В этих странах после досрочного роспуска парламента правительство формируется в соответствии с волей избирателей.
Кроме того, роспуск нижней палаты без парламентской ответственности правительства является абсурдным. Угроза роспуска вынуждает нижнюю палату парламента формально брать на себя часть ответственности за деятельность правительства, которое, в свою очередь, ответственно только перед президентом.
Таким образом, в России нет парламентской ответственности правительства; следовательно, Россию нельзя считать смешанной республикой. Но это и не президентская республика, так как предусматривается досрочный роспуск парламента. Предусматривается и отрешение Президента от должности, но эта процедура чрезмерно усложнена и выглядит нереальной. Такое несбалансированное соотношение исполнительной и законодательной ветвей власти противоречит логике разделения властей и несет в себе угрозу диктатуры.
§ 3. Государственный (политический) режим
Понятие “государственный режим” объясняет способы осуществления государственной власти. Это категория, выражающая меру и характер участия субъектов государственного общения (граждан или подданных, социальных групп, общественных объединений) в формировании и осуществлении государственной власти.
Различаются режимы демократические и авторитарные (диктаторские).
Демократия в современном смысле этого понятия означает формально равное участие полноправных граждан в формировании и осуществлении государственной власти. Принцип демократии —- это формальное равенство в политике, формальное равенство политических идеологий и объединений, партий, формально равная для всех субъектов государственно-правового общения возможность участвовать в формировании государственной воли.
Признаком современной демократии прежде всего являются политические свободы — идеологический и политический плюрализм, многопартийность, свобода выражения мнений, свобода средств массовой информации, свободы объединений, собраний и манифестаций, всеобщее и равное избирательное право, право петиций. В условиях демократии регулярно проводятся свободные выборы высших государственных органов, т. е. избираемые органы несут политическую ответственность перед избирателями. К участию в выборах допускаются все полноправные граждане и их объединения, за исключением тех, кто преследует цель свержения демократического режима и установления диктатуры, а также иные антиправовые цели.
Принято различать непосредственную (прямую) и представительную формы демократии. Представительной демократией называют осуществление государственной власти демократически избираемыми представителями народа. По существу, представительная демократия — это и есть демократия в современном смысле. В современном демократическом государстве власть осуществляется не народом, а “от имени народа” и формально “для народа”, “в интересах народа”. Причем демократические выборы — это не прямая демократия, а необходимая предпосылка и процедура представительной демократии.
В демократическом государстве легитимность (рационально-правового типа) обеспечивается представительным характером высших органов государственной власти. “Представительный” не значит обладающий прерогативой нормотворчества. Однако демократия предполагает, что основные нормотворческие (законотворческие) полномочия принадлежат представительным органам. Представительными являются не только коллегиальные, но и единоличные органы государственной власти. Однако между ними есть различие. Единоличный орган (избираемый народом президент) является представителем большинства избирателей, участвовавших в выборах. В коллегиальных же представлены и меньшинства. Правда, и в коллегиальных органах, например парламенте, представители большинства могут игнорировать интересы меньшинства (фактически это вопрос политической культуры общества).
Непосредственная демократия (“прямое народоправие”) означает принятие политических решений, непосредственное осуществление государственной власти всей совокупностью полноправных граждан или их большинством (в данном контексте “народ” — это совокупность полноправных граждан). Такая форма демократии характерна для государства типа античного полиса (гражданской общины), т. е. для исторически неразвитой государственности республиканской формы при относительно малой численности населения, проживающего на малой территории. Признаком прямой демократии является народное собрание, в котором участвуют все полноправные граждане. Прямая демократия не характерна для современного территориального государства и возможна скорее как форма местного самоуправления.
Элементы прямой демократии сохранились, например, в некоторых швейцарских кантонах (субъектах федерации, федеративного государства), в которых раз в году проводится собрание граждан, имеющих право голоса. Такое собрание открытым голосованием принимает решения по вопросам компетенции кантона и выбирает должностных лиц кантона. Но даже в таких кантонах действуют кантональные парламенты. В других швейцарских кантонах и на уровне федерации существует только представительная и так называемая полупрямая демократия. Последняя означает, во-первых, право на референдум по инициативе народа: правительство представляет народу все намеченные законопроекты, и в случае инициативы определенного числа граждан законопроект или закон, принятый парламентом, но еще не вступивший в силу, выносится на референдум. Во-вторых, “полупрямая демократия” гарантирует права на законодательную и конституционную инициативу народа: население кантона путем сбора необходимого количества подписей может потребовать изменения или отмены существующего закона либо принятия нового закона; также население может потребовать изменения конституции кантона. На уровне федерации действует только право на конституционную инициативу народа.
Авторитаризм означает такой способ публично-властного, государственного управления общественными отношениями, при котором сигналы обратной связи, показывающие реакцию общества на управление, блокируются и не воспринимаются организацией власти. Ибо сама авторитарная организация власти (управляющая система) перекрывает каналы распространения этих сигналов, исходящих от управляемой системы. А именно: в условиях авторитарных государственных режимов действует предварительная цензура, нет свободы выражения мнений, свободных выборов, свободы объединений и других политических свобод (либо они существенно ограничены). Здесь нет легальных оппозиционных политических партий, не контролируемых властью профсоюзов либо власть чинит препятствия деятельности оппозиционных организаций. Средства массовой информации контролируются авторитарной властью в зависимости от меры жесткости авторитарного режима.
В XX в. можно выделить два вида авторитарных государственных режимов — прогрессивные и консервативные. Цель прогрессивных режимов — догоняющее индустриальное развитие на основе экономического принуждения (например, режим Пиночета в Чили). Консервативные режимы (например, мусульманские фундаменталистские режимы) возникают в условиях разрушения традиционного общества и представляют собой реакцию традиционно правящей политической элиты на ослабление ее господства.
Авторитарное воздействие на общество происходит независимо от воли большинства членов общества (диктатура). Любой авторитарный режим, даже самый прогрессивный, имеет вероятность успеха 50%. Это вытекает из самого смысла государственного авторитаризма. Управляющая система воздействует на управляемую, не обладая при этом информацией о результатах воздействия, имея ограниченные возможности для корректировки воздействия.
Известны менее жесткие и более жесткие авторитарные режимы. Так, любая реальная монархия означает авторитарный режим, поскольку подданные монарха в основной массе не участвуют в формировании государственной власти. Но монархический авторитарный режим опирается не только и не столько на силу, сколько на политическую традицию и убежденность подданных в легитимности режима. Если при таком режиме обеспечивается благосостояние общества (например, в современных нефтедобывающих странах Азии), то в обществе нет радикальной оппозиции режиму, и режим не прибегает к репрессиям. Наоборот, режим Пиночета в Чили — это более жесткий авторитарный режим, сопровождавшийся массовыми грубыми нарушениями прав человека.
Понятие тоталитарного режима. Жесткие авторитарные государственные режимы не следует путать с тоталитарными режимами — коммунистическим (социалистическим), национал-социалистическим, фашистским и т. д. Тоталитаризм — это не просто крайний вариант авторитаризма. Это разновидность деспотии, рецидив деспотии в XX в., в эпоху индустриального развития. Деспотия — власть, ничем не ограниченная, власть над несвободными, опирающаяся на насилие или угрозу его применения. При тоталитаризме нет никакой свободы — политической, экономической, духовной и т. д. Тоталитаризм создает общество, основанное на внеэкономическом, т. е. чисто силовом, принуждении.
В политологии понятием “политический режим” обозначаются способы осуществления политической власти независимо от ее типа. В частности, различаются режимы демократические, авторитарные и тоталитарные.
С точки зрения современной либертарной теории понятия “государственный режим” и “политический режим” не тождественны. Тоталитарный режим не является разновидностью государственного режима. В то же время тоталитарный режим можно рассматривать как такую крайнюю форму авторитаризма, при которой уничтожается всякая свобода. В любом случае нельзя ставить в одном ряду авторитарные и тоталитарные режимы. Авторитаризм — понятие более широкое. Существует авторитаризм государственный, отрицающий (ограничивающий) политическую свободу, но допускающий свободу личную и экономическую, и авторитаризм деспотический (тоталитарный), отрицающий свободу вообще.
Интересно, что тоталитарные режимы стремятся имитировать демократию, прикрывают псевдодемократическим фасадом свою деспотическую сущность. Но при этом псевдодемократические институты (например, институты “советской демократии”), во-первых, реально не избираются, а формируются из самих функционеров власти и лиц, доказавших свою лояльность режиму. Во-вторых, даже сформированные таким способом органы не принимают никаких самостоятельных решений, а лишь формально утверждают решения, принятые институтами реальной власти.
Тоталитарные системы характеризуются следующими основными признаками:
1) внеэкономическое принуждение к труду;
2) политическое, экономическое, военное и идеологическое господство тоталитарной бюрократии (номенклатуры, партократии);
3) монолитная партия нового типа, построенная по строго иерархическому принципу (это не политическая партия в обычном смысле, а основная организационная структура в механизме тотальной власти. Аппарат этой партии составляет тоталитарная бюрократия, а ее рядовые члены — это те, кто демонстрирует особую лояльность по отношению к власти и готовы стать функционерами режима);
4) политизированная иерархическая социальная структура (положение человека в обществе определяется его местом в структуре власти, отношением к власти);
5) венчающая пирамиду тоталитарной бюрократии харизматическая фигура вождя, сосредоточивающего в своих руках верховную политическую, экономическую, военную и идеологическую власть;
6) псевдодемократизм, имитация “народовластия” и заботы о благосостоянии народа (рабочих, трудящихся);
7) мощные следящая и карательная системы, способные обеспечить тотальный контроль; периодический массовый террор; псевдоправосудие как элемент карательной системы; фиктивность законодательства;
8) милитаризованная экономика, подчинение внутренней политики интересам военно-промышленного комплекса, агрессивная внешняя политика;.
9) принудительная идеология, открытое отступление от которой карается как тяжкое преступление; мощный аппарат идеологического воздействия;
10) нагнетание путем репрессий атмосферы страха, что обеспечивает тотальное повиновение; насаждение в обществе образа врага, что позволяет убедить часть населения в необходимости тотального контроля, репрессий, уничтожения некоторых социальных групп (“врагов народа”).
Плюралистическая демократия и “народовластие” Обычно демократию объясняют как “народовластие”. В этом контексте понятие “народ” не имеет этнического смысла и не совпадает с понятием “население” Имеется в виду народ как некий абстрактный субъект власти. Однако в демократическом процессе формирования и осуществления государственной власти участвует не народ как целое, а полноправные граждане и их объединения, выражающие интересы разных частей народа. В современной плюралистической демократии конкурируют политические элиты, отражающие различия и даже противоположность интересов разных социальных групп[437].
История знает разные варианты участия граждан в формировании и осуществлении государственной власти. Не всегда и не везде все граждане были равноправны, обладали равной политической свободой. Да и само понятие “гражданин” исторически менялось. Так, в древних Афинах в совокупность полноправных граждан, или демос (“народ”), входили в основном весьма зажиточные торгово-ремесленные круги населения[438]. Для Доиндустриального и раннего индустриального общества характерно включение в совокупность граждан лишь части свободного населения, а также деление граждан на полноправных и неполноправных по признакам происхождения, пола, имущественного положения и т. д. В доиндустриальном обществе существовали аристократические республики, в которых только часть граждан, принадлежащая к высшему сословию (сословиям), могла претендовать на занятие высших государственных должностей. Только в демократиях индустриального общества постепенно достигается равноправие граждан и совокупность полноправных граждан в основном совпадает с взрослым населением страны (исключая лиц, временно проживающих в стране, а также лиц, признанных недееспособными).
Термин “народовластие” в современном значении нельзя понимать буквально. “Народовластие”, как и “непосредственная власть народа”, “народный суверенитет”, в современном государстве — это фикции, призванные легитимировать реальное господство политических элит. Государственная власть всегда претендует на выражение всеобщих интересов. Власть демократическая претендует на выражение воли народа. Но реально в современном демократическом государстве нет никакой “власти народа”, тем более “непосредственной власти народа”, а есть демократически организованная государственная власть. Строго говоря, идея народовластия и понятие народного суверенитета искажают смысл государственной власти, создают впечатление дуализма власти народа и власти государства (публично-властной организации народа).
“Эффект народовластия” в современных конституциях (например, в Конституции РФ 1993 г.) достигается следующим образом. Во-первых, народ объявляется единственным источником власти в стране и носителем некоего суверенитета (ч. 1 ст. 3 Конституции РФ); это положение признается непременным признаком демократии в смысле “народовластия”[439]. Во-вторых, провозглашается, что народ не только является источником власти, но и “осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и местного самоуправления” (ч. 2 ст. 3 Конституции РФ). В-третьих, референдум и свободные выборы называются высшим непосредственным выражением власти народа (ч. 3 ст. 3 Конституции РФ).
В действительности в плюралистической демократии источником власти является не народ (абстрактное коллективное целое), а большинство (часто относительное большинство) политически активных граждан, участвующих в формировании государственной власти и составляющих меньшинство народа[440]. На выборах высших органов государственной власти конкурируют партии, за которыми стоят организованные группы, каждая из которых представляет интересы части народа — нередко очень малой части. Побеждают на выборах партии, имеющие большие ресурсы влияния на избирателей. Электорат победившей партии обычно составляет меньшинство народа, но правящая элита всегда утверждает, что она получила власть “от народа" или “по воле народа” Между тем “любые группировки граждан остаются лишь частями народа, даже если они благодаря своей сплоченности и активности становятся влиятельной силой; и в этом случае они еще не народ и даже не его представители”[441]. Попутно заметим, что при тоталитарных режимах народ тоже провозглашается источником власти, а механизм тотальной власти изображается как “власть народа”.
Смысл демократии не в том, что народ провозглашается источником власти, не в том, что органы государственной власти объявляют себя органами, через которые “народ осуществляет свою власть”, а в том, что все полноправные граждане (их объединения, организованные группы) формально в равной мере допускаются к формированию высших органов государственной власти и тем самым — к формированию государственной воли. Формально равный доступ к власти означает свободную конкуренцию политических интересов и фактически неравную меру политического участия граждан, фактически неравное выражение государством политических интересов разных социальных групп. В обществе существует глубокое неравенство ресурсов политического влияния: есть слабоорганизованные группы с малыми ресурсами политического влияния (безработные, пенсионеры, инвалиды и т. д.) и есть олигархические группы, способные отчасти предопределять результаты выборов[442]. Таким образом, в современной развитой демократии в формировании и осуществлении государственной власти реально участвуют конкурирующие организованные группы. Поэтому вместо термина “народовластие” используется название “полиархия”[443]. Последнее подчеркивает, с одной стороны, что социальные группы, реально определяющие государственную власть, не совпадают со всей совокупностью граждан, с народом. С другой стороны, определяющее политическое участие не является привилегией какой-то одной группы, и в демократическом процессе конкурирует множество организованных групп.
Поскольку государство в политическом смысле — это организация верховной власти, то “осуществление народом своей власти непосредственно” (“непосредственно” означает осуществление власти народа помимо органов государственной власти) следует считать фикцией с легитимирующей нагрузкой.
В современном государстве “народовластие” не означает “прямое народоправство” Выборы должностных лиц государства и референдум — это не разновидность прямой демократии. Это не “высшее непосредственное выражение власти народа”, не осуществление верховной власти, а участие в формировании и осуществлении государственной власти.
Так, сами по себе выборы и выборность государственных органов являются атрибутом республиканской формы правления, а не демократии. О демократическом характере выборов свидетельствует то, в какой мере граждане и их объединения формально допущены к участию в выборах и в какой мере они реально могут в них участвовать. Выборы могут быть прямыми и косвенными; прямые выборы означают большую меру участия граждан в процессе формирования государственной власти, но не “прямое народоправство” Избранные гражданами депутаты формально представляют интересы своих избирателей. Но после выборов по общему правилу избиратели уже не могут оказывать влияние на решения своих представителей. Избиратели могут выразить неодобрение своим представителям только на следующих выборах. Это означает относительную независимость представительных государственных органов от избирателей, их существенную самостоятельность в принятии государственных решений.
Таким образом, выборы — это государственно-организованный процесс избрания представительных органов. Это участие в формировании государственной власти, а не осуществление “власти народа”
Референдум представляет собой волеизъявление граждан по определенному вопросу, вынесенному на всенародное голосование. Если референдум проводится по инициативе граждан, то это — элемент “полупрямой демократии” швейцарского типа. Но и в этом случае реально можно говорить лишь об участии граждан: вопрос, выносимый на референдум, формулируется компетентным государственным органом; государство, а не народ определяет результаты референдума.
Обычно же референдум организуется не в порядке народной инициативы. Причем проведение референдума реально зависит от государственного органа, компетентного назначать референдум. Практика показывает, что такой референдум проводится лишь тогда, когда компетентный государственный орган заинтересован в проведении референдума, а вопрос референдума формулируется так, чтобы гарантировать нужный ответ.
Иначе говоря, представительная демократия предполагает, что высшие государственные органы при решении некоторых вопросов общественной и государственной жизни ссылаются на волеизъявление народа (референдум), и в этом случае они выступают как реальные представители народа.
§ 4. Территориальное устройство государства
Понятие территориального устройства государства. Это понятие относится к территориальной организации государственной власти. Оно характеризует уровень централизации государственной власти, соотношение компетенции центральных и региональных (местных) органов государства.
Различаются две основные формы территориального устройства — унитарная и федеративная[444]. Унитаризм означает принципиальную централизацию, федерализм — принципиальную децентрализацию государственной власти[445]. Сосредоточение властных полномочий в центральных органах унитарного государства не исключает возможность относительной децентрализации государственной власти, т. е. допускает автономию некоторых частей централизованного государства. Унитарное государство, в котором есть автономные образования,— это нечто среднее между унитаризмом и федерализмом. Принципиально децентрализованное государство (федеративное государство, федерация) — это сложносоставное государство, в котором власть рассредоточена между центральными (федеральными) органами государства и органами его составных частей. Для федеративного государства характерно двойное политическое участие граждан: во-первых, они выступают как представители всего народа, формирующие федеральные органы власти, во-вторых — как представители составных частей народа, формирующих самостоятельные региональные (местные) органы власти.
В Новое время однозначно прослеживается тенденция от абсолютистской централизации к децентрализации государственной власти. Но существуют доводы как в пользу федерализма, так и в пользу унитаризма. Например, при большой территории государства децентрализация власти обеспечивает более эффективное управление, но при этом компетенция центральных и самостоятельных региональных (местных) органов власти нередко пересекается, что затрудняет управление. Децентрализация, создание региональных (местных) представительных органов, приближение власти к населению способствует реализации политических прав и свобод, росту политической активности граждан; с другой стороны, централизованное государство способно более эффективно защищать права человека от местных злоупотреблений властью. Децентрализация власти затрудняет проведение реформ в масштабе всей страны; однако тем самым она препятствует не только прогрессивному реформированию общества и государства, но и возможному разрушению институтов демократического правового государства, авторитарным тенденциям. Современное социальное государство при большей централизации власти более эффективно перераспределяет национальный доход в интересах общества в целом, в целях выравнивания уровня социально-экономического развития регионов; наоборот, федерализм в определенной мере препятствует такому выравниванию, т. е. препятствует развитию одних регионов за счет других. Федерализм обеспечивает формальное (правовое) равенство регионов, из которых складывается федеративное государство. Следовательно, федерализм препятствует такой социальной (перераспределительной) политике центральной власти, которая противоречит господству права, подрывает основы рыночной экономики и эффективность производства.
Унитарное государство — это единое государство, территория которого подразделяется на административно-территориальные единицы. В унитарном государстве есть только один законодательный орган, обладающий нормотворческой компетенцией по всем отраслям законодательства; нормотворческие органы автономий в унитарном государстве, по существу, обладают подзаконной компетенцией, даже если акты этих органов называются законами. Исполнительную власть осуществляют центральные органы исполнительной власти и созданные ими территориальные (местные) административные органы. Реже территориальные административные органы избираются местным населением. В унитарном государстве судебная система является единой.
Помимо административно-территориальных единиц, управляемых органами центрального подчинения, в унитарном государстве могут быть автономные образования. Население автономных образований самостоятельно формирует свои парламенты и органы исполнительной власти, действующие на основе разграничения компетенции между центральными органами власти и органами власти автономии.
Наряду с территориальными органами исполнительной власти в унитарном (также и в федеративном) государстве существуют формируемые населением органы местного самоуправления. Последние не входят в систему государственных органов. Но государство может передавать этим органам полномочия территориальных органов государственной власти и контролировать их деятельность в пределах переданных полномочий. Унитарные государства, в которых органы местного самоуправления выступают и как территориальные органы власти, называют относительно децентрализованными. Чисто централизованными считаются унитарные государства, в которых власть на местах осуществляют исключительно чиновники, назначаемые из центра.
Автономия может быть территориальной и экстерриториальной. Территориальная автономия — это определяемая конституцией или законом государства самостоятельность части населения государства в решении определенных вопросов социально-экономической и культурной жизни на территории проживания этой части населения. Эта часть населения страны создает либо территориальное, либо этнотерриториальное автономное образование. Территориальное автономное образование создается населением, не имеющим этнических отличий, но имеющим особенности хозяйства и культуры, которые вызваны историческими или географическими факторами. Этнотерриториальное автономное образование создается этническим меньшинством на территории его компактного проживания. На территории автономного образования действуют не только законы государства, но и нормативные акты, издаваемые органами автономии в пределах их компетенции.
Существует также понятие этнокультурной автономии. Эта автономия имеет экстерриториальный характер. Если этническое или религиозное меньшинство в стране проживает разрозненно, то государство может гарантировать ему право создавать свои представительные органы на общегосударственном уровне. Эти органы обычно обладают консультативными полномочиями в отношениях с высшими государственными органами и специальной компетенцией, позволяющей защищать интересы представителей соответствующих меньшинств.
Унитарное государство, в котором есть автономные образования, можно рассматривать как сочетающее в себе централизованное и децентрализованное начала. Государственная власть на уровне автономного образования осуществляется на основе разграничения компетенции между органами власти автономии и территориальными органами государственной власти, которые создаются центральными органами. На уровне других территориальных единиц такого государства государственная власть осуществляется только территориальными органами центральной власти.
Автономия известна с древних времен. В частности, в до- индустриальном обществе автономии существовали в рамках империй. Империя — это не форма межгосударственного объединения и не особая форма сложного государственного устройства. Это унитарное государство, для которого характерна автономия входящих в него этнополитических образований, утративших суверенитет. В эпоху индустриального развития империи распадаются, ибо все этносы, политически существующие в рамках империй, стремятся к созданию своей суверенной государственности.
Федерализм. Это форма децентрализации государственной власти, предполагающая разграничение компетенции между органами власти федерации и субъектов федерации. Субъекты федерации (штаты, земли, республики, области и т. д.) — это составные части федеративного государства, в которых создаются органы законодательной и исполнительной власти (реже — суды), действующие в соответствии с разграничением компетенции между федерацией и ее субъектами.
Разграничение компетенции в федеративном государстве называется разделением властей “по вертикали” При этом разграничиваются предметы ведения федерации и субъектов федерации, а также полномочия федерации и субъектов федерации по предметам совместного ведения.
Предметы ведения разграничиваются таким образом, что законодательные полномочия по наиболее важным предметам ведения осуществляются федерацией. Полномочия же исполнительной власти в большей мере осуществляются субъектами федерации: исполнение федеральных законов возлагается не только на федеральные исполнительные органы, но и на органы исполнительной власти субъектов федерации. Например, в ФРГ земли самостоятельно исполняют федеральные законы, поскольку иное не устанавливается или не допускается Основным законом ФРГ.
Судебная власть обычно осуществляется федеральными судами. Судебная система должна быть единой, что максимально обеспечивает равный доступ к правосудию и равную судебную защиту на всей территории государства. Возможно и разграничение юрисдикции федеральной судебной системы и судебных систем субъектов федерации; но при таком разграничении не должно быть исключительной компетенции судов субъектов федерации, не допускающей апелляционное, кассационное или надзорное производство в высших федеральных судах. Иначе говоря, решение самого высокого суда, созданного в субъекте федерации, подлежит обжалованию в верховный или иной компетентный федеральный суд.
Различаются четыре вида законодательной компетенции в федеративном государстве.
Исключительная компетенция федерации означает, что по определенным предметам ведения принимаются только федеральные законы и основанные на них другие федеральные нормативные акты.
Конкурирующая компетенция федерации и субъектов федерации означает, что по определенным предметам ведения субъекты федерации вправе принимать свои законы, поскольку по этим вопросам не приняты федеральные законы. Практически в сфере конкурирующей компетенции федеральный законодатель может урегулировать все вопросы, если он считает, что это нужно для сохранения единого экономического и правового пространства или что эти вопросы не могут эффективно регулироваться законодательством отдельных субъектов федерации.
Совместная компетенция федерации и ее субъектов означает, что по определенным предметам ведения сначала принимаются федеральные законы, а затем в соответствии с ними принимаются законы субъектов федерации. В сфере совместной компетенции субъекты федерации не вправе принимать законы, не основанные на федеральных законах.
Исключительная компетенция субъектов федерации предполагает круг вопросов, в решение которых федерация вмешиваться не вправе. Если в федеративном государстве существует такая компетенция, то применительно к такому государству нельзя говорить о безусловном приоритете федерального законодательства.
Существуют две теоретические модели, объясняющие соотношение компетенций федерации и субъектов федерации. Если считать, что федеративное государственное устройство складывается в процессе децентрализации государственной власти (пример — Индия), тогда действует презумпция компетентности федерации. Она означает, что федерация вправе решать все вопросы, поскольку они не отнесены к компетенции субъектов федерации. В этом случае в конституции должны быть перечислены все вопросы, которые относятся к исключительной компетенции субъектов федерации.
Если считать, что федеративное государство возникло в результате объединения нескольких суверенных государств (пример — Швейцария), передавших часть своей компетенции в пользу федерации, то действует презумпция компетентности субъектов федерации. Она означает, что субъекты федерации обладают исключительной компетенцией по всем вопросам, решение которых не отнесено к иной компетенции.
Презумпция компетентности субъектов Российской Федерации закреплена в ст. 73 Конституции РФ 1993 г. — как будто до этой Конституции не существовало единой России и российское государство возникло в результате объединения суверенных республик, краев, областей и т. д. Очевидно, что это фикция, ибо российское федеративное государство формируется путем децентрализации власти, существовавшей в сверхцентрализованном политическом образовании (СССР, РСФСР), а вовсе не путем объединения ранее суверенных государств, превращающихся в субъекты Российской Федерации. Поэтому, несмотря на презумпцию компетентности, Конституция РФ (ст. 71, 72) не оставляет для исключительной компетенции субъектов РФ практически никаких предметов ведения.
Федерализм может быть важным элементом в системе разделения властей “по горизонтали”, в механизме сдержек и противовесов в “государстве партий” Так, в ФРГ в правовом поле деятельности законодательной и исполнительной властей на федеральном уровне взаимодействуют “партийная власть” (партийное большинство в Бундестаге, нижней палате парламента, и ответственное перед ним правительство) и Бундесрат, аналог верхней палаты парламента. Бундесрат состоит из представителей земельных правительств. Партия, имеющая большинство в Бундестаге, может оказаться в меньшинстве в Бундесрате. Такое произойдет в том случае, когда большинство избирателей в землях будет недовольно политикой федеральной “партийной власти” Тогда Бундесрат превратится в “партийную контрвласть”, которая сможет блокировать некоторые решения “партийной власти” Более того, в ФРГ возможна такая ситуация, когда будет действовать правительство, не имеющее поддержки абсолютного большинства в Бундестаге, но опирающееся на поддержку Бундесрата[446].
Суверенитет в федеративном государстве не делится между федерацией и ее субъектами. Федерация — это одно государство, а не союз суверенных государств, отдающих “часть суверенитета” в пользу федеральной власти. Суверенитет — это качество верховенства и независимости государственной власти, и это качество нельзя разделить между государством как целым и его частями. В федеративном государстве делится не суверенитет, а компетенция, причем делится таким образом, что суверенитетом обладает федерация, а не субъекты федерации.
Различаются федерации, построенные по этническому (“национальному”) и по территориальному принципам.
По этническому принципу: население государства составляют несколько этносов, каждый из которых образует субъект федерации.
По территориальному принципу: население — преимущественно этнос или этнически однородная общность — живет на исторически обособившихся территориях. Население каждой такой территории образует субъект федерации.
Федерации, построенные по этническому принципу, — это редкое исключение. В эпоху индустриального развития суверенная государственность самоценна для этносов. В постиндустриальную эпоху происходит экономическая и политическая интеграция постиндустриальных стран, возникают формы межгосударственных объединений типа Европейского Сообщества, существенно ограничивающие суверенитет объединяющихся стран.
Индустриальное общество, развивающееся по экстенсивному пути, нуждается в большем количестве населения и в постоянном приросте природных ресурсов. Столкновение интересов стран, идущих по такому пути развития, приводит даже к мировым войнам за ресурсы (за “жизненное пространство”). Но постиндустриальное общество, развивающееся по интенсивному пути, общество, в котором большинство членов не занято в процессе производства, не нуждается в большом приросте населения. Постиндустриальные страны с их высокотехнологичной экономикой не нуждаются в дополнительных ресурсах. Крупные национальные товаропроизводители, исходя из своих экономических интересов, объединяются в рамках международной интеграции и кооперации, возникают транснациональные корпорации. Межгосударственные границы только препятствуют дальнейшему постиндустриальному экономическому росту. В таких условиях наиболее развитые страны Западной Европы стремятся к экономическому, таможенному, валютному и отчасти политическому объединению.
Российская Федерация построена по этнотерриториальному принципу. Русская нация, проживающая на разных территориях, создает субъекты РФ по территориальному принципу. Другие этносы создают субъекты РФ по национальному принципу. В то же время ненцы и буряты в России номинально имеют по три субъекта РФ, а некоторые этносы не имеют даже автономии в рамках субъекта Федерации.
Федеративная финансовая система означает, что налоги устанавливаются совместно федерацией и ее субъектами, но федеральные и региональные налоги собираются субъектами независимо друг от друга. В каждом субъекте федерации полномочия субъектов федерации осуществляются почти исключительно за счет средств, полученных субъектом федерации от своих налогов. Дотации или субвенции субъектам федерации из федеральной казны возможны в исключительных случаях по решению федерального государственного органа, в котором представлены все субъекты федерации.
Межгосударственные объединения. От формы территориального устройства государства следует отличать форму межгосударственного объединения (образования). Последняя означает такой союз государств, в рамках которого существуют общие государственные или надгосударственные органы, но объединяющиеся государства сохраняют свой суверенитет. В этом контексте различаются личная и реальная унии, протекторат и ассоциированные государства, конфедерация, содружество и другие формы[447].
Личная уния — это простейшая форма межгосударственного объединения, возникающая как следствие монархической формы правления. Она возникает тогда, когда монарх приобретает права на корону другого государства (нескольких государств) либо в порядке престолонаследия, в результате случайного совпадения, либо вследствие того, что одно государство передает права на корону монарху другого государства- При этом конституционное право не устанавливает, что главой государства должен быть монарх другой страны. Получается, что одно и то же лицо занимает два совершенно самостоятельных поста главы государства. Поэтому, строго говоря, личная уния не означает юридический союз двух государств и не приводит к созданию общих государственных органов. Она прекращается, как только на престолы в этих государствах вступают разные лица. Примерами личной унии являются уния между Саксонией и Польшей (1697—1763), возникшая вследствие передачи польской короны Августу Сильному, а также унии между Великобританией и Ганновером (1714— 1837), Нидерландами и Люксембургом (1815—1890), возникшие в результате наследования монархом одного государства престола другого государства и прекратившиеся вследствие различного порядка престолонаследия в этих государствах.
В противоположность личной унии реальная уния означает правовой союз государств на основе создания общего института главы государства — монарха и других общих органов государственной власти. В рамках реальной унии может сохраняться суверенитет союзных государств. Такой пример дает уния Швеции и Норвегии (1814—1905), в которой помимо общего монарха общими были только органы внешних сношений; здесь суверенитет союзных государств был ограничен только в области внешней политики. Наоборот, в Австро-венгерской унии (1867—1918) помимо императора существовали общие внешнеполитическое ведомство, финансы и вооруженные силы. Фактически Австро-венгерская уния представляла собой одно сложносоставное государство.
Под содружеством обычно понимается Содружество наций (ранее — Британское содружество наций). Это международно-правовой союз, отраженный в конституциях союзных государств, в состав которого входят Великобритания и. суверенные государства — ее бывшие колонии. Первоначально принцип Содружества заключался в следующем: британский монарх является номинальным главой государства во всех членах Содружества; в каждом из них он представлен через назначенного им генерал-губернатора. Однако сегодня институт общего главы государства признается лишь в нескольких странах Содружества (например, в Австралии). В других странах (как в республиках, так и в монархиях) британский монарх признается лишь номинальным главой Содружества. В настоящее время Содружество наций имеет чисто формальный характер.
Содружество Независимых Государств отчасти напоминает Содружество наций. СНГ тоже образовалось после распада имперского политического образования — СССР. Однако глава российского государства не является номинальным главой государства в странах СНГ, а лишь избирается главой координирующего органа, состоящего из глав государств СНГ.
Фактически в СНГ участвуют лишь те страны, которые зависят от России в экономическом и военном отношении.
Протекторат означает такой правовой союз между государствами, при котором одно государство оказывает внешнеполитическое и военное покровительство другому, фактически зависимому от него государству. Во внутренней политике последнее обладает определенной самостоятельностью. При этом соответствующие органы покровительствующего государства одновременно осуществляют компетенцию защищаемого государства. Протекторат возможен на начальном этапе отношений между бывшими колониями и их метрополией.
С отношениями протектората сходны межгосударственные отношения, возникающие в форме ассоциированных государств. Так, Пуэрто-Рико является государством, ассоциированным с США — “основным” государством. Юридически такие государства обязаны лишь согласовывать внешнюю политику с “основным” государством, что формально ограничивает их внешний суверенитет, но фактически они зависят от него и в своей внутренней политике, и в экономике[448].
Конфедерация — это международно-правовой союз государств, в рамках которого создаются надгосударственные органы. Решения этих органов нуждаются в подтверждении со стороны органов субъектов конфедерации. Конфедерация неустойчива. Она либо распадается, когда достигаются цели союза или же выясняется неэффективность союза для достижения поставленных целей, либо -превращается в федеративное государство. Так, конфедерациями были Североамериканские Соединенные Штаты (1781—1787) и Швейцария (1815—1848), ставшие федеративными государствами. Последней известной конфедерацией считалась Сенегамбия (1981—1988), возникшая в результате объединения Сенегала и Гамбии, а затем распавшаяся[449]. Однако процессы межгосударственного объединения, происходящие в рамках Европейского Сообщества (создание системы надгосударственных органов, ликвидация таможенных границ, введение общей валюты), позволяют говорить о становлении новой конфедерации. Причем если для традиционных конфедераций была характерна в первую очередь общая внешняя политика, то членство в Европейском Сообществе означает не унификацию внешней политики, а формирование общего экономического пространства и координацию внутренней политики.
Глава 5. Функции государства
§ 1. Гражданское общество и государство
Всякий функционально определяемый объект действует в определенной системе типа “субъект-объект”, т. е. выполняет некие функции по отношению к определенному субъекту. Государство как институция, правовая организация публичной политической власти выполняет определенные функции по отношению к обществу — совокупности индивидов, объединенных обменными отношениями[450]. В доиндустриальном обществе социальные группы несвободных или полусвободных полностью или частично исключаются из государственно-правового общения. Тем не менее доиндустриальное государство выполняет свои функции не только по отношению к совокупности участников государственно-правового общения, но и по отношению к обществу в целом. Последнее достигается хотя бы за счет того, что государство гарантирует определенный порядок общественных отношений, в рамках которого обеспечивается существование всех социальных групп.
По мере исторического прогресса общества, государственности и права в индустриальном обществе достигается разделенность политических и экономических отношений, сферы политической власти и сферы собственности, публичного права и частного права. Сфера обменных отношений становится относительно независимой от государственно-властного вмешательства, возникает феномен гражданского общества, в котором отношения между частными лицами не опосредованы публичной властью и в котором все члены общества в равной мере формально свободны. В исторически развитой государственно-правовой ситуации следует говорить о функциях государства как публично-властной институции по отношению к гражданского обществу, точнее, к общности индивидов, социальных групп, ассоциаций, объединенных в гражданское общество.
Такой подход к функциям государства предполагает различение сфер гражданского общества и государства.
Первая — это сфера свободной, автономной активности, в которой действуют индивиды, преследующие частные цели и интересы. Сюда входят прежде всего экономика и культура.
Субъекты гражданского общества формально равны, их отношения регулируются частным правом. В качестве таких субъектов выступают не только и не столько отдельные индивиды, но и социальные группы и ассоциации — общественные объединения, политические партии, профсоюзы, союзы предпринимателей и т. д. В этом контексте государство выступает как публично-властная институция, управляющая гражданским обществом в целом и призванная действовать во всеобщих интересах. Государство при этом не должно мешать реализации частных устремлений, конкурирующих в сфере гражданского общества. В современном демократическом правовом государстве отдельный человек, его права и свободы признаются высшей ценностью и по общему правилу имеют приоритет по отношению к общим, или государственным, интересам[451]. Однако в конкретных случаях коллизии прав человека и общих интересов могут разрешаться и в пользу последних.
Государство как публично-властную институцию можно рассматривать в качестве управляющей системы по отношению к гражданскому обществу как системе управляемой. Вместе с тем гражданское общество — это саморегулирующаяся социальная система, детерминирующая государство. Саморегулирующаяся — это такая система, которая сама способна закреплять в себе все полезные для нее элементы и связи и отбрасывать все вредное. Основные механизмы саморегулирования гражданского общества — это свободный рынок (экономический механизм), политическая свобода и свободный доступ к независимому правосудию (юридический механизм). Описание гражданского общества как системы управляемой и одновременно саморегулирующейся не означает противоречия. Гражданское общество саморегулируется, в частности, так, что само формирует для себя управляющую систему, задает параметры и пределы государственного вмешательства и предопределяет функции государства (модель демократии). Вместе с тем государство как публично-властная институция обладает относительной самостоятельностью по отношению к гражданскому обществу. Последнее означает возможность такого государственного вмешательства в дела гражданского общества, которое происходит независимо от воли большинства субъектов гражданского общества (авторитарная модель).
§ 2. Функции и задачи государства
Функции государства по отношению к обществу (гражданскому обществу) — это основные направления его деятельности, нацеленной на решение общих дел субъектов общества (гражданского общества). Необходимость решения этих общих дел ставит перед государством определенные задачи, набор и содержание которых различны в доиндустриальном, индустриальном и постиндустриальном обществах. Таким образом, функции государства — это основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач. Объяснить функции государства — значит объяснить стоящие перед ним задачи и способы их осуществления.
В современной литературе используется понятие “генеральная функция государства”[452]. Это понятие должно объяснить предназначение государства по отношению к обществу (гражданскому обществу). Этим понятием, по существу, охватывается решение всех возможных задач государства — задач, относящихся к минимальной функции государства, и особых задач современного социального (социального правового) государства.
Различаются внутренние и внешние функции государства. Последние означают осуществление задач государства в международных отношениях. Следует иметь в виду, что и внутренние, и внешние функции осуществляются по отношению к одному и тому же субъекту — гражданскому обществу, обществу, в котором существует государство. При этом решение некоторых задач, например экологической, достигается за счет деятельности государства как внутри страны, так и за ее пределами, за счет участия государства в деятельности мирового или регионального сообщества государств.
У международного сообщества есть свои функции и задачи. Так, отдельное государство, осуществляя функцию обеспечения свободы, безопасности и собственности, создает и защищает правопорядок внутри страны (внутренняя правовая функция) и осуществляет оборону страны, дипломатическим путем защищает права и интересы своих граждан за границей (внешняя правовая функция). Но отдельное государство не может устанавливать мировой, международный правопорядок, не вправе вести борьбу с международным терроризмом на территории других государств без санкции этих государств и т. д. Международный правопорядок, его защита, а также международно-правовая защита прав человека в тех странах, где они явно нарушаются, — это задачи и функции правового сообщества государств, но не отдельных государств, даже если это сверхвеликие державы. Поэтому внешнюю правовую, равно как и внешнюю экологическую, функцию государства в международных отношениях следует понимать как участие государства в деятельности международного правового сообщества государств.
С точки зрения современной парадигмы права и государственности агрессивную внешнюю политику, ведение агрессивных войн, империалистическую деятельность нельзя считать функциями государства. Это — деятельность, противоречащая международному праву, противоправная деятельность.
Функции государства следует отличать от функций государственных органов. Так, у государства в целом по отношению к гражданскому обществу нет и не может быть функции сбора налогов, или фискальной функции. Противное означало бы, что государство необходимо членам общества, в частности, для того, чтобы собирать с них налоги. Государство — это такая публично-властная институция, которая не ставит задачу сбора налогов, а существует за счет налогов и выполняет определенные функции за счет средств, полученных от налогов. Налоги — это основа выполнения задач, средство и условие осуществления функций государства, а налогообложение и сбор налогов — это задача законодателя и функция налоговых органов государства.
§ 3. Минимальные функции государства
С точки зрения либертарной теории прежде всего выделяются минимальные функции государства. Это решение двух основных задач, стоящих перед любым государством, на всех этапах исторического развития государственности. Сюда относятся: (1) обеспечение свободы, безопасности и собственности (правовая функция) и (2) создание системы коммуникаций.
Направленность деятельности любого государства на решение правовой задачи, все большее проявление этого направления государственной деятельности по мере исторического прогресса права и государственности подтверждают тезис либертарной теории о том, что государство — это институциональная форма свободы. В исторически неразвитом или современном авторитарном государстве свобода, безопасность и собственность не гарантируются надлежащим образом, особенно с точки зрения стандартов правового государства. Однако не может быть такого государства, которое никак не обеспечивает свободу, безопасность и собственность. Отсутствие свободы свидетельствует о деспотическом, т. е. антигосударственном, чисто силовом характере власти.
Что касается создания системы коммуникаций, то любая организация публичной политической власти — как организация власти, распространяющейся по территориальному принципу, — по определению должна создавать коммуникации, по меньшей мере необходимые для территориального управления (транспорт и связь). Отличие государства от деспотии в этом вопросе заключается в том, что свободные субъекты социального обмена создают частные коммуникации в масштабе всего общества. Однако даже в развитом гражданском обществе важнейшие коммуникации (почта, отчасти железные дороги) остаются публичным делом и не передаются в частную сферу. Иначе говоря, все коммуникации, которые необходимы обществу в целом и не под силу субъектам частной сферы или не могут быть надежно обеспечены в случае их перехода в сферу гражданского общества, остаются задачей государства.
Государство представляет собой правовую форму функционирования публичной политической власти. Правовая форма применительно к решению правовой задачи означает, что обеспечение свободы, безопасности и собственности достигается в рамках законодательной, исполнительной и судебной деятельности государства. Необходимость именно этих трех функциональных форм порождает необходимость разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви. Эти три функциональные формы присутствуют в деятельности государства независимо от того, существует ли в государстве строгое институциональное и персональное разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. Так, несмотря на то что в парламентарных странах партия, победившая на выборах в парламент, одновременно формирует правительство, эти органы раздельно осуществляют законодательную и исполнительную деятельность.
Решение правовой задачи в форме законодательной деятельности — это установление общеобязательных правил, гарантирующих свободу, безопасность и собственность. В форме исполнительной деятельности — это прежде всего принуждение к соблюдению названных правил и полицейская защита свободы, безопасности, собственности, включая защиту прав и интересов граждан за границей государства. Кроме того, исполнительная деятельность обеспечивает безопасность общества в целом (сюда входит и так называемая “безопасность государства”) и оборону, внешнюю защиту общества в целом. Судебная деятельность — это защита свободы, безопасности и собственности в форме разрешения споров о праве. Любое государство по определению предоставляет полицейскую и судебную защиту независимо от состояния экономики. Если власть не способна предоставлять такую защиту, она перестает функционировать как государственная власть.
§ 4. Пределы государственного вмешательства в сферу гражданского общества
Либерализм и этатизм. Существуют две основные модели соотношения гражданского общества и государства — либерализм и этатизм. С позиции либерализма, чем меньше вмешательство государства в сферу гражданского общества, тем лучше для гражданского общества и, следовательно, субъектов гражданского общества. Этатизм занимает противоположную позицию в этом вопросе: чем больше вмешательство государства (в пределах разумного), тем лучше гражданскому обществу.
Классический либерализм (Дж. Локк, А. Смит), отстаивавший максимальную свободу индивида, сводил государственное вмешательство в сферу гражданского общества к минимальным функциям государства. Минимальное государство изображалось в образе “ночного сторожа”, полностью предоставляющего гражданское общество механизмам саморегулирования.
В рамках этатизма различаются два варианта регулирующего воздействия государства на общество — авторитарный и демократический этатизм.
Авторитаризм вообще означает такой способ властного воздействия на общество, при котором блокируется или разрывается обратная связь между управляющей и управляемой системами, власть стремится формировать общественные отношения. Авторитарный государственный режим (разумеется, авторитаризм характерен и для тоталитарных систем, но это — крайний авторитаризм, слияние управляющей и управляемой систем) представляет собой крайнее проявление этатизма. Такой режим задает общее направление социально- экономического развития, блокируя действие механизмов саморегулирования, но не разрушая их, не подавляя гражданское общество. Более того, авторитарный государственный режим может быть даже нацелен на ускоренное формирование этих механизмов, если они недостаточно развиты или были разрушены тоталитарной системой. Авторитарный вариант этатизма не может быть долговременной, стабильной формой социально-экономического развития, каковой является демократия.
Противоположность авторитарному варианту составляет демократический вариант государственного интервенционизма, который воплощен в теории и практике “государства всеобщего благоденствия” или социального правового государства. Это такой вариант этатизма, при котором параметры и пределы государственного вмешательства, особенно в экономику, определяются потребностями гражданского общества, точнее, большинством субъектов гражданского общества.
Минимальное (либеральное) государство. Либеральное, минимальное в функциональном отношении государство сформировалось в индустриально развитых странах в эпоху свободной конкуренции. В таком государстве воздействие на экономику осуществляется главным образом в рамках решения правовой задачи и создания системы коммуникаций, необходимых для саморегулирующегося гражданского общества.
Согласно теории классического либерализма, только свободный рынок позволяет выявить социально-экономические интересы, наиболее эффективные и полезные для общества в целом. Таковыми являются конкурирующие интересы субъектов гражданского общества, для реализации которых требуется относительно меньше затрат природных и социальных ресурсов. Ибо всякая система, в частности социальная система, существует в определенной среде, из которой она черпает ресурсы, а устойчивость системы зависит от ее равновесия со средой: чем меньше системе требуется новых ресурсов, тем она устойчивее.
В условиях свободного рынка действуют автономные субъекты, производители и потребители социальных благ. Цена на социальные блага, обмениваемые на свободном рынке, определяется их себестоимостью и соотношением спроса и предложения. Если это соотношение выше себестоимости у конкретных производителей, то для них производство становится выгодным, предложение производимого ими товара растет, цена понижается. Если цена, определяемая соотношением спроса и предложения, ниже себестоимости у конкретного производителя, то этот производитель разоряется и перестает существовать как хозяйствующий субъект.
Для общества в целом полезны только те экономические субъекты, у которых себестоимость социальных благ ниже Цены, определяемой соотношением спроса и предложения. Чем ниже — тем полезнее, так как снижение себестоимости означает снижение расходов природных и человеческих (социальных) ресурсов. Свободная конкуренция заставляет производителей заботиться о модернизации и рационализации производства, т. е. о снижении затрат природных и социальных ресурсов. На такой базе достигается научно-технический и экономический прогресс в индустриальном обществе.
Свободная конкуренция естественным образом ведет к монополизму. Производители, интересы которых оказываются наиболее эффективными и полезными для общества в целом, сосредоточивают в своих руках большую часть производства и сбыта определенных товаров. Причем, пока идет процесс монополизации, он не противоречит объективной потребности общества в относительном сокращении затрат природных и социальных ресурсов. Ибо монополистами по общему правилу становятся те, кто успешно осуществляет модернизацию и рационализацию производства. Но уже сложившийся монополизм оказывается силой, разрушающей гражданское общество, уничтожающей механизмы саморегулирования. Таким образом, свободный рынок позволяет гражданскому обществу саморегулироваться в экономике лишь до определенного предела. Свободный рынок порождает монополии, и начинается относительный рост затрат природных и социальных ресурсов. Монополии не заинтересованы в сохранении свободной конкуренции, политической свободы и независимого правосудия.
В период формирования индустриального общества, в XIX в., минимальное (либеральное) государство действовало в интересах развития общества в целом в той мере, в которой оно предоставляло гражданское общество саморегулированию, благодаря чему и получило название “ночной сторож” Но в конце XIX в. положение изменилось. Социальная власть, сосредоточенная в руках монополистических групп, усилилась настолько, что либеральное государство уже не отвечало потребностям социально-экономического развития. Невмешательство (в той мере, в какой оно было реальным) государства в сферу гражданского общества стало оборачиваться против свободной конкуренции и господства права, характерного для рыночной экономики.
Таким образом, невмешательство государства в сферу гражданского общества тогда, когда в последнем господствовали отношения свободной конкуренции, с одной стороны, содействовало социально-экономическому развитию и тем самым соответствовало интересам общества в целом, с другой — объективно создавало основу для сосредоточения социально-экономической власти в руках отдельных групп, подавляющих плюрализм и конкуренцию частных интересов, что закономерно приводит к падению эффективности общественного производства.
Развитие событий в XX в. показало, что, несмотря на стремление власти монополий подавить механизмы саморегулирования гражданского общества и использовать в этих целях государственные институты, саморегулирующееся начало оказалось сильнее. Интересы экономической эффективности как интересы общества в целом восторжествовали. Там, где механизмы саморегулирования оказались достаточно развитыми, государство стало интенсивно вмешиваться в дела гражданского общества с целью рассредоточения социальной власти и формирования новых, защитных механизмов саморегулирования.
Напротив, там, где эти механизмы были развиты недостаточно, в определенных социально-исторических условиях произошло подавление гражданского общества и возникли менее жесткие тоталитарные режимы (Италия, Германия). Экономическая неэффективность этих режимов (с точки зрения потребностей естественного развития общества), равно как и созданного в СССР жесткого тоталитарного режима, заставляла их ориентироваться на милитаризацию экономики и агрессивную внешнюю политику. В итоге второй мировой войны менее жесткие тоталитарные режимы прекратили свое существование.
Неолиберализм и практика социального правового государства. Способы ограничения монополизма могут быть административными и экономическими. Административные способы сводятся к запрету монополизма. Например, это может быть запрет сосредоточивать в одних руках определенную долю производства определенных товаров. Экономические способы сводятся к государственной поддержке конкуренции путем перераспределения национального дохода. В результате на смену свободному рынку приходит государственно-регулируемый рынок. Последний с точки зрения теории неолиберализма (М. Фридмен, Ф. А. Хайек), куда менее эффективен, чем свободный рынок, но, после того как свободный рынок исчерпает свои возможности, активное государственное вмешательство в дела гражданского общества следует воспринимать как “неизбежное зло”
С точки зрения классического либерализма идеальным было бы невмешательство государства в сферу гражданского общества. Но в XX в. оказалось, что саморегулирование без помощи государства оборачивается все большей ценой, которую обществу приходится платить за экономическое развитие по схеме “подъем — спад — кризис — подъем и т. д.” Государство своим рациональным воздействием способно уменьшить эту “плату” Правда, есть опасность чрезмерного государственного вмешательства, которое грозит еще большими потерями, чем естественное саморегулирование. Поэтому с точки зрения неолиберализма если нельзя обойтись без государственного вмешательства, то следует его максимально ограничивать. Недопустимо удовлетворять социально-экономические притязания социально слабых субъектов гражданского общества в ущерб свободе. Недопустимо прибегать к административным методам, если возможны экономические. Недопустимо прибегать к перераспределению национального дохода вместо создания в обществе условий для максимальной активности всех субъектов.
Напротив, с позиции умеренно этатистской теории кейнсианства (Дж. М. Кейнс, Дж. Гэлбрейт) государственное вмешательство однозначно является благом для гражданского общества и отсутствие такого вмешательства в условиях свободного рынка закономерно привело к кризису индустриального общества. Но кейнсианство не отрицает саморегулирования гражданского общества вообще, а требует такого государственного вмешательства, которое исправляло бы пороки саморегулирования, предотвращало экономические кризисы и обеспечивало социальный мир.
В действительности в постиндустриальном обществе сложилось социальное правовое государство, сочетающее в своей практике идеалы неолиберализма и умеренного этатизма. Хотя это государство и ограничивает сферу общественного саморегулирования, тем не менее оно оберегает механизмы саморегулирования и плюрализм интересов и в этом смысле является умеренно либеральным. Вместе с тем в его деятельности проявляются черты этатизма, поскольку оно “не доверяет” саморегулированию и вмешивается в общественную жизнь, в результате чего происходит огосударствление прежде автономных секторов сферы гражданского общества (социальная структура, экономика, культура, отношение к природным ресурсам).
Социальное правовое государство — это понятие, характеризующее современное государство, которое в отношениях с гражданским обществом решает социально-экономические, культурные и экологические задачи. Принцип социальной государственности — перераспределение национального дохода в интересах общества в целом, в частности — в пользу социально слабых.
Социальная государственность — это характеристика лишь одной из сторон современного государства, которое в целом следует рассматривать как социальное правовое государство. Социальное правовое государство — это не разновидность правового государства, а исторически новый тип государства, в деятельности которого принцип правовой государственности (господство права, формальное равенство) сосуществует и конкурирует с противоположным ему принципом социальной государственности. Классическое (либеральное) правовое государство как идеальный тип соответствует развитому индустриальному обществу. Постиндустриальному обществу соответствует социальное правовое государство.
В постиндустриальном обществе малоквалифицированный труд в производстве заменяется автоматизированным. Поэтому, во-первых, эффективность производства становится качественно более высокой, а национальный доход — достаточным для удовлетворения постоянно растущих потребностей практически всех членов общества (возникает “общество потребления”). Во-вторых, качественно большая, чем в индустриальном обществе, часть членов общества реально исключается из процесса производства и потенциально — из сферы экономической активности вообще (постепенно значительная часть малоквалифицированной рабочей силы перетекает в сферу услуг). Между первым и вторым результатами перехода к постиндустриальному развитию существует противоречие. Второй сдерживает развитие производства, так как наращивать производство при относительном снижении доходов все большей части населения бессмысленно — некому покупать производимую продукцию. Кроме того, рост числа людей, выключенных из сферы экономической активности, означает рост люмпенских маргинальных слоев, угрожающих уничтожить такое общество, в котором им не находится места. Происходят кризисы перепроизводства и жестко подавляемые государством массовые акции протеста социально ущемленных слоев общества, требующих повышения цены рабочей силы и перераспределения национального дохода в пользу социально слабых (например, в 20—30-е годы в США и Западной Европе).
Между тем постиндустриальное общество объективно способно обеспечить всеобщий высокий уровень потребления при сохранении относительно высокой прибыли собственников средств производства. В таком обществе социальное регулирование преимущественно по принципу права, без перераспределения национального дохода в пользу социально слабых, становится не только нецелесообразным в смысле экономического развития, но и опасным в общественно-политическом плане. Либеральное (минимальное) государство в этом обществе объективно уже не нужно ни социально сильным, ни социально слабым.
После второй мировой войны в большинстве развитых стран к власти приходят новые политические элиты, реализующие некоторые идеи социал-демократии, кейнсианства и неолиберализма, оправдывающие ограниченное вмешательство государства в дела гражданского общества. В этих странах (прежде всего в Западной Европе, в меньшей мере в США) складывается государство, которое не только гарантирует свободу, безопасность и собственность, но и обеспечивает социальный мир и экономический рост, создает социальные гарантии (особенно в сферах занятости, образования и здравоохранения), позволяющие большинству членов общества более эффективно добиваться благополучия за счет самостоятельной активности. В юридической сфере это выражается в формальном признании государством и гарантировании его реальной политикой так называемых социальных, экономических и культурных прав человека и гражданина, или “прав человека второго поколения” (сюда включаются права на минимум заработной платы, обеспечивающий достойное существование, на охрану труда и защиту от безработицы, на отдых, поддержку семьи, социальное обеспечение по возрасту или инвалидности, на бесплатное или социальное жилище, на бесплатное или за доступную плату образование и здравоохранение и т. п.). Признание некоторых из этих “прав” в наиболее развитых странах начинается еще в первой половине XX в., а после второй мировой войны они включаются в число общепризнанных прав человека.
“Права второго поколения” в основном складываются в результате деятельности социального правового государства. В этом их сущностное отличие от “прав человека первого поколения” — естественных и неотчуждаемых прав и свобод. “Права первого поколения” объективно возникают в гражданском (индустриальном) обществе и порождают либеральное государство, соблюдающее и защищающее эти права и свободы. Наоборот, в процессе формирования постиндустриального общества сначала государство решает задачи по перераспределению национального дохода, а уже затем констатируется факт, что в результате социальной деятельности государства складывается система защищаемых законами интересов социально слабых членов общества, т. е. возникают “права второго поколения”
Это “права”, производные от деятельности государства, т. е. октроированные, а не естественные и неотчуждаемые. Это “права” в кавычках, так как в действительности большинство из них суть не права, а привилегии, льготы и преимущества социально слабых. Например, право на жилище означает прежде всего, что малоимущим, нуждающимся в жилище, оно предоставляется государством бесплатно или за доступную плату. Другие же члены общества самостоятельно приобретают жилье за реальную справедливую цену. Но для того чтобы одним давать жилье бесплатно, государство должно у других отнять в виде налогов часть имущества. Подобные привилегии социально слабых означают, что общество делится на тех, в чью пользу перераспределяется национальный доход, и тех, за чей счет он перераспределяется. Причем привилегии устанавливаются произвольно (в нейтральном смысле) и также произвольно реализуются — в зависимости от объективных возможностей экономики и политики конкретного правительства (левой или правой ориентации).
Вместе с тем государство решает общесоциальные задачи: за счет гибкой налоговой политики поддерживает конкуренцию и способствует развитию отстающих секторов экономики, стимулирует реструктуризацию народного хозяйства; финансирует социальные программы, направленные на повышение квалификации рабочей силы, рост образовательного уровня, сохранение физического и духовного здоровья нации и т. д.
Чрезмерная ориентация государства на принцип социальной государственности в ущерб господству права приводит к перегруженности государства, непомерному разбуханию и неэффективности государственного аппарата, снижению производства, оттоку капитала и инфляции. В результате механизмы саморегулирования гражданского общества приводят к власти новую политическую элиту, которая больше ориентируется на правовое начало государственности. При новой внутренней политике уменьшается налоговое бремя, сокращаются расходы на социальные программы, растет рентабельность производства и начинается приток капитала. Но положение социально слабых ухудшается, и после оздоровления экономики к власти опять приходит политическая элита социал- демократической ориентации. Так социальное правовое государство действует по принципу маятника, колеблющегося между началами правовой и социальной государственности: при Правительстве правой ориентации в ущерб социальным задачам государства происходит накопление ресурсов, необходимых для их решения; при правительстве левой ориентации эти ресурсы растрачиваются, и политический “маятник” начинает движение “вправо” и т. д.
§ 5. Патерналистские функции государства
Принцип социальной государственности в деятельности современного государства ориентирует это государство на осуществление патерналистских функций по отношению к гражданскому обществу и отдельным группам субъектов гражданского общества. Государственный патернализм является результатом общественных ожиданий в постиндустриальном обществе и проявляется как недоверие к саморегулированию, особенно в сфере производства и распределения. Но во второй половине XX в. общественные ожидания, связанные с воздействием государства на темпы экономического роста, планированием, содействием научно-техническому прогрессу, оправдались далеко не полностью, породили отрицательные побочные последствия как для общества, так и для государства. На основе этой практики в теории разработана типология задач современного социального правового государства, выходящих за пределы осуществления минимальных функций[453].
Социально-экономическая задача — это задача поддержания эффективности народного хозяйства и способствования формированию такой социальной структуры, которая исключала бы антагонистические противоречия между отдельными группами. Решение этой задачи достигается путем перераспределения национального дохода и государственного стимулирования экономического роста. При этом должны создаваться условия, способствующие наибольшей экономической активности наибольшего числа людей (трансформация либерального принципа Дж. Бентама в эпоху государственного интервенционизма). Экономический и социальный аспекты решения этой задачи неразрывны: социальная деятельность государства возможна только на базе эффективной экономики.
Экономическая политика государства осуществляется как стимулирующая бюджетная, кредитная и налоговая политика на основе экономического прогнозирования, как предоставление субвенций в малоэффективных, низкорентабельных или слаборазвитых отраслях народного хозяйства, сохранение и развитие которых выгодно обществу в целом, как приоритетные затраты на развитие транспорта и инфраструктуры. Создание, а тем более расширение государственного сектора в народном хозяйстве признается крайней мерой по поддержанию уровня занятости населения. Неэффективность этой меры подтверждается периодическими реприватизациями в государственном секторе.
Таким образом, в социально-экономической сфере современное государство осуществляет две взаимосвязанные функции. Во-первых, государство содействует экономическому развитию (по меньшей мере, обеспечивает стабильность). Во- вторых, оно способствует максимальной активности (занятости) населения и обеспечивает социально слабым уровень потребления, соответствующий современным представлениям о человеческом достоинстве. Патерналистский характер этих функций заключается в том, что государство, или правительство, определяет (по меньшей мере, стремится определять) приоритеты экономического и социального развития. Роль гражданского общества здесь сводится к тому, что оно реагирует на эффективность осуществления этих функций, и в результате к власти приходят политические элиты то левой, то правой ориентации. Экономическая и социальная функции реализуются главным образом в социальном законодательстве и в деятельности исполнительной власти.
Задача содействия развитию культуры — это задача создания благоприятных условий для развития творческих способностей человека. Социальное правовое государство тратит на выполнение этой задачи часть государственного бюджета, сопоставимую с расходами на экономические программы. Эта задача включает в себя развитие культуры в самом широком смысле — от системы воспитания и образования до религии, науки и искусства.
Если с финансовой точки зрения государственное вмешательство в сферу культуры вряд ли может быть чрезмерным, то с точки зрения форм такого вмешательства возникают проблемы. Во-первых, государство не должно монополизировать деятельность в отраслях культуры, особенно в области воспитания и образования. Во-вторых, государство не должно под предлогом “создания наиболее благоприятных условий” подчинять сферу культуры какой бы то ни было государственной идеологии (религии); идеологический плюрализм и толерантность — основа развития культуры. В-третьих, под тем же предлогом недопустимы любая цензура и любые ограничения свободы выражения мнений; это относится только к предмету правовой задачи государства. В-четвертых, недопустимо любое вмешательство в сферу свободы научного и художественного творчества; то, что государство может делать в рамках выполнения своей правовой задачи (например, устанавливать или запрещать определенные формы распространения информации порнографического содержания), оно не может делать в рамках рассматриваемой задачи, т. е. не может вмешиваться в процессы преподавания, создания произведений науки, искусства или оценивать их содержание не с точки зрения права, а с точки зрения науки и искусства и т. д.
Таким образом, в том, что касается функции содействия развитию культуры, государственный патернализм должен быть максимально ограничен. Например, государство может определять приоритеты в развитии науки или образования лишь в той мере, в которой оно выступает заказчиком определенных научных разработок или работодателем для специалистов определенной квалификации.
Экологическая задача — это задача защиты, восстановления и формирования среды обитания человечества, регламентации разумного использования экосистем, предотвращения их разрушения в эпоху научно-технического прогресса. Вмешательство государства в этих целях в общественные отношения, с одной стороны, необходимо, поскольку только государство может эффективно защищать окружающую среду и только оно в процессе сотрудничества с другими государствами способно нести бремя расходов на финансирование экологических программ. Гражданское общество, даже если его субъекты осознают угрозу экологической катастрофы, по определению не способно решить экологическую задачу; гражданское общество — это сфера частных интересов, и любая частная экологическая деятельность хозяйствующих субъектов повышает себестоимость их продукции, делает их экономически неконкурентоспособными. С другой стороны, сегодня уже очевидно, что регламентация и запреты, связанные с выполнением государством экологической задачи, — это не просто форма заботы государства об общем благе, а элементарное и наиболее фундаментальное условие сохранения жизни и цивилизации на земле. Сохранение среды обитания — такое же естественное требование, как и требование не нарушать права и свободы других лиц.
Раздел VIII. Правовое государство
Глава 1. Правовое государство: история идей и современность
Правовое государство — как определенная теоретическая концепция и соответствующая практика — имеет долгую и поучительную историю.
Сам термин “правовое государство” (Rechtsstaat) возник и утвердился в немецкой юридической литературе в первой трети XIX в. (в трудах К. Т. Велькера, Р. фон Моля и др.)[454], а в дальнейшем получил широкое распространение.
В содержательном смысле ряд идей правовой государственности появился уже в античном мире и в средневековой Европе, а теоретически развитые концепции и доктрины правового государства были сформулированы в условиях перехода от феодализма к капитализму и возникновения нового социально-политического строя. Исторически это происходило в общем русле возникновения прогрессивных направлений буржуазной политической и правовой мысли, становления и развития нового (антифеодального, светского, антитеологического и антиклерикального) юридического мировоззрения, критики феодального произвола и беззаконий, абсолютистских и полицейских режимов, утверждения идей гуманизма, принципов свободы и равенства всех людей, неотчуждаемых прав человека, поисков различных государственно-правовых средств, конструкций и форм (разделение государственных властей, конституционализм, верховенство закона и т. д.), направленных против узурпации публичной политической власти и ее безответственности перед обществом и т. д.
При всей своей новизне теоретические концепции правовой государственности (разработанные в трудах Д. Локка, Щ. Л. Монтескье, Д. Адамса, Д. Мэдисона, Т. Джефферсона, И. Канта, Г. В. Гегеля и др.) опирались на опыт прошлого, на Достижения предшествующей социальной, политической и правовой теории и практики, на исторически сложившиеся и апробированные общечеловеческие ценности и гуманистические традиции.
§ 1. Античные идеи
Различные аспекты античного влияния на последующую теорию правового государства группируются вокруг тематики правового опосредования и оформления политических отношений. Эта тематика включает в себя прежде всего такие аспекты, как справедливость устройства полиса (античного города-государства), его власти и его законов, разумное распределение полномочий между различными органами государства, различение правильных и неправильных форм правления, определяющая роль закона в полисной жизни при определении взаимоотношений государства и гражданина, взаимосвязь права и государства, значение законности как критерия классификации и характеристики различных форм правления и т. д.
Уже в глубокой древности зарождается идея необходимости соответствия действий власти требованиям справедливости. В дальнейшем процессе углублявшихся представлений о праве и государстве довольно рано сформировалась идея о разумности и справедливости такой политической формы общественной жизни людей, при которой право благодаря признанию и поддержке публичной власти становится общеобязательным законом, а публично-властная система (с ее возможностями насилия и т. д.), признающая право, упорядоченная и, следовательно, ограниченная и оправданная им одновременно, — справедливой (т. е. соответствующей праву) государственной властью. Символическим выражением подобных представлений стал образ Богини Правосудия, олицетворяющей единение силы и права и справедливость правопорядка, в равной мере обязательного для всех.
Во многих древнегреческих мифах, поэмах Гомера и Гесиода отчетливо присутствует возводимая к богам идея справедливого устройства полисной жизни людей. Справедливость (дике) как принцип общения резко противопоставляется силе и насилию в человеческих взаимоотношениях. Гесиод восхваляет Эвномию (Благозаконие), которая, согласно мифу, является сестрой Дике и дочерью верховного и совершенного бога Зевса и богини Фемиды (персонификации вечного естественно-божественного порядка). Эвномия (Благозаконие) тем самым олицетворяет божественное по своим истокам начало законности в общественном устройстве, глубинную внутреннюю связь законности и полисного порядка. В дальнейшем слово “эвномия” (благозаконие) заметно десакрализировалось и стало одним из ключевых понятий для характеристики полисного правления, основанного на хороших, справедливых законах.
В плане антитезы “право (справедливость) — насилие” заслуживает упоминания и резкая критика Гесиодом устоев грядущего “железного века”, когда, по его словам: “Правду заменит кулак... Где сила, там будет и право” (Гесиод. Труды и дни, 174—193).
Основополагающее значение господства законов в полисных делах настойчиво подчеркивали и многие из “семи мудрецов” Древней Греции. Некоторые из них, будучи правителями или законодателями, приложили немало усилий для практической реализации своих политико-правовых идеалов. Соблюдение законов, согласно Бианту, Хилону, Питтаку, Соло- ну и другим древнегреческим мудрецам, — существенная отличительная черта благоустроенного полиса. Так, наилучшим государственным устройством Биант считал такое, где граждане боятся закона в той же мере, в какой боялись бы тирана.
“Повинуйся законам”, — призывал спартанец Хилон, автор знаменитого афоризма “Познай самого себя”, начертанного на храме Аполлона в Дельфах и сыгравшего заметную роль в истории древнегреческой мысли. Лучшим полисом Хилон считал тот, где граждане слушаются законов более, чем ораторов и демагогов.
Одним из “семи мудрецов” был Солон (ок. 638—559 гг. до н.э.) — знаменитый афинский реформатор, государственный деятель и законодатель. Глубокой политико-правовой мудростью отмечен его афоризм “Ничего сверх меры”, который тоже был обозначен на храме в Дельфах. Именно с законодательных реформ Солона, по оценке Аристотеля, в Афинах “началась демократия”[455]. Конституционное по своему существу законодательство Солона было правовым отражением острой борьбы между низами и верхами афинского полиса, богатыми и бедными. Это законодательство пронизано идеей компромисса правопритязаний борющихся сторон, интересов знати и демоса, имущих и неимущих. Кстати говоря, эта сознательно проводившаяся Солоном идея законодательного закрепления компромисса между борющимися силами и достижения таким путем гражданского мира весьма характерна и для последующего зрелого конституционализма Нового времени как фундамента правовой государственности.
В плане идей правового закона и правового государства представляет большой интерес положение Солона о том, что свои реформы он провел с помощью “власти закона”, соединив силу с правом[456]. Помимо глубокой характеристики власти закона как сочетания силы (имеется в виду — официальной государственной силы) с правом в приведенном положении Солона отчетливо присутствует также и проницательная мысль о том, что преобразования в государстве следует проводить именно легальным путем, на основе официального и всеобщего закона.
Отмеченная государственно-правовая идея древних о единении силы и права была однозначно направлена против представлений о том, будто сила рождает право, сильный всегда прав и т. д. Справедливость, право, закон традиционно считались древними греками божественными установлениями, необходимыми атрибутами космических и земных порядков, антиподами насилия, произвола, хаоса. И говоря сегодня о законопослушности древних, их высоком почтении к закону и законности, не надо забывать, что имелись в виду освященные традицией, надлежаще устанавливаемые, разумные и справедливые (мы бы сказали — правовые) законы, а не произвольный диктат силы. Такое отношение к законам присутствует, например, и в той гражданской присяге, которую приносили молодые жители Афин при достижении совершеннолетия (18 лет)[457]. В этой присяге были, в частности, следующие слова: “И я буду слушаться властей, постоянно существующих, и повиноваться установленным законам, а также тем новым, которые установит согласно народ. И если кто-нибудь будет отменять законы или не повиноваться им, я не допущу этого, но буду защищать их и один, и вместе со всеми”
Последующее развитие древнегреческой политико-правовой мысли сопровождается дальнейшим углублением светских теоретических воззрений о взаимосвязях права и государства, о формах и механизме правового опосредования политиковластных отношений.
С идеей необходимости преобразования общественных и политико-правовых порядков на философских основах в VI—V вв. до н.э. выступили Пифагор и пифагорейцы. В качестве идеала они восхваляли государство, в котором господствуют справедливые законы. При этом справедливость они трактовали как воздаяние равным за равное и начали исследоватъ понятие “равенство”, столь существенное для понимания специфики и значения права как регулятора социальных и политических отношений.
Процесс становления и углубления теоретических представлений о праве и государстве в Древней Греции развивался в целом в русле поисков объективных основ полиса и его законов. Речь шла об объективных безусловных первоосновах закона и государства, т. е. по сути дела об идее естественного права.
Так, Гераклит (VI—V вв. до н.э.) трактовал полис и его законы как отражение космического порядка. Знание о справедливости, законе и т. д. — это, по Гераклиту, часть знания о мире вообще, о космосе как “упорядоченной вселенной”, “мировом порядке” (В 90)[458]. Обусловленность судеб космоса изменяющейся мерой огня — это и есть, по Гераклиту, всеобщая закономерность, тот вечный логос, который лежит в основе всех событий мира. Справедливость состоит в том, чтобы следовать всеобщему божественному логосу.
Полис и его закон — это, по Гераклиту, нечто общее, одинаково божественное и разумное по их истокам и смыслу. “Ведь все человеческие законы питаются единым божественным, который простирает свою власть, насколько желает, всему довлеет и над всем одерживает верх” (В 114). Имея в виду эту единую (божественную, разумную и справедливую) природу полиса и закона, их необходимую взаимосвязь, Гераклит подчеркивал, что “народ должен сражаться за закон, как за свои стены” (В 114).
Божественный (разумный, космический) закон как источник человеческих законов — то же самое, что в других случаях обозначается как логос, разум, правда, природа[459]. Этот божественный закон, согласно концепции Гераклита, дает разумный масштаб и меру человеческим явлениям, делам и отношениям, в том числе и человеческим законам. Без такого божественного, космически-огненного масштаба у людей, по Гераклиту, не было бы и самого представления о справедливости и правде. “Имени Правды они бы не знали, если бы этого не было” (В 23).
С учетом последующей эволюции правовой мысли можно сказать, что к гераклитовской концепции восходят все те естественноправовые доктрины античности и Нового времени, которые под естественным правом понимают некое разумное начало (норму всеобщего разума), подлежащее выражению в позитивном законе.
Существенная для естественноправовой теории характеристика закона и государства как чего-то искусственного, вторичного и обусловленного неким естественным началом (естественным развитием человеческого общества) встречается уже у Демокрита (ок. V—IV вв. до н.э.)[460]. Соотношение естественного и искусственного — это соотношение того, что существует “по правде” (т. е. по природе, в истинной действительности), и того, что существует лишь согласно “общему мнению”. Соответствие природе Демокрит расценивал как критерий справедливости в этике, политике, законодательстве. “То, что считается справедливым, — утверждал он, — не есть справедливое; несправедливо же то, что противно природе”[461]. С этих же естественноправовых позиций он писал: “Предписания законов искусственны. По природе же существуют атомы и пустота”[462].
Вместе с тем Демокрит не отвергал значения законов для совместной полисной жизни, хотя мудрецу они и не нужны. “Приличие, — отмечал он, — требует подчинения закону, власти и умственному превосходству”[463].
Искусство управления государством (полисом) он считал “наивысшим из искусств”[464]. Трактуя государство как “общее дело” всех его членов, Демокрит писал: “Государственные дела надо считать много более важными, чем все прочие; каждый должен стараться, чтобы государство было благоустроено, не добиваясь больших почестей, чем ему приличествует, и не захватывая большей власти, чем это полезно для общего дела. И государство, идущее по верному пути, — величайшая опора. И в этом заключается все: когда оно в благополучии, все в благополучии, когда оно гибнет, все гибнет”[465]. При этом Демокрит отвергал деспотическую власть и выступал за демократический полис со свободой граждан. “Бедность в демократии, — подчеркивал он, — настолько же предпочтительнее так называемого благополучия граждан при царях, насколько свобода лучше рабства”[466].
Светский, человеческий подход к политико-правовым явлениям в V—IV вв. до н.э. был основательно развит софистами, которые в отличие от своих предшественников стали уделять заметное внимание месту и роли индивида в политической жизни, субъективному началу в политике, правам человека в их соотношении с полисным законодательством, социальной трактовке власти и закона как формам выражения интересов различных слоев и групп общества.
Известное положение софиста Протагора (ок. 481—411 гг. до н.э.) — “Мера всех вещей — человек” (Платон. Теэтет, 152а) — знаменовало собой поворот к человеческому измерению мира, включая и политико-правовые отношения, к постижению активно-человеческого, творческого начала во всех сферах жизни.
В русле различения естественного и искусственного ряд софистов уже четко противопоставляют искусственному закону полиса право по природе как разумное начало.
Так, софист Горгий, высоко оценивая достижения человеческой культуры, к их числу относил и “писаные законы, этих стражей справедливости”[467]. Писаный закон — искусное человеческое изобретение, т. е. нечто искусственное в отличие от неписаной “справедливости”, которую Горгий характеризовал как “сущность дел”, “божественный и всеобщий закон”[468].
Противопоставляя природу (фюсис) и закон (номос), другой софист, Гиппий, говорил: “Люди, собравшиеся здесь! Я считаю, что вы все тут родственники, свойственники и сограждане — по природе, а не по закону: ведь подобное родственно подобному по природе, закон же, властвуя над людьми, принуждает ко многому, что противно природе” (Платон. Протагор, 337).
При этом Гиппий критически отмечал условность, изменчивость, текучий и временный характер полисных законов, их зависимость от усмотрения сменяющих друг друга законодателей. Все это, по его мнению, показывает, что принимаемые людьми законы — нечто несерьезное и лишенное необходимости. “Кто станет думать о законах и о подчинении им, как о деле серьезном, — говорит он, — когда нередко сами законодатели не одобряют их и переменяют?” (Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, IV, IV, 14). В отличие от полисных законов, считал Гиппий, неписаные законы природы “одинаково исполняются в каждой стране”.
Положение о равенстве всех людей по природе обосновывал софист Антифонт. При этом он ссылался на то, что у всех людей — эллинов и варваров, благородных и простых — одни и те же естественные потребности. Неравенство же людей проистекает из человеческих законов, а не из природы. “По природе, — говорил Антифонт, — мы все во всех отношениях равны, притом (одинаково) и варвары, и эллины. (Здесь) уместно обратить внимание на то, что у всех людей нужды от природы одинаковы”[469]. С этих позиций он отмечал, что “многие (предписания, признаваемые) справедливыми по закону, враждебны природе (человека)”[470]. Даже полезные установления закона — суть оковы для человеческой природы, веления же природы приносят человеку свободу. Обосновывал он это так: “Ибо предписания законов произвольны (искусственны), (веления же) природы необходимы. И (сверх того), предписания законов суть результат соглашения (договора людей), а не возникшие сами собой (порождения природы); веления же природы суть самовозникшие (врожденные начала), а не продукт соглашения (людей между собой)”[471].
Аристократическую концепцию естественного права развивал софист Калликл. Критикуя полисные законы, он говорил: “По-моему, законы как раз и устанавливают слабосильные, а их большинство. Ради себя и собственной выгоды устанавливают они законы, расточая и похвалы, и порицания” (Платон. Горгий, 483 с). Те, кто составляет большинство, только по своей ничтожности довольствуются долей, равной для всех. Отвергая принцип равенства, он утверждал, что по природе справедливо то, что лучший выше худшего й сильный выше слабого. Повсюду (среди животных, людей, государств и народов) природный признак справедливости, по его мнению, таков: сильный повелевает слабым и стоит выше слабого.
Как результат, договора людей между собой трактовал государство и законы софист Ликофрон: “Да и закон в таком случае оказывается простым договором или, как говорил софист Ликофрон, просто гарантией личных прав, сделать же граждан добрыми и справедливыми он не в силах” (Аристотель, Политика, III, 5, 11, 1280а, 33). Судя по всему, “личные права” человека Ликофрон считал тем естественным правом (правом по природе), для гарантирования которого, по его договорной теории, и было заключено людьми соглашение о создании полисной общности.
Идею естественноправового равенства и свободы всех людей (включая и рабов) обосновывал софист Алкидам. Ему приписывают следующие знаменательные слова: “Божество создало всех свободными, а природа никого не сотворила рабом”[472].
Начало понятийно-теоретического исследования (с помощью логических дефиниций и общих понятий) объективной разумной природы официальных полисных установлений, справедливости и законности связано с именем Сократа (469— 399 гг. до н.э.)[473]. В основе его теоретического подхода к нравственной, политической и правовой проблематике в целом лежит рационалистическое представление об определяющем, императивно-регулятивном значении знания. Как и добродетель в целом, политическая добродетель, куда Сократ включал и представления о нравственной природе полиса и закона, — это знание. “Он утверждал, — пишет о Сократе Ксенофонт (Воспоминания о Сократе, III, IX, 5), — что справедливость и всякая другая добродетель состоит в знании и что справедливое и все то, что совершается посредством добродетели, есть нравственно-прекрасное; что, таким образом, знающие нравственно-прекрасное не предпочтут ему ничего иного, а незнающие не произведут его; если же захотят произвести, то впадут в ошибки. Если же справедливое и все нравственнопрекрасное совершается посредством добродетели, то, очевидно, справедливость и всякая другая добродетель есть знание”
Как неписаные божественные законы, так и писаные человеческие законы имеют в виду, согласно Сократу, одну и ту же справедливость, которая не просто является критерием законности, но по существу тождественна с ней. Когда софист Гиппий настойчиво спрашивает у Сократа, каково же его учение о справедливости, Сократ говорит ему: “Я лично того мнения, что нежелание несправедливости служит достаточным доказательством справедливости. Но если ты этим не довольствуешься, то, вот, не нравится ли тебе следующее: я утверждаю, что то, что законно, то и справедливо” (Ксенофонт.. Воспоминания о Сократе, IV, IV, 12).
Рационалистические положения Сократа о полисе, справедливости и законе были развиты его учеником Платоном (427—347 гг. до н.э.)[474]. Идеальное государство и разумные, справедливые законы трактуются Платоном как реализация идей и максимально возможное воплощение мира идей в земной политической и правовой жизни. Справедливость состоит в том, чтобы каждое начало (каждое сословие и каждый член государства) занималось своим делом и не вмешивалось в чужие дела. Кроме того, справедливость требует, по Платону, соответствующей иерархической соподчиненности этих начал во имя целого. Так, характеризуя справедливость в идеальном государстве, Платон писал: “Заниматься каждому своим делом это, пожалуй, и будет справедливостью”; “справедливость состоит в том, чтобы каждый имел свое и исполнял тоже свое” (Государство, 433Ь,е). Справедливость состоит также в том, “чтобы никто не захватывал чужого и не лишался своего” (Государство, 433е).
Эти определения справедливости (dikaiosyne) относятся им и к праву (dikaion), раскрывая тем самым платоновское понимание естественного права[475] в его различении с полисным законом. Однако это различение естественного права и закона Платон, как и Сократ, трактует не в плане их противопоставления и разрыва, а для раскрытия объективных (в конечном счете, божественных, разумных, идеальных) корней полисных законов.
Справедливость, согласно Платону, предполагает “надлежащую меру”, определенное равенство. При этом он (со ссылкой на Сократа) различает два вида равенства: “геометрическое равенство” (равенство по достоинству и добродетелям) и “арифметическое равенство” (“равенство меры, веса и числа”). Поясняя смысл такого различения, Платон замечает, что “для неравных равное стало бы неравным, если бы не соблюдалась надлежащая мера” (Законы, 757а). “Геометрическое равенство” — это “самое истинное и наилучшее равенство”: “большему оно уделяет больше, меньшему — меньше, каждому даря то, что соразмерно его природе” (Законы, 757с).
Эти положения в дальнейшем были восприняты и развиты в учении Аристотеля о двух видах справедливости — справедливости уравнивающей и справедливости распределяющей.
Вслед за Сократом Платон отмечает конституирующее значение фактора законности для характеристики различных видов правления. Так, в диалоге “Политик” кроме образцового государства, где правление (как и в идеальном полисе, изображенном в “Государстве”) осуществляется на основе истинного философского знания, а не законов, Платон выделяет три вида правления — монархию, власть немногих и власть большинства. Каждый из этих видов в зависимости от наличия или отсутствия законности делится надвое: законная монархия — это царская власть, противозаконная — тирания; законная власть немногих — аристократия, беззаконная — олигархия; далее — демократия с господством законов и без них.
Еще большее значение господству законов в государстве придается Платоном в его последней работе “Законы” Здесь он принципиально противопоставляет друг другу два вида государства: один, где над всем стоят правители, другой — где и правителям предписаны законы. Выступая за государство законности, Платон писал: “Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей- либо властью. Там же, где закон — владыка над правителями, а они — его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут даровать государствам боги” (Законы, 715d).
Было бы, конечно, неверно отождествлять платоновское государство законности с правовым государством. Но наряду с различиями между ними есть и определенное сходство: говоря о законах, Платон в духе своих естественноправовых воззрений имеет в виду не всякое обязательное установление власти, а лишь разумные и справедливые общеобязательные правила, “определения разума” (Законы, 713е). Существенная черта такого закона, да и самого государства, по оценке Платона, — выражение и защита ими общего интереса. Без этого, согласно Платону, нет ни закона, ни государства, ни справедливости, а имеет место лишь злоупотребление этими понятиями в условиях насилия, политических распрей и господства интересов узкой группы лиц. “Мы признаем, — подчеркивал Платон, — что там, где законы установлены в интересах нескольких человек, речь идет не о государственном устройстве, а только о внутренних распрях и то, что считается там справедливостью, носит вотще это имя” (Законы, 715в).
Это проницательное суждение античного философа мог бы повторить и современный сторонник правового государства и правового закона.
Концепцию правления разумных законов с естественноправовых позиций обосновывал и Аристотель (384—322 гг. до н.э.), отец античной политической науки. “Итак, — писал он, — кто требует, чтобы закон властвовал, требует, кажется, того, чтобы властвовало только божество и разум, а кто требует, чтобы властвовал человек, привносит в это свое требование своего рода животный элемент, ибо страстность есть нечто животное, да и гнев совращает с истинного пути правителей, хотя бы они и были наилучшими людьми; напротив, закон — это уравновешенный разум” (Аристотель. Политика, III, 11, 4, 1287в, 5). Там, где отсутствует власть закона, там, подчеркивает он, нет места и какой-либо форме государственного (полисного) строя.
В силу политической природы человека всякое право, согласно Аристотелю, — это политическое право, которое делится на естественное право и право волеустановленное (т. е. позитивное)[476].
Необходимым критерием политического характера закона является его соответствие политической справедливости и праву. “Всякий закон, — пишет он (Политика, I, 2, 18, 1225а, 19), — в основе предполагает своего рода право” Без этого закон (волеустановленное право) вырождается в средство деспотизма. “Не может быть делом закона, — подчеркивает Аристотель (Политика, VII, 2, 4, 1324в, 11), — властвование не только по праву, но и вопреки праву; стремление же к насильственному подчинению, конечно, противоречит идее права”.
В трактовке Аристотеля различные формы политического (государственного) устройства — в силу именно своей политичности — соответствуют принципу справедливости и идее права, т. е., иначе говоря, носят правовой характер. “Итак, ясно, — пишет Аристотель (Политика, III, 4, 7, 1279а, 26), — что только те формы государственного строя, которые имеют в виду общую пользу, являются, согласно принципу абсолютной справедливости, правильными; те же формы, при которых имеется в виду только личное благо правителей, все ошибочны и представляют отклонения от правильных; они основаны на деспотическом принципе, а государство есть общение свободных людей” Такая принципиальная общность и предметно-смысловое единство политических и правовых форм, противопоставляемых деспотизму, дает основание говорить о наличии в учении Аристотеля правовой концепции государства[477].
В целом разрабатывавшаяся Аристотелем политическая наука опиралась на естественноправовую трактовку всех основных проблем полисной жизни (законов и институтов полиса, свободы его членов, справедливости в их взаимоотношениях и т. д.). Естественноправовой смысл имеет и знаменитое положение Аристотеля о том, что “человек, по природе своей, — существо политическое” (Аристотель. Политика. I, 1, 9, 1253а, 16). В контексте его правового учения о политике (о полисе, о государстве, о законах) это положение, по существу, означает также, что человек, по природе своей, — существо правовое, “так как право, служащее критерием справедливости, является регулирующей нормой политического общения” (Аристотель. Политика, I, 1, 12, 1253а, 16).
На современном языке можно сказать, что в учении Аристотеля политичность и юридичностъ (правовой характер) государства — это одно и то же, так что его политическая наука, представлявшая собой естественноправовое учение о государстве и законе (волеустановленном, позитивном праве), содержит в себе исходные идеи правового закона и правовой государственности.
Существенным достижением древнегреческих мыслителей (Платона, Аристотеля, а затем и Полибия) в этом плане было учение о смешанном правлении как лучшей форме государства.
Так, у Аристотеля этой лучшей формой государства является полития, которая является надлежащим сочетанием (“смешением") принципов демократии и олигархии. При этом Аристотель во многом следует за Платоном, который характеризовал второе по достоинству государство, обрисованное в “Законах”, как смешанное правление — “середину между монархическим и демократическим устройством: государственное устройство вообще должно всегда придерживаться середины” (Законы, 757). Разделяя саму идею Платона о преимуществах смешанного правления, Аристотель вместе с тем замечает, что в платоновской концепции совершенного государства речь в действительности идет о сочетании демократического элемента с элементом олигархическим, а не с монархическим.
По существу, аристотелевская полития является теоретической конструкцией политической (и вместе с тем правовой) формы властвования вообще. В этом плане она служит как бы эталоном для эмпирически существующих государственных форм и критерием для определения меры их политичности или неполитичности (деспотичности, отклонения от требований права, норм политической справедливости).
Полития конструируется Аристотелем с учетом основных максим его этического и политического учения. Полития — “средняя” форма государства, и “средний” элемент в ней доминирует во всем: в нравах — умеренность, в имуществе — средний достаток, во властвовании — средний класс. “Государство, состоящее из “средних” людей, будет иметь и наилучший государственный строй” (Политика, IV, 9, 6, 1295в, 18). Величайшим благом для государства- Аристотель считает обладание гражданами собственностью средней, но достаточной.
Многочисленный средний элемент нейтрализует, по мысли Аристотеля, опасность раскола населения на борющиеся партии и ослабляет партийные распри и раздоры.
В политии, по мысли Аристотеля, средний элемент должен преобладать над крайними элементами или, во всяком случае, быть сильнее каждого из них в отдельности. Верховная власть должна находиться в руках большинства, а не меньшинства, и число сторонников данного строя должно превышать число его противников в общей массе свободного населения. В политии, как, впрочем, и в олигархии и демократии, законодатель должен ориентироваться на “средний” элемент данной формы государственного строя.
Возможно лучшая при данных обстоятельствах организация государственного строя зависит, по мысли Аристотеля, от надлежащей комбинации различных условий формирования и приемов функционирования трех основных его элементов. Во всяком государстве, отмечал Аристотель, имеется три элемента: первый — законосовещательный орган о делах государства, второй — магистратуры, третий — судебные органы. Эти три элемента, по его оценке, составляют основу каждого государства, так что само различие государственного строя обусловлено различной организацией, каждого из этих элементов.
При всей своей значимости эти мысли Аристотеля, однако, еще не содержат концепции разделения властей в духе теории правового государства, в плане которой было бы принципиально важно показать, что различие отдельных форм государственного строя обусловлено не только различной организацией каждого из названных им элементов, но и (что весьма существенно именно для теории и практики правового государства) характером отношений между этими элементами, формой их взаимосвязей, способом разграничения их полномочий, мерой их соучастия в реализации всей совокупности властных полномочий государства в целом.
Для последующей теории разделения властей (в плане теоретических истоков, преемственности в истории политической мысли и т. д.) скорее значимы те положения древнегреческих мыслителей, где речь идет о различении “правильных” (с господством законов) и “неправильных” (произвольных) форм правления и о “смешанной” форме правления, преимущество которой видится им в сочетании достоинств различных простых “правильных” форм правления. Причем принципы простых форм правления объединяются в рамках одной (“смешанной”) формы по сути дела в качестве различных начал властвования, верная комбинация и надлежащее соотношение которых обеспечивают, по мысли античных авторов, не только стабильность политического строя, но и его соответствие требованиям права — справедливую меру и разумную форму участия всех основных слоев свободного населения (демоса, богатых, знатных) в государственной жизни и отправлении общегосударственных функций.
Таким образом, нечто аналогичное тому, что по теории Разделения властей достигается посредством надлежащего распределения единой власти среди различных слоев, классов и органов, в рамках античной концепции смешанного правления осуществляется путем сочетания в некое единство принципов разных форм правления.
Значительной развитостью с точки зрения теории разделения властей отличается концепция смешанного правления в разработке Полибия (210—128 гг. до н.э.). Отмечая наличие смешанного правления в Спарте, Карфагене и Риме, он выделяет такое преимущество этой формы, как взаимное сдерживание и противодействие друг другу ее различных составных элементов, что в целом позволяет достичь надлежащей стабильной организации политического строя. Это — одна из важных идей также и теории разделения властей.
В своей “Всеобщей истории” Полибий характеризует порядок зарождения и смены шести основных форм государства (царской власти, тирании, аристократии, олигархии, демократии и охлократии) как естественный процесс, совершающийся по “закону природы”.
Наиболее совершенной формой правления, согласно Полибию, является такая, в которой соединяются особенности царской власти, аристократии и демократии.
Главное преимущество такой смешанной формы правления Полибий видит в обеспечении надлежащей устойчивости государства, предотвращающей переход к извращенным формам правления — к тирании, олигархии и охлократии. Первым, кто уяснил это и организовал смешанное правление, был, по мнению Полибия, спартанский законодатель Ликург. Он “установил форму правления не простую и не единообразную, но соединил в ней вместе все преимущества наилучших форм правления, дабы ни одна из них не развивалась сверх меры и через то не извращалась в родственную ей обратную форму, дабы все они сдерживались в проявлении свойств взаимным противодействием и ни одна не тянула бы в свою сторону, не перевешивала бы прочих, дабы таким образом государство неизменно пребывало бы в состоянии равномерного колебания и равновесия, наподобие идущего против ветра корабля” (Полибий. Всеобщая история, VI, 10).
Применительно к своему времени Полибий отмечает, что наилучшим государственным устройством отличается римское государство, в котором он выделяет три власти: власть консулов, власть сената и власть народа, выражающих соответственно царское, аристократическое и демократическое начала. “В самом деле, — поясняет Полибий (Всеобщая история, VI, ІІ), — если мы сосредоточим внимание на власти консулов, государство покажется вполне монархическим и царским, если на сенате — аристократическим, если, наконец, кто-либо примет во внимание только положение народа, он, наверное, признает римское государство демократией”
Характеризуя распределение государственных полномочий в Риме между тремя властями, Полибий рассматривает устоявшиеся политические процедуры и способы, с помощью которых отдельные власти могут при необходимости мешать друг другу или, наоборот, оказывать взаимную поддержку и содействие. При этом он отмечает, что возможные претензии одной власти на несоответствующее ей большее значение встречают надлежащее противодействие других властей и в целом римское государство сохраняет свою стабильность и прочность.
Легко заметить, что при всех исторических и социально- политических различиях между античной концепцией смешанного правления и последующей теорией разделения властей у них есть и существенно важные общие моменты. Так, в смешанной форме правления (особенно четко у Полибия) полномочия представителей различных форм правления, как и полномочия различных властей в теории разделения властей, не сливаются в одно единое начало и не теряют своей специфики и особенностей, а остаются разделенными и относительно самостоятельными, взаимодействуют, сочетаются и сосуществуют, взаимно сдерживая и уравновешивая друг друга в рамках стабильного целого — государственного строя. Цель в обоих случаях одна — формирование такой конструкции государственной власти, при которой полномочия правления не сосредоточены в одном центре (начале), не сконцентрированы у одного органа (одной из властей), а справедливо распределены (в виде сфер разделения и правомочий разных властей) между различными взаимно сдерживающими, противодействующими и уравновешивающими началами — составными частями общегосударственной власти.
Правовой подход к государству (его правовое понимание и толкование) был существенно развит и углублен в творчестве римских юристов, усилиями которых была создана юриспруденция как “познание божественных и человеческих дел, знание правового и неправового” (Д.1.1.10).
Под правом (ius) римские юристы имеют в виду справедливое право. “Занимающемуся правом, — подчеркивал Ульпиан (Д. 1.1.1), — следует сначала выяснить, откуда пришло Наименование права (ius). Оно восходит к справедливости (justitia): ведь, как элегантно определяет Цельс, ius est ars boni et aequi” (право есть искусство добра и эквивалента)[478].
Юриспруденция как наука о праве включала в себя и правовую трактовку проблем организации и деятельности государства, юридическое учение о государстве (юридическое государствоведение).
Существенное значение в этом плане имело выдвинутое римскими юристами положение о делении права на публичное и частное право. “Изучение права, — писал Ульпиан (Д.1.1.1), — распадается на две части: публичное и частное (право). Публичное право, которое (относится) к положению римского государства, частное, которое (относится) к пользе отдельных лиц; существует полезное в общественном отношении и полезное в частном отношении. Публичное право включает в себя святыни, служение жрецов, положение магистратов. Частное право делится на три части, ибо оно составляется или из естественных предписаний, или (из предписаний) народов, или (из предписаний) цивильных”
В центре внимания римской юриспруденции находились проблемы частного права. Но римские юристы многое сделали и в области публичного права (государственного, административного, финансового, военного, уголовного права и т. д.). Разработка юридической догматики (догмы действующего права, принципов, приемов и правил его анализа, классификации, систематизации и толкования его источников и т. д.) при этом сочеталась с исследованием целого ряда фундаментальных общетеоретических проблем права и государства.
Такому сочетанию во многом содействовало то принципиальное обстоятельство, что предметная сфера формировавшейся юриспруденции с самого начала включала в себя не только учение об источниках действовавшего права (все то, что со времен Средневековья стало именоваться позитивным правом), но и теорию естественного права (весь теоретикопознавательный, мировоззренческий и ценностный потенциал естественноправовых идей и конструкций). Именно такое юридическое правопонимание (различение и соотношение естественного и позитивного права), лежащее в основе римской юриспруденции, предопределило (и на будущее) предметный профиль и научный статус юридической науки как юриспруденции (правоведения), а не законоведения (той или иной версии теоретизирующего легизма).
Значительный интерес представляют юридические воззрения Цицерона (1063—43 гг. до н.з.), который был не только выдающимся оратором и политиком, но и большим юристом- теоретиком и практиком. Особо следует отметить то обстоятельство, что его принципиально единый естественноправовой подход к закону (позитивному праву) и государству, по существу, представлял собой теоретическое обоснование предмета юриспруденции как единой науки о праве и государстве. Об этом свидетельствует трактовка им исходного понятийно-смыслового единства закона (позитивного права) и государства как различных форм выражения единого разумного и справедливого начала — естественного права, которое возникло “раньше, чем какой бы то ни было писаный закон, вернее, раньше, чем какое-либо государство вообще было основано” (Цицерон. О законах, ІІ, 19).
Определяя государство (respublica) как дело народа (res populi), Цицерон поясняет, что “народ не любое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а соединение многих людей, связанных между собою согласием в вопросах права и общностью интересов” (Цицерон. О государстве, I, XXV, 39). Государство как согласованное правовое общение людей — это, по Цицерону, определенное правовое образование, “общий правопорядок” (там же). Имея в виду правовое единство закона и государства, Цицерон писал, что магистрат — это говорящий закон, а закон — это магистрат.
Из концепции Цицерона вытекает необходимость соответствия законов государства требованиям естественного права. Только такие законы справедливы. Что же касается несправедливых законов, то они “заслуживают названия закона не больше, чем решения, с общего согласия принятые разбойниками” (Цицерон. О законах, II, 13). Законами следует установить “не только для магистратов меру их власти, но и для граждан меру их повиновения” (Цицерон. О законах, III, 5). Он формулирует важный правовой принцип: “Под действие закона должны подпадать все” (Цицерон. О законах, III, 17).
Правовое равенство граждан, по мысли Цицерона, достижимо лишь при смешанной форме государства, образуемой из элементов царского правления, аристократии и демократии. “Ибо, — замечает он, — желательно, чтобы в государстве было нечто выдающееся и царственное, чтобы одна часть власти была уделена и вручена авторитету первенствующих людей, а некоторые дела были предоставлены суждению и воле народа” (Цицерон. О государстве, I, XV, 69).
Цицерон отмечает опасность крена в сторону того или иного начала смешанной формы государства и выступает за их взаимное равновесие путем “равномерного распределения прав, обязанностей и полномочий” между ними (Цицерон. О государстве, II, XXXIII, 57).
Реальность и действенность государства как дела народа и общего правопорядка, по мысли Цицерона, во многом зависят от политической и правовой активности всего населения. В этой связи он подчеркивал, что “при защите свободы граждан нет частных лиц” (Цицерон. О государстве, И, XXV, 46). Ведь свобода гражданина — это его права, т. е. составная часть общего правопорядка, всей государственности.
Правовой подход к государству у других римских юристов не столь теоретически последователен и радикален, как у Цицерона, однако в целом для римской юриспруденции характерно именно правовое понимание и толкование государства, правовое определение полномочий и обязанностей должностных лиц и учреждений. Согласно римской юриспруденции, государство стоит не вне и над правопорядком, а внутри него в качестве его составной части, которой присущи все основные свойства права вообще.
Показательно в этой связи суждение юриста Павла о деятельности претора: “Говорится, что претор высказывает право, даже если он решает несправедливо: это (слово) относится не к тому, что претор сделал, но к тому, что ему надлежало сделать” (Д.1.1.11). Соблюдение надлежащих требований права (юридически должного, включая требования справедливости), по смыслу суждения Павла, распространяется и на всех других магистратов, на деятельность (правотворческую, правоприменительную и т. д.) всех представителей государства. Подобная связанность государства требованиями права носит, согласно представлениям римских юристов, не просто обязательный, а сакрально-императивный характер. В этом смысле знаменитый юрист Папиниан (Д. 1.3.1) определяет закон как “общую клятву республики”, общий обет государства.
В римской юриспруденции основанием и критерием справедливого, правомерного и правильного в соотношении права и государства является право (правовая справедливость и справедливое право — boni et aequi, aequum ius), а не государство: юридическое правопонимание здесь первично, и оно определяет также правовой характер понимания государства (полномочий магистратов, компетенций-магистратур и т. д.). Государство, следовательно, должно действовать не по собственным особым (внеправовым) правилам, а как правопослушный субъект в соответствии с общими для всех требованиями права — требованиями boni et aequi, aequum ius.
Таким образом, распространяя на государство (как объект своего изучения наряду с позитивным правом) единое понятие права (как boni et aequi, как aequum ius), римская юриспруденция тем самым включает в себя (в свой предмет) и юридическое государствоведение (понимание и толкование государства с позиций этого понятия права).
Такой юридический подход к государству (юридизация понимания государства и самого понятия государства) является важной смысловой вехой и необходимым гносеологическим моментом в познавательном движении к понятию правового государства.
§ 2. Политико-правовая мысль Средневековья
Идеи и конструкции античных авторов получили свое дальнейшее развитие в творчестве мыслителей европейского Средневековья и Нового времени.
Также и применительно к истории идей правовой государственности Средневековье не было пустым, потерянным временем. Напротив, средневековая политико-правовая мысль (средневековая юриспруденция, политическая наука, философия права, теология) сыграла важную связующую роль между идеями античности и Нового времени, в том числе и в плане теоретической подготовки основ для последующих учений о неотчуждаемых естественных правах человека, о разделении властей, представительной системе и правовой государственности вообще.
Показательны в этом смысле политико-правовые воззрения такого авторитетного представителя средневековой теологии, как Фома Аквинский (1225—1274). В новых условиях он с христианских позиций развивал ряд политико-правовых идей античных авторов, и прежде всего Аристотеля (о политической природе человека, о политической форме правления и.т. д.) и римских юристов (о естественноправовой справедливости и т. д.).
Естественный закон, согласно Фоме Аквинскому, помимо стремления к самосохранению и продолжению рода, поисков истины и истинного Бога, требует также признания и уважения достоинства человека как разумного существа, созданного Творцом по своему образу и подобию. Это высказанное Фомой Аквинским положение о достоинстве человека (и достоинстве человеческой личности), будучи фундаментальным принципом христианского гуманизма, в политико-правовом плане является одной из первых формулировок идеи неотчуждаемого естественного права человека. Отсюда следует, что государство и человеческий (позитивный) закон должны признавать и уважать достоинство человека. В соответствии с этим государство как политическая форма выражения общего блага призвано, согласно Фоме Аквинскому, обеспечить для людей достойные условия жизни, т. е. условия, соответствующие достоинству человека.
Используя положения Аристотеля и ряда других античных мыслителей, Фома Аквинский проводит различие между абсолютной монархией и политической монархией. Достоинства политической монархии он видит в том, что эта форма правления в наилучшей форме выражает требования общего блага, уважения достоинства человека и осуществления власти на основе закона, обязательного и для самого монарха. Кроме того, в политической монархии власть монарха ограничена сословно-представительным органом.
В духе античных авторов Фома Аквинский противопоставляет монархию (и абсолютную, и политическую) тирании и признает право народа (с согласия церкви) на насильственное свержение тиранической власти. В этом признаваемом Фомой Аквинским (правда, с определенными церковно-религиозными оговорками и условиями) праве народа на восстание против тирании присутствует (хотя и в теологически приглушенной форме) идея народного суверенитета.
Более отчетливо в эту эпоху суверенитет народа в своем светском учении о государстве и праве признавал Марсилий Падуанский (1275—1343). Народ, согласно Марсилию, — это источник всякой власти (и светской, и духовной), носитель суверенитета и верховный законодатель. Правда, под “народом” он имел в виду лучшую, просвещенную часть общества, которая печется об общем благе.
Одним из первых в истории политической мысли Марсилий Падуанский в работе “Защитник мира” обосновывает концепцию разделения в государстве законодательной и исполнительной властей на основе верховенства законодательной власти и связанности исполнительной власти обязательным для всех законом.
На идею народного суверенитета опирается и выдвинутый Марсилием демократический принцип выборности всех должностных лиц и государственных институтов, включая и монарха. Причем избирательную монархию он считал более совершенной формой правления, чем наследственная монархия.
Значительный вклад в углубление юридического понимания и толкования (с позиций естественного права) государства и действующего позитивного права внесли средневековые юристы. Заметную роль в этом плане сыграла рецепция римского права в странах Западной Европы.
Так, представители ряда юридических школ того времени (X—XI вв.), возникших в Риме, Павии, Равенне и других городах, в своем правопонимании ориентировались на изучение источников действующего права и значительное внимание уделяли соотношению римского и местного (готского, лангобардского и т. д.) права, трактовке роли римского права для восполнения пробелов местных обычаев и кодификаций. При этом нормам, принципам и положениям римского права стали придавать универсальное значение. Одновременно существенное место в тогдашнем правопонимании начинают занимать разработанная римскими юристами идея правовой справедливости (aequitas) и связанные с ней естественноправовые представления и концепции.
В данной связи И. А. Покровский отмечал, что, с одной стороны, “в юриспруденции Павийской школы рано образовалось убеждение, что для пополнения лангобардского права следует обращаться к римскому, что римское право есть общее право, lex generalis omnium. С другой стороны, романисты Равенны принимали во внимание право лангобардское. В тех Же случаях, когда правовые системы сталкивались между собой и противоречили друг другу, юриспруденция считала себя вправе выбирать между ними по соображениям справедливости, aequitas, вследствие чего эта aequitas возводилась ими в верховный критерий всякого права. Отсюда и дальнейшее воззрение, что и внутри каждой отдельной правовой системы всякая норма подлежит оценке с точки зрения той же aequitas, что норма несправедливая при применении может быть отвергнута и заменена правилом, диктуемым справедливостью... Понятие aequitas при этом отождествляется с понятием ius naturale, и, таким образом, юриспруденция этого времени, по своему общему и основному направлению, является предшественницей естественноправовой школы позднейшей эпохи”[479].
В этом же направлении развивалось правопонимание постглоссаторов (или комментаторов), которые занимали доминирующие позиции в европейской юриспруденции в XIII—XV вв. Естественное право они трактуют как вечное, разумное право, выводимое из природы вещей. Соответствие требованиям естественного права выступает в их трактовке в качестве критерия для признания соответствующих норм позитивного права (норм законодательства и обычного права).
Целый ряд основных положений школы постглоссаторов сформулировал Раймунд Луллий (1234—1315). Принципы своего нового подхода к праву и своего понимания “юридического искусства” Луллий формулировал следующим образом: “reducere ius naturale ad syllogysmum” (редуцировать естественное право в силлогизм); “ius positivum ad ius n aturale reducatur et cum ipso concordet” (позитивное право редуцировать к праву естественному и согласовать с ним)[480]. Даже отвергая то или иное несправедливое положение позитивного права, следует, по мысли Луллия, избегать критического противопоставления естественного и позитивного права. “Юрист, — писал он, — обязан исследовать, справедлив или ложен закон писаный. Если он найдет его справедливым, то должен вывести из него верные заключения. Если же найдет его ложным, то не должен только им пользоваться, не порицая его и не разглашая о нем, чтобы не навлечь позора на старших” (т. е. законодателей)[481].
Применительно к государству такой естественноправовой подход означал приоритет (и верховенство) естественного права перед государством. Так, юрист Балдус утверждал, что естественное право сильнее, чем принципат, власть государя: “potius est ius naturale quam principatus”[482].
§ 3. Концепции Нового и Новейшего времени
Идеи правовой государственности в Новое время развивались в русле достижений предшествующей политико-правовой мысли и прежде всего естественноправовых представлений о свободе и правах человека, о приоритете естественного права перед позитивным правом и государством, о правовых формах и пределах осуществления государственной власти, о разграничении властных полномочий различных органов государства и т. д.
Заметной вехой в процессе обновления и углубления юридического подхода (с позиций рационалистического учения о естественном праве) стало творчество Г. Гроция (1583—1645). Отмечая юридический профиль своего исследования, Гроций подчеркивал отличие юриспруденции как “науки права”[483] от науки о политике. Предмет юриспруденции, по Гроцию, — это право и справедливость, предмет науки о политике — целесообразность и польза.
При этом под правом и справедливостью Гроций имеет в виду естественное право — “право в собственном смысле слова”, “предписание здравого разума”[484]. Неизменное естественное право, обусловленное разумной природой человека, не зависит даже от бога. “Действительно, — отмечает Гроций, — подобно тому как бог не может сделать, чтобы дважды два не равнялось четырем, так точно он не может зло по внутреннему смыслу обратить в добро”[485].
И внутригосударственное право (т. е. позитивное право, установление гражданской власти), и международное право (право народов) основаны, по Гроцию, в конечном счете на естественном праве. К нему же восходит и государство, которое Гроций (в духе договорной теории) определяет как “совершенный союз свободных людей, заключенный ради соблюдения права и общей пользы”[486].
Таким образом, именно понятие естественного права (его объективные, неволеустановленные свойства разумности и справедливости) определяет правовую природу и правовой характер как позитивного (волеустановленного) права, так и государства. Это и обеспечивает в подходе Гроция единство предмета юриспруденции как науки о праве (и вместе с тем — о правовой природе и правовом характере государства). Поэтому в учении о естественном праве Гроций видит ту теоретическую основу, которая и способна придать юриспруденции научный характер[487].
В историческом и теоретическом развитии новых представлений о правовой государственности в эпоху перехода от феодализма к капитализму решающее значение приобретают проблемы политической власти и ее формально равной для всех правовой организации в виде упорядоченной системы раздельных государственных властей, соответствующей новому соотношению социально-классовых и политических сил и вместе с тем исключающей монополизацию власти в руках одного лица, органа или союза. Юридическое мировоззрение нового восходящего класса требовало утверждения новых представлений о свободе человека посредством режима господства права и в частных, и в публично-политических (государственно-властных) отношениях.
Ряд положений, существенных для теории и практики правовой государственности, был обоснован английским мыслителем Д. Локком (1632—1704). В его трактовке идея господства права предстает в виде государства, в котором верховенствует гражданский закон, соответствующий вечному и всеобъемлющему закону природы. В таком государстве провозглашены постоянные (конституционные) законы, признаются неотчуждаемые естественные права и свободы индивида, осуществлено разделение властей на законодательную, исполнительную (куда он включал и судебную власть) и федеративную (внешнюю исполнительную власть). Подобное государство, обеспечивающее жизнь, свободу и собственность людей, он противопоставляет деспотической власти. Государственная власть ограничена общественным благом.
Опираясь на идеи народного суверенитета и общественного договора, образующие правовую основу и источник государственности, Локк выступил с обоснованием “доктрины законности сопротивления всяким незаконным проявлениям власти”[488].
К Локку восходят и многие положения классической либеральной доктрины прав и свобод индивида в условиях правовой государственности. “Свобода людей, находящихся под властью правительства, — отмечал он, — заключается в том, чтобы иметь постоянное правило для жизни, общее для каждого в этом обществе и установленное законодательной властью, созданной в нем; это — свобода следовать моему собственному желанию во всех случаях, когда этого не запрещает закон, и не быть зависимым от постоянной, неопределенной, неизвестной самовластной воли другого человека”[489]. Обоснованный здесь Локком правовой принцип индивидуальной свободы лишь словесно несколько расходится с последующей, ставшей актуальной и для нас формулой: “разрешено все, что не запрещено законом”.
Новые представления о разделении властей получили свою систематическую разработку в творчестве французского юриста Ш. Л. Монтескье (1689—1755). Различая в каждом государстве три рода власти — законодательную, исполнительную и судебную, он отмечает, что для предотвращения злоупотреблений властью необходим такой порядок вещей, при котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга. “Если, — замечает он в сочинении “О духе законов”, — власть законодательная и исполнительная будут соединены в одном лице или учреждении, то свободы не будет, так как можно опасаться, что этот монарх или сенат станет создавать тиранические законы для того, чтобы также тиранически применять их. Не будет свободы и в том случае, если судебная власть не отделена от власти законодательной и исполнительной. Если она соединена с законодательной властью, то жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная власть соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать угнетателем. Все погибло бы, если бы в одном и том же лице или учреждении, составленном из сановников, из дворян или простых людей, были соединены эти три власти: власть создавать законы, власть приводить в исполнение постановления общегосударственного характера и власть судить преступления или тяжбы частных лиц”[490].
Разделение и взаимное сдерживание властей являются, согласно Монтескье, главным условием для обеспечения политической свободы в ее отношениях к государственному устройству. При этом он подчеркивает, что политическая свобода состоит не в том, чтобы делать то, что хочется. “В государстве, т. е. в обществе, где есть законы, свобода может заключаться лишь в том, чтобы иметь возможность делать то, что должно хотеть, и не быть принуждаемым делать то, чего не должно хотеть... Свобода есть право делать все, что дозволено законами. Если бы гражданин мог делать то, что этими законами запрещается, то у него не было бы свободы, так как то же самое могли бы делать и прочие граждане”[491].
Другой аспект свободы, на который обращает внимание Монтескье, — это политическая свобода в ее отношении уже не к государственному устройству, а к отдельному гражданину. В этом втором аспекте политическая свобода заключается в безопасности гражданина. Рассматривая средства обеспечения такой безопасности, Монтескье придает особое значение доброкачественности уголовных законов и судопроизводства. “Если не ограждена невиновность граждан, то не ограждена и свобода. Сведения о наилучших правилах, которыми следует руководствоваться при уголовном судопроизводстве, важнее для человечества всего прочего в мире. Эти сведения уже приобретены в некоторых странах и должны быть усвоены прочими”[492].
Учения Локка и Монтескье, и прежде всего о разделении властей и обеспечении прав и свобод граждан, оказали заметное влияние не только на последующие теоретические представления о правовой государственности, но и на раннебуржуазное конституционное законодательство и государственно-правовую практику. Это влияние отчетливо проявилось, например, в Конституции США 1787 г., во французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г., в целом ряде других правовых актов. Примечательна в этой связи, в частности, статья 16 французской Декларации 1789 г., которая гласит: “Общество, где не обеспечена гарантия прав и не проведено разделение властей, не имеет Конституции”[493].
Большой интерес в плане нашей темы представляет и статья 5 этой Декларации: “Закон может воспрещать лишь деяния, вредные для общества. Все же, что не воспрещено законом, то дозволено, и никто не может быть принуждаем к действию, не предписываемому законом”[494]. Это первое законодательное закрепление данного правового принципа; причем в приведенном тексте Декларации соединены идеи Локка и Монтескье.
С глубоким обоснованием либеральной теории правового государства в конце XVIII в. выступил немецкий философ И. Кант. “Государство, — отмечал он, — это объединение множества людей, подчиненных правовым законам”[495]. Благо государства, по Канту, состоит в высшей степени согласованности государственного устройства с правовыми принципами, и стремиться к такой согласованности нас обязывает разум через категорический императив. Этот категорический императив разума в сфере права выступает в виде требования всеобщего правового закона, гласящего: “...поступай внешне так, чтобы свободное проявление твоего произвола было совместимо со свободой каждого, сообразной со всеобщим законом”[496]. Реализация требований категорического императива в сфере государственности предстает у Канта как правовая организация государства с разделением властей (законодательной, исполнительной и судебной). В соответствии с наличием или отсутствием принципа разделения властей он различает и противопоставляет две формы правления: республику (это и есть, по существу, правовое государство) и деспотию.
Характеризуя различные власти, Кант подчеркивал, что правосудие должно осуществляться избранным народом судом присяжных. Определяющее значение в его теории, исходившей из идеи народного суверенитета, придается разграничению законодательной и исполнительной властей. “Республиканизм, — писал он, — есть государственный принцип отделения исполнительной власти (правительства) от законодательной; деспотизм — принцип самовластного исполнения государственных законов, данных им самим; стало быть, публичная воля выступает в качестве частной воли правителя”[497]. Применительно к законодателю Кант формулирует следующий ограничительный принцип его деятельности: то, чего народ не может решить относительно самого себя, того и законодатель не может решить относительно народа.
Правовое государство (республика) выступает в трактовке Канта не как эмпирическая реальность, а как та идеальнотеоретическая конструкция (модель), которой следует руководствоваться как требованием разума и целью наших усилий в практической организации государственно-правовой жизни.
Если у Канта правовые законы и правовое государство — это долженствование, то у Гегеля, другого великого представителя немецкой классической философии XIX в., они действительность, т. е. практическая реализованность разума в определенных формах обыденного существования людей. В этом смысл того, что, по Гегелю, действительность разумна; такую разумную действительность он называет также идеей, которую не следует смешивать с идеалом.
В XX в. многие либеральные авторы выступили против гегелевской философии права и государства как одного из теоретических оснований идеологии и практики фашизма, национал- социализма и вообще всех разновидностей современного деспотизма и тоталитаризма. Однако подлинное содержание гегелевской концепции правового государства свидетельствует об ошибочности и несостоятельности подобных обвинений.
Человек не рождается от природы свободным, как считал Руссо. Человек, по Гегелю, свободен именно как духовное существо. Свободный человек и свободные учреждения формируются лишь в ходе длительного исторического развития, в процессе которого человек формирует себя самого в качестве свободной сущности и свой мир свободы, права и государства. В этом смысле всемирную историю Гегель характеризует как прогресс в сознании свободы — прогресс как в смысле углубления познания человеком объективной истины (включая и познание себя в качестве духовной, свободной сущности), так и в плане объективации (практической реализации) достигнутых ступеней свободы в форме права и государства.
Право, по Гегелю, — это действительность свободы (или, иначе говоря, идея свободы), “наличное бытие свободной воли”[498]. Государство, согласно Гегелю, — это тоже право, а именно конкретное право, т. е. по диалектической трактовке, наиболее развитое и содержательно богатое право, вся система права, включающая в себя признание всех остальных, более абстрактных прав — прав личности, семьи и общества.
В этой диалектической иерархии прав государство как наиболее конкретное право стоит на вершине правовой пирамиды. С этим связано гегелевское возвышение государства над индивидами и обществом, восхваление государства и чуть ли не его обожествление как “шествия Бога в мире” Все это подтверждает, что Гегель — этатист (государственник). Но Гегель — правовой этатист, он обосновывает, восхваляет и обожествляет именно правовое государство, он подчиняет (не отрицая их!) права индивидов и общества государству не как аппарату насилия, а как более высокому праву — всей системе права. А “система права есть царство осуществленной свободы” Иными словами, Гегель философски восхваляет государство как наиболее развитую действительность свободы.
В конкретно-историческом плане Гегель как мыслитель начала XIX в. считал, что идея свободы достигла наибольшего практического осуществления именно в конституционной монархии, основанной на принципе разделения властей (государя, правительства и законодательной власти). Надлежащее разделение властей в государстве Гегель считал “гарантией публичной свободы” С этих позиций он резко критиковал деспотизм — “состояние беззакония, в котором особенная воля как таковая, будь то воля монарха или народа (охлократия), имеет силу закона или, вернее, действует вместо закона”[499].
В целом вся гегелевская конструкция правового государства прямо и однозначно направлена против произвола, бесправия и вообще всех неправовых форм применения силы со стороны частных лиц и государственных властей. Гегелевский этатизм радикально отличается от тоталитаризма всякого толка, который видит в организованном государстве и правопорядке своих прямых врагов и стремится вообще подменить правовой закон — произвольно-приказным законодательством, а государственность — своим особым властно-политическим механизмом. И в гегелевском этатизме правомерно видеть не идеологическую подготовку тоталитаризма, а авторитетное философское предупреждение о его опасностях. Ведь тоталитаризм ХХ в., рассмотренный с позиций гегелевской философии государства и права, — это антиправовая и антигосударственная форма организации политической власти, рецидив механизма насилия деспотического толка, правда, в исторически новых условиях и с новыми возможностями, целями и средствами.
Осмысление гегелевской концепции государства в контексте опыта и знаний XX в. о тоталитаризме позволяет понять враждебную и взаимоисключающую противоположность между государственностью и тоталитаризмом. В этом смысле можно уверенно сказать: этатизм против тоталитаризма.
При освещении истории учений о правовой государственности необходимо остановиться и на таком теоретически и практически влиятельном направлении в подходе к этой теме, как юридико-позитивистские концепции правового государства. Это направление в XIX и XX вв. представлено различными течениями и вариантами юридического позитивизма. К его известным приверженцам относятся, в частности, К. Гербер, Д. Дайси, Г Еллинек, Р. Иеринг, Н. И. Коркунов, П. Лабанд, А. Эсмен и др. Суть их позитивистских концепций правового ограничения государства (при всех имеющихся между ними различиях) состоит в попытке создать ту или иную конструкцию самоограничения государства им же самим созданным позитивным правом. При этом отрицается различение права и закона, и право сводится к установленным и защищаемым государством нормам (нормам закона, подзаконных нормативных актов и т. д.).
Такой тип понимания права и государства и связей между ними восходит во многом к Т. Гоббсу (1588—1679), идеологу “государства-Левиафана”.
Права и свободы личности, общественных союзов и общества в целом с позиций такого подхода лишаются объективного и самостоятельного смысла и оказываются октроированными, дарованными сверху “благами” — по прихоти и усмотрению властвующих; так же произвольно эти “блага” могут отбираться обратно.
Внутренняя противоречивость и несостоятельность различных юридико-позитивистских конструкций правового государства очевидны. С одной стороны, государство в виде силы, произвольно творящей право, возвышают над правом, а с другой стороны, в самом этом произвольном праве усматривают средство для ограничения, обуздания и “связывания” произвольной силы его собственного творца (т. е. государства), причем реализация этого благопожелания зависит опять-таки от прихоти самой власти, его “самоограничения” Возможность нового произвола со стороны государства, следовательно, пытаются предотвратить его “связанностью” со своим старым произволом. Кроме того, уверяют, что произвол действий властей можно удержать в границах произвола их нормативных установлений. Одни формы произвола должны по этой юридико-догматической логике пресечь другие его проявления. Гарантии против произвола, таким образом, в самом произволе!
Позитивистские концепции правовой государственности вращаются в порочном кругу тавтологии, где сила определяет, что есть право, и вместе с тем сама становится правовой, т. е. тем, что зависит от ее собственного определения.
Пороки старого позитивизма в XX в. пытался преодолеть неопозитивист Ганс Кельзен (1881—1973).
В единый предмет правоведения, согласно его “чистому учению о праве”, входит и государство, которое интерпретируется им как правопорядок и, по существу, отождествляется с позитивным правом. Критикуя присущий старому позитивизму дуализм права и государства, Кельзен писал: “Как только мы начнем подразумевать под государством правопорядок, тотчас обнаружится, что противостоящая простым этико-политическим постулатам “действительность” или “реальность” государства есть позитивность права. “Действительное” государство представляет собой позитивное право в отличие от справедливости, т. е. требования политики”[500]. Если традиционный позитивизм этатизирует право, то кельзеновский нормативизм, напротив, легализирует государство (в смысле норм позитивного права, восходящих к гипотетической “основной норме”).
С позиций отождествления права и государства Кельзен утверждает, что “всякое государство есть правовое государство”[501]. Но как радикальный позитивист он отвергает понятие “правовое государство” в общепринятом смысле, которое используется для обозначения “такого типа государства, которое отвечает требованиям демократии и правовой безопасности”[502]. Подобное понятие “правовое государство” предполагает “принятие допущения, согласно которому лишь такой порядок принуждения может считаться “настоящим” правопорядком”, а это, по оценке Кельзена, “предрассудок, основанный на теории естественного права”[503].
Кельзен же под правопорядком (и в качестве права, и в качестве государства) имеет в виду только позитивное право с любым произвольным содержанием. “Ведь, — пишет он, — и относительно централизованный порядок принуждения, имеющий характер автократии и при неограниченной гибкости не гарантирующий никакой правовой безопасности, — это тоже правопорядок... С точки зрения последовательного правового позитивизма, право, как и государство, не может быть понято иначе, нежели как принудительный порядок человеческого поведения, что само по себе еще никак не характеризует его с точки зрения морали или справедливости. Тогда государство может быть понято в “юридическом смысле” не в большей и не в меньшей мере, чем само право”[504].
В концепциях представителей как старого, так и обновленного позитивизма речь, по существу, идет не о правовом государстве, а скорее о “государстве законов”, или “государстве законности” (как нередко именуют их и сами авторы соответствующих конструкций). Причем этим законам и законности, как и соответствующему государству, не хватает как раз главного — объективного критерия их правомерности и правового характера, их отличия от форм произвола и несвободы. Между тем теоретически ясно, и практика это убедительно подтверждает, что законы могут исполняться, законность соблюдаться и в том случае, когда они вместе с установившим их государством носят антигуманный, деспотический, террористический — словом, антиправовой характер. Какой толк от таких законов, законности и “правопорядка”, которые легализуют произвол властей и бесправие подвластных?
У представителей старого и нового позитивизма нет и, по существу, не может быть убедительных, не противоречащих принципам их подхода ответов на подобные вопросы теории и практики.
§ 4. Основные итоги
История учений о правовой государственности — богатый арсенал идей и концепций, без знания которых, учета их сильных и слабых сторон, достоинств и недостатков невозможна сколько-нибудь серьезная современная теоретическая разработка проблем правового государства.
Опыт политико-правовой мысли свидетельствует о том, что для правового государства необходимо признание и соблюдение неотчуждаемых прав человека (гуманитарно-правовой компонент), верховенство права и правовых законов (нормативно-правовой компонент), надлежащая правовая организация самой системы государственной власти на основе принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную (институционально-правовой, организационно-властный компонент). Причем все эти компоненты тесно взаимосвязаны.
Так, без надлежащей организации государственной власти, должного разграничения задач, функций и полномочий различных органов власти, определенного порядка их взаимоотношений и т. д. не может быть ни господства права, ни правовых законов, ни тем более их верховенства. В свою очередь, без соответствия праву и соблюдения требований правового закона невозможна сама организация системы власти правового государства. А без этого невозможна и реализация прав и свобод человека.
Для правового государства, конечно, необходимо, но далеко не достаточно, чтобы все, в том числе и само государство, соблюдали законы. Необходимо, чтобы эти законы были правовыми, чтобы законы соответствовали требованиям права как всеобщей, необходимой формы и равной меры (нормы) свободы индивидов. Для этого необходимо такое государство, которое исходило бы из принципов права при формулировании своих законов, проведении их в жизнь, да и вообще в процессе осуществления всех иных своих функций. Но все это возможно лишь в том случае, если организация всей системы политической власти осуществлена на правовых началах и соответствует требованиям права. Таким образом, правовое государство предполагает взаимообусловливающее единство господства права и правовой формы организации политической власти, в условиях которого признаются и защищаются права и свободы человека и гражданина.
В соответствии с этим правовое государство можно определить как правовую форму организации и деятельности публично-политической власти и ее взаимоотношений с индивидами как субъектами права, носителями прав и свобод человека и гражданина.
В целом правовая обоснованность и сформулированность придают государственному применению силы характер правового принуждения. Право государства на такое (оправданное, определенное и ограниченное правом) применение силы — его исключительная прерогатива и существенный показатель его суверенитета. Все другие (негосударственные) субъекты такого права иметь не могут.
Очерченность силы правом (как принцип всякой цивилизации) означает также, что в любом государстве (а не только в правовом) полномочия государства, его органов и должностных лиц подразумевают соответствующие правомочия и действительны лишь в их рамках. В этом смысле любое государство связано правом в меру его цивилизованности, развитости права у соответствующего народа и общества. Специальная же концепция правового государства предполагает достаточно высокий уровень развитости права и государственности как исходную базу для сознательной разработки, конституционного закрепления и практической реализации социально-исторически подходящей модели (конструкции) правовой государственности. Здесь, кроме субъективных пожеланий, необходимы и объективные социально-исторические, правовые, экономические, политические, духовные и культурные предпосылки.
Утверждение суверенитета государства и установление господства права представляют собой два аспекта единого процесса формирования правовой государственности.
Подобно тому как публично-политической властью в государственно-организованном обществе могут и должны быть наделены лишь государственные органы (различные ветви и звенья системы единой суверенной государственной власти), общеобязательный характер (посредством государственного признания и защиты) может и должно иметь лишь право (правовой закон). Все общеобязательные акты (конституции, закон, подзаконные акты и т. д.) должны быть правовыми и по содержанию, и по порядку и процедуре своего принятия и действия. На пути к правовой государственности необходимо не только легализовать (посредством правовых законов) все правовое, но и делегализовать (лишить легальности) и анти- легализовать (запретить законом) все противоправное.
Правовое государство и правовой закон, как и государство и право вообще, не самоцель, а социально-исторически обусловленные формы выражения, организации, упорядочения и защиты прав и свобод человека и гражданина в общественных отношениях людей. Содержание и характер этой (выражаемой в праве) свободы, ее широта и объем, ее субъектная и объектная структуры (субъекты и сферы свободы) и т. д. — словом, ее количество и качество определяются достигнутым уровнем развития общества. Свобода относительна в смысле ее фактической незавершенности, исторического изменения и развития ее содержания и т. д., но она абсолютна как высшая ценность и принцип и поэтому может служить критерием человеческого прогресса, в том числе и в области государственно-правовых форм, общественных отношений, положения личности.
Глава 2. Конституционная модель правового государства в России
§ 1. Общая характеристика
Идеи и ценности правовой государственности стали одним из главных ориентиров для всего процесса преодоления сложившегося в стране тоталитарного социализма и осуществления радикальных политических и экономических преобразований. И вполне закономерно, что они получили свое признание в Конституции Российской Федерации 1993 г., закрепившей основы нового, постсоветского периода в развитии российского общества и государства.
Такая ориентация на формирование и развитие правового государства обусловлена объективными потребностями общественного и политического развития в посттоталитарной России, целями и задачами утверждения свободы и права во всех сферах жизни общества и государства. Правда, необходимо учитывать, что у каждой страны свой путь к правовой государственности, своя конструкция и свои формы правовой организации государства. Это обусловлено множеством факторов, в том числе характером социально-исторического развития каждой страны, национальными и духовными традициями, опытом государственной жизни, достигнутым уровнем политической и правовой культуры, геополитическими обстоятельствами и т. д. Так, на своеобразие российского пути к правовой государственности заметное влияние оказали особенности дореволюционной и послереволюционной истории огромной многонациональной евразийской страны, многовековые традиции деспотизма, самодержавия и тоталитаризма.
В новой Конституции Российской Федерации нашли свое признание и нормативное закрепление все три основных компонента (аспекты, характеристики и свойства) правовой государственности: гуманитарно-правовой (права и свободы человека и гражданина), нормативно-правовой (конституционно-правовая концепция правового закона) и институционально-правовой (система разделения и взаимодействия властей).
Согласно Конституции (ч. 1 ст. 1), Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Кроме того, Конституция определяет Российскую Федерацию как “социальное государство” (ч. 1 ст. 7) и как “светское государство” (ч. 1 ст. 14).
Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации, по Конституции (ч. 1 ст. 3), является ее многонациональный народ. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию, а сама российская Конституция и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации (ст. 4).
В качестве основ конституционного строя Конституция (в гл. 1) закрепляет и целый ряд других принципиальных положений, определяющих новизну общественного и государственно-правового устройства постсоветской России.
Для утверждения начал правовой государственности определяющее значение здесь имеют прежде всего положения Конституции о высшей ценности человека, его прав и свобод (ст. 2), о разделении властей (ст. 10), о прямом действии Конституции и конституционно-правовых характеристиках источников действующего права (ст. 15).
Основы формирования в стране гражданского общества закреплены в конституционных нормах о признании и защите в Российской Федерации равным образом частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности (в том числе на землю и другие природные ресурсы), о едином экономическом пространстве, поддержке конкуренции, свободе экономической деятельности и т. д. (ст. 8, 9).
Основные федеративные черты и свойства российской правовой государственности выражены в конституционных положениях о равноправии субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации, о едином гражданстве Российской Федерации, ее государственной целостности и единстве системы государственной власти, о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Федерации и ее субъектов (ст. 5, 6, 11).
Идеологические и политические характеристики конституционного строя включают в себя признание идеологического и политического многообразия, многопартийности, равенства общественных объединений перед законом (ст. 13).
Новая Конституция Российской Федерации в своей регламентации основных положений постсоветского строя опирается на естественноправовые идеи о прирожденных неотчуждаемых правах и свободах человека, что и определяет в конечном счете правовой характер основного закона страны.
При этом особенности правопонимания, присущие новой российской Конституции, обусловлены тем принципиальным обстоятельством, что речь идет о Конституции страны, осуществляющей переход от тоталитарного, антиправового социализма к постсоциалистическому правовому строю. В такой ситуации речь идет не о совершенствовании и дальнейшем развитии уже давно сложившегося права и правопорядка (которых в наших условиях нет), а о формировании и утверждении правовых начал в общественной и политической жизни, в правовой организации государственной власти, в правовых отношениях между властью и индивидами, в признании и защите прав и свобод человека и гражданина.
Положения сменявших друг друга советских конституций (первой Конституции РСФСР 1918 г., первой Конституции СССР 1924 г., сталинской Конституции СССР 1936 г., брежневской Конституции СССР 1977 г. и соответствующей Конституции РСФСР 1978 г.) о правах и свободах советских граждан носили фиктивный, показной характер. Практика массовых репрессий и расправ (от революционного террора времен “военного коммунизма”, сталинских “чисток” и репрессий 30—50-х годов до борьбы с инакомыслящими, диссидентами и правозащитниками в 60—80-е годы) убедительно продемонстрировала фиктивность прав и свобод человека при социализме, антиправовую природу этого строя.
Присущий российской Конституции новый правовой подход (и, можно сказать, новое юридическое мировоззрение, новая правовая идеология) опирается на исторически апробированное положение о правах и свободах человека и гражданина как основном показателе признания и соблюдения права и справедливости в общественной и государственной жизни людей.
Существенное значение для утверждения в стране демократического государственно-правового строя имеет конституционное положение о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются, по Конституции (ст. 15), составной частью её правовой системы. Если при этом международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора[505].
§ 2. Конституционная концепция естественных прав человека
Конституционные положения о правах и свободах человека и гражданина относятся к числу несомненных достоинств первой постсоветской Конституции.
В качестве одной из основ нового конституционного строя Конституция (ст. 2) провозглашает: “Человек, его права и свободы являются высшей ценностью” При этом Конституция исходит из прирожденного и неотчуждаемого характера основных прав и свобод человека. В духе этих естественноправовых идей в Конституции (ч. 2 ст. 17) утверждается: “Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения”
В этом гуманистически ориентированном конституционном правопонимании сочетаются два компонента: аксиологический (права и свободы человека как высшая ценность) и собственно естественноправовой (прирожденный характер и неотчуждаемость основных прав и свобод человека). Причем оба компонента такого правопонимания исходят именно из индивидуальных (а не коллективистских, групповых и т. д.) прав и свобод. Принцип равенства этих индивидуальных прав и свобод определяет вместе с тем и их пределы, рамки их всеобщего признания и реализации. В Конституции (ч. 3 ст. 17) границы такого взаимосогласованного бытия различных индивидуальных прав и свобод определены следующим образом: “Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц”.
Такая присущая новой Конституции принципиальная ориентация на права и свободы человека как исходное правовое начало — это не просто дань современным международноправовым требованиям в данной области, но и по сути своей верная и обоснованная правовая позиция.
Конечно, права и свободы человека (как определенный правовой принцип и реальное правовое содержание) — явление социально-историческое, общественное, а не непосредственно природное. Это, казалось бы, плохо согласуется с естественноправовым положением Конституции о том, что основные права и свободы человека принадлежат каждому от рождения. Но данное положение вовсе не отрицает социально-исторический смысл и характер прав и свобод человека и права в целом. Ведь с рождением человека как естественным явлением Конституция связывает момент принадлежности, а не происхождения прав и свобод человека.
Использование в Конституции новой для нас естественноправовой конструкции прирожденных прав и свобод человека, по существу, направлено против ранее господствовавших в нашей теории и практике представлений об октроированном (дарованном сверху официальными властями) характере прав людей.
Днтиэтатистский смысл данной конструкции очевиден: основные права и свободы принадлежат каждому человеку по безусловному естественному основанию (в силу природного факта рождения), а не в зависимости от диктуемых государством условий, не по усмотрению, воле и решению властей.
Определенная стилизация под естественное право призвана здесь продемонстрировать исходную и безусловную свободу, правомочность и правосубъектность любого индивида в его отношениях со всеми другими — государством, обществом, индивидами.
Логика такого правопонимания понятна: без свободных индивидов, без прав и свобод человека невозможно и само право как таковое. Право как необходимая форма свободы вообще возможно и имеет смысл лишь при наличии свободных и независимых индивидов — субъектов права. И только там, где индивиды (физические лица) свободны и правосубъектны, в принципе возможна правосубъектность и надиндивидуальных образований, так называемых юридических лиц (различных объединений, организаций, институтов, государства в целом), возможны правовые отношения и правопорядок вообще.
Ведь право вообще и права человека — это не различные (по своей сути, функциям и назначению) феномены, ведущие независимую друг от друга жизнь, а явления принципиально одного порядка и одного типа. Права человека (в тех или иных формах и объемах их бытия и выражения) — это необходимый, неотъемлемый и неизбежный компонент всякого права, определенный (а именно субъектно-человеческий) аспект выражения сущности права как особого типа и специфической формы социальной регуляции. Право без прав человека так же невозможно, как и права человека без и вне права.
В русле такого гуманистического правопонимания в Конституции (гл. 2) закреплен широкий круг личных, политических, социальных и экономических прав и свобод человека и гражданина, соответствующий современным международным стандартам и высокому уровню конституционных требований в этой сфере в развитых демократических странах.
В Конституции (ч. 1 ст. 17) закреплено: “В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией” Поскольку конституционный перечень основных прав и свобод не является исчерпывающим, в Конституции (ч. 1 ст. 55) отмечается: “Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина”
В перечне конституционных прав и свобод важное место занимает закрепление права каждого на частную собственность, включая право частной собственности на землю (ст. 35 и 36 Конституции). Сюда относится и признаваемое за каждым право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом (ст. 34 Конституции).
Наряду с защитой собственности Конституция (ст. 37) закрепляет свободу труда, запрещает принудительный труд, признает право на индивидуальные и коллективные споры с использованием различных законных средств, включая и право на забастовку.
Новый подход отчетливо проявляется в формулировке и всех других прав и свобод. В этой связи особо показательно признание таких прав и свобод, которые ранее вообще оставались вне рамок социалистических конституций. В числе этих прав и свобод — право каждого на жизнь и свободу, право каждого свободно выезжать за пределы России и право гражданина России беспрепятственно возвращаться в Россию, право каждого на свободный поиск и распространение информации в условиях свободы массовой информации и запрета цензуры, право коллективных обращений в государственные органы, право каждого не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников и т. д.
Конституция (ч. 3 ст. 55) предусматривает возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. При этом в Конституции (ст. 56) подчеркивается, что и в условиях чрезвычайного положения не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные в ряде статей Конституции. Речь, в частности, идет о таких правах, как право каждого на жизнь, на достоинство личности, на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, на свободу совести и свободу вероисповедания, на жилище, на судебную защиту его прав и свобод, на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц, и о некоторых других правах и свободах.
Помимо общесудебной защиты прав и свобод и человека и гражданина в Конституции (ч. 2 ст. 80, ч. 2 ст. 85, ч. 1 ст. 103, ч. 1 ст. 114, ч. 4 ст. 125) указаны и другие институты и должностные лица, в обязанности которых входит обеспечение этих прав и свобод (Президент, Правительство, Конституционный Суд, Уполномоченный по правам человека).
Важное значение в этом плане имеют и международные формы защиты прав и свобод человека. Так, Конституция (ч. 3 ст. 46) признает право каждого в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.
§ 3. Правовой закон
По смыслу конституционной концепции правопонимания правовое начало в концентрированном виде и в человеческом измерении представлено в виде прав и свобод человека и гражданина. В силу этого основные правовые характеристики всего конституционно регламентируемого пространства в целом и правовой государственности в особенности даны в Конституции с позиций и под углом зрения прав и свобод человека и гражданина, их признания и защиты. Такой подход особенно важен и актуален для общества с тоталитарно-социалистическим прошлым, где право подменялось антиправовым законодательством и властно-силовыми нормами и где отрицание права прежде всего означало бесправие людей в частных и публичных отношениях.
Эту конституционную концепцию правопонимания можно охарактеризовать как своеобразный естественноправовой вариант различения и соотношения права и закона. Своеобразие это состоит в том, что исходное правовое начало, согласно Конституции, представлено в правах и свободах человека.
Конституционные положения о правах и свободах человека по логике и смыслу данной концепции правопонимания имеют двоякое значение: эти положения не только значимы в плане проблем индивидуальной правоспособности и правосубъектности, но — в качестве исходных правовых начал — они имеют одновременно и общеправовое значение и выступают как общеобязательный правовой стандарт и конституционное требование к правовому качеству официальных нормативных актов, к организации и деятельности всех ветвей государственной власти и должностных лиц.
В этом своем общеправовом и общерегулятивном значении конституционные положения о правах и свободах человека являются наиболее важным и в конечном счете единственным настоящим критерием наличия или отсутствия, соблюдения или отрицания права вообще, критерием правового характера действующего законодательства (законов и всех других источников “позитивного права”), правового типа организации и деятельности различных государственных властей и государства в целом.
В этой связи показательно, что наряду с характеристикой прав и свобод человека в качестве высшей ценности и признанием неотчуждаемого и прирожденного характера основных прав и свобод человека в Конституции (ст. 2) одновременно подчеркивается общеправовая значимость и обязательность этих прав и свобод для всего государства в целом: “Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека — обязанность государства”
В Конституции содержится также и ряд других специальных норм, конкретизирующих общеправовое значение прав и свобод человека и гражданина для других компонентов правового государства. Существенное положение об этом содержится в ст. 18, согласно которой права и свободы человека и гражданина “определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием”.
Если данная статья в позитивной форме содержит требование правового закона, правового характера (соответствия праву) деятельности всех ветвей государственной власти и органов местного самоуправления, то в другой статье Конституции (ч. 2 ст. 55) содержится прямой запрет антиправового (правонарушающего) закона: “в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина”
Важная в этом плане норма содержится и в ч. 3 ст. 15 Конституции: “Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения”
Эти конституционные положения относятся не только к нормативно-правовой системе (нормативно-правовому компоненту) правового государства, но и к его институциональной системе — ко всем ветвям власти, к их правотворческой, правоприменительной и правозащитной деятельности.
Общерегулятивная роль прав и свобод человека и гражданина подкреплена и усилена тем обстоятельством, что они, по Конституции (ст. 18), являются непосредственно действующими.
Существенное значение для утверждения нового правового подхода наряду с общесудебной защитой правопорядка прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов физических и юридических лиц в частно-правовых и публично-правовых отношениях, имеют предусмотренные Конституцией формы и процедуры специального судебного контроля за правовым и конституционно-правовым качеством действующих нормативных актов, за конституционностью и правовым характером действий (или бездействия) органов государственной власти и должностных лиц.
Так, Конституция (ч. 2 ст. 46) закрепляет такую важную форму судебно-правового контроля общих судов, как обжалование в суд решений и действий (или бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц. Согласно Конституции (ч. 2 ст. 120), суд при рассмотрении конкретных дел проверяет соответствие подзаконных актов закону и, если при этом будет установлено несоответствие между ними, решение должно быть принято в соответствии с законом. Кроме того, суды, по Конституции (ч. 4 ст. .125), вправе обращаться с запросами в Конституционный Суд Российской Федерации о проверке конституционности примененного или подлежащего применению в конкретном деле закона, нарушающего конституционные права и свободы граждан.
Широким кругом полномочий в области конституционного контроля за нормативными актами наделен Конституцией (ст. 125) Конституционный Суд Российской Федерации. В своей деятельности по осуществлению конституционного контроля Конституционный Суд, в силу закрепленных в новой Конституции общерегулятивных положений о правах и свободах человека, а также признания общепризнанных принципов и норм международного права в качестве составной части правовой системы Российской Федерации, по существу, может и вправе, не ограничиваясь позитивными нормами Конституции, руководствоваться также общеправовыми принципами и положениями. По логике конституционной концепции правопонимания конституционно-правовой контроль Конституционного
Суда — это по своей сути общеправовой контроль за нормативными актами.
Такой характер и смысл функций Конституционного Суда в полной мере соответствует новой правовой идеологии Конституции, идее господства права и верховенства правового закона, природе и назначению правовой государственности. Не противоречит это и положению Федерального конституционного закона “О Конституционном Суде Российской Федерации” (от 24 июня 1994 г.), согласно которому “Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно вопросы права” (абзац 2 ч. 7 ст. 3). Ведь право, согласно конституционной концепции правопонимания, — это не только позитивное право, но и естественное право и прежде всего прирожденные и неотчуждаемые основные права и свободы человека. Именно, соответствие или несоответствие этим правам и свободам человека как раз и определяет правовой (или неправовой, правонарушающий) характер всех нормативных актов государства, всех норм действующего законодательства.
§ 4. Разделение властей
Присущая новой российской Конституции концепция правопонимания включает в себя в целом и правовое понимание государства, и соответственно правовую организацию государственной власти. В организационно-властном плане это нашло свое выражение в конституционном закреплении определенной системы разделения властей в рамках общей концепции российской правовой государственности.
Сам принцип разделения властей сформулирован в Конституции (ст. 10) следующим образом: “Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны”
Дальнейшая конкретизация этих общих положений о разделении властей в соответствующих главах Конституции, определяющих статус и полномочия Президента Российской Федерации (гл. 4), Федерального Собрания (гл. 5), Правительства Российской Федерации (гл. 6), судебной власти (гл. 7), свидетельствует о конституционном закреплении своеобразной российской модели президентской республики.
Существо этого своеобразия состоит в том, что система разделения и взаимодействия властей носит в целом асимметричный и несбалансированный характер — с явным перекосом в пользу полномочий Президента и его доминирующей роли в решении государственных дел, с очевидными слабостями других ветвей власти в их соотношении с президентской властью.
Конституция наделяет Президента весьма широким кругом прав, который, по существу, охватывает все сферы и направления организации и осуществления в стране государственной власти.
Президент Российской Федерации является главой государства и гарантом Конституции. В соответствии с Конституцией и федеральными законами он “определяет, основные направления внутренней и внешней политики государства” (ч. 3 ст. 80).
Хотя в соответствии с зафиксированным в ст. 10 Конституции принципом разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную ясно, что президентская власть (вся совокупность конституционных правомочий Президента) — это власть именно исполнительная, однако по смыслу ряда других статей Конституции президентская власть как бы выносится за рамки данной классической триады и конструируется в виде некой отдельной (исходной, базовой) власти, возвышающейся над этой стандартной триадой.
Так, в Конституции (ч. 1 ст. 11) содержится положение о том, что “государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации” Здесь уже фигурируют четыре власти. Это представление о четырех властях подкрепляется и другими конституционными положениями, согласно которым Президент “обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти” (ч. 2 ст. 80), а “исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации” (ч. 1 ст. 110).
Одновременно, согласно Конституции (ст. 83, 111—112, 116—117), Президент обладает широкими решающими полномочиями в сфере исполнительной власти в целом, в вопросах формирования и отставки Правительства (в частности, назначение с согласия Государственной Думы Председателя Правительства, право председательствовать на заседаниях Правительства, принятие решения об отставке Правительства и т. д.).
Из содержания и характера конституционной регламентации полномочий Президента и Правительства можно сделать Вывод о том, что президентская власть помимо исключительных прав Президента включает в себя, по существу, и весь комплекс решающих правомочий исполнительной власти.
Отсутствие необходимой четкости в этом вопросе неизбежно порождает противоречия в системе разделения властей и ведет к дублированию и параллелизму в деятельности Правительства и президентских структур (Администрация Президента, Совет Безопасности и т. д.).
Неопределенность самой конструкции исполнительной власти (Президент, Правительство) дополняется отсутствием надлежащего баланса в ее отношениях с российским парламентом (Федеральным Собранием), который, по Конституции (ст. 94), является “представительным и законодательным органом Российской Федерации”.
Федеральное Собрание, по Конституции, вообще не участвует в формировании Правительства, за исключением того, что в отношении назначаемого Президентом Председателя Правительства требуется согласие Государственной Думы. Причем “после трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя Правительства Российской Федерации Государственной Думой Президент Российской Федерации назначает Председателя Правительства Российской Федерации, распускает Государственную Думу и назначает новые выборы” (ч. 4 ст. 111).
К полномочиям Президента относится и представление кандидатур на те должности, назначение которых относится к компетенции Совета Федерации (должности судей Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также Генерального прокурора Российской Федерации) или Государственной Думы (должность Председателя Центрального банка Российской Федерации).
В области контрольных функций парламент обладает лишь правом контроля за исполнением Правительством федерального бюджета (ч. 5 ст. 101).
Государственная Дума может выразить недоверие Правительству. При этом Президент вправе объявить об отставке Правительства либо не согласиться с решением Государственной Думы. Если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству, Президент вправе объявить об отставке Правительства либо распустить Государственную Думу (ч. 3 ст. 117).
Если вопрос о доверии Правительству поставлен Председателем Правительства и Государственная Дума в таком доверии отказывает, Президент имеет право в течение семи дней принять решение об отставке Правительства или о роспуске Государственной Думы и назначении новых выборов (ч. 4 ст. 117).
Президент, согласно Конституции (ст. 93), может быть отрешен от должности Советом Федерации только на основании выдвинутого против него Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях Президента признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. Но процедура эта очень сложная и практически нереализуемая.
Становление правового государства невозможно без утверждения независимой судебной власти и ее всесторонней правозащитной деятельности.
Советские суды на протяжении многих десятилетий партийно-коммунистической власти были подчиненными и послушными звеньями машины классового насилия. В идеологии и на практике господствовало известное ленинское положение о том, что диктатура пролетариата есть власть, опирающаяся непосредственно на насилие, не связанная никакими законами. В этих условиях объективное правосудие и независимый суд были просто невозможны.
Унизительное положение суда и судей, их полная подчиненность партаппарату и правящей номенклатуре были общеизвестным фактом. О господстве в советских судах так называемого телефонного права (т. е. устных директив от вышестоящих звеньев номенклатуры) знали все. Поэтому конституционная декларация тех лет о том, что “судьи независимы и подчиняются только закону” в неофициальном варианте звучала так: “Судьи “независимы” и подчиняются только райкому” Старая судебная система не была изменена и в годы перестройки. Правда, 4 августа 1989 г. был принят Закон СССР о статусе судей, но дело до реализации этого половинчатого (по своему духу советско-коммунистического) акта не дошло.
Идея деполитизации и департизации суда и других государственных учреждений содержалась в Указе Президента РСФСР от 20 июля 1991 г. “О прекращении деятельности организационных структур политических партий и массовых общественных движений в государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР”
Первыми действительно важными шагами на пути к новому суду в России стали формирование и деятельность Конституционного Суда России. Закон РСФСР “О Конституционном Суде РСФСР” был принят Верховным Советом РСФСР 6 мая 1991 г. и утвержден Съездом народных депутатов РСФСР 12 июля 1991 г. Указом Президента от 24 декабря 1993 г. этот закон был признан недействующим. Как сам этот закон 1991 г., так и деятельность Конституционного Суда РСФСР (в 1992— 1993 гг.), несмотря на их недостатки, оказали заметное влияние на формирование независимой судебной власти в России.
Целый ряд новых полномочий о суде был закреплен в Законе РСФСР 1992 г. “О статусе судей в Российской Федерации”[506]. В этом законе содержится положение о том, что судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и исполнительной властей.
Сформулированные в этом законе основные принципы формирования и деятельности независимой судебной власти в России получили в дальнейшем свое признание и закрепление в новой Конституции. В ней (ст. 118) провозглашено положение о том, что “правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом”. Согласно Конституции (ч. 1 ст. 120), “судьи независимы и подчиняются только Конституции и федеральному закону”. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства[507]. Создание чрезвычайных судов не допускается. Конституция (ст. 120—122) закрепляет принципы независимости, несменяемости и неприкосновенности судьи.
Судопроизводство, согласно Конституции (ст. 123), осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. В случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей.
Конституция (ст. 125—128) определяет основные полномочия и новый порядок формирования Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Во втором разделе новой Конституции (“Заключительные и переходные положения”) отмечается, что суды в Российской Федерации осуществляют правосудие в соответствии с их полномочиями, установленными в новой Конституции (ст. 5). После вступления в силу новой Конституции судьи всех судов Российской Федерации сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который они были избраны. Вакантные должности замещаются в порядке, установленном новой Конституцией.
Прежний порядок судебного рассмотрения соответствующих дел сохраняется впредь до принятия и введения в действие федерального закона, устанавливающего порядок рассмотрения дел с участием присяжных заседателей (ст. 6). До приведения уголовно-процессуального законодательства в соответствие с положениями новой Конституции сохраняется прежний порядок ареста, содержания под стражей и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления.
Названные положения Закона РФ “О статусе судей в Российской Федерации” от 26 июля 1992 г. и новой Конституции о судебной власти все еще во многом остаются на бумаге и далеки от надлежащей реализации в жизни.
В плане практических шагов судебной реформы заслуживает внимания введенный с 1 ноября 1993 г. в виде эксперимента на территории ряда регионов (Ставропольский край, Ивановская, Московская, Рязанская и Саратовская области) новый порядок судопроизводства — участие присяжных заседателей при рассмотрении в соответствующих краевых и областных судах дел об особо тяжких преступлениях. В дальнейшем этот новый порядок был распространен на некоторые новые регионы (Алтайский и Красноярский края, Ульяновская и Ростовская области). Существенное значение имеет закрепление системы судов Российской Федерации в Федеральном конституционном законе “О судебной системе Российской Федерации” (1996 г.).
В целом судебная реформа и движение к независимому суду в постсоциалистической России осуществляются медленно и непоследовательно, в условиях мощного сопротивления со стороны разного рода консервативных сил и бюрократических властных структур.
Вместе с тем чрезвычайно важно, чтобы так трудно обретаемая независимость суда и судей от прежнего партийноадминистративного диктата и контроля не обернулась дурной “независимостью” от всего и вся, сословной “свободой” для себя, кастовой автаркией судебной власти, ее превращением в непроницаемое и бесконтрольное “государство в государстве”. Иначе наше общество, столь долго ждущее независимого суда, окажется в феодальной зависимости от него.
Многое здесь в конечном счете будет зависеть от уровня правовой культуры и государственно-правового сознания наших судей, их ответственности за судьбы правопорядка в стране, их активной и последовательной позиции в утверждении начал права, правовой законности и правосудия во всех сферах общественной и государственной жизни, включая, разумеется, и сферу судебной власти. Никто эту правоутверждающую и правозащитную работу вместо суда и без суда не сделал и сделать не сможет. Отсюда и его незаменимая роль и решающее значение для всей реальной правовой жизни, прав и свобод человека, гражданского общества и правового государства.
§ 5. Направления совершенствования конституционной модели
Конституционная модель российской правовой государственности остается еще не сформированной до конца. Поэтому первоочередной является задача доведения до конца процесса формирования всех конституционных институтов и принятие всех предусмотренных Конституцией федеральных конституционных законов и федеральных законов, словом, довершение конституционной модели российского правового государства на всех уровнях (общефедеральном, на уровне субъектов Федерации и на местном уровне).
Существенное значение в этой связи имеет последовательное осуществление судебной реформы и доведение ее до конца, формирование такой судебной системы, которая в действительности была бы мощной защитницей конституционализма, конституционной законности и правопорядка в стране. Судебная власть должна укрепить правовой профиль формирующейся российской государственности, значительно облегчить нагрузки двух первых властей, понизить напряженность в их взаимоотношениях, усилить момент их согласованного взаимодействия.
Наряду с существенными достоинствами конституционная модель российского правового государства имеет и ряд недостатков. В их числе несбалансированное разделение властей, отсутствие надлежащей эффективно действующей системы сдержек и противовесов во взаимоотношениях различных властей, раздвоение исполнительной власти (Президент, Правительство) в сочетании с независимостью Правительства от парламента, отсутствие необходимой ясности в распределении полномочий между Федерацией в целом и ее субъектами, отсутствие четкой иерархии источников действующего в стране права, неопределенность статуса прокуратуры (она упомянута в главе о судебной власти, хотя должна быть отнесена к исполнительной власти), внутренняя противоречивость негосударственной концепции местного самоуправления с наделением его рядом государственно-правовых полномочий, чрезмерная жесткость порядка принятия конституционных поправок и т. д.
Стабильность и долгосрочность конституционной модели российского правового государства (наряду с полнотой, завершенностью и внутренней согласованностью этой модели) являются необходимыми условиями ее успешной практической реализации. Поэтому принципиально важно, чтобы необходимые для утверждения конституционализма улучшения, изменения и корректировки исходной конституционной модели российской государственности осуществлялись на основе принципов, норм, механизмов и процедур нынешней Конституции — в рамках ее толкования, поправок и дополнений к ней.
Ключевая задача в этом плане состоит в том, чтобы, оставаясь в целом в рамках действующей Конституции и прочно блокируя опасный путь борьбы за принятие какой-то другой Конституции, доступными конституционными средствами (разумный компромисс различных властей во имя сохранения нынешней Конституции, развитие и укрепление системы и механизма сдержек и противовесов во взаимоотношениях различных властей, соответствующие толкования Конституционного Суда, необходимые поправки к Конституции и т. д.) ввести полномочия Президента в русло и границы исполнительной власти, усилить полномочия парламента как представительной и законодательной власти, создать и утвердить сильную правозащитную судебную власть и в результате всего этого добиться такого реального баланса трех самостоятельных ветвей власти, который необходим и достаточен для их согласованного действия и нормального функционирования.
В отношениях между президентской и законодательной властью особого внимания заслуживает конкуренция между актами Президента Российской Федерации и федеральными законами. Согласно Конституции (ст. 90), обязательные для исполнения на всей территории Российской Федерации указы и распоряжения Президента Российской Федерации “не должны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам” Здесь, отчасти ввиду больших пробелов в законодательстве, явно нарушен принцип иерархии источников права (Конституция — закон — указ и т. д.) в рамках правового государства. Данный принцип требовал иной формулировки, а именно: “Указы и распоряжения Президента Российской Федерации издаются на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации и федеральных законов”
Очевидно, что указное законотворчество, какие бы доводы при этом ни приводились, нарушает правомочия законодательной власти и девальвирует принцип верховенства закона. Тем самым подрываются и общие основы всей системы нормативно-правовых актов. С учетом сложностей внесения в Конституцию поправок было бы целесообразно данную коллизию между законом и указом разрешить в пользу верховенства закона посредством соответствующего толкования Конституции Конституционным Судом Российской Федерации.
В целом в плане совершенствования и реализации конституционной модели российской правовой государственности — с учетом российского опыта и нынешнего трудного пути к конституционализму и правовой демократии — наиболее острой и сложной остается проблема разумного сочетания необходимой и для современной России сильной исполнительной (т. е., по существу, президентской) власти с надлежащей представительной властью, полномочия которой соответствовали бы смыслу, идеям и требованиям разделения властей и правовой государственности.
Судьбы российского конституционализма в складывающихся условиях во многом будут зависеть от успехов на пути к достижению и утверждению надлежащего жизнеспособного баланса различных властей на базе и в общих рамках действующей Конституции Российской Федерации.
Задача, следовательно, состоит в том, чтобы преодолеть застарелый порок российской власти — тенденцию к ее монополизации и бесконтрольности — теперь уже, в наше конституционное время, в системе разделения властей. Опыт российской политической истории учит, что это очень трудно, но крайне необходимо. Нынешние постсоциалистические реалии свидетельствуют, что это, пока возможно, должны сделать сторонники действующей Конституции, не откладывая дело до прихода к власти ее противников.
Глава 3. Социальное правовое государство
§ 1. Причины и условия формирования социального государства
Понятие социальной государственности возникает в конце XIX — начале XX в. Оно означает появление у государства новых качеств, которых не было у либерального правового государства. В чем причины такого обогащения свойств государства? Означало ли возникновение социального государства отрицание важнейших принципов правового государства, либо появление социальных функций явилось новым этапом развития правового государства в изменившихся исторических условиях?
Формирование правового государства — одно из великих достижений человеческой цивилизации, неразрывно связанных с появлением “первого поколения” прав человека — гражданских и политических. Однако важным свойством развитого государства, признающего равноправие индивидов, является его динамичность, способность реагировать на проблемы, возникающие в обществе. Новые процессы в сфере экономических, политических, нравственных отношений требуют поиска новых параметров взаимоотношений государства и индивида.
Вопрос о взаимоотношениях государства и человека в условиях свободной рыночной экономики изначально был в центре противостояния представителей различных течений экономической и политико-правовой мысли буржуазного общества, поскольку он затрагивал важнейшие принципы буржуазного общества — свободу и равенство. Как известно, сформировались два подхода к проблеме: приоритет равенства или приоритет свободы. Сторонники теории индивидуальной свободы человека ставили ее выше равенства. Они считали основной обязанностью государства гарантировать эту свободу от чьего-либо, в том числе и государственного, вмешательства; превыше всего ценилась экономическая свобода, а политические права рассматривались лишь как средство охраны независимости и индивидуальной свободы личности. Сторонники индивидуальной свободы (А. Смит, С. Милль, Б. Констан, Д. Локк 11 Др.) понимали, что такая свобода в конечном счете порождает неравенство, что равенство и свобода могут противоречить Друг другу, однако свободу они считали высшей ценностью, обеспечивающей развитие индивидуальности и своеобразия личности, устраняющей “уподобление” людей друг другу. Главное условие обеспечения такой “негативной” свободы — государственное невмешательство, дистанцирование государства от экономики.
Наряду с этим возникла теория, которая не отрицала значимость индивидуальной свободы, но стремилась сочетать ее с равенством, с участием государства в обеспечении равенства личностей. Основоположником такой концепции было Руссо, считавший, что принципу равенства должно быть подчинено все, в том числе и власть, задача которой — обеспечение равенства. В таком подходе четко проступает не только негативное понимание свободы (от вмешательства государства), но и ее позитивное понимание как права гражданина рассчитывать на определенные действия государства, связанные, в частности, с обеспечением равенства.
Освобождение индивидов от жесткой опеки государства развивало инициативу и самодеятельность людей, способствовало развитию частного предпринимательства и рыночного хозяйства, обеспечило бурное развитие производительных сил, создание новых технологий и в конечном счете — рост национального богатства, упрочение экономической мощи буржуазных государств. Все это подтвердило высокую ценность классического либерализма XVIII в. с его идеями свободы и принципом laisser-faire.
Однако уже в конце XIX в. явно обнаружились и негативные последствия, явившиеся результатом реализации идей либерализма и индивидуализма, принципа негативной свободы, “свободы от” (любого вмешательства, воздействия и т. д.).
В этот период стали все более ярко проявляться классовые противоречия в обществе, резкая поляризация между богатством и бедностью, которые могли привести к социальному взрыву и потрясениям. Индивидуализм, который занимал столь видное место в доктринах классического либерализма, стал обнаруживать “эгоизм и самовлюбленность” (Ф. Хайек). Это в значительной мере противоречило тому изначальному смыслу, который придавался данному понятию либеральными доктринами. В трактовке представителей либеральных течений индивидуализм ассоциировался прежде всего с высокой оценкой самобытности личности. “Основными чертами индивидуализма... явились уважение к личности как таковой, то есть признание абсолютного приоритета взглядов и пристрастий каждого человека в его собственной сфере деятельности, сколь бы узкой она ни была, а также убеждение в желательности развития индивидуальных дарований и наклонностей”[508]. По мнению Хайека, последовательного сторонника либеральных рыночных концепций, именно такой индивидуализм, выросший из элементов христианства и античной философии, впервые полностью сложившийся в эпоху Возрождения, разросся в западноевропейскую цивилизацию.
По мере развития буржуазного общества понятие индивидуализма обеднялось, стало ассоциироваться со своеволием и эгоизмом. Гиперболизация индивидуальных потребностей и пристрастий неизменно приводит к нравственным и социальным деформациям общества, резкой противоположности и противоборству интересов различных его слоев и групп. Исчезает чувство их взаимосвязанности, чувство ответственности и солидарности.
Кризис идей крайнего индивидуализма и классического либерализма начали ощущать представители либеральных течений уже в конце XIX и особенно в начале XX в. Возрастание противоречий и напряженности в обществе определило необходимость новых способов реагирования государства на возникшую ситуацию, целью которых было предотвращение социальных взрывов и катаклизмов. Предпосылки социальной напряженности формировались под влиянием не только резкой поляризации общества и увеличения степени фактического неравенства людей, но и получившей широкое распространение и признание марксистской доктрины, ориентировавшей на социалистическую революцию, свержение буржуазного строя и установление диктатуры пролетариата.
Чутко улавливая эти процессы, неолиберальные теоретики выдвинули новое “позитивное” понимание свободы, означающее обязанность государства обеспечивать социально ориентированную политику, выравнивать “социальные неравенства” Новое “положительное” понимание свободы означало, по словам П. Новгородцева, “целый переворот Понятий, который знаменует новую стадию в развитии правового государства”[509]. Установка на социально ориентированную политику означала:
— возрастание роли государства в воздействии на экономические процессы;
— “умаление индивидуалистической доктрины” и обязанность правителей применять “находящуюся в их распоряжении наибольшую силу для дела общественной взаимозависимости. Они должны не только воздерживаться; они должны действовать, и эта обязанность переводится в юридическую обязанность обеспечить обучение и гарантировать труд”[510];
— попытку “нравственного измерения” экономических процессов, основанную на стремлении ликвидировать нищету и неравенство, установить социальную справедливость;
— определение основных направлений социального реформирования общества, которое создало “второе поколение” прав человека — социальных, экономических и культурных.
Таким образом, устанавливались новые параметры отношений между государством и человеком, связанные с обязанностью государства принимать меры, содействующие обеспечению “второго поколения” прав человека. Так возникает идея социального государства, которая получила широкое развитие и признание во второй половине XX в.
Однако идеи социального реформирования общества встретили и продолжают встречать резкое противодействие не только со стороны консерваторов, но и в среде ученых и политиков старого либерализма. Социальные функции государства, по мнению сторонников неограниченной экономической свободы, ведут к нарушению “справедливости” свободного рынка, ограничивают права индивида, порождают слой пассивных людей, уповающих на помощь государства и не желающих активно включаться в состязание и конкуренцию свободного рынка. Сам рынок является способом установления истинной справедливости отношений в обществе, обеспечивающем свободу и автономию личности. Социальная ориентация государства — покушение на свободу, поскольку она неизбежно влечет за собой его вмешательство в экономическую сферу, отступление от тех основ, которые были заложены буржуазными революциями.
Другое направление, отстаивавшее необходимость "выравнивания социальных неравенств”, явилось, по мнению П. Новгородцева, результатом крушения старого либерализма, не признающего иного равенства, кроме формально-юридического, и предлагавшего трансформировать идею свободы под влиянием идеи равенства.
Впервые русскими либеральными мыслителями В. С. Соловьевым и П. И. Новгородцевым выдвигается идея права человека на достойное человеческое существование, реализация которого связывалась с осуществлением социальных реформ.
К полемике буржуазных либералов (классических и новых) и консерваторов активно подключился марксизм, который выступил ярым противником социальных реформ, однако использовал в этих целях свои аргументы, принципиально отличные от доводов как сторонников, так и противников социальных преобразований. В основе борьбы марксизма с реформизмом лежала идея о невозможности улучшения положения трудящихся посредством реформ при сохранении буржуазного строя. Марксизм признавал значение борьбы рабочего класса в капиталистическом обществе за демократические преобразования и улучшение экономического положения трудящихся, однако считал, что такая борьба должна подготовлять почву для осуществления пролетарской революции и установления диктатуры пролетариата, ибо проведение реформ в рамках буржуазного строя существенных изменений в положение трудящихся не внесет.
История опровергла марксистские идеи путем революционного насилия установить всеобщее равенство и справедливость. Однако и в современном мире существует поляризация мнений относительно того, должно ли государство устранять несправедливости, порождаемые рыночными отношениями, выравнивать социальные неравенства, неизбежно возникающие в стихии рынка, стремиться к утверждению справедливости путем создания социальных программ, рационального налогообложения, организации распределительных механизмов.
Многие буржуазные ученые, например Ф. Хайек, М. Фридмен, считают недопустимым любое вмешательство государства в рыночные отношения во имя справедливости и равенства, поскольку это противоречит принципам и структурам свободного рынка. Другое современное течение — новый эгалитаризм — четко обозначило тенденцию к выравниванию социального положения людей (Дж. Роулс, К. Дженкинс), смягчению социальных неравенств. “В лице “нового эгалитаризма” выступает своего рода антипод консервативных моделей капиталистического развития, поэтому не случайно виднейшие американские неоконсерваторы активно включились в полемику с ним”[511].
Эти позиции буржуазных ученых выходят за пределы сугубо научной полемики; они оказывают непосредственное воздействие на политику государств, на большую или меньшую степень их социальной ориентированности. Несмотря на противодействие идеям социального государства со стороны представителей консервативных, монетаристских концепций, эта идея получает все большее признание, воплощается в практике и закрепляется в конституциях современных государств.
В этом отношении интересен опыт ФРГ, которая конституционно провозгласила себя социальным правовым государством. Социальные функции государства стали складываться уже в первые послевоенные годы, когда были заимствованы институциональные структуры, уходящие своими корнями в традиции прошлого и ориентирующиеся на восстановление институтов социальной политики периода бисмарковской империи. Это касалось отношений в области здравоохранения и жилья. Особо следует выделить пенсионную реформу 1957 г., которая “по справедливости считается великим социально-политическим деянием”[512].
Принцип социального государства в той или иной форме выражен в конституциях Франции, Италии, Португалии, Турции, Испании, Греции, Нидерландов, Дании, Швеции и других государств. Он неразрывно связан с социальными, экономическими и культурными правами. Независимо от того, закреплены эти права в конституции государства или нет, развитые государства западного мира не могут отвергать значимость этой категории прав, которые нашли воплощение в важнейших международно-правовых актах — Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах. Ключевым принципом социальных и экономических прав, вокруг которого выстраивается вся их система, является положение, сформулированное в п. 1 ст. 25 Всеобщей декларации прав человека: “Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благополучия его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам” Данный принцип развит в п. 1 ст. 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Этот принцип обязывает государства к социальной ориентации их деятельности, обеспечению “второго поколения” прав человека, без чего в конце XX в. невозможно нормальное развитие общества.
К числу социально-экономических и культурных прав относятся право на труд, на справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности; условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; право на отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени и оплачиваемый периодический отпуск; право на социальное обеспечение, включая социальное страхование; право на охрану семьи, материнства и детства; право на образование; право на участие в культурной жизни; право на пользование достижениями культуры и ряд других. Цростой перечень прав “второго поколения” показывает, что их осуществление невозможно без активного содействия государства, и это четко зафиксировано в п. 1 ст. 2 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах: “Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется в индивидуальном порядке и в порядке международной помощи и сотрудничества, в частности, в экономической и технической областях, принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми надлежащими способами, включая, в частности, принятие законодательных мер”.
Таким образом, вопрос о необходимости социальной ориентированности государства, постепенном гарантировании прав “второго поколения” признается международным сообществом. Однако далеко не все государства могут уже сегодня реально гарантировать все важнейшие права этой группы. Основная причина — состояние экономики страны. Ведь социальная функция может осуществляться в полном объеме лишь при высоком уровне экономического развития, позволяющем разумно перераспределять средства или ресурсы, сохраняя свободу рыночных отношений и предпринимательства.
И здесь возникает важная проблема, состоящая в том, как определить пределы вмешательства государства в экономику, чтобы оно не стало тормозом ее развития, с одной стороны, и обеспечило социальную защиту граждан — с другой. Это наиболее сложная задача, поскольку решение социальных вопросов требует роста производства, “накопления народного богатства” “Сама мысль о крупных социальных реформах, — писал П. Новгородцев, — могла явиться только в связи с накоплением народного богатства, и без его прогрессивного роста социальные условия не могут развиваться успешно”[513]. Поэтому важны не только государственные меры по стимулированию производства, обеспечению его непрерывного роста (такие меры могут привести и приводят к накоплению огромных богатств в руках относительно небольшой части общества), но и гибкая налоговая политика государства, его управляющая роль, которые смогли бы обеспечить выравнивание положения различных слоев общества. Речь, разумеется, не может идти о полном материальном их равенстве, нужен поиск путей, исключающих массовое обнищание, приводящих к непрерывному подъему материального уровня существования всех граждан, призванному обеспечить их достойную жизнь.
В практике современных государств, даже высокоразвитых, существуют большие трудности, связанные с обеспечением социально-экономических и культурных прав. Достаточно вспомнить, что в условиях частного предпринимательства, при котором государство не распоряжается трудовыми ресурсами, безработица неизбежна. Поэтому задача государства — минимизировать неблагоприятные последствия безработицы, добиться роста занятости, выплачивать пособия по безработице. Осуществление любого из указанных выше прав, требует постоянного внимания и содействия государства, однако решение этих вопросов крайне сложно. Поэтому идеи социальной государственности и гарантированность социально-экономических и культурных прав требуют долговременных социальных программ и постоянных усилий государства.
Формирование социальной государственности — процесс постоянный и непрерывный, требующий реакции на вновь возникающие ситуации и в экономике, и в политике, и в нравственности.
Возможности государства в проведении социальных реформ небезграничны. Одни социальные проблемы — слишком сложны, чтобы их решить законодательном путем, другие — слишком тонки и неуловимы, а третьи —/слишком много зависят от нравственных причин.
Трудности, стоящие перед социально ориентированным государством, связаны с тем, что государство должно соблюдать баланс между свободной экономикой и определенными способами воздействия на распределительные процессы в духе справедливости, “выравнивания социальных неравенств” Отказываясь от ограниченной роли “ночного сторожа” и стремясь обеспечить всем гражданам достойный уровень жизни, государство не должно переступать черту, за которой начинается грубое вмешательство в экономику, подавление инициативы и свободы предпринимательства. Проявляя заботу о повышении социального статуса граждан, государство должно соблюдать меру, которая воспрепятствовала бы освобождению индивида от личной ответственности за свою судьбу и судьбы своих близких. Стремясь создать “общество всеобщего благосостояния”, государство не может использовать административно-командные средства. Его задача применять такие экономические методы, как гибкое налогообложение, бюджет, создание социальных программ.
Опыт развития социальных государств Запада показывает, сколь труднодостижим баланс между рыночной свободой и воздействием государства на экономику. Обеспечение высоких социальных расходов связано с повышением налогообложения, что со временем становится тормозом развития производства. В этих условиях правительство вынуждено временно сокращать социальные программы. Затем наступает период, требующий увеличения социальных расходов в связи с усиливающейся необеспеченностью части общества.
Политика в социальной сфере напоминает “челночное движение” В этом движении проявляется поиск баланса между свободной рыночной экономикой и воздействием государства на ее развитие с целью обеспечения достойной жизни всех граждан. Поиск такого баланса, который позволил бы сочетать непрерывный рост народного богатства, развитие производства с расширением социальной функции государства, — одно из наиболее важных направлений общественной мысли в конце XX в., когда новые ситуации и гуманитарные идеалы не могут найти опоры в существовавших ранее доктринах. Отсюда и вытекает необычайный интерес к данной проблеме в современной науке, где наряду с приверженностью к консервативным концепциям отношений государства и гражданина в условиях рынка четко обозначаются подходы, основанные на либеральных стремлениях утвердить в обществе принципы справедливости. Последние выдвигают теоретическое обоснование курса социальных реформ, социальных программ государства, которые способствовали бы гуманизации жизни в современных буржуазных государствах.
Теория справедливости Дж. Роулса привлекла к себе наибольшее внимание в современной зарубежной науке. “Она отстаивает идею “государства благосостояния”, соответствующие перспективы и социальную политику, основанную на перераспределении доходов, по возможности большего их выравнивания средствами, которые принимаются людьми сознательно и добровольно в результате общего согласия, договора”[514].
Теоретики консервативного толка, отрицающие возможность государственного вмешательства в перераспределение доходов, упрекают Роулса в утопичности и морализаторстве. Тем не менее моральную направленность теории “справедливости как честности” Роулса нельзя недооценивать. Она ориентирует на цивилизованное решение проблем выравнивая неравенства, апеллируя к идеям гуманности и солидарности членов общества. Поиск таких путей утверждения справедливости имеет давние традиции. Можно вспомнить теорию социальной солидарности Леона Дюги, который уже в начале века считал, что пришло время гибкого и гуманного политического строя, охраняющего индивида. Этот строй должен покоиться на двух элементах: на понятии социальной нормы, основывающейся на факте взаимозависимости, соединяющей членов человечества и, в частности, членов одной общественной группы, нормы, обязательной для всех, слабых и сильных, больших и малых, правящих и управляемых, а также на федерализме классов, организованных в синдикаты, которые будут соединены с центральной властью, обладающей функциями, не сводящимися к контролю и надзору, а имеющими положительные обязанности, связанные с оказанием помощи, обучением, страхованием от безработицы[515].
В современных условиях вопрос о социальной роли государства — это вопрос не только политический, юридический, но и нравственный. Сводить все проблемы взаимоотношений государства и гражданина к формальным юридическим аспектам невозможно.
Стремление к нравственному измерению ситуаций, складывающихся в результате действия законов рынка, было характерно для либеральных теорий, пытавшихся ориентировать общество на солидарность и взаимосвязь. П. Новгородцев критиковал позицию, согласно которой свобода есть освобождение не только от материальных, но и от моральных уз, и отмечал значимость такого нового принципа, как солидарность, который должен дополнить принципы равенства и свободы[516]. Социально ориентированное государство не может полностью отстраняться от воздействия на экономику, его вторжение неизбежно в те сферы, которые раньше находились вне пределов его деятельности. Как правильно отмечает Г. Вольман, высокий уровень социального обеспечения граждан требует “больше государства”[517].
Не вступает ли возрастание роли государства в противоречие с первоначальным замыслом правового государства как образования, отстраненного от экономики и ограничивающегося ролью “ночного сторожа”, наделенного лишь охранительными функциями по отношению к свободе индивида? Не является ли возникновение социальных функций государства, которые упорядочивают экономические отношения с целью устранения резких неравенств, отрицанием самой сущности правового государства?
На наш взгляд, следует исходить при ответе на данный вопрос из сущности правового государства в единстве всех его признаков — приоритета прав человека, построения государственной и общественной жизни на принципах права, разделения властей, взаимной ответственности индивида и государства. “Новое поколение” прав человека включается в систему приоритетов государства, обязывает его предпринимать меры по обеспечению этих прав, оказывать воздействие на экономические процессы на основе принципов права. Обогащение каталога прав человека дает импульс развитию новых его функций, новых направлений его деятельности. В этом и состоит приоритет прав человека как системообразующего признака правового и социального государства, как главного ориентира его деятельности. Социальное реформирование — это новая стадия развития правового государства, стремление преодолеть резкую поляризацию различных слоев общества, гуманизировать социальные условия жизни.
Следует подчеркнуть, что социальная деятельность государства, хотя и в ограниченном объеме, началась значительно раньше возникновения понятий “социальное государство”, “государство всеобщего благоденствия” Это справедливо отмечает Е. Шмидт-Асман: “Реальная практика деятельности государства XIX столетия была менее сдержанной, чем этого требовала его модель. В повседневной управленческой деятельности либеральное правовое государство не отбрасывало традиций государства благоденствия; здесь тоже выдвигались и ставились новые задачи регулирования общественных процессов, например, в градостроительстве или пенсионном обеспечении”[518].
Поэтому правовое и социальное государство — это не антитезы, а диалектика развития государства, признающего приоритет прав человека и определяющего в соответствии с этим направлением формы и методы деятельности. Становление социального государства — длительный процесс, очень сложный и противоречивый. Удерживать его в определенных правовых границах, не ущемляя свободы одних и не снимая ответственности за свою судьбу с других, помогают уже сформировавшиеся и вошедшие в реальную практику принципы правового государства. На их основе возможна дальнейшая гуманизация государства и общества.
Начальная стадия развития социального государства — ответственность за предоставление каждому гражданину прожиточного минимума. Так, в Германии законодательство о бедных с середины XVIII в. обязывало общины оказывать все большую помощь нуждающимся. В XIX. в. эта ответственность переместилась с коммунального уровня на общегосударственный. В Кодексе социальных законов ФРГ (§ 9 Общей части) указывается, что каждый, кто не в силах самостоятельно добывать себе средства к существованию и не получает при этом никакой посторонней помощи, имеет право на личную и материальную поддержку, которая соответствует его специфическим потребностям, побуждает к самопомощи, обеспечивает участие в общественной жизни, гарантирует достойное человека существование.
Обязанность государства обеспечить достойный уровень жизни каждому находит практическое воплощение в высоких объемах социальных расходов развитых современных государств. Доля социальных расходов в Швеции, США и Великобритании составляет 1/5 ВНП, в ФРГ и Италии — 1/4. Такой уровень социальных расходов, позволяющий реализовать социальное обеспечение, дополнительные пособия по безработице, право на получение образования, жилье, доступ к ценностям культуры, должен опираться на высокоразвитую экономику, принципы права и справедливости, стремление к гармонизации общественных отношений и устранение резких неравенств. Однако даже эти условия не обеспечивают социального благоденствия всех граждан. Процесс развития социального государства — это не однолинейное поступательное движение к поставленной цели — обеспечению достойного уровня жизни граждан. Это сложное и противоречивое развитие социальной политики, в котором есть свои успехи и неудачи, взлеты и падения. На уровень социальности государства немалое внимание оказывают политическая ориентация правительства (социал-демократы, консерваторы), соотношение сил политических элит обществ.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что основные принципы социального государства — достоинство человека, справедливость, ответственность, преодоление фактического неравенства с целью устранения резких расхождений материальных статусов индивидов. Путь к реализации этих принципов, как уже отмечалось, длительный, а по сути дела — нескончаемый. П. Новгородцев писал, что, возлагая на себя “благородную миссию общественного служения”, государство встречается с необходимостью реформ, которые “лишь частью осуществимы или осуществимы лишь в отдалённом будущем и, вообще говоря, необозримы в своем дальнейшем развитии и осложнении”[519].
Причины этих сложностей не только в степени развитости экономики, но и в вечном противостоянии принципов свободы и равенства. Полная гармонизация этих принципов практически невозможна. Условие их осуществления — строго сбалансированное ограничение свободы экономической деятельности (преимущественно экономическими, а не юридическими методами) и стремление к постоянному повышению жизненного уровня людей, понимание недостижимости абсолютного фактического равенства. Последнее является следствием различий людей — их способностей, талантов, инициативности, трудолюбия, физического и психического состояния. Поэтому цель социального государства — не устранение фактического неравенства, а “выравнивание неравенств”, устранение резкого различия в имущественном положении, повышение социального статуса индивида для обеспечения всем членам общества достойного уровня жизни.
Однако как бы ни была сложна роль социального государства в современном обществе, без нее невозможно осуществление не только экономических, социальных и культурных прав, но и прав “первого поколения” — политических и личных. При необеспеченности социальной стороны жизнедеятельности людей, достойного уровня их жизни деформируется вся структура прав и свобод человека: снижается политическая активность, возрастают политическая апатия и неверие в государство, далеко не всегда доступны индивиду юридические гарантии прав и свобод (например, право на защиту). Социальная незащищенность порождается подчас отсутствием основного гражданского (личного) права —- права частной собственности. Проблемы материального обеспечения нередко играют решающую роль при проведении выборов в представительные органы, в предвыборной борьбе за пост президента и т. д. Поэтому социальное государство, задача которого — создание условий и ответственность за реализацию “второго поколения” прав человека, оказывает самое непосредственное воздействие на осуществление всего единого комплекса прав и свобод человека.
Социальное государство и рыночная экономика в процессе взаимодействия должны преодолевать свои антагонизмы. Понятие социально ориентированной рыночной экономики получает и далее все больше будет получать признание и распространение. Это неизбежный путь гуманизации общественной жизни, снижения противостояния в обществе, формирования солидарности сограждан, повышения нравственности всех социальных групп и индивидов. Современные государства должны не только охранять свободу, но и считаться с необоримым стремлением людей к равенству, которое возникло в давние времена и неуничтожимо никакими законами рыночной экономики.
§ 2. Пути формирования социального государства в условиях реформирования экономических отношений в России
Конституция Российской Федерации в ст. 7 закрепляет принцип социального государства: “Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека” Оценка реалий жизни нашего общества дает основание для вывода о том, что приведенное выше положение Конституции можно расценивать лишь как программную установку, поскольку в нынешних условиях государство не имеет ни долговременной социальной политики, ни стабильной экономики, ни ориентации на принципы права, без которых невозможно осуществление социальной функции. Однако развитие социальной государственности — единственно возможный путь для свободного общества, которым хочет стать Россия. Поэтому важно обратить внимание на причины неблагополучия с осуществлением социальных аспектов государственности и попытаться определить способы их преодоления.
Прежде всего следует отметить различия условий, в которых происходило формирование социальной государственности в развитых капиталистических государствах, с одной стороны, и условий, в которых выдвигается задача формирования социальной государственности в России — с другой.
Как было показано выше, вопрос о социальных функциях возник на Западе уже в ситуации прочно утвердившейся правовой государственности, когда период агрессивного “первоначального накопления” сменился рынком, в конечном счете действующим в границах права. Признание социальности государства, которое неизбежно связано и с признанием определенного воздействия государства на экономические процессы, не могло в этих обстоятельствах перейти границы права и привести к применению административно-командных методов регулирования экономики. Использование гибкой экономической политики и постоянный поиск баланса между экономической свободой и осуществлением социальной функции стали основным способом осуществления социального назначения государства.
Задача формирования социальной государственности выдвигается в России в условиях, когда она не обрела опоры в праве, в правах человека. Возникает ситуация, при которой социальное государство рассматривается не как новый этап развития правового государства, являющийся следствием обретения последним четких правовых характеристик, нормализующих и упорядочивающих жизнь людей, а в обстановке правовой разрегулированности и нестабильности, правового нигилизма, неуважения к правам индивидов. Это приводит к хищническим способам “первоначального накопления”, несовместимым с правом, активным вторжением в сферу экономики мафиозных структур и коррумпированных чиновников.
Реформирование экономики не привело к разделению собственности и власти, не создало “средний слой” собственников. Произошли концентрация огромных богатств в руках небольших групп людей и обнищание значительной части населения.
Вопрос о социальной государственности возник на Западе тогда, когда был создан мощный экономический потенциал, позволяющий осуществлять меры по перераспределению доходов, не ущемляя существенно свободы и автономии собственников. Реакцией на любое экономическое неблагополучие (падение производства, стагнация экономики) было неизбежное сокращение социальных расходов. Стало быть, “накопление народного богатства” — непременное условие реальности осуществления социальной функции государства.
Такие условия в России отсутствуют. Происходит резкое падение производства. Не достигнуто пока даже относительной стабилизации экономики. Ухудшается положение товаропроизводителей, многие предприятия становятся банкротами. Инвестиционный потенциал возрастает слабо. Государство имеет огромные внешние долги. Непрерывно возрастает безработица. У государства образовалась огромная задолженность по заработной плате.
Формирование социальной государственности в западном мире осуществлялось в развитом гражданском обществе, которое создает условия с целью решения задач, необходимых для гармонизации общественных отношений, предотвращения катаклизмов и резкого противоборства. Зрелое гражданское общество лучше воспринимает идеи сострадания, благотворительности, заботы о социально незащищенных людях.
Учитывая особенности российского общества в переходный период с его дезорганизованной экономикой, деформированным общественным сознанием, разрушенными духовнонравственными ориентирами, необходимо сформулировать принципы взаимоотношений государства и гражданина, которые смогли бы консолидировать общество, предотвратить резкую его поляризацию, снять напряженность. Эти принципы должны заключаться в следующем.
Всемерно содействуя развитию рыночных отношений, государство берет на себя функцию социальной защиты гражданина, выражающуюся в системе мер, призванных обеспечить достойный уровень жизни каждого человека, что предусмотрено ст. 7 Конституции РФ.
Учитывая своеобразие экономических отношений, формирующихся на обломках административно-командной системы, трудности перехода к рынку, появление огромной массы населения, оказавшейся за чертой бедности, государство на переходный период сохраняет за собой в преобразованном виде регулирование распределительных отношений. Это выражается в перераспределении доходов между различными социальными слоями общества через установление целесообразной системы налогов, государственный бюджет, финансирование социальных программ, в частности программы борьбы с бедностью.
Государство неизменно учитывает своеобразие и исключительное значение в жизни общества науки (в частности, фундаментальной) и культуры, которые не могут и не должны включаться в рыночные отношения (такое включение может вызвать их полное разрушение и деградацию), осуществляет их постоянное финансирование, поддерживая и развивая фундаментальные научные и культурные программы.
Задача государству в условиях новых экономических отношений — обеспечение социальной справедливости, равноправия, нравственности в отношениях между людьми. Эти принципы могут быть реализованы путем расширения социальных программ, поощрения благотворительной деятельности (в частности, освобождения от налогообложения предпринимательских структур, осуществляющих благотворительную деятельность), воздействия на процесс ценообразования. Последнее возможно на основе ликвидации монополизма в сфере производства й торговли, и здесь роль государства чрезвычайно велика.
В качестве долговременной, перспективной цели государство должно ставить перед собой задачу выравнивания положения людей, хотя достижение фактического, а не только юридического равенства — задача невыполнимая. Это не означает отрицания идеи равенства: идея эта содержит в себе огромный нравственный потенциал, поскольку стремление людей к равенству значительно сильнее их стремления к свободе. С этой безудержной тягой людей к равенству и справедливости общество не может не считаться[520]. Она и обусловливает необходимость социально ориентированной политики государства.
Определение путей развития нашего общества, пределов вмешательства государства в экономическую и социальную сферы, обеспечение роли государства в создании среднего класса, расширение социальной функции государства, означающей возложение на него “миссии общественного служения”, возрастание ответственности государства перед гражданином за создание достойных условий его жизни — важные задачи социальной политики в переходный период.
Концепция социальной политики, основанной на праве и обеспечивающей постепенное устранение резких социальных неравенств, справедливость и нравственность, — важный аспект модели нового общества, которое должно быть сформировано в России. Только в русле осуществления такой концепции возможно создание условий реального обеспечения социальных, экономических и культурных прав индивидов, их участия в политических преобразованиях России, формировании демократического правового общества.
Раздел IX. Теоретические проблемы постсоциалистического развития общества, права и государства в России
Глава 1. Постсоциалистическое общество, право и государство в России: основные тенденции и направления развития
Исторический момент, переживаемый сегодня Россией, обычно называют периодом постсоциалистического развития или просто переходным периодом. Подобные определения не слишком содержательны. Последнее просто фиксирует неустоявшийся характер общественных отношений, амбивалентность социальных процессов. Первое указывает на некую точку отсчета, начальный пункт движения, раскрывая то состояние, которое осталось в прошлом (или с которым общество только стремится расстаться?).
Таким исходным состоянием является социализм, представляющий собой разновидность жесткого тоталитаризма со всеми присущими ему социальными деформациями[521]. Гораздо сложнее определить качество нынешней российской государственности и правовой системы. Но только так можно вскрыть уже наметившиеся тенденции развития, его направление и конечную цель.
§ 1. Государство и право
Казалось бы, сугубо академические вопросы понимания права и государства имеют ярко выраженное прикладное значение. От ответа на них зависит определение целей, пределов и характера функционирования государства.
Традиционно все понятия государства основываются на феномене публичной политической власти. Различны лишь способы (основания, критерии) ее идентификации в качестве власти государственной. Причем проявляются эти различия прежде всего в связи с соотнесением государства с правом. Таким образом, понимание государства неразрывно связано с правопониманием.
Советское правопонимание, явившееся результатом преодоления “ограниченности буржуазного права” и поиска его “новой социалистической сущности”, воплотилось в сформулированном А. Я. Вышинским и утвержденном печально известным 1-м Совещанием по вопросам науки советского государства и права (16—19 июля 1938 г.) определении: “Советское право есть совокупность правил поведения, установленных в законодательном порядке властью трудящихся, выражающих их волю и применение которых обеспечивается всей принудительной силой социалистического государства, в целях защиты, закрепления и развития отношений и порядков, выгодных и угодных трудящимся, полного и окончательного уничтожения капитализма и его пережитков в экономике, быту и сознании людей, построения коммунистического общества”[522].
Данное понятие права, ставшее на долгие годы официальным и общеобязательным и подвергавшееся лишь косметической трансформации, принято считать классическим легистским[523]. Однако на деле оно представляет собой причудливый симбиоз различных типов правопонимания, вобравший из них все самое одиозное. Элементы классического легизма (“совокупность правил поведения, установленных в законодательном порядке”) дополнялись изрядной долей социологического позитивизма (“применение которых обеспечивается всей принудительной силой социалистического государства”), причем в его сугубо советском (принудительно поддерживаемый порядок общественных отношений), а не генетическом англосаксонском (совокупность судебных и административных прецедентов) варианте. Наконец, для оправдания (содержательного обоснования) установленного “правопорядка” использовалась самая опасная разновидность этического правопонимания — классовая концепция справедливости (“выражающих волю трудящихся... в целях защиты, закрепления и развития отношений и порядков, выгодных и угодных трудящимся, полного уничтожения капитализма и его пережитков в экономике, быту и сознании людей, построения коммунистического общества”). Причем на практике социологический позитивизм явно доминировал. О законах и законности помнили лишь до тех пор, пока установленные правила поведения были “выгодны и угодны” власти.
Позитивистское правопонимание, утверждающее производность права от государства и сводящее его к совокупности правил поведения, обеспечиваемых государственным принуждением, неизбежно сопрягается с социологическим пониманием государства как наиболее эффективной (суверенной) организации публичной политической власти (легализованного и монополизированного насилия). Именно подобные определения государства (с различными вариациями социальных интересов — господствующих классов, эксплуатируемых, трудящихся, всего народа, которые оно призвано защищать) предлагались советской теоретической наукой. Соответственно выстраивались и реализуемые на практике политико-организационные структуры.
О какой-либо связанности государства правом в рамках такого правопонимания можно говорить лишь в смысле конструкции “государства законности”, выработанной советской теорией права[524]. Законность здесь рассматривается как связанность всех субъектов общественных отношений установленными государством нормами. Причем если применительно к частным лицам (гражданам и их объединениям) эта связанность обеспечивается принудительной силой государства (насилием), то в отношении государства можно говорить только об определенном самоограничении, принятии на себя обязательства действовать в рамках изданных нормативных актов (разумеется, при сохранении права изменять и отменять их).
Но даже подобные концепции казались опасными. Не случайно в период формирования “социалистического правопонимания” (в середине 20-х годов) попытка А. А. Малицкого представить диктатуру пролетариата как правовое государство[525] вызвала активное неприятие власти. Выступая в Институте советского строительства и права Коммунистической академии, Л. М. Каганович упрекнул Малицкого в увлечении буржуазной юридической методологией, в стремлении изучать просто правовую форму советского государства без глубокого анализа его социальной природы и классовых задач. “Наши законы, — подчеркивал Каганович, — определяются революционной целесообразностью в каждый данный момент”[526].
Ослабление тоталитарного режима после смерти Сталина открыло возможности для преодоления односторонности советского подхода к праву. Однако дискуссия о правопонимании, развернувшаяся с середины 50-х годов и особенно активизировавшаяся в 70—90-е годы, в основном не выходила за рамки юридического позитивизма. Сторонники “узконормативного” подхода к праву стремились утвердить формальную законность, чтобы хоть как-то ограничить произвол власти, а приверженцы “широкой” трактовки права как единства правовых норм, правовоотношений и правосознания — признать реальный “правопорядок” и перестать закрывать глаза на то, что он не совпадает с предписаниями законов[527]. По вполне понятным причинам отсутствовало обращение к современным “буржуазным” концепциям: идеологии естественных и неотчуждаемых прав человека, теории конституционализма.
Но и в условиях идеологического пресса советской науке удалось выработать своеобразную интерпретацию права (правда, не получившую широкого распространения), лежащую в русле западной естественноправовой традиции и существенно развивающую и обогащающую ее[528].
С таким теоретическим багажом и прочно утвердившимся на практике правовым нигилизмом[529] Россия вступила в период перестройки. И неудивительно, что одним из ее лозунгов стало восстановление “подлинной” (формальной) законности. Вновь возник интерес к теории правового государства (социалистического правового государства), которая опять-таки большей частью сводилась к концепции “государства законности”[530], хотя уже и предпринимались попытки собственно правового описания советской государственности[531].
Однако на деле основные социально-экономические преобразования, осуществлявшиеся в стране, представляли собой вопиющее беззаконие. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г.[532], провозглашавшая верховенство Конституции и законов РСФСР на всей ее территории и приостановление действия актов Союза ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР; принятые в развитие Декларации Закон РСФСР “О собственности на территории РСФСР” от 14 июля 1990 г.[533], устанавливавший, что на территории России право собственности на землю, ее недра, воды, леса, другие природные богатства, основные производственные фонды, иные имущество и фонды регулируется законами РСФСР и автономных республик, и Закон РСФСР “О действии актов органов Союза ССР на территории РСФСР” от 24 октября 1990 г.[534], фактически предусматривавший санкционирование союзных актов соответствующими государственными органами РСФСР в качестве обязательного условия их действия, Закон РСФСР “Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР” от 31 октября 1990 г.[535], Постановление Съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 г. “О правовом обеспечении экономической реформы”[536] и, наконец, Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, подписанное в Минске 8 декабря 1991 г.[537], явно противоречили Конституциям СССР и РСФСР. История еще раз продемонстрировала, что коренное изменение государственного устройства, формы правления, политического режима не может происходить в строгом соответствии с действующими конституцией и законами.
Показательно, что в период противостояния законодательной и исполнительной властей (1992—1993 гг.) принцип формальной законности и конституционности (причем в сугубо социалистическом их понимании) был взят на вооружение сторонниками сохранения прежнего “правопорядка”.
Впервые о том, что трансформация существующего режима и формирование правового государства невозможны в рамках действовавшей Конституции, официально было заявлено Президентом Российской Федерации в его Послании о конституционности, направленном Верховному Совету 24 марта 1993 г., во время очередного кризиса во взаимоотношениях с законодательной властью. В Послании обосновывалась ограниченность формальной законности и конституционности и необходимость собственно правового оправдания Конституции и законов — требование их правовости (правомерности)[538].
Указ Президента от 21 сентября 1993 г. № 1400 “О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации”[539], открыто нарушавший действовавшую Конституцию и провозглашавший, что “безопасность России и ее народов — более высокая ценность, нежели формальное следование противоречивым нормам, созданным законодательной ветвью власти”, знаменовал разрыв с социалистическим правом.
Конституция Российской Федерации 1993 г. исходит из идеологии естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека, которые признаются существующими объективно, имеющими дозаконотворческий и внезаконотворческий характер (неоктроированными), очерчивающими сферу индивидуальной свободы и тем самым ограничивающими государственную власть.
Однако это принципиально новое для России понимание права и государства отнюдь не является самореализующимся пророчеством. Оно предполагают целенаправленную деятельность по конституированию правового государства, организованного в соответствии с принципом разделения властей и обеспечивающего надлежащую позитивацию и защиту естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека. Причем исторически признание основополагающих принципов правовой государственности шло параллельно с формированием соответствующих институциональных и процессуальных гарантий правопорядка (парламентаризма, независимого правосудия). Россия же волею судьбы оказалась на периферии этого процесса[540].
Идеология естественных и неотчуждаемых прав человека, свобода и формальное равенство субъектов как базовые принципы правового регулирования, презумпция связанности государства правом порождены не российской социальной практикой. Более того, они до сих пор должным образом не восприняты массовым и профессиональным правосознанием. Рискну утверждать, что принципы современного конституционализма оказались в Конституции 1993 г. “случайно”, стараниями ученых и под влиянием всеобщей демократической эйфории. Но западные концепции и модели плохо приживаются на российской почве. И сегодня многие из них чужды нашей политической действительности. Они даже не получили должного теоретического осмысления. Юридический позитивизм продолжает господствовать в учебной и научной литературе по теории права и государства. Предпринимаются и откровенные попытки выхолостить содержание конституционных норм. Так, в научно-практическом комментарии к Конституции для обоснования приоритета внутренних правовых актов по отношению к общепризнанным принципам и нормам международного права (то есть собственно праву) отмечается, что положение ч. 1 ст. 17 Конституции: “В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией” (то есть одно из. подтверждений неоктроированности прав и свобод) — “имеет характер общей политической декларации” и “не определяет иерархическое положение соответствующих принципов и норм в российской правовой системе”[541].
Таким образом, воспринятая Конституцией презумпция связанности государства естественными и неотчуждаемыми правами человека пока не более чем цель, ориентир, желаемое направление развития, которое может и не реализоваться. И дело здесь не только в консервативности общественного сознания, скорее это следствие определенных объективных обстоятельств.
§ 2. Государство и гражданское общество
Гарантией существования правопорядка и правовой государственности является развитое гражданское общество. Гражданское общество — сфера автономной активности человека, преследующего свои частные цели. При этом все участники социального общения выступают как свободные и формально равные субъекты, реализующие и защищающие свои интересы.
Правовое государство представляет собой институцию гражданского общества. При его отсутствии государство неизбежно утрачивает правовое качество, ибо правоотношения возникают только между автономными частными лицами — свободными собственниками. (В конечном счете именно собственность обеспечивает свободу и правовой характер социального взаимодействия)[542].
Постсоциалистическое общество по определению не является гражданским. С социально-экономической стороны социализм характеризуется полным обобществлением (национализацией, конфискацией) всей производящей частной собственности и утверждением так называемой социалистической собственности, которая, по сути, представляет собой “радикальное отрицание всякой настоящей собственности на средства производства и создание на такой основе единого политикопроизводственного комплекса и централизованного фонда производительных сил страны”[543]. Экономика организуется по принципу “единой фабрики”. Государство напрямую руководит производством и распределением всего национального продукта, и каждый человек выступает в роли наемного работника государства. В масштабе всего общества вводятся “централизованное плановое хозяйство, общегосударственная система учета и контроля за мерой труда и потребления, всеобщая обязанность трудиться и т. д.”[544]. Доминирует внеэкономическое принуждение к труду. Устранена сама возможность индивидуальной экономической активности, естественного социально-экономического развития.
Допускавшаяся личная собственность на продукты и предметы индивидуального потребления, по существу, тоже не была собственностью, а являлась формой компенсации трудовых затрат, набором необходимых социальных благ, предоставляемых государством всем участвующим в общественном производстве на уравнительной основе.
Социализм (как и тоталитаризм вообще) представляет собой своеобразную феодальную реакцию в индустриальную эпоху, перенос в нее феодальных социально-политических форм жизнедеятельности общества (“промышленный феодализм”)[545]. Поэтому постсоциалистическое общество фактически пребывает на докапиталистической стадии развития, в ситуации некоего постфеодализма или неофеодализма, для которого характерно соединение в одних руках власти и собственности[546]. Гражданскому обществу здесь еще только предстоит сформироваться, причем происходить это будет весьма своеобразно.
В классическом (нормальном) варианте гражданское общество складывалось вне и помимо государства, заполняя “ниши”, свободные от государственно-властного воздействия. Оно во многом противостояло государству, отвоевывало у него пространство для самоорганизации и ставило пределы вмешательству в свою жизнь. При социализме “ниш”, не занятых государством, практически не было. И поэтому становление гражданского общества (разведение политической и экономической власти, публичных и частных отношений) во многом будет результатом государственной деятельности, что, естественно, не может не наложить отпечаток на ход и конечный продукт этого процесса.
Частная собственность — основа гражданского общества — после социализма может возникнуть только в результате широкомасштабной приватизации бывшей “социалистической собственности” Приватизация означает глубокую трансформацию государственной власти, ибо отторгает ее от распоряжения всей собственностью страны. После приватизации подменять собственника государству уже не удастся. С ним надо будет считаться, создавать для него разумные и приемлемые “правила игры", переходить от силовых к правовым методам воздействия. Делать все это власть не умеет и поэтому легко может потерять контроль над социальными процессами. Инстинкт самосохранения диктует ей удержание “командных высот” в экономике.
Но если интересам государства как всевластного аппарата приватизация явно не отвечает, то отдельные его представители не прочь использовать рычаги государственной власти, чтобы обрести собственность, то есть обеспечить себе переход в слой, господствующий на иных (экономических) основаниях. В условиях постсоциализма государственная власть — главный инструмент “первоначального накопления капитала”.
Таким образом, приватизация начала осуществляться в системе координат, обеспечивающей, с одной стороны, сохранение государственного контроля над значительным объемом собственности, а с другой — личное обогащение чиновников. И процесс этот оказался во многом формален и весьма далек от требований социальной справедливости и экономической целесообразности.
Впрочем, несправедливость состояний “новых собственников” отнюдь не специфика постсоциализма. Просто только здесь это составляет серьезную политическую проблему. На Западе “демократизация происходила в условиях исторической амнезии, когда все пиратские и мошеннические способы первоначального приобретения собственности были благополучно забыты”[547]. В России же, как и в других молодых демократиях Центральной и Восточной Европы, если воспользоваться марксистской терминологией, современную политико-правовую надстройку (конституционную государственность) начали возводить одновременно (а пожалуй, и раньше) с формированием ее базиса (частной собственности). И частная собственность здесь “не может быть оправдана ее источником, только результатом”[548] (обеспечением более высокого жизненного уровня), но и его (по вышеозначенным причинам) в скором времени ожидать не приходится.
Аналогично идет становление и других институтов гражданского общества: независимых средств массовой информации, общественных объединений и т. п. Все это “разрешило” государство, разумеется оставив за собой рычаги контроля и управления (далеко не всегда правовые).
В общем, самоограничение государства (саморазгосударствление) — процесс довольно противоречивый. Для его продвижения необходима активная ответная реакция общества — ограничение государства “извне” К сожалению, реагировать практически некому. Постсоциалистическому государству противостоит весьма своеобразный социальный субъект.
Формирующееся гражданское общество аморфно. Прежняя социальная структура была искусственно создана государством и представляла собой результат и одновременно гарантию его тоталитарности. Социальные группы ранжировались по уровню и объему потребления, предоставляемого властью в зависимости от места жительства, места работы (народно-хозяйственного значения отрасли), занимаемой должности и некоторых других обстоятельств (социального происхождения, национальной принадлежности, семейного положения, пола, возраста, партийности и т. п.). Государство строго следило за незыблемостью сконструированной им структуры (система прописки, государственно-партийная номенклатура, нормы трудового законодательства, “национально-профессиональные” льготы при поступлении в вузы, социально-демографическая “сетка” при формировании органов власти и т. п.)[549]. Переход в другой (как более высокий, так и более низкий) социальный слой от самого человека мало зависел. Социальная мобильность жестко ограничивалась и контролировалась государством.
Одновременно государство полностью (практически полностью) брало на себя обеспечение социального благополучия граждан. Гарантированная занятость, пенсии престарелым и инвалидам, пособия по болезни, поддержка семьи, материнства и детства (в форме денежных пособий, дотаций на питание в школах и детских садах, детскую одежду и т. п.), жилье, дотации на питание на производстве, бесплатное образование, медицинская помощь, санаторно-курортное лечение и отдых, культурное обслуживание — все это предоставлялось государством по количественным и качественным “нормам”, установленным для каждой социальной группы.
Подобная практика вела к снижению социальной активности, а в конечном счете к люмпенизации населения, когда значительная его часть не имеет возможности обрести собственный, отличный от других и достаточно престижный социальный статус, одновременно претендуя на стабильность и гарантированность существования.
Говоря о массовой люмпенизации социалистического общества, мы имеем в виду не то, что оно состоит из обнищавших и опустившихся людей. Нет, это вполне добропорядочные рабочие, колхозники, инженеры, учителя и т. п., имеющие семьи и неплохой (по социалистическим меркам) достаток. Однако их социальный статус, материальное положение, будущее детей не зависят от личных усилий, образования, квалификации, а определяются лишь той “территориально-профессиональной ячейкой”, в которой им довелось оказаться по рождению или по воле случая. Люди утрачивают стимул хорошо работать, а вскоре и саму способность это делать.
Постсоциалистическое государство перестало предоставлять существующим социальным группам “положенный им” уровень потребления и устранило или ослабило консервирующие их административные механизмы. Однако для формирования нормальной социальной структуры этого недостаточно. Тут требуется время и изменение отношений собственности. Постсоциалистическое структурирование общества осложняется поливалентностью и нестабильностью идущих в нем экономических процессов, что порождает маргинальность социальных слоев. В итоге у большинства населения отсутствует однозначная социальная самоидентификация.
Социальные проблемы, стоящие перед современной Россией, крайне сложны и кажутся просто неразрешимыми.
Нынешние правовые социальные государства Запада предварительно прошли либерально-демократическую стадию развития, когда государству отводилась роль “ночного сторожа”, обеспечивающего судебную и полицейскую защиту отношений формального равенства, свободы, безопасности и собственности граждан. Государство не вмешивалось в жизнь гражданского общества, функционировавшего по принципу естественного отбора. Буржуазия приобретала все большую экономическую и политическую мощь за счет подавления интересов пролетариата. Но жесткая эксплуатация неквалифицированного труда с минимальными расходами на воспроизводство рабочей силы оказалась самым эффективным способом развития. Так обеспечивался быстрый экономический рост, ставший основой дальнейшего процветания, качественного изменения производительных сил (в том числе самого человека) и социальной структуры.
Саморегуляция гражданского общества обеспечивала и защищала свободную конкуренцию независимых собственников. Это позволило утвердиться наиболее эффективным формам производства и обмена. Таким образом, либеральное государство, охраняя классовые интересы буржуазии, объективно действовало и в интересах всего общества, способствуя его дальнейшему прогрессу.
Свободный рынок, отсутствие внеэкономической зависимости и государственной опеки сформировали социально активную личность, привыкшую рассчитывать на собственные силы, самостоятельно решать возникающие проблемы. И лишь позднее, когда история продемонстрировала ограниченность исключительно правовых регуляторов (действие принципа формального равенства и невмешательство государства в рыночные отношения привели к монополизации производства и резкому обострению социальных противоречий), государство стало активно вторгаться в социально-экономические процессы в целях демонополизации и предотвращения сверхконцентрации производства, поддержания конкуренции, защиты интересов лиц, занимающих в отношениях свободного рынка менее выгодное положение (наемных работников, арендаторов, квартиросъемщиков и т. п.), перераспределения национального дохода между социальными группами посредством дифференцированного налогообложения.
Таким образом, на Западе усиление социальных функций государства происходило по мере вызревания для этого необходимых условий. В эпоху либерального государства возникли, развились и достаточно прочно укоренились институциональные механизмы ограничения государственного вмешательства в жизнь общества и обеспечения приоритета прав личности, гарантии индивидуальной свободы. В ходе “социализации” правовых государств этим либеральным ценностям уже не мог быть нанесен существенный урон. Кроме того, созданный к этому времени производственный потенциал позволял с помощью системы государственного перераспределения обеспечить всем гражданам достойное существование без нивелирования различий в уровне материального достатка и престижности социальных статусов.
В постсоветской России такую последовательность развития соблюсти невозможно. Сегодня в России отсутствует необходимый для функционирования социального государства уровень развития производительных сил и структур гражданского общества, но нельзя и просто “вернуться назад” к некогда не пройденному этапу либерального правового государства. Существует целый ряд факторов, делающих невозможной радикальную “десоциализацию” российского государства, — полный отказ от системы социальных гарантий, предоставлявшихся при социализме.
Как уже отмечалось, в постсоветской России нет свободного рынка. А при его отсутствии не могут действовать и рыночные регуляторы, их заменителем неизбежно станет государственное перераспределение национального дохода.
Не может идти исключительно естественным путем социальное развитие и структурирование постсоциалистического общества. Российская экономика, ранее сугубо затратная, излишне милитаризированная, нуждается в коренной реконструкции, а это влечет за собой высвобождение (по сути, выталкивание из привычной социальной среды) практически целых социальных групп, ранее занимавших достаточно привилегированное положение (шахтеры, работники военно-промышленного комплекса, инженерно-техническая интеллигенция, военнослужащие и т. п.). Проблемы, встающие перед этими людьми (переобучение, переезд в другие регионы, вообще адаптация к новому жизненному укладу), явно не могут быть решены за счет их личных усилий.
Сегодня в России маловероятно возникновение классовой структуры, свойственной начальным стадиям индустриализации. Даже при нашем уровне экономического развития дальнейший рост уже не может основываться на эксплуатации неквалифицированной рабочей силы. Воспроизводство же образованного, квалифицированного работника требует значительных затрат и предполагает относительно нормальное качество его жизни.
При социализме отсутствовала практика (да и сама возможность) формирования крупных личных состояний. Более того, даже незначительные накопления граждан были “съедены” инфляцией в период реформ. Чтобы аккумулировать средства, позволяющие самостоятельно решать те или иные проблемы (обучение, лечение, улучшение жилищных условий и т. п.), требуется время, а проблемы обычно “не ждут”.
Возможность улучшения благосостояния за счет личных усилий часто бывает сопряжена с необходимостью снижения социального статуса (например, переход невостребованных в новых условиях специалистов в сферу торговли и услуг), что для многих весьма непросто уже чисто психологически.
В эпоху становления индустриального общества люди не имели прошлого опыта государственной опеки и обслуживания. Отсутствие социальных гарантий и необходимость полагаться на собственные силы воспринимались как нечто нормальное, если и не должное, то хотя бы привычное, обыденное. Постсоциалистическое государство имеет дело с принципиально иным “человеческим фактором”
Люди развращены длительным государственным патернализмом, не обладают элементарными навыками экономической активности. Гарантированность минимального социального благополучия воспринимается ими как “естественное и неотчуждаемое” право человека и соответственно обязанность государства. Обращенное к государству требование обеспечить гражданам реальную возможность пользоваться социально-экономическими правами, по существу, есть стремление не допустить расширения сферы рыночных отношений, сохранить в неприкосновенности административно-командное (уравнительное) регулирование. Причина этого не только в неизбежном в переходный период ухудшении материального положения и условий жизни значительных слоев населения, но и в том, что большинство людей не привыкли действовать самостоятельно, чувствуют себя неуютно в отношениях свободы и эквивалентного обмена.
Практика показала, что постсоциалистическое общество никогда не поддержит режим, который не предлагает социальные услуги и социальные гарантии, существовавшие при социализме, или хотя бы не обещает сохранить большинство традиционных форм социальной защиты. Поэтому ни одно из посткоммунистических правительств стран Центральной и Восточной Европы не рискнуло отказаться от унаследованной социальной системы[550].
В постсоциалистический период пренебрежение государством социальными функциями чревато серьезными политическими потрясениями, ибо значительные группы населения не только не хотят, но и объективно не могут самостоятельно обеспечить свое социальное благополучие. Но не менее опасна и чрезмерная социальная активность государства. Это препятствует формированию рыночных регуляторов и способствует консервации патерналистских установок массового сознания, а в конечном счете сдерживает экономический рост. Государство, отягощенное тоталитарным прошлым, излишне увлекшись социально-экономической деятельностью, легко может вернуться в первоначальное состояние. Определить и соблюдать необходимую и достаточную “меру социальности” государства при неразвитости либерально-демократических традиций и правовых ограничителей политической власти весьма сложно.
Пока в России практически все возможности повышения благосостояния и социального статуса связаны с проникновением во властные структуры. Деэтатизацию некому подгонять и корректировать. Подавляющее большинство населения, лишенное собственности, навыков и возможности самостоятельного заработка, объективно представляет собой базу излишне социального государства, сохраняющего мощные перераспределительные рычаги. Система государственного распределения удобна и для многих коммерческих структур, успешно эксплуатирующих ее неэффективность и коррумпированность.
Независимый производитель на экономическую и политическую сцену еще не вышел.
Социальная недифференцированность общества порождает политическую асистемность. Говорить о реальной многопартийности не приходится. Ни одна из возникающих партий не имеет четкой социальной ориентации: не знает, на какие слои опирается, чьи интересы выражает. В основном это небольшие политизированные группировки, занятые удовлетворением личных амбиций лидеров. (Единственное исключение составляет коммунистическая партия, очевидно, сказывается определенный опыт партийного строительства.) При кажущемся разнообразии партий их роль в повседневной политической жизни малозаметна. Ни один из влиятельных государственных деятелей однозначно не связывает себя с определенной партией, не опирается на ее поддержку, не находится под ее контролем. Более того, у многих граждан существует навеянное памятью о КПСС активное неприятие партий как таковых.
Общество постепенно утрачивает качество целостности. Исчезают системообразующие связи и отношения. Население, партии и государственные структуры в политическом процессе почти не сопрягаются. Власть существует как бы сама по себе и сама для себя.
Такое положение опасно и долго продолжаться не может. Государство, не имеющее в обществе социальной опоры, рискует получить все общество в качестве оппозиции. Отсюда крайняя неустойчивость переходной власти, постоянное балансирование между возвратом к тоталитаризму и угрозой анархии. Удержаться на этой зыбкой черте и обеспечить пусть медленное и половинчатое движение в сторону демократии — максимум того, что можно от нее требовать.
Устойчивость государственной власти, ее способность принимать решения и проводить их в жизнь, не прибегая к открытому и массовому насилию, обеспечиваются эффективностью и легитимностью существующей политической системы.
Под первой понимается полезность деятельности власти, степень удовлетворительности, с которой она выполняет свои управленческие функции. Позитивное представление об эффективности, пожалуй, основная причина, побуждающая людей признавать политическую систему как должное и выполнять принимаемые решения. Но оценка эффективности не может быть однозначной как из-за неизбежной противоречивости интересов различных слоев населения, так и в силу практически неограниченных возможностей ее повышения. Поэтому трудно переоценить значение легитимности власти.
Легитимация власти — это процедура ее объяснения и оправдания (с точки зрения нормативного порядка более высокого уровня) с целью добиться общественного признания власти, уверенности в законности и справедливости ее управленческих притязаний. Представляя собой субъективно-эмоциональное отношение народа к власти, легитимность образует как бы внутреннюю гарантию ее устойчивости, обеспечивая повиновение, доверие, политическое участие.
Для легитимации (самооправдания в глазах подвластных) власть апеллирует к различным рациональным и иррациональным доводам (экономическим, историческим, культурным, этическим, религиозным, эмоциональным и т. п.). В политологии вслед за М. Вебером принято различать три “чистых” способа легитимации, власти:
— Традиционный, когда существующая власть признается законной, потому что была таковой “всегда” Такой тип легитимности (характерный в основном для монархий) основан на привычке, обычае, приверженности установленному издревле порядку и предполагает безусловное доверие к институтам власти, но не к персонифицирующим их лицам.
— Харизматический, когда лидеру (вождю) приписываются великие личные качества — моральное, физическое, интеллектуальное превосходство, а часто даже магические способности. Харизма предполагает безоглядное доверие и слепое подчинение вождю, замешанное на обожании и страхе.
— Рационально-правовой, когда повиновение управляющим основано на признании правомерности и рациональности обретения и осуществления ими власти. Рационально-правовое оправдание — наиболее трудоемкий способ легитимации власти, так как предполагает детальную разработанность и строгое соблюдение правовых норм, регламентирующих организацию и деятельность государственных органов.
Но опыт показывает, что обычно власть не довольствуется только каким-то одним из названных типов легитимности. На практике вера в законность власти проистекает из сложного переплетения множества трудноуловимых факторов экономической, правовой, моральной, психологической, религиозной природы, и речь идет лишь о доминировании того или иного способа.
В период радикальных социально-экономических преобразований наблюдается “кризис легитимности” власти. Старый режим свою легитимность уже утратил, новый еще не обрел. Причем положение усугубляется тем, что должна произойти смена способов легитимации.
Тоталитарная власть основывалась на харизме. Это наиболее гибкий и простой способ легитимации. Он не требует для своего формирования ни длительного времени, ни рационального набора общепринятых правовых норм. Однако культ харизматического лидера ведет к тому, что он обычно олицетворяет и источник, и осуществление власти. Его не только боготворят, но и оценивают. К нему обращено повышенное внимание подвластных, ему же адресуется и любое недовольство системой. Поэтому харизматическому лидеру для поддержания своей легитимности необходимо постоянно демонстрировать эффективность режима или (а как правило, и) проводить жесткую репрессивную политику.
Демократическая конституционная государственность (особенно при отсутствии соответствующих традиций) нуждается в рационально-правовом оправдании. Однако власть часто пренебрегает его требованиями ради сиюминутных политических выгод. Отсутствует четкое разграничение компетенции между государственными органами, не разработаны многие процедурные моменты их деятельности, принятые законы нередко игнорируются. В общем, формирование рационально-правовой организации политической власти находится в самой начальной стадии. А на практике власть пытается обращаться сразу ко всем известным способам легитимации, не гнушаясь ссылками ни на исторические традиции, ни на особые личные качества лидеров.
Вспомним распространенные пропагандистские клише начала перестройки: “в Октябре 1917 г. наш народ сделал свой исторический выбор”; “ленинская Республика Советов”; “исторически сложившаяся однопартийность”; “парламентаризм не в российских традициях”; “в России всегда была сильная центральная власть” Установленные порядки предлагалось признавать законными, потому что они были таковыми “всегда” Предпринимались (хотя и не явные) попытки харизматизации: “КПСС — инициатор и гарант перестройки”; “Горбачеву нет альтернативы” Наиболее распространенный аргумент в политических спорах 1992—1993 гг.: “Ельцина избрал народ” представлял собой симбиоз харизматического и рациональноправового обоснования. Эти же элементы сочетались и в лозунгах избирательной кампании 1996 г.: “голосуй сердцем” и “не допустим реставрации коммунизма”
Такое балансирование в переходный период неизбежно и оправданно, но лишь если оно помогает власти убедить граждан, что она действует в целях обеспечения прав и свобод человека, ограничена ими, доступна контролю и не выходит за пределы выделенных ей ресурсов (прежде всего свободы подвластных).
Строго говоря, конституционная государственность совместима только с рационально-правовой легитимностью. Два других способа оправдания власти могут присутствовать лишь в качестве небольших “вкраплений”, эмоционально окрашивающих абстрактные правовые конструкции и тем самым усиливающих их привлекательность.
Наконец, стабилизация постсоциалистической власти невозможна без хотя бы минимальной эффективности проводимых ею мероприятий. Для новых режимов проблема эффективности особенно актуальна. Требования к ним обычно завышены, и для обеспечения лояльности новый государственный строй должен доказать, что он, по меньшей мере, лучше старого обеспечивает запросы различных слоев населения. На практике наглядная демонстрация эффективности означает, как правило, экономическое развитие, своеобразные “выплаты” гражданам в категориях экономических благ, товаров и жизненных уровней.
§ 3. Форма постсоветского государства
Правовое по своей сущности и содержанию государство предполагает (требует) определенную организационную форму, должно быть устроено в соответствии с принципом разделения властей. Только это создает необходимые институциональные гарантии правового характера государственности, препятствуя монополизации властных полномочий[551].
Государство, провозглашающее правовое качество ориентиром своего развития, неизбежно должно стремиться и к правовой форме организации. Так, разделение законодательной, исполнительной и судебной властей уже в Декларации о государственном суверенитете РСФСР, принятой первым Съездом народных депутатов 12 июня 1990 г., признавалось “важнейшим принципом функционирования РСФСР как правового государства”
Однако рецепция этого принципа, как и презумпции естественного и неотчуждаемого характера прав и свобод человека, была исключительно внешней, поверхностной. В существенно обновленной Конституции 1978 г. утверждение, что система государственной власти в Российской Федерации основана на принципе разделения властей (ч. 1 ст. 3), мирно уживалось с провозглашением Советов народных депутатов политической основой Российской Федерации (ч. 2 ст. 2) и правом Съезда народных депутатов как высшего органа государственной власти Российской Федерации принять к своему рассмотрению и решить любой вопрос, отнесенный к ведению Российской Федерации (ч. 1, 2 ст. 104).
Справедливости ради надо отметить, что нигде в самых стабильных и развитых демократиях принцип разделения властей не проведен на практике до конца последовательно. Он может иметь разное институциональное воплощение, и всегда полномочия законодательной, исполнительной и судебной властей не уравновешены с аптекарской точностью, та или другая власть неизбежно доминирует, и, лишь когда это доминирование переходит некоторый предел, вся система властеотношений утрачивает правовой характер.
“Чтобы образовать умеренное правление, — писал Ш. Л. Монтескье, — надо уметь комбинировать власти, регулировать их, умерять, приводить их в действие, подбавлять, так сказать, балласту одной, чтобы она могла уравновешивать другую; это такой шедевр законодательства, который редко удается выполнить случаю и который редко позволяют выполнить благоразумию”[552]. Право вообще и конституционализм в частности — не жесткая схема, а лишь наиболее абстрактное выражение общественных отношений. Не случайно В. С. Нерсесянц называет право математикой свободы. Как язык математики в силу своей абстрактности и точности применим для описания качественно различных явлений и процессов, так и правовые конструкции могут опосредовать разные отношения и интересы. Принцип разделения властей, к примеру, в каждой стране воплощается в особой организационной форме, складывающейся в зависимости от исторических традиций, текущих политических задач и иных обстоятельств.
Постсоциализм — период выработки своей модели разделения властей. История конца XX в. показала два подхода к решению этой задачи. Государства Центральной и Восточной Европы заимствовали конструкции (в основном парламентской республики) из мировой и собственной досоциалистической практики, проведя лишь незначительную их модификацию, как правило, в сторону усиления фигуры президента — главы государства[553]. Россия же занялась самостоятельным политическим творчеством[554].
Период выработки новой системы осуществления государственной власти характеризуется неоформленностью властных структур, стремлением каждой из них перетянуть на себя как можно больше полномочий (борьбой за полновластие) и неравенством стартовых условий “конкурирующих властей”
Институты, образующие все три ветви власти, несовершенны и незавершенны. Законодательная власть представлена неким пред- или полупарламентом. Он отличается структурной, функциональной и процедурной неупорядоченностью. Российская “двухэтажная” структура представительного органа власти вообще была уникальна. Верховный Совет, в принципе являющийся аналогом парламента, избирался не населением, а Съездом народных депутатов, который обладал высшей законодательной (и не только законодательной) властью в стране, но в силу своей громоздкости функционировать в качестве парламента просто не мог.
Исполнительную власть олицетворяют Президент и Правительство, причем их субординация и распределение компетенции между ними четко не определены.
И на исполнительной власти, и на законодательной лежит печать их советских предшественников — в виде реально полновластных партийных органов и декоративных Советов народных депутатов. В новых условиях первая пытается удержать свои позиции, а вторая — реализовать лозунг “Вся власть Советам”
Но хуже всего дело обстоит с третьей властью — судебной. Судебная власть в силу инцидентного характера деятельности производна от силы гражданского общества и при его отсутствии утвердиться не может. Доверия и уважения к суду в постсоциалистическом обществе нет, он по-прежнему воспринимается как карательный орган. Граждане и организации предпочитают решать свои проблемы в привычном административном порядке, а законодательная и исполнительная власти — выяснять отношения без посредников. Постоянное пробуксовывание судебной реформы неудивительно: законодательной и исполнительной властям “третий конкурент” вообще не нужен, а общество до потребности в независимом правосудии пока не доросло.
Заложить основы независимости судебной власти призвано учреждение конституционного контроля за решениями органов законодательной и исполнительной властей. Однако этой функцией наделяется в основном Конституционный Суд, выведенный за рамки общей судебной системы. Таким образом, Конституционный Суд освобождается от предвзятого отношения к общим судам, а суды общей юрисдикции — от реальных властных полномочий. В итоге в качестве третьей власти во многом выступает не суд вообще, а Конституционный Суд[555].
Положение осложняет и то, что практическое конституирование разделения властей идет параллельно с его конституционным оформлением. Всякое фактическое изменение в распределении властных полномочий “победитель” в политической борьбе стремится закрепить конституционно[556]. Постепенно Конституция становится все более нестабильной и противоречивой, образуя собой весьма зыбкую основу для разрешения конфликтов властей. Обосновать как конституционность, так и не- конституционность любого закона, решения, действия несложно, и решающую роль здесь будут играть политические пристрастия судей. Балансируя между правом и политикой, Конституционный Суд постепенно все более тяготеет к последней. В итоге общество получает не независимую судебную власть, способную удерживать конфликт законодателей и правительства в правовых рамках, а просто “третью власть”, которая, не слишком дорожа своей независимостью, принимает ту или другую сторону и только усиливает политическую нестабильность.
Подобная эволюция российского Конституционного Суда была констатирована в Указе Президента Российской Федерации от 7 октября 1993 г. № 1612 “О Конституционном Суде Российской Федерации”[557], которым его деятельность была приостановлена. В ныне действующем Федеральном конституционном законе “О Конституционном Суде Российской Федерации”[558] содержатся реальные гарантии от излишней политизации Конституционного Суда, в частности, он лишен возможности рассматривать дела по собственной инициативе. Но качественного изменения роли судебной власти в стране так и не произошло.
Практически вся история подготовки и принятия Конституции Российской Федерации 1993 г. может быть представлена как борьба законодательной и исполнительной властей за доминирование. При этом велся своеобразный политический торг с регионами, которых каждая из сторон стремилась заполучить в союзники. Но социально-экономические интересы регионов и политические силы, стоящие там у власти, были слишком неоднородны. Разным регионам был нужен “разный” центр. К какому-либо общеприемлемому варианту взаимоотношений центра и субъектов Федерации региональные элиты так и не смогли прийти, а собственно организация центральной власти их вообще мало интересовала. После сентябрьско-октябрьских (1993 г.) событий в Москве у исполнительной власти, олицетворяемой Президентом, практически не осталось оппонентов, с которыми она была бы вынуждена считаться[559]. В принципе политическое взаимодействие всегда асимметрично. Та или иная группа неизбежно занимает более сильные позиции и, естественно, стремится использовать их, чтобы обеспечить, в частности конституционно, свои интересы. Но при этом власть может остаться в “правовом пространстве”, а может и выйти за его пределы.
После подавления вооруженного мятежа в Москве, будучи в состоянии единолично и бесконтрольно создать в стране новую политико-правовую систему, Президент в определенной мере придерживался тактики самоограничения. Однако учреждение в России “смешанной” формы правления с сильным Президентом и ослабленным парламентом, где механизм “сдержек и противовесов” плохо отлажен, явилось прямым следствием “победы” Президента в конституционном процессе[560].
Фигура президента, если она вписывается в систему разделения властей, должна представлять собой либо номинального главу государства — должностное лицо, не относящееся ни к одной из трех ветвей власти и выполняющее сугубо представительские функции (не обладающее собственными реальными властными полномочиями), либо главу исполнительной власти.
Президент Российской Федерации, согласно Конституции (ч. 1 ст. 80), является главой государства, однако его полномочия отнюдь не номинальны. По своему правовому положению российский Президент может рассматриваться как глава исполнительной власти (наряду с Председателем Правительства). На деле в системе исполнительной власти у нас реализована конструкция “бицефала”, аналогичная французской. Причем “президентская голова” значительно “выше” “премьерской”.
Как и в любой “смешанной” республике, взаимоотношения законодательной и исполнительной властей в России не сбалансированы.
Конституция предусматривает своеобразную сферу регламентарной власти — право Президента самостоятельно осуществлять нормотворчество. Согласно ст. 90 Конституции, указы Президента не являются строго подзаконными актами, они лишь не должны противоречить Конституции и федеральным законам, а при отсутствии последних вполне могут заменять их.
Заимствованный у парламентской республики принцип ответственного правительства в значительной мере носит формальный характер, ибо право Государственной Думы выразить недоверие Правительству или не согласиться с предложенной Президентом кандидатурой Председателя Правительства чрезмерно “уравновешено” возможностью ее роспуска (ст. 111, 117 Конституции). И если Государственная Дума “пойдет до конца” в своем неприятии Председателя Правительства, на кандидатуре которого настаивает Президент, это может привести лишь к ее перманентным роспускам. Однако описываемая некоторыми исследователями ситуация четырехлетнего президентского правления в отсутствие парламента[561] вряд ли может быть реализована на практике. Здесь при явной недостаточности правовых гарантий разделения властей начинают действовать так характерные для “смешанной” республики социально-политические “сдержки и противовесы” Ведь в условиях четырехлетней избирательной кампании в обществе просто не удастся сохранить стабильность.
Кроме того, подобный механизм парламентской ответственности правительства может рассматриваться как закамуфлированная модель президентской республики, согласующаяся с принципом разделения властей: номинальное участие парламента в формировании правительства, парламентский контроль “без санкций” (когда выражение недоверия правительству не ведет к его отставке) и отсутствие (при соблюдении этих условий) у президента права роспуска парламента.
Вообще отмечаемое большинством исследователей явное доминирование Президента в системе разделения властей во многом может быть нейтрализовано Федеральным Собранием. Президентское нормотворчество, призванное восполнить неизбежный в переходный период дефицит законов, при достаточной эффективности законодательного процесса не сможет конкурировать с парламентским. Сильное президентское вето на законопроекты (ч. 3 ст. 107) действенно лишь при неоднородном парламенте.
Взаимоотношения Президента и Правительства (гл. 6) обозначены в Конституции весьма схематично, и в принципе не исключается и полная зависимость Правительства от Президента, и ситуация, аналогичная французскому “сожительству”[562].
Показательно, что специалисты в области конституционного права по-разному определяют предусмотренную в Конституции форму правления, причем разброс мнений довольно широк: от парламентской[563] до суперпрезидентской[564] республики. Очевидно, наша форма правления действительно может эволюционировать в сторону любой из этих крайних позиций.
И попытки изменения конфигурации российской формы правления активно предпринимаются. В Федеральном конституционном законе “О Правительстве Российской Федерации” и Федеральном законе “О статусе депутатов Совета Федерации и статусе депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации”[565] закреплены формы парламентского контроля (депутатские вопросы и запросы членам Правительства, обращения комитетов и комиссий палат), не предусмотренные Конституцией. Серьезные попытки поворота в сторону парламентской республики предпринимались в ходе принятия Федерального конституционного закона “О Правительстве Российской Федерации”[566], однако успехом не увенчались[567]. Используются и политические средства корректировки формы правления (складывающаяся практика консультаций в рамках “большой четверки” — Президента, Председателя Правительства, председателей палат Федерального Собрания или “круглых столов” и стремление Президента полностью контролировать Правительство).
Существенную опасность в плане нарушения принципа разделения властей представляют конституционные “каучуковые” формулировки полномочий Президента. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 80 Президент Российской Федерации является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина, в установленном Конституцией порядке (который на самом деле если и установлен, то весьма схематично) принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Пока, правда, интерпретация этого положения не выходит за рамки президентской республики. На основании ч. 2 ст. 80 Конституции на Президента возложено непосредственное руководство деятельностью федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (ст. 32 Федерального конституционного закона “О Правительстве Российской Федерации”).
Важным средством нейтрализации любых нарушений принципа разделения властей является ст. 10 Конституции: “Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны” Она включена в гл. 1 Конституции, то есть относится к основам конституционного строя России, которым не должны противоречить никакие другие положения Конституции (ч. 2 ст. 16). Таким образом, ст. 10 является основанием для толкования всех других норм Конституции и разрешения любых споров государственных органов о компетенции в соответствии с принципом разделения властей.
Впрочем, определенная авторитарность управления в переходный период неизбежна, и, чем более она легальна (конституционно регламентирована), тем лучше.
Не устоялась и территориальная организация власти в России. Конституционное описание российского федеративного устройства позволяет ему эволюционировать в разных направлениях. Развитие договорных начал в регулировании отношений центра и регионов (ч. 3 ст. 11) может привести к относительной конфедератизации России. Неоднозначную интерпретацию допускает и конституционный вариант разграничения предметов ведения между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В частности, совместная компетенция может осуществляться на основе согласования или конкуренции решений либо восполнения субъектами Федерации пробелов федерального регулирования. Последний принцип при наличии соответствующей политической воли центральной власти ведет к тому, что формально федеративное государство на деле становится унитарным.
Очевидно, что неоднозначность и противоречивость конституционного регулирования федеративных отношений умышленна. На момент принятия Конституции не было найдено общеприемлемой модели федеративного устройства. “Размытость” конституционных положений обеспечивает легальное пространство от дальнейших поисков, которые продолжаются и сегодня.
Много вопросов вызывает организация местного самоуправления. Конституция исходит из негосударственной концепции местного самоуправления, осуществляемого в дополнение к государственному управлению в административно-территориальных единицах (ст. 12, 130—133). Однако Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”[568] наделяет органы местного самоуправления полномочиями государственного управления на соответствующей территории. В таком случае выделение органов местного самоуправления из единой системы органов государственной власти кажется не совсем логичным.
Своеобразен политический режим современной России. Конституция провозглашает режим демократического социального правового государства (ст. 1, 7, 8, 10, 13, 14 и др.). Однако на деле российский политический режим содержит в себе элементы всех (кроме, пожалуй, оставленного в прошлом тоталитаризма) его разновидностей.
Это авторитарный режим, если рассматривать практику осуществления публично-властных полномочий и принять во внимание нарушение принципа разделения властей и фактическое доминирование Президента в политическом процессе, преобладание произвольно-приказного регулирования над правовым.
Это полицейский режим, если учитывать многочисленные законодательные ограничения индивидуальной активности (свободы передвижения, предпринимательской деятельности, создания и функционирования средств массовой информации, общественных объединений, проведения собраний и демонстраций и т. п.).
Это режим социальной демократии, если исходить из существующей системы налогообложения, объема социальных задач, принятых на себя государством, численности населения, которое в соответствии с законодательством может претендовать на социальную помощь и поддержку.
Наконец, это сверхлиберальный режим, если не закрывать глаза на то, что государство не выполняет не только свои продекларированные социальные функции, но даже и роль “ночного сторожа”, не обеспечивает судебную и полицейскую защиту свободы, безопасности и собственности граждан, конституционных основ демократической правовой государственности.
Иного в посттоталитарный период нельзя было и ожидать. Вопрос о том, какие элементы и в каком виде возобладают, пока остается открытым.
Российская конституционная модель организации и осуществления власти (как и большинство других) вариативна. Она может развиваться и в русле современного конституционализма, и в духе характерной для России тенденции к монополизации и бесконтрольности власти, авторитарности управления. Какое из этих направлений окажется реализованным, зависит от формирующегося гражданского общества.
Глава 2. Правовые основы развития многопартийности в современной России
§ 1. Право и многопартийность
История развития многопартийности в постсоветской России насчитывает уже более десяти лет, и за это время в стране прошло несколько избирательных кампаний по выборам федеральных и региональных органов власти при активном участии политических партий и движений. Однако правовые основы многопартийности в России все еще остаются несформированными. До сих пор не вступил в действие закон о политических партиях (принятый Государственной Думой в декабре 1995 г. Федеральный закон “О политических партиях” не был одобрен Советом Федерации и в настоящее время находится в работе согласительной комиссии). Деятельность политических объединений регулируется главным образом базовым Федеральным законом “Об общественных объединениях” от 19 мая 1995 г., слабо учитывающим специфику объединений политического характера[569], несколькими нормами прежнего союзного закона “Об общественных объединениях” 1990 г., касающимися политических партий, избирательным законодательством, а также несколькими указами Президента РФ.
Такое положение дел не соответствует роли и значению права как фактора проводимых в стране преобразований. Очевидно, что сознательное и целенаправленное реформирование предшествовавшего социалистического строя и переход к принципиально иным началам организации и функционирования общества предполагают активную роль права как фактора созидания основных институтов гражданского общества. Если на Западе структуры гражданского общества складывались веками и в значительной мере в русле стихийных процессов социальной саморегуляции, то в наших условиях эти процессы по необходимости должны носить форсированный и во многом регулируемый (государством и законодательством) характер.
Это особенно относится к процессам создания и деятельности политических партий, которые существенно отличаются от иных общественных объединений. Партии, зародившись в недрах гражданского общества, выходят за его рамки, становятся посредниками между обществом и государством и претендуют на участие в осуществлении государственной власти. Данное обстоятельство делает партии объектом пристального внимания со стороны тех, кто стремится получить доступ к власти, чтобы использовать ее в своих интересах. Кроме того, сами партии выражают в лучшем случае лишь интересы определенной части общества. Государство же как представитель всеобщих интересов должно активно содействовать (в том числе посредством законодательного регулирования) тому, чтобы деятельность партий не наносила ущерба интересам отдельной личности и общества в целом.
Мировой опыт развития партий как структур гражданского общества и как части политической системы свидетельствует о наличии явно выраженной тенденции к их правовой институализации, т. е. к превращению их “в правовой институт путем все более широкого регулирования правом комплекса отношений, связанных с образованием, организацией и деятельностью партий”[570]. В последнее десятилетие эта тенденция особенно ярко проявилась в правотворческой деятельности постсоциалистических и развивающихся стран, большинство из которых приняло специальные законы о политических партиях. Это, как правило, комплексные нормативные акты, охватывающие порядок создания политических партий и регистрации их уставов, права партий и гарантии их реализации, обязанности партий и механизмы контроля за их деятельностью, формы участия партий в выборах, порядок приостановления, прекращения и запрета деятельности партий и т. д.
То обстоятельство, что Россия, где деятельность политических объединений в значительной мере осуществляется в ситуации правового вакуума, не вписалась пока в эту общемировую тенденцию, обусловлено рядом исторических особенностей процесса формирования российской многопартийности. Рассмотрим под этим углом зрения основные этапы становления правовых основ многопартийности в стране.
§ 2. Первые шаги правовой регуляции российской многопартийности
Точкой отсчета на пути формирования правовых основ российской многопартийности стала отмена ст. 6 Конституции СССР. Это лишило КПСС статуса “руководящей и направляющей силы советского общества, ядра его политической системы” и открыло возможность для участия других политических партий в выработке государственной политики, в управлении государственными и общественными делами. Отмена названной статьи означала легализацию тех зачатков многопартийности, которые уже с конца 1985 г. начали стихийно возникать в виде так называемых альтернативных общественных движений, народных фронтов и иных неформальных объединений.
Следующей вехой на пути правового признания многопартийности стало принятие в октябре 1990 г. Закона СССР “Об общественных объединениях”[571], определившего основные правовые параметры создания и деятельности политических партий и придавшего дополнительный импульс процессам их формирования и развития.
В это же время (а именно в период выборов 1990 г. в органы государственной власти союзных республик) на арену борьбы за власть выходят такие новые субъекты политического действия, как избирательные блоки. Несмотря на то что в большинстве республик их деятельность не была законодательно урегулирована, этим неформальным самодеятельным объединениям граждан удалось заметным образом мобилизовать и консолидировать своих сторонников. Так, избирательный блок “Демократическая Россия” смог, как известно, успешно противостоять коммунистам и на выборах народных депутатов РСФСР, и на выборах первого российского Президента.
Однако бурная политическая активность последних лет перестройки, приобретшая уже явно выраженную антикоммунистическую направленность, во многом носила поверхностный характер и не была еще способна подорвать ведущие позиции КПСС, сохранившей в целом свои прежние государственно-властные полномочия[572]. В период, когда маховик исторических событий в России только начинал еще раскручиваться, шансы демократического движения на заметный успех в его противоборстве с КПСС казались небольшими. Коммунисты явно неплохо подготовились к переменам. В то время как одна часть партии с неожиданной для общества предприимчивостью включилась в инициируемые ею же процессы разгосударствления социалистической собственности (сумев даже убедить определенные круги на Западе и часть отечественной демократической общественности, что преобразование собственности в СССР возможно лишь путем номенклатурной приватизации), другая ее часть заняла позицию критики всякой приватизации и готовилась к тому, чтобы, используя неизбежное недовольство широких масс несправедливостями приватизации, вновь выступить в роли защитника обездоленных и создать мощную социальную базу для возрождения коммунистического движения.
Решающую роль в утверждении реальной многопартийности и преодолении всевластия коммунистической партии сыграло то обстоятельство, что для российского депутатского корпуса, для Председателя Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцина, для широкого спектра российских политических объединений борьба с КПСС слилась с борьбой против диктата союзного центра. Не случайно, что именно в Декларации о государственном суверенитете РСФСР, принятой первым Съездом народных депутатов РСФСР, впервые были провозглашены гарантии равных правовых возможностей участия в управлении государственными и общественными делами для всех граждан, политических партий, массовых движений, общественных и религиозных организаций[573].
12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин был избран Президентом Российской Федерации, а уже 20 июля 1991 г., опираясь на решения первого Съезда народных депутатов РСФСР, он издал Указ “О прекращении деятельности организационных структур политических партий и массовых общественных движений РСФСР” от 20 июля 1991 г.[574]. Последовавший вскоре после этого августовский путч привел к коренному изменению соотношения сил на политической арене. После путча страна вступила в посткоммунистический период своего развития.
Серией указов Президента Российской Федерации деятельность КП РСФСР была приостановлена, а ее имущество взято под контроль Советами народных депутатов. Вскоре после этого М. С. Горбачев сложил с себя полномочия Генерального секретаря ЦК КПСС и призвал ЦК принять решение о само- роспуске. Завершающую точку на том этапе поставил Указ Президента РСФСР от 6 ноября 1991 г. “О деятельности КЦСС и КП РСФСР”[575], предписывавший прекращение деятельности и роспуск организационных структур КПСС И КП РСФСР на территории РСФСР. Последовавший в декабре 1991 г. распад СССР и образование независимого государства — Российской Федерации — еще более упрочили положение антикоммунистических сил в российском политическом спектре и во властных структурах.
Однако в массовом сознании поражение компартии было в тот период отнюдь не столь очевидым. И хотя, по данным ИСПИ РАН, более половины населения полностью согласилось с решением о приостановлении деятельности КПСС и считало, что эта партия не должна возобновлять свою деятельность, 28% респондентов, напротив, были убеждены, что компартия должна возродиться, а почти половина опрошенных коммунистов (46%) были готовы возобновить свое членство в партии[576]. При этом только каждый четвертый респондент был уверен в том, что после запрета КПСС страна пойдет по пути демократического развития, и одновременно столько же полагало, что в этом случае страну ожидает новая диктатура. Показательно, что половина опрошенных не смогла определенно высказаться по данному вопросу. Таким образом, в обществе в отличие от высших эшелонов власти явно не было эйфории победы. Оно, по мнению наблюдателей, “раскололось и затаилось”[577].
После крушения КПСС процесс становления многопартийности в России вступил в качественно новую стадию. Если раньше политическая активность партий и движений самой разной ориентации была по преимуществу направлена против КПСС и отождествлявшегося с ней союзного центра, то теперь они были вынуждены искать новую основу для самовыражения и самоидентификации. Это прежде всего касалось тогдашнего “демократического движения”, которое возникло как объединение “против”, а не “за”: слово “демократия” в тех условиях было лишь приемлемым для народного слуха демагогическим названием всего антикоммунистического. Правда, коммунисты тоже апеллируют к демократии, но к демократии пролетарской, социалистической, т. е. неправовой, тоталитарной по своей сути, использующей массы как средство установления диктатуры, подавления независимого индивида, свободной личности[578]. Антикоммунистическая же демократия — это демократия буржуазная, т. е. правовая, либеральная, основанная на принципах защиты прав меньшинства, свободы индивида. А для такой демократии (т. е. демократии в позитивном либерально-правовом смысле, а не просто в антикоммунистическом значении) в России пока что условий нет: нет гражданского общества и нет среднего социального слоя, который мог бы быть реальным носителем основных ценностей современной либеральной демократии — свободы, собственности и права.
Эклектичность и внутренняя противоречивость российского демократического движения обнаружились очень быстро. После августа 1991 г. началась серия расколов единого прежде блока “Демократическая Россия” и выхода из него сначала патриотически настроенных организаций, затем партий социал-демократической и социал-либеральной ориентации[579].
Важное значение для укрепления позиций левых сил имели принятые 30 ноября 1992 г. решения Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности ряда указов российского Президента[580]. В целом конституционным был признан лишь Указ о приостановлении деятельности КП РСФСР. В вопросе об имуществе КПСС и Компартии РСФСР суд согласился с позицией Президента лишь в части, касающейся имущества, собственником которого являлось государство. Применительно же к имуществу, принадлежащему КПСС на правах собственности, а также к имуществу, которое на момент издания указа фактически находилось во владении, пользовании и распоряжении КПСС и КП РСФСР, но собственник которого не был определен, указ был признан неконституционным. Вопрос о собственности в каждом конкретном случае предстояло решать в судебном порядке. Неконституционными суд счел и положения указа “О деятельности КПСС и КП РСФСР”, касающиеся тех первичных организаций КП РСФСР, которые были образованы по территориальному признаку.
Таким образом, российским коммунистам удалось сохранить не только часть своего имущества, но, что более важно, и свои территориальные партячейки. Во многом именно благодаря удержанию коммунистами хорошо налаженной за годы советской власти разветвленной системы территориальных партийных звеньев мы имеем сейчас ситуацию, при которой более половины массового низового актива российских политических объединений ориентировано на левые политструктуры, главным образом на принадлежащие КПРФ[581]. То обстоятельство, что КПРФ в значительной мере опирается на прежние организационные структуры, является существенным аргументом в пользу позиции судьи Конституционного Суда Т. Г. Морщаковой, считающей, что решение Конституционного Суда не было исполнено, поскольку российские коммунисты вовсе не создали новую партию в феврале 1993 г., а лишь восстановили старую, руководящие структуры которой были признаны неконституционными[582].
Точка зрения, высказанная Т. Г. Морщаковой, не получила надлежащего отклика ни в правоохранительных органах, ни в обществе. Таким образом, решения Конституционного Суда существенно укрепили позиции коммунистов в обществе, способствовали быстрой реанимации коммунистических сил и их активному включению в политическую борьбу как в качестве участников избирательной кампании 1993 г. по выборам нового высшего законодательного органа, так и под знаменами крайней оппозиции, бойкотировавшей эти выборы.
Следующий виток активизации деятельности партий был спровоцирован углублением конфликта между представительной и исполнительной ветвями власти. В результате драматических событий сентября—октября 1993 г., последовавших за Указом Президента Российской Федерации № 1400 “О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации”[583], рухнула система Советов и страна вступила в постсоветский период своего развития. В весьма напряженной обстановке того времени предстояло в короткие сроки принять новую Конституцию (по существу — постсоветскую и постсоциалистическую) и сформировать новые органы представительной власти. Инициатива осуществления этих мероприятий исходила от исполнительной власти, которая, взяв бразды правления в свои руки, остро нуждалась в общественной поддержке. Для обеспечения легитимности предстоящих мероприятий необходимо было согласие с ними и участие в них основных общественно политических сил и движений, что в тех условиях требовало широкого допуска тогдашних политических партий к участию в выборах в новый российский парламент, предусмотрительно совмещенных с референдумом по принятию Конституции.
§ 3. Постсоветский период развития российской многопартийности
Новый этап в развитии многопартийности в России начался с принятием Конституции 1993 г., обозначившей курс на развитие парламентаризма. Реализация этого курса требовала форсированного создания в стране полноценной многопартийной системы. Ожидалось, что фактором, способствующим ускоренному становлению цивилизованной многопартийности, станет новая пропорционально-мажоритарная избирательная система, закрепленная во введенном в действие Указом Президента от 1 октября 1993 г. Положении о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 г.[584]. Согласно Положению, депутаты, избранные по спискам политических партий и движений, получали половину мест в парламенте. Кроме того, в Положении содержался и ряд иных норм, обеспечивавших политическим партиям и движениям максимально благоприятные условия участия в выборах.
Подобные преимущества явно не соответствовали реальному месту и роли политических объединений в обществе и в политическом процессе. Несмотря на фиксируемое опросами общественного мнения возрастание вовлеченности различных социальных слоев в “партийную” жизнь в течение всего 1993 г. (в апреле 60% респондентов не доверяли партиям и движениям или затруднились выразить кому-то из них поддержку, в июне эта группа сократилась до 54%, а в ноябре — до 43%), в преддверии выборов абсолютное большинство граждан по-прежнему не симпатизировало ни одной из политических сил[585]. Таким образом, в Положении о выборах в отличие от всех прежних шагов по правовому регулированию формирования многопартийной системы власть, не ограничиваясь легализацией фактически уже сложившейся или складывающейся формы общественных отношений, впервые пошла дальше и предприняла попытку ускорить развитие многопартийности в стране.
Было ли верным такое решение — вопрос непростой. Ответ на него усложняется тем обстоятельством, что в Положении о выборах 1993 г. был избран наименее удачный вариант пропорционально-мажоритарной системы, для которого характерно механическое сочетание мажоритарного и пропорционального принципов представительства[586]. Такая избирательная система, по мнению специалистов, не является смешанной, поскольку она основана на “принципе параллельного голосования по мажоритарным округам и партийным спискам”[587], в то время как в рамках реальной смешанной системы количество мест, получаемых по партийным спискам, зависит от числа голосов, поданных за партийных кандидатов в мажоритарных округах.
Однако если оставить за кадром недостатки принятой избирательной системы и оценивать лишь общую установку на то, чтобы использовать избирательную систему для стимулирования развития многопартийности, то надо признать, что такая установка была верной. Более того, она была единственно возможной в условиях, когда перед Президентом и структурами исполнительной власти остро стояла задача принятия новой (постсоветской и постсоциалистической) Конституции и формирования новых органов представительной власти.
Именно этим желанием направить в парламентское русло и удержать в конституционном пространстве основной отряд оппозиции было, по-видимому, обусловлено и решение о допуске к выборам левых сил, не занимавших крайнюю позицию в конфликте двух ветвей власти. Показательно, что в президентском указе, устанавливавшем запрет на участие в выборах ряда общественных объединений (ФНС, РКРП, “Союза офицеров”, Союза “Щит”, РКСМ и РНЕ), специально подчеркивалось, что граждане “не лишаются возможности выразить свои интересы и политические симпатии через иные избирательные объединения аналогичной ориентации”[588]. При всех неизбежных издержках такой политики этот курс в целом был верным, поскольку он существенно снижал сферу непарламентской политической активности левых и способствовал стабилизации крайне напряженной в тот период политической обстановки. И кстати, уже на выборах 1995 г. все, в том числе и перечисленные выше, оппозиционные партии и движения выступили в качестве полноправных субъектов избирательного процесса.
Здесь надо отметить, что противники введения в стране пропорциональной избирательной системы, напротив, говорили о ее дестабилизирующем влиянии на общество. Мажоритарная же система рассматривалась как фактор создания благоприятных условий для формирования двухпартийной политической системы, обеспечивающей высокую степень общественно-политической стабильности. Исходя из опыта некоторых западных демократий (прежде всего США и Великобритании), ряд отечественных политиков и экспертов полагали, что необходимо стимулировать развитие российской многопартийности в сторону формирования подобной двухпартийной системы. Судя по всему, для многих из них подобные представления до сих пор не утратили своей привлекательности. Во всяком случае показательно, что на проходившем в феврале 1998 г. первом Всероссийском конгрессе политологов президент Российской политической ассоциации М. В. Ильин в своем вступительном слове сетовал на то, что, хотя политическое развитие в стране несколько раз, по его мнению, приближалось к формированию двухпартийной политической системы, политики самой разной ориентации объединялись в своем стремлении воспрепятствовать этому позитивному процессу. При этом, очевидно, имелись в виду зародившиеся еще в недрах КПСС иллюзии о том, что путем административных ухищрений можно создать некий аналог двухпартийного центра, способного удержать центробежные тенденции в рамках компартии. Затем, в конце 1995 г., эти идеи причудливо трансформировались в попытки уже новой российской “партии власти” создать “сверху” два крупных право- и левоцентристских избирательных блока, призванных, по идее их создателей, оттянуть голоса избирателей от радикально ориентированных политических группировок.
Между тем жизнь достаточно убедительно показала, что в подобных случаях логика и напряжение политической борьбы либо очень быстро разводят такое двухполюсное центристское образование по диаметрально противоположным мировоззренческим позициям, либо обнажают искусственность декларируемых различий (как это произошло на депутатских выборах 1995 г. с блоком Ивана Рыбкина, сразу же “приписанным” массовым сознанием к “партии власти”).
Представления целого ряда отечественных политологов о возможности того или иного варианта двухпартийной модели российской политической системы в значительной мере обусловлены тем обстоятельством, что наша социально-политическая действительность рассматривается ими преимущественно сквозь призму взаимодействий, соглашений, интриг, политических торгов и сделок между так называемыми политическими элитами. Показательны в этом отношении положения одного из последних докладов фонда “Реформы” Авторы, рассматривая тенденции современной политической жизни, связанные с засильем на политической сцене групп давления и клиентелл (политических кланов), неожиданно приходят к выводу,. что “указанные тенденции могут... создать благоприятные условия для формирования в России реальной двухпартийной системы, в рамках которой элита, консолидировавшаяся вокруг одного политического клана, представляла бы интересы всех поддерживающих власть общественных слоев, а некая лояльная к власти оппозиция — интересы протестных слоев электората”[589].
При этом остается непонятным, почему вдруг протестные слои российского электората удовлетворятся тем, что их интересы будет представлять “некая лояльная власти оппозиция” Рассчитывать на такой сценарий событий — значит очень сильно недооценивать глубину социально-экономических, мировоззренческих и политических антагонизмов в самом обществе, в том числе и противоречий между основными политическими группировками. Из всех виртуальных сценариев двухпартийности “по-российски” наиболее вероятным представляется тот, когда коммунисты, придя к власти, допустят (что весьма сомнительно) существование политической оппозиции. В этом случае весь разномастный антикоммунистический спектр вновь объединится в борьбе против своего непримиримого врага. Однако к такой двухпартийности вряд ли стоит стремиться.
Поэтому задача состояла и состоит не в попытках формирования двух крупных социально-политических группировок, а, напротив, в обеспечении парламентского представительства различным политическим силам, ориентированным на принципы парламентаризма и конституционализма. Только это способно снизить накал общественно-политического противостояния, ввести социальные конфликты в парламентское русло и дать время для выработки основы действительного общественного согласия.
Есть все основания считать, что новая избирательная система способствовала снижению темпов радикализации политических отношений прежде всего за счет уменьшения активности внепарламентской оппозиции. В частности, участие в выборах КПРФ и последующая деятельность фракции коммунистов в Государственной Думе заметно переориентировали коммунистическую оппозицию на отработку легитимных методов борьбы за власть и придали основной структуре коммунистического движения некоторый социал-демократический оттенок. Коммунистам и аграриям не удалось стать главными выразителями оппозиционных настроений. Выразителями общественного недовольства при голосовании выступили и многие другие партии и движения — от ЛДПР до “Женщин России” Все это, безусловно, стало фактором, сдерживающим поляризацию в обществе. Хотя, конечно, общая тенденция к расколу проявилась в результатах выборов 1993 г. уже достаточно явно. Главным индикатором этой тенденции стал неожиданный для многих наблюдателей “провал” политического центра (прежде всего речь идет о поражении на выборах влиятельного “Гражданского союза”, а также ряда других объединений центристской ориентации).
В качестве другого серьезного аргумента против введения в тот период избирательной системы с элементом пропорционального представительства обычно приводились рассуждения о верхушечном характере партий, отсутствии у них реальной социальной базы, их неспособности адекватно отражать структуру социальных интересов и т. п.
Все это, разумеется, верно. Да и откуда могла взяться прочная социальная база у тогдашних партий в условиях неизбежной после распада старой социальной системы атомизации общественной жизни и корпоративизации социальных интересов? В ситуации слома старых социальных связей и структур, коренных изменений в общественных и политических отношениях, формирования новых социальных слоев и групп основными субъектами борьбы за собственность и власть с неизбежностью стали могущественные группы давления[590], отражавшие корпоративные позиции и притязания крупных экономических групп интересов (работников ТЭК, АПК, ВПК и т. д.), а также региональных политических элит, в значительной степени состоявших из представителей бывшей коммунистической номенклатуры.
Процессы корпоративизации общественно-политической жизни приобрели к концу 1993 г. такие масштабы, что грозили полностью перекрыть возможности для сколько-нибудь нормального формирования как структур гражданского общества, так и новых государственных институтов. Нужны были срочные и экстраординарные меры, направленные на ограничение подобных корпоративистских тенденций. И это был еще один весомый аргумент в пользу повышения роли партий и иных политических объединений в политическом процессе.
Дело в том, что именно партии (политические объединения в целом), в отличие от других объединений граждан на базе тех или иных групповых интересов, по природе своей предназначены не просто для выражения этих групповых интересов (в таком случае они ничем не отличались бы от объединений корпоративного характера), а для выявления в различных групповых, корпоративных интересах общезначимого начала для учета политического смысла частных интересов, их перевода на общегосударственный, общенациональный уровень. Только поэтому партии и могут претендовать на участие в формировании и осуществлении государственной власти. В свою очередь, само участие политических партий в парламентской деятельности, являющейся для них школой выражения того общезначимого начала в различных групповых интересах, которое может быть положено в основу общегосударственной политики и законодательства, вынуждает их “прививать” корпоративистски ориентированным слоям и группам населения основы политической структуры, нормы и правила цивилизованной политической жизни. Таким образом, политические партии и движения, получившие в декабре 1993 г. мощный импульс для своего развития, могли бы взять на себя роль локомотива, вытягивающего российское общество из примитивного состояния корпоративизма к нормальному гражданскому обществу и удерживающего представительную власть от опасности трансформации в неразвитую конструкцию сословно-корпоративного представительства.
Кроме того, целесообразность введения избирательной системы со значительным элементом пропорционального представительства нередко обосновывалась опасениями, что без определяющего влияния на избирательный процесс политических партий и движений можно получить депутатский корпус, состоящий главным образом из представителей номенклатурно-хозяйственного актива и околомафиозных структур.
Здесь уместно вспомнить слова такого авторитетного специалиста, как М. Дюверже, о том, что “режим без партий обеспечивает увековечивание руководящих элит, сформированных по праву рождения, богатства или должности” и что “человеку из народа чрезвычайно сложно пробиться в эту закрытую касту без поддержки партий, стремящихся растить собственные элиты”[591].
Исходя из этих соображений, можно признать, что введение в 1993 г. пропорционально-мажоритарной избирательной системы со значительной долей партийного представительства в парламенте в принципе отвечало главным императивам того времени — острой потребности в стабилизации общественно-политической ситуации, а также необходимости преодолеть сползание формирующегося гражданского общества в неразвитое корпоративное состояние и не дать номенклатурно-мафиозным структурам узурпировать власть.
Гораздо более уязвимо для критики то обстоятельство, что партии и движения получили явно завышенную (по сравнению с их реальным политическим весом) долю мест в парламенте[592]. В первоначальном варианте Положения о выборах 1993 г. избирательным объединениям предоставлялась лишь треть мест в парламенте, однако вскоре Президент РФ под давлением близких к нему демократических лидеров счел возможным расширить долю пропорциональной составляющей избирательной модели до половины. Возможно, что такое решение было ошибочным. Однако ставшие очевидными в последнее время негативные последствия предоставления партиям и движениям завышенной доли мест в парламенте не были бы настолько ощутимы, если бы законодатель (а на тот момент в качестве такового выступал Президент РФ) своевременно предпринял шаги по закреплению надлежащего правового статуса партий и движений, подгоняющего их под жесткие правовые стандарты. Введение новой избирательной системы необходимо было дополнить новым законодательством, определяющим понятие политической партии и общественно-политического движения, очерчивающим условия и формы их участия в выборах и подчиняющим процессы их создания и деятельности целям правового демократического развития общества и государства. Это, однако, не было сделано.
§ 4. Законодательство о политических объединениях: состояние и основные направления развития
В сложившихся к 1993 г. условиях открывавшееся перед партиями и движениями политическое пространство почти не было организовано и упорядочено правом. Принятый в 1990 г. союзный закон “Об общественных объединениях’’[593] уже не отвечал формирующимся новым социально-политическим реалиям. Закон был нацелен прежде всего на стимулирование зарождающейся многопартийности. Отсюда весьма расплывчатое определение политической партии, облегченный, преимущественно заявительный, характер регистрации уставов партий, нечеткая регламентация их финансовой, производственной и хозяйственной деятельности, самое общее определение форм их участия в избирательном процессе и т. д.
Тот небольшой набор требований к политическим партиям, который содержался в союзном законе “Об общественных объединениях” (наличие фиксированного членства и численность не менее 5 тыс. членов для общефедеральной партии, запрет на коллективное членство и на членство в партиях иностранцев и лиц без гражданства), носил чисто номинальный характер, поскольку к выборам наряду с партиями были допущены и политические движения, на которых эти требования не распространялись. Таким образом, сложилась ситуация, когда право участия в выборах, предоставленное политическим объединениям граждан, не было скоординировано не только соответствующими значению этого права обязанностями, но и вообще никакими дополнительными обязанностями со стороны субъектов данного права перед обществом и государством (за исключением разве что запрета на создание и деятельность оргструктур политических объединений на предприятиях, в учреждениях и организациях).
Именно это обстоятельство, а не завышенная доля “партийного” представительства явилось главной причиной последующих деформаций избирательного процесса. Оценивая итоги развития общественно-политического процесса в период, охватывающий уже две избирательные кампании по выборам п Государственную Думу, можно с достаточными основаниями сделать вывод, что еще в конце 1993 г., когда шла работа над Положением о выборах в новый представительный орган, необходимо было заложить нормативные основы для формирования правового статуса политических объединений (например, в Положении о политических объединениях, введенном в действие Указом Президента РФ одновременно с Положением о выборах).
В данном нормативном акте право политических объединений на участие в выборах должно было быть сбалансировано набором достаточно жестких обязанностей по широкому спектру их деятельности. При этом основной акцент надо было сделать на создании правовых гарантий их приверженности конституционным основам существующего строя, отказе не только от силовых способов изменения строя, но и от непарламентских форм борьбы за власть. Кроме того, как показывает опыт развития российской многопартийности после 1993 г., в Положении о политических объединениях следовало бы закрепить требования к демократизации внутрипартийной жизни (что стало бы тормозом на пути развития вождистских партий и движений тоталитарного типа), максимально четко регламентировать финансовую и производственную деятельность политических объединений (что в какой-то мере могло бы препятствовать криминализации политической жизни, ограничило бы возможности давления бизнеса на сферу политики), ввести дополнительные гарантии против политического экстремизма, разжигания национально-религиозной розни в ходе социально-политического процесса. И разумеется, необходимо было предусмотреть надлежащие формы государственного контроля за соответствием деятельности политических объединений требованиям законодательства, а также систему санкций (вплоть до лишения права участвовать в выборах) за нарушение данных требований. Такой подход в определенной мере оградил бы Государственную Думу первого созыва от партий и движений, не желающих платить адекватную цену за право участвовать в формировании и осуществлении государственной власти, и способствовал бы большему пониманию партийными фракциями и депутатскими группами своей роли в качестве института, “с помощью которого воля граждан может осуществляться в периоды между выборами”.
Вместо этого законодатель, не поставив никаких содержательных барьеров на пути к получению статуса избирательного объединения, выделил избирательным объединениям и блокам такую долю мест в парламенте, которая превратила их в держателей основного пакета акций в тех ситуациях, когда они имели общий корпоративный интерес. Именно к таким ситуациям относится принятие закона об общественных объединениях (в части, касающейся их участия в выборах), закона о политических партиях, а также избирательного законодательства. Парламентские фракции и депутатские группы, легко забывающие о своих разногласиях, когда дело доходит до их собственных общих интересов, не пошли на сколько-нибудь существенные самоограничения ни в одном из названных выше направлений.
Более того, то обстоятельство, что представительство в парламенте получили в том числе и избирательные объединения, политический характер которых представляется весьма спорным[594], в значительной мере обусловило дальнейшую девальвацию статуса субъекта избирательного процесса. Уже к следующей избирательной кампании по выборам в Государственную Думу (1995 г.) законодатель вообще отказался от какой-либо политической маркировки субъектов избирательного процесса. В Федеральном законе “Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации” от 6 декабря 1994 г. и в последовавшем за ним Федеральном законе “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации” от 21 июня 1995 г. к избирательным объединениям были отнесены все общественные объединения, зарегистрированные за полгода до объявления дня выборов, уставы которых предусматривали участие в выборах в органы государственной власти.
В результате право участвовать в выборах получили 258 общественных объединений и 111 из них попытались этим правом воспользоваться. Но главное — в избирательную борьбу в качестве полноправных ее участников вступили организации, обеспечивающие представительство корпоративных интересов (профсоюзов, объединений промышленников и финансистов, отраслевых организаций, имеющих статус общественных, но фактически обслуживающих интересы отдельных министерств, ведомств, крупных акционерных компаний и т. п.), а также объединения, построенные исключительно по национальному или религиозному признаку. И только благодаря взвешенной и ответственной позиции электората в Государственной Думе оказались представленными лишь политические объединения, причем именно те из них, политические платформы которых тяготели к наиболее крупным центрам идеологического притяжения в структуре массового сознания россиян.
Поскольку после выборов 1995 г. ключевые позиции в Думе заняли выдвиженцы политических объединений, их усилиями в новое избирательное законодательство были внесены важные новеллы, ставящие барьеры на пути участия в выборах неполитических по своей природе объединений. В принятом 5 сентября 1997 г. Федеральном законе “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” право участия в выборах было предоставлено лишь политическим объединениям граждан (политическим партиям, политическим организациям, политическим движениям).
Следующим шагом законодателя стало внесение изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общественных объединениях”, в результате чего в законе (помимо понятия политического объединения, сформулированного ранее в избирательном законодательстве) был закреплен ряд существенных ограничений на признание за общественным объединением политического характера. Речь идет о запрете на признание статуса политического за объединением, устав которого предусматривает членство в нем или принадлежность к нему граждан по профессиональному, национальному, этническому, расовому или конфессиональному признакам, а также лиц, не имеющих права быть членами политических объединений, отказе в статусе политического объединения тем объединениям, членами или участниками которых являются иностранные граждане, иностранные или международные организации и т. п.[595].
Однако при всей важности предпринятых законодателем в последнее время мер по упорядочению правового статуса политических объединений их явно недостаточно для того, чтобы преодолеть негативные тенденции в развитии российской многопартийности и направить этот процесс в русло формирования партий парламентского типа. Данную проблему невозможно решить без принятия надлежащего закона о политических объединениях, который поставил бы надежные правовые барьеры против антиконституционных тенденций в развитии многопартийности, на пути использования вождистскими партиями демократических механизмов для прихода к власти, ослабил бы давление на сферу политики со стороны бизнеса, вывел бы политический процесс из-под влияния криминальных, мафиозных структур и т. д.
К сожалению, в настоящее время принятие такого закона, в рамках которого предоставленное политическим объединениям право участия в выборах было бы скоординировано с набором адекватных этому праву обязанностей, не стоит в повестке дня Государственной Думы. Продолжается затянувшаяся работа в рамках согласительных процедур над проектом Федерального закона “О политических партиях”, принятого Думой еще в декабре 1995 г., но не одобренного Советом Федерации. Однако после того как к выборам были допущены все политические объединения, закон о партиях в его нынешнем виде лишился смысла. Уже нужен другой закон о партиях. Такой закон должен регламентировать вопросы организации и деятельности не только политических партий, но также политических организаций и движений, являющихся в настоящее время важным элементом социально-политической жизни, который не может быть выведен за рамки избирательного процесса. А принятый Думой закон о партиях, напротив, проводит жесткие различия между политической партией и иными политическими объединениями, так что организация и деятельность последних остаются без надлежащей правовой регламентации. Единственные дополнительные требования, которые закон предъявляет к партиям, в отличие от иных общественных объединений — это требования, фиксирующие различия организационного характера между партией и движением (запрет на коллективное членство, наличие фиксированного индивидуального членства и высокие требования к численному составу партий — не менее ста членов в каждой из территориальных организаций, которые должны быть более чем в половине субъектов Российской Федерации).
Введение в действие Закона о партиях в том виде, в каком он принят Государственной Думой, или при его несущественной корректировке в результате работы согласительной комиссии означало бы лишь полную девальвацию правового статуса политической партии, поскольку к выборам допускались бы, по сути дела, любые общественные объединения, которым ничто не мешало назвать себя политическими движениями. Это привело бы к тому, что закон, призванный стимулировать формирование цивилизованной многопартийности, напротив, способствовал бы консервации нынешней неразвитой ситуации, при которой субъектам политического действия выгодно оставаться в неопределенном статусе политических движений и иных объединений. А с точки зрения задач развития парламентаризма это означало бы, что вместо становления нашего парламента как института общенародного представительства, выражающего государственно значимые социальные интересы, в нем усилился бы дух групповщины, свойственный политически неразвитым, добуржуазным, сословнокорпоративным формам представительства.
Правда, судя по всему, разработчики Закона о партиях рассчитывали на то, что в случае принятия этого закона в избирательное законодательство были бы внесены соответствующие изменения, закрепляющие статус участника выборов лишь за политическими партиями. Однако такой подход, даже если бы его удалось реализовать (что маловероятно, учитывая расклад сил в Государственной Думе, где значительные позиции занимают фракции, созданные на базе общественно- политических движений), представляется неверным.
Можно приводить разные аргументы против того, чтобы в нашей неразвитой, переходной ситуации выводить политические движения за рамки избирательного процесса. Но главное заключается в том, что в условиях неразвитого гражданского общества именно политические движения являются той институциональной формой, которая адекватна степени зрелости общества. Показательно, что в нынешней России те организации, которые не просто именуют себя партиями, но и являются таковыми в действительности, — это не продукт развития гражданского общества, а осколки прежней единой тоталитарной партии. А реформаторско-демократический потенциал общества выражен пока что общественно-политическими движениями.
Причем у этого демократического (точнее — антикоммунистического) фланга нет ни общей идеи, ни общего лидера. И чтобы из аморфного демократического движения сформировать полноценные партии, надо гораздо больше времени, чем это потребовалось коммунистам, чтобы сделать из осколков КПСС несколько разных работоспособных организаций, объединенных, по сути дела, общей идеологией. Кроме того, очевидно, что политические движения, представляющие сейчас главным образом правую и центральную части российского политического спектра, при поспешной, вынужденной трансформации в партии могут заметно ослабить свою организационную опору и социальную базу в целом, поскольку многие сторонники движения не пожелают связать себя членством в партии. Существенным ударом по большинству нынешних движений стал бы и отказ от коллективного членства при переходе в статус партии. Такова особенность нынешней российской ситуации. Помимо этого есть и общая закономерность, в соответствии с которой, как заметил М. Дюверже, “партии всегда остаются более развитыми слева, чем справа, поскольку они всегда более необходимы на левом фланге, чем на правом”[596].
Судя по всему, вялотекущий в настоящее время процесс доработки Закона о партиях в рамках согласительной комиссии вряд ли увенчается в близкой перспективе принятием нормативного акта, способного преодолеть негативные тенденции в развитии российской многопартийности.
§ 5. Итоги и перспективы развития многопартийности в России
В настоящее время уже можно с полным основанием утверждать, что вместо искомой многопартийной системы, в рамках которой различные субъекты политического действия готовы к сотрудничеству в целях достижения общественного согласия или хотя бы, как минимум, придерживаются общих конституционно-правовых принципов поведения, мы получили несистемную множественность партий с зачастую радикально противоположными позициями при значительном влиянии среди них политических сил, не приемлющих основные положения действующей Конституции. При этом расчеты на то, что умеренная часть левых сил является или может стать частью системной оппозиции, представляются несостоятельными. Коммунистическая оппозиция вовсе не ориентирована на сохранение системы и будет использовать любую ситуацию нестабильности для ее разрушения. Это было достаточно наглядно продемонстрировано уже в условиях обострения кризиса и “правительственной чехарды” в марте—сентябре 1998 г.
Вопреки оптимистическим надеждам выборы по спискам избирательных объединений и блоков не только не явились стимулом для участия избирателей в деятельности политических объединений различной идейной ориентации, но, напротив, значительно ускорили процесс кристаллизации внутрипартийной элиты и отрыв ее от рядовых участников политического процесса и низового партийного актива. В итоге российская многопартийность, не успев сформироваться в систему, уже в полной мере обнаруживает те присущие большинству многопартийных систем Запада "симптомы вырождения”, которые там являются результатом длительной эволюции от массовых партий XIX в. к так называемым электорально-профессиональным партиям[597] конца XX в. Последние представляют собой немногочисленные по своему составу объединения политиков-профессионалов, которые в борьбе за голоса избирателей не ищут опору в массовой поддержке своей политико-идеологической платформы, а делают главную ставку на влиятельные группы интересов и на специалистов, владеющих избирательными технологиями.
Объединение такого рода, по мнению ряда аналитиков, мало напоминает партию, представляя из себя скорее своего рода “информационно-технократический мутант”, “электоральный танк”, таранящий избирательную систему, подавляющий всякие иллюзии относительно “воли народа” и “демократичности выборов”[598]. Молодые российские партии уже на начальной стадии своего политико-организационного становления демонстрируют весь набор черт, присущий подобным псевдопартиям: отсутствие четких политико-идеологических позиций, неумение и нежелание работать с населением, малочисленность, преимущественная ориентация на поддержку финансовых и промышленных структур, откровенное использование в своих узкопартийных целях и интересах карьеры своих партийных лидеров тех политико-правовых возможностей, которые государство создает для развития многопартийности, и т. п.
Не стали партии и движения сколько-нибудь заметным фактором преодоления тенденции к корпоративизации политического процесса. Эта тенденция, наметившаяся в начале 90-х годов, приобретает все более явную олигархическую направленность. К настоящему времени в качестве основных актеров на политической сцене и за ее кулисами уже прочно утвердились корпоративные группы давления и политические кланы (клиентеллы). При этом группы давления (под ними понимаются “социально-профессиональные и функциональные группы, оказывающие более или менее организованное воздействие на государственную власть в целях реализации своих корпоративных интересов, не ставя при этом задачи завоевания власти”) все чаще не ограничиваются удовлетворением своих непосредственных экономических интересов, а стремятся “навязывать государственной власти определенные модели политического курса”[599], как бы выполняя в этом смысле функции политических партий. Что же касается политических кланов, то эти неофеодальные по своей сути монстры современной политической жизни, возникшие в результате постсоциалистического слияния власти и собственности, изначально ориентированы на удержание и расширение своих позиций через овладение государственной властью. Отсюда их интерес к политическим партиям, которые зачастую становятся орудием реализации их планов.
Очевидно, что сложившаяся ситуация требует жесткого, но при этом грамотного, зачастую филигранного правового регулирования процессов развития многопартийности в стране. Эту задачу мог бы решить надлежащий закон о политических объединениях. Но очевидно также и то, что такой закон, ограничивающий те привилегии на участие в формировании и осуществлении государственной власти, которые имеют сейчас представленные в парламенте общественные объединения, не будет принят депутатским корпусом, избранным в рамках нынешней избирательной системы. Налицо замкнутый круг, разорвать который в сложившихся условиях мог бы референдум по избирательной системе.
Идея такого референдума была выдвинута президентским окружением в конца 1997 г. Идея в принципе верная и своевременная. Однако высказываемое при этом намерение использовать референдум в качестве средства возврата к прежней избирательной системе мажоритарного типа представляется ошибочным по следующим соображениям.
1) Для посттоталитарной ситуации многопартийность — это ключевой момент демократии. Введение мажоритарной системы, ослабляющей влияние политических объединений на общественную и государственную жизнь, в условиях неразвитости гражданского общества и низкой социально-политической активности основной части населения будет уж слишком играть на руку номенклатуре и криминалитету. Партийные списки — это почти единственная возможность попасть во власть для политически активной части общества, не принадлежащей к старой и новой номенклатуре и мафиозным структурам. Без выборов по партийным спискам, без реальной и активно функционирующей многопартийности произойдет узурпация власти на местах несменяемыми региональными элитами, концентрация власти на государственно-чиновничьем уровне, еще большая криминализация избирательного процесса и формируемых органов власти.
2) Деятельность партий при всех их недостатках хоть как- то урегулирована законодательством и поддается контролю со стороны общества. Что же касается номенклатурных, а тем более криминальных структур, то они непроницаемы для контроля и не связаны обязанностями перед электоратом.
3) Сформированный таким образом представительный орган будет еще в большей степени, чем нынешний, не способен к выработке решений, отражающих общую волю. В нем усилится лоббирование частных, в том числе и криминальных, интересов.
4) Партии в целом сумели канализировать и структурировать политическую энергию общества и в значительной мере взять на себя выражение основных социальных интересов. Потеря же партиями прежних позиций в избирательном процессе приведет к тому, что общество вновь начнет выражать свое недовольство напрямую, в митинговой форме. Это дестабилизирует ситуацию в обществе. Вытеснение партий из сферы легальной борьбы за власть подтолкнет их к поиску непарламентских путей прихода к власти. Сейчас они уже достаточно сильны, чтобы представлять в этом отношении вполне серьезную опасность (особенно учитывая заметное нарастание социальной напряженности).
Таким образом, переход к мажоритарной системе с помощью механизма референдума вполне может привести к тому, что ситуация выйдет из-под контроля реформаторских сил и окажется на руку лишь тем, кто стремится к перераспределению власти и собственности в свою пользу.
Кроме того, необходимо учитывать то обстоятельство, что основной импульс на демократизацию общественной жизни в настоящее время идет от федерального центра при сопротивлении региональных элит. Не случайно, что в регионах повсеместно взяла верх мажоритарная избирательная система, предоставляющая местным элитам больший простор для контролирования избирательного процесса. Если и федеральный центр будет действовать в этом духе, то антиреформаторская направленность социально-политических процессов заметно усилится. Это существенно усложнит движение к гражданскому обществу и правовому государству.
И наконец (и это, может быть, самое главное), не стоит лишать партии и движения дополнительных стимулов для развития в сторону партий парламентского типа. Ведь нельзя не признать тот факт, что в настоящее время “статус и влияние партий в российской политике во многом поддерживаются за счет функционирующей в общенациональном масштабе пропорциональной избирательной системы”[600]. Конечно, любая партийная квота в парламенте — это привилегия в пользу партий. Сами партии и движения, возможно, и не заслуживают подобных льгот, но острая потребность общества в становлении цивилизованной многопартийности заставляет идти на подобные уступки.
На референдум надо выносить вопрос не о типе избирательной системы (эта проблема слишком сложна для массового сознания), а о выборе того или иного соотношения пропорциональной и мажоритарной составляющих избирательной модели. Проще говоря, речь должна идти о доле мест в Государственной Думе, выделяемых депутатам, избираемым по спискам избирательных объединений и блоков. Цель предлагаемого референдума видится не столько в том, чтобы выбрать оптимальный вариант избирательной системы (эта задача не может быть решена путем плебисцита), сколько в преодолении тех деформаций парламентского процесса, которые в настоящее время блокируют возможность совершенствования избирательного законодательства в ходе обычной законотворческой работы парламента. При этом можно и нужно, конечно, разрабатывать различные сложные варианты смешанной модели избирательной системы, максимально адекватные особенностям нашей социально-политической ситуации. Но в настоящее время это работа на будущее. Что же касается предлагаемого референдума, то очевидно, что вопрос, выносимый на всенародное голосование, должен быть максимально простым и понятным населению. Наши граждане знают, что партии получают сейчас половину мест в Государственной Думе. И для них будет понятен и естественен выбор между нынешней (половинной) и другой, меньшей, чем половина (это может быть одна треть или одна четверть), долями партийного представительства в парламенте.
Итак, алгоритм выхода из сложившейся ситуации мог бы быть следующим. Первым шагом должно стать уменьшение доли партийного представительства в нижней палате парламента, которое позволило бы преодолеть корпоративное сопротивление партийных фракций при решении вопросов, затрагивающих их интересы. Следующий важный шаг — принятие такого закона о политических объединениях, который направил бы российскую многопартийность в сторону формирования партий парламентского типа. И уже затем, имея такой закон, гарантирующий, что партии, иные политические организации и политические движения подчиняются жестким правовым стандартам, можно начать постепенное совершенствование избирательного законодательства по опыту развитых демократий, где партии являются главными (наряду с избирателями) субъектами избирательного процесса.
Конечно, референдум — далеко не лучший способ укрепления парламентаризма. Это экстраординарная мера, прибегать к которой следует лишь в крайнем случае. Однако референдум может оказаться единственным способом реализации интересов общества в том случае, если Государственная Дума так и не примет столь необходимый в сложившихся условиях надлежащий закон о политических объединениях.
Глава 3. Общественное мнение и право
§ 1. Понятие общественного мнения
Общественное мнение — это состояние массового сознания, связанное с высказыванием суждений по общественно значимым проблемам. Такая трактовка общественного мнения (с теми или иными вариациями) в настоящее время является общепризнанной в отечественной социологической литературе. Она существенно отличается от господствовавшего в советской социологии понимания общественного мнения как отношения населения к каким-либо явлениям, в формировании которого ведущую роль играет классовая позиция носителей общественного мнения[601]. И дело не только в привычном для историко-материалистической доктрины указании на классовую природу данного феномена. Главные отличия состоят в том, что в рамках современного подхода общественное мнение, во- первых, связывается с высказыванием суждений (что предполагает свободу публичных высказываний) и, во-вторых, речь идет о высказываниях по актуальным проблемам общественной жизни. В прежнем же, советском, варианте общественное мнение рассматривалось всего лишь как отношение населения к той или иной проблеме. Вопрос о том, высказывается ли это отношение публично или это некое молчаливое отношение, которое в лучшем случае может быть зафиксировано социологами в ходе анонимного опроса, зачастую оставался непроясненным. А в некоторых работах (как, например, в “Философском энциклопедическом словаре”) и прямо говорилось, что общественным мнением считается не только явное, но и скрытое отношение людей к событиям и фактам социальной действительности[602]. При этом предмет суждений, высказывания по поводу которого выдавались за общественное мнение, мог быть сколь угодно незначительным.
Подобное понимание общественного мнения очень недалеко ушло от обыденного представления о наличии некоего народного мнения, отражающего сложившееся в обществе отношение людей к событиям и явлениям общественной жизни. Но это “мнение народное”, которое в России испокон веков было загнано в подполье и прорывалось наружу лишь в периоды страшных российских бунтов, отнюдь не есть то общественное мнение, о котором говорит современная социология.
Дело в том, что общественное мнение существует не в любом обществе, так как оно не есть просто сумма тех частных мнений, которыми люди обмениваются в узком, частном кругу семьи или друзей. Общественное мнение — это такое состояние общественного сознания, которое выражается публично и оказывает влияние на функционирование общества и его политической системы. Именно возможность гласного, публичного высказывания населения по острым, злободневным проблемам общественной жизни и влияние этой высказанной вслух позиции населения на развитие общественно-политических отношений отражают суть общественного мнения как особого социального института, т. е. системы отношений, имеющих устойчивый, т. е. гарантированный от случайностей, самовозобновляющийся характер[603].
Функционирование общественного мнения как социального института означает, что оно является постоянным фактором общественной жизни, действует в качестве своего рода “социальной власти”, т. е. “власти, наделенной волей и способной подчинять себе поведение субъектов социального взаимодействия”[604]. Очевидно, что это возможно лишь там, где, во- первых, существует гражданское общество, свободное от диктата политической власти, и, во-вторых, где власть считается с позицией общества.
Научная традиция, связывающая существование в обществе института общественного мнения со свободой в общественной жизни, идет еще от Гегеля, который, в частности, писал в “Философии права”: “Формальная субъективная свобода, состоящая в том, что единичные лица как таковые (т. е. частные лица, рядовые члены общества, а не официальные должностные лица. — В. Л.) имеют и выражают свое собственное мнение, суждение о всеобщих делах и подают совет относительно них, проявляется в той совместности, которая называется общественным мнением"[605]. Подобная свобода возникает лишь в обществе, в котором существует не зависящая от государства сфера частных (индивидуальных и групповых) интересов, т. е. сфера отношений, составляющих гражданское общество.
Общественное мнение в его современном значении и понимании появилось лишь с развитием буржуазного строя и формированием гражданского общества как сферы жизни, независимой от политической власти. В средние века принадлежность человека к тому или иному сословию имела непосредственное политическое значение и жестко определяла его социальную позицию. С зарождением буржуазного общества на смену сословиям пришли открытые классы, состоящие из формально свободных и независимых индивидов. Наличие таких свободных, независимых от государства индивидов, индивидов-собственников (пусть даже это собственность только на свою рабочую силу), — необходимая предпосылка формирования гражданского общества и общественного мнения как особого института гражданского общества.
В условиях тоталитарного режима, где все социальные отношения жестко политизированы, где нет гражданского общества и частного индивида как субъекта независимого, т. е. не совпадающего со стереотипами господствующей идеологии, гласно выражаемого мнения, там нет и не может быть общественного мнения. И если под этим углом зрения проанализировать те опросы населения, которые проводились в нашей стране и до 1917 г., и в советский период ее развития, то можно утверждать, что это не были исследования общественного мнения в современном понимании данного социального феномена.
§ 2. Становление общественного мнения как института гражданского общества
Общественное мнение начало формироваться в нашей стране совсем недавно — лишь с начала перестройки. До этого ни в царской России с характерным для нее расколом общества на два совершенно разных по уровню развития культурных типа (социальные низы, составлявшие подавляющее большинство, и так называемые просвещенные слои общества), ни при советской власти, когда вообще не могло быть публичных высказываний, общественного мнения как такового не было.
Правда, опросные исследования среди населения проводились в России земскими статистиками уже со второй половины 1860-х годов. Но это были не опросы общественного мнения, а статистические исследования условий труда и быта крестьян, уровня культурного развития и просвещенности народа, предпочтений читающей публики и т. п. В начале XX в. интенсивно развивалось изучение с помощью опросного метода труда и быта рабочих, бюджетов семей рабочих и служащих и т. п.[606]. В конце XIX — начале XX в. в России начинает формироваться и так называемая статистика мнений. Однако речь еще не идет об общественном мнении: главным субъектом мнения здесь является эксперт (по терминологии того времени — “сведущий человек”), в роли которого мог выступать специалист-управленец или один из наиболее толковых и компетентных представителей “простого народа”[607]. Мнения же рядовых, типичных представителей различных слоев общества, совокупность которых и составляет общественное мнение, в тот период не были предметом специальных эмпирических исследований.
В первые годы советской власти продолжались и развивались традиции социально-статистических исследований, сложившиеся в стране до 1917 г. Но начиная с 30-х годов исследования, основанные на опросных методах, исчезают из арсенала советского обществоведения вплоть до конца 50-х годов. С возрождением интереса к социологии и официальным признанием за ней права на существование (точкой отсчета здесь можно считать создание в 1958 г. Советской социологической ассоциации) опросные методы исследований становятся в нашей стране все более популярны в качестве метода социологических, а не только социально-статистических исследований. В 1960 г. при газете “Комсомольская правда” начал работать Институт общественного мнения, положивший начало созданию исследовательских групп и лабораторий по всей стране[608]. Однако проводившиеся в тот период опросы зачастую лишь с очень большой натяжкой можно было бы назвать опросами общественного мнения. Речь, скорее, шла об изучении предпочтений населения в таких вопросах, как способы проведения свободного времени, выбор жизненных планов, включенность людей в систему средств массовой информации, предпочтения читательской аудитории, и т. п.
Ближе к тому, что можно было бы считать изучением общественного мнения, были закрытые для публикации опросы (так называемые исследования для служебного пользования), которые проводились по заказам и под эгидой комсомольских и партийных органов. В 60-е годы при ЦК ВЛКСМ и целом ряде республиканских, краевых и областных комитетов комсомола были созданы структуры, занимавшиеся опросами общественного мнения. Позднее этот “комсомольский почин” был подхвачен КПСС. В 1978 г. пленум Московского городского комитета партии принял решение о создании при всех московских райкомах КПСС советов по изучению общественного мнения, а с 1979 г. в аппарате ЦК КПСС начала работать группа анализа общественного мнения[609]. Исследования, проводившиеся комсомольскими и партийными органами, нередко были направлены на выяснение отношения населения к довольно значимым и актуальным проблемам общественной жизни, в том числе и проблемам социально-правового характера.
При этом, разумеется, трудно было рассчитывать на подлинную откровенность опрашиваемых в условиях борьбы против инакомыслия и официальных деклараций о морально-политическом единстве советского общества. И тем не менее в тот период тотальный идеологический прессинг сталинского времени был уже в значительной мере ослаблен. Люди начинали все смелее и увереннее высказывать свои личные суждения по проблемам общественной жизни, и эти первые ростки общественного мнения явились одним из признаков будущего распада тоталитарного общества.
За годы перестройки наше общество очень быстро прошло путь от приказного единомыслия через так называемые гласность и плюрализм мнений к реальному политическому плюрализму и свободе слова. За этот период сложилось и независимое в своих оценках и суждениях общественное мнение. Однако можем ли мы говорить о том, что наше общественное мнение стало уже вполне сформировавшимся и полноценным институтом гражданского общества?
Для ответа на этот вопрос вспомним краткую, но весьма насыщенную историю становления и развития общественного мнения в посттоталитарной России. Ее отсчет надо начинать с 1988 г., когда устами Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева был провозглашен курс на гласность и плюрализм мнений. В марте 1989 г. в стране прошли первые альтернативные выборы Съезда народных депутатов СССР, давшие мощный импульс формированию нового общественного самосознания. В этот период общественное мнение становится не только очень заметным фактором социально-политической жизни страны, но нередко и основным двигателем проводимых преобразований. Для общества, находившегося на начальной стадии перехода от тоталитарного состояния к гражданскому обществу, такая роль общественного мнения, очевидно, является закономерной.
Дело в том, что в условиях развитой демократии, при стабильной социально-политической ситуации роль и значение общественного мнения четко ограничены и сбалансированы сильной и авторитетной представительной властью. Общественное мнение выступает там как один из многих институтов гражданского общества, и его воздействие на государственную деятельность осуществляется в общем контексте влияния гражданского общества, и всех его институтов на государство не напрямую, а во многом опосредованно, через различные формы прямой и представительной демократии. Причем посредниками между обществом и государством, выразителями и защитниками общественного мнения выступают там политические партии и иные общественные объединения политического характера.
В нашей же ситуации, когда единовластие КПСС еще не было подорвано, представительные органы не были сформированы на основе достаточно свободного волеизъявления избирателей, общество относилось к ним с заметной долей недоверия (ведь после выборов 1989 г. настойчиво звучали призывы к перевыборам по партийным спискам) и т. д., общественное мнение нередко пыталось непосредственно осуществлять не свойственные ему функции института прямой демократии. Это происходило потому, что в тот период демократический потенциал общества был выше, чем у представительных структур. Вышедшие на улицу массы оказались непосредственно вовлечены в активную политическую деятельность, и общество стремилось выражать свое мнение напрямую, в митинговой форме, осуществляя таким образом прямое давление на государственные органы.
Заметным этапом на пути становления и развития нашего общественного мнения стало введение в 1993 г. новой избирательной системы, ориентированной на парламентский тип представительной власти. Формирование федерального органа представительной власти на основе пропорционально-мажоритарной системы (когда одна половина депутатов Государственной Думы избирается по партийным спискам, а другую составляют депутаты, выступившие в своем личном качестве и получившие большинство голосов в своем избирательном округе) явилось мощным стимулом для развития политических партий и движений, в значительной мере взявших на себя функцию по выражению общественного мнения и доведению позиций общества до органов государственной власти. С этого периода наблюдается заметное затухание политической активности самого общества и снижение роли общественного мнения как самостоятельного фактора политической жизни.
В настоящее время ситуация с общественным мнением внешне выглядит вполне благополучно. Общественное мнение заняло подобающую его природе нишу в социальной жизни и уже не претендует на роль института прямой демократии. При этом люди смело высказываются по самым острым и злободневным проблемам, проводятся многочисленные опросы общественного мнения, результаты которых публикуются в печати и транслируются по электронным средствам массовой информации. Политические партии все активнее выступают в роли выразителей мнений различных социальных слоев, все более заметное влияние на принятие законодательных решений оказывают партийные парламентские фракции.
В целом уже можно сказать, что современное российское общественное мнение представляет собой институт формирующегося гражданского общества. Неразвитость этого института обусловлена уже тем, что гражданское общество в стране находится в стадии становления, процесс отделения власти и собственности далек от своего завершения, отсутствует средний класс, позиция которого в развитых демократиях составляет основу общественного мнения, и т. д. Все это заметно сказывается на характере и уровне развитости общественного мнения.
Качество нашего общественного мнения (в силу очень небольшого по историческим меркам опыта его функционирования) во многих отношениях оставляет желать лучшего: оно отличается большой подверженностью манипулированию, готовностью впадать в крайности, низкой способностью к поиску компромиссов, маргинальностью оценок и суждений. Кроме того (и это, пожалуй, главное), в результате шоковых реформ 1992 г. и последующих преобразований в экономической сфере общественное мнение оказалось расколотым на приверженцев принципиально различных взглядов на пути, цели и средства реформирования общественных отношений. Это уже не прежнее достаточно монолитное общественное мнение, сплотившееся в борьбе против всевластия КПСС. Раскол существенно ослабил позиции общественного мнения в его взаимоотношениях с органами власти. Общественное мнение перестает быть сколько-нибудь влиятельным фактором социально-политической жизни. И даже в периоды избирательных кампаний по выборам в органы государственной власти российское общественное мнение не осуществляет роль авторитетного критика злоупотреблений со стороны участвующих в выборах политических сил, которую весьма эффективно выполняет общественное мнение в развитых демократических странах.
В последнее время власть все в меньшей мере считается с общественным мнением. Ярким свидетельством безразличия органов власти к общественному мнению является то обстоятельство, что многочисленные политические и финансовые скандалы последних лет, которые в странах с развитым и сильным общественным мнением привели бы к крушению не одной политической карьеры, обычно очень мало отражаются на судьбе лиц, дискредитированных в глазах общественного мнения.
Очевидно, что качественное состояние общественного мнения и перспективы его утверждения и функционирования как полноценного социального института во многом будут зависеть от общего хода преобразований в стране, от успехов на пути к гражданскому обществу и правовому государству.
§ 3. Общественное мнение как объект правового регулирования
Процесс становления и функционирования российского общественного мнения в качестве самостоятельного социального института нуждается в адекватном правовом оформлении. Ведь в современном правовом государстве все основные институты гражданского общества подлежат законодательной регламентации. К настоящему времени в России сложилось уже достаточно развитое правовое регулирование процессов формирования и функционирования общественного мнения. Оно осуществляется посредством соответствующих норм Конституции РФ и федеральных законов, направленных на обеспечение конституционно-правовых гарантий свободы мысли и слова, свободы совести, свободы получения, производства и распространения информации, права проводить собрания, митинги, шествия и пикетирования, права направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления и т. д.
Особое место в этом ряду занимают нормы избирательного законодательства, регламентирующие процедуру обнародования опросов, связанных с выборами и референдумами. Это норма закона о трехдневном моратории на опубликование в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и референдумов, иных исследований, связанных с выборами и референдумом, и норма, закрепляющая требование о том, что при публикации результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами или референдумом, средства массовой информации обязаны указать организацию, проводившую опрос, время его проведения, число опрошенных (выборку), метод сбора информации, точную формулировку вопроса, статистическую оценку возможной погрешности[610].
Принятый в российском законодательстве подход, в соответствии с которым правовое регулирование распространяется лишь на процедуру обнародования опросов, связанных с выборами или референдумами, в целом соответствует сложившейся мировой практике. В ряде стран специальное правовое регулирование этой области отношений ограничивается введением запретов на опубликование результатов опросов общественного мнения за несколько дней до выборов и референдумов. Что же касается процедуры опубликования и распространения результатов опросов, то она по общему правилу регламентирована не правовыми нормами, а достаточно жесткими деловыми обыкновениями, сложившимися в этой сфере социальной и профессиональной деятельности за длительную, более чем полувековую, историю опросов общественного мнения в развитых западных странах. В соответствии с этими фактически сложившимися нормами-обыкновениями процедура обнародования результатов социологических исследований общественного мнения регламентирована таким образом, что всякую публикацию или иную форму придания гласности результатов опроса в обязательном порядке предваряют описание методов его проведения, сообщение об объеме выборки, размере возможной ошибки и т. д.
То обстоятельство, что российский подход к рассматриваемой проблеме в общем и целом укладывается в мировую законодательную практику, отнюдь не свидетельствует об отсутствии проблемы: слишком велика специфика и самой страны, и переживаемого ею периода тотальной социальной трансформации и складывающегося в этих условиях общественного мнения, его роли и места в общественной и политической жизни. Очевидно, что для массового сознания, утратившего свои опорные ценностные установки и находящегося в процессе мучительного поиска нового центра нравственной и духовной гравитации, информация о состоянии общественного мнения по актуальным социальным проблемам имеет особое значение. Ведь информация этого рода является для массового сознания критерием самооценки и самокорректировки своих позиций, одним из важных ориентиров при поиске ценностной самоидентификации, а следовательно, и при выработке волевых установок на практические действия.
Признавая в целом существенный характер влияния информации об общественном мнении на массовое сознание, специалисты тем не менее расходятся в оценке эффективности этого влияния в случаях, когда речь идет о вопросах, отражающих политические противоречия общества. Исследования этой проблемы, осуществляющиеся главным образом применительно к предвыборным опросам, дают разноречивые результаты. В частности, ряд ученых полагают, что обнародование рейтингов политических лидеров и объединений не оказывает на общественное мнение однозначно выраженного влияния, способного сколько-нибудь существенно деформировать первоначальные электоральные ориентации населения. Так, американские специалисты в рамках изучения этой проблемы выделяют три типа воздействия социологических данных на массовое сознание: 1) эффект, побуждающий избирателей отдать свои голоса за победителя опроса; 2) эффект, выражающийся в стремлении помочь проигрывающему, и 3) эффект воздержания — потеря интереса к голосованию, результаты которого уже известны, и отказ от голосования. Исследования, проводившиеся в США, в том числе и с использованием экспериментальной (знающей результаты опроса общественного мнения) и контрольной (не осведомленной о результатах исследования) групп избирателей, привели социологов к выводу об отсутствии прямого однозначного влияния опросов на итоги голосования. По мнению ряда американских ученых, разносторонние влияния результатов опроса взаимно уравновешиваются и не искажают первоначальных ориентаций электората[611].
Однако на этот счет есть и другая точка зрения. Например, известный немецкий специалист по опросам общественного мнения Э. Ноэль-Нойманн, изучая феномен, названный ею “спиралью умолчания” (он заключается в том, что определенная часть избирателей голосует не за ту партию, за которую они, согласно опросам, первоначально намеревались отдать свои голоса, а за ту, которая, по их мнению, победит на выборах), пришла к выводу, что в основе такого стремления людей делать ставку на победителя зачастую лежит присущая им, по-видимому генетически, боязнь оказаться в меньшинстве, страх перед социальной изоляцией[612]. Отсюда следует, что обнародование информации об общественном мнении оказывает существенное влияние не только на состояние массового сознания, но и на формирование политической воли общества.
В России подобных исследований не проводилось. Конечно, крупные имиджмейкерские фирмы, работая на клиентов, отслеживают действие и такого фактора, как обнародование соответствующих рейтингов (причем, что естественно допустить, не только отслеживают, но и используют обнародование рейтинга в качестве инструмента манипулирования массовым сознанием). Но эта информация носит еще более закрытый характер, чем так называемые ДСП (исследования “для служебного пользования”) времен застоя. Предметом же открытого научного исследования эта проблематика пока не стала. Некоторое представление о проблеме дают опросы населения о степени его доверия тем данным об общественном мнении, которые обнародуются через средства массовой информации. Однако между вербальными (словесными) оценками людей и их реальным поведением есть, как известно, ощутимая разница, уловить которую можно лишь с помощью сложной методологии экспериментального анализа, позволяющей вычленять влияние на реальное поведение такого фактора, как знание информации о состоянии общественного мнения по соответствующему вопросу. Отечественной социологии права еще предстоит работа в этом направлении.
Если верна точка зрения тех ученых, которые считают, что обнародование данных о состоянии общественного мнения оказывает влияние на массовое сознание, а через него и на формирование политической воли общества (а такая позиция представляется достаточно убедительной), то применительно к России это серьезная предпосылка для введения специального правового регулирования в данной сфере, распространяющегося на все опросы общественного мнения по актуальным проблемам общественной жизни, а не только на опросы, связанные с выборами и референдумами.
Во-первых, в нашей стране эффект ориентации массового сознания на позицию большинства скорее всего усиливается наличием традиционных коллективистских установок и характерным для посттоталитаризма недостаточным уважением и доверием индивида к своей личной позиции. Искажающий эффект недостоверной информации об общественном мнении здесь будет большим. Надо учитывать и то, что наше общественное мнение в силу своей неразвитости в качестве полноценного социального института очень легко поддается манипулированию со стороны средств массовой информации, доверие к которым, привитое в советское время, еще достаточно сильно в сознании обывателя. Поэтому в нашей ситуации особенно опасно, когда населению предлагается неверная картина состояния общественного мнения, способная исказить представления людей о существующей в обществе системе ценностей, ориентаций, интересов и деформировать интеллектуальные и (что в первую очередь важно для законодателя) волевые компоненты общественного сознания.
Кроме того, известная политизированность отечественной социологии общественного мнения (в этой связи появился даже термин “война опросов”) и большая степень коммерциализации деятельности опросных центров в последнее время существенно усугубляются зависимостью основных средств массовой информации от финансовой олигархии и связанных с нею политических кланов. Очевидно, что смычка политически ангажированных центров изучения общественного мнения с марионеточными средствами массовой информации весьма опасна для общества, тем более что деловые обыкновения западного образца в сфере отношений, связанных с обнародованием данных об общественном мнении, у нас еще не сложились. Но главное — это то, что российское массовое сознание сейчас находится в стадии выработки фундаментальных ценностно-нормативных установок и недобросовестное вмешательство в этот сложный и противоречивый процесс, особенно навязывание обществу тех или иных корпоративных интересов, чревато существенными деформациями общественного и политического развития страны.
Поэтому на данном этапе было бы целесообразным принятие специального федерального закона “О порядке обнародования результатов опросов общественного мнения через средства массовой информации”, действие которого распространялось бы на все опросы, имеющие социально-политическое значение. Это стало бы важной гарантией того, что результаты опросов не будут использованы в качестве средства дезинформации общества и инструмента манипулирования массовым сознанием.
§ 4. Законодатель и общественное мнение
В любом демократическом обществе законодательная деятельность осуществляется с учетом общественного мнения. Но какое именно значение должна иметь для законодателя информация о состоянии общественного мнения, какова ее роль в механизме принятия законодательных решений? В позиции науки по этому вопросу обозначились две крайности.
Первая состоит в представлении о том, что в периоды социальной нестабильности, когда общественное мнение возбуждено и крайне неустойчиво, изучать его надо “лишь для того, чтобы учитывать как ограничивающий фактор, который надо знать, чтобы убеждать, воспитывать, избегать взрывов” В такие моменты гораздо важнее, считают сторонники данной позиции, “наличие компетентных людей, способных принимать квалифицированные решения”[613]. Подобный взгляд на проблему является в настоящее время довольно распространенным в среде специалистов (экспертов, советников, аналитиков), занятых интеллектуальным обслуживанием властных структур.
Но ведь мы уже имели опыт пребывания у власти “компетентных людей”, занимавшихся “убеждением и воспитанием граждан”, вместо того чтобы считаться с их мнениями и позициями. Сохраняя сам принцип такого подхода, мы не гарантированы от возврата прежних методов “убеждения и воспитания” Предлагаемая модель отношения органов власти к общественному мнению, по сути дела, мало чем отличается от прежней. Разница лишь в том, что если раньше общественное мнение вообще не бралось в расчет ввиду его фактического отсутствия, то сейчас нам предлагают рассматривать его в качестве ограничения, которое непросвещенное общество накладывает на деятельность властей по улучшению этого общества сверху. Вместо того чтобы познать и адекватно выразить в законе интересы и ожидания общества, их вновь хотят навязать ему извне. Но где гарантия, что и на этот раз не будет совершена ошибка? Да и будут ли реализованы такого рода решения без прежних репрессивных механизмов?
Другая точка зрения на роль и значение общественного мнения для законотворчества сводится к тому, что “надо законодательствовать в соответствии с общественным мнением” Показательно, что даже такой авторитетный специалист в области социологии права, как Ж. Карбонье, недвусмысленно заявляет: “Опрос общественного мнения, проведенный в национальном масштабе, равнозначен выявлению той общей воли, которая призвана создавать закон”[614].
Подобный подход, основанный на убеждении, что создающая закон общая воля напрямую выражена в общественном мнении, представляется упрощенным. И дело не только в том, что, для того чтобы увидеть общую волю за суждениями и оценками общественного мнения, нужно суметь различить истинное и ложное в общественном мнении. Ведь даже если отбросить проблему ложного в общественном мнении (к которой мы вернемся позже), то остается вопрос: на чью именно волю должен ориентироваться законодатель? Известно, что общественное мнение имеет сложную структуру. И хотя, как заметил известный польский социолог и политолог Ежи Вятр, “языковая привычка навязывает в данном случае единственное число”, в обществе публично высказываются различные точки зрения, и “путем их столкновения формируется доминирующее течение общественного мнения, часто называемое попросту общественным мнением”[615]. Именно в этом обыденном смысле употребляются выражения типа “общественное мнение поддерживает” или “общественное мнение возражает”. На самом же деле в общественном мнении помимо мнения большинства присутствует целый спектр иных, зачастую весьма значимых позиций. Поэтому вопрос следует поставить таким образом: выражает ли большинство в общественном мнении всеобщую волю, которая может стать основой нормы закона?
Анализ этой проблемы, лишь недавно ставшей для нас актуальной, имеет давнюю традицию в политической философии. Так, еще Руссо в трактате “Об общественном договоре” проводил различие между общей волей и волей всех. “Общая воля, — писал он, — стремится всегда к пользе общества, но из этого не следует, что решения народа имеют всегда такое же верное направление... Часто существует немалое различие между волею всех и общею волею. Эта вторая блюдет только общие интересы; первая — интересы частные и представляет собой лишь сумму изъявлений воли частных лиц”[616].
В переводе на современный язык “воля всех” — это сумма (точнее — набор) воль отдельных индивидов, которая в определенном смысле аналогична тому, что мы сейчас называем общественным мнением. Всеобщая же воля — это та единственная точка пересечения различных воль, находящихся в состоянии противоборства, та равнодействующая векторов направления этих воль, в которой фиксируется момент общественного согласия. Это не простая сумма воль большинства в общественном мнении, а приемлемый для всего общества баланс соотношения воль, который должен быть основой законодательства. В общественном же мнении представлена не эта, говоря словами Руссо, общая воля народа, а суммарное выражение комплекса различных изменчивых суждений определенной совокупности индивидов.
В советской социологической литературе была распространена точка зрения, согласно которой “общественное мнение не является суммой индивидуальных мнений”[617]. При таком подходе предполагалось, что из сложения выявляемых в ходе опроса индивидуальных мнений (а именно таковой и является процедура определения общественного мнения) вырастает (непонятно, почему и как) нечто качественно иное, характеризующееся большей, чем просто сумма мнений, степенью всеобщности. Именно на этом допущении и основано представление о том, что общественное мнение непосредственно выражает ту общую волю, которая является основой всеобщего законодательства.
Ошибочность такого подхода особенно очевидна применительно к состоянию массового сознания переходного общества, когда за противоречивыми, нередко прямо противоположными суждениями общественного мнения очень трудно, а иногда и невозможно разглядеть тот момент общественного согласия, в котором может быть выявлена общая воля.
Для понимания истоков различия между общественным мнением и общей волей важно иметь в виду следующее. Законодательный орган как институт государственной жизни базируется на воле и мандате сформировавшего его народа (в лице избирательного корпуса, электората), а не на изменчивом и текучем общественном мнении. Ведь свои полномочия законодатель получает не от членов гражданского общества как частных лиц, а от граждан как политических субъектов (от избирателей, т. е. граждан, наделенных избирательным правом). И хотя общественное мнение формируется теми же людьми, они выступают здесь уже в другом качестве — не как граждане- избиратели, а как частные лица.
В свое время К. Маркс, анализируя эту проблему вслед за Гегелем, отмечал, что “раскол между политическим государством и гражданским обществом” означает вместе с тем “раздвоение человека на публичного и частного человека” — на гражданина государства и члена гражданского общества. В условиях перехода от феодализма к капитализму, когда идет процесс отделения государства от гражданского общества, человек, по оценке Маркса, ведет двойную жизнь: в государстве (политической общности) он выступает как всеобщее, родовое существо, как “равноправный участник народного суверенитета”, а в гражданском обществе “он действует как частное лицо”[618].
На выборах члена законодательного органа позиция гражданина-избирателя ориентирована на всеобщие (общегосударственные) интересы и продиктована необходимостью решения общих задач государства. Институт народного представительства и процедура выборов подразумевают, что выбрать нужно тех, кто способен лучше других выразить общие интересы. Все это предопределяет более взвешенную, осторожную и, можно сказать, более скромную позицию человека как гражданина в качестве “участника народного суверенитета” по сравнению с его же позицией в качестве носителя и выразителя частного мнения.
Разницу в позициях человека как избирателя и как носителя частного мнения можно наглядно проследить из сравнения результатов различных социологических исследований. Так, если населению задается вопрос, кому они могли бы доверить защиту в законодательном корпусе своих интересов, то оказывается, что люди более всего склонны доверять представителям своей социальной группы (например, женщины считают, что их интересы лучше всего может выразить женщина, пожилые люди отдают предпочтение своим ровесникам и т. д.)[619]. Из этих опросов общественного мнения вырисовывается такой усредненный портрет депутата, который существенно отличается от характеристик реальных депутатов, в конечном счете избранных гражданами.
Еще более выразительно в этом отношении сравнение результатов российских референдумов и выборов в федеральные органы власти с результатами предшествовавших им опросов общественного мнения. Если бы события в стране развивались в соответствии с прогнозами, полученными напрямую из опросов общественного мнения, то ситуация давно бы вышла из-под контроля и приобрела катастрофический характер. Тем не менее этого не происходит. Напротив, в отличие от резких словесных заявлений, фиксируемых опросами общественного мнения, в своем реальном поведении население явно демонстрирует консервативно-охранительную позицию, в значительной мере сдерживающую радикализм политической элиты. И то обстоятельство, что более 40% респондентов отмечают, что политическую систему надо менять радикальным образом[620], отнюдь не означает, что поведение избирателей и участников референдумов столь же радикально.
Вспомним первый союзный референдум 17 марта 1991 г., когда большинство (76%) высказалось за сохранение Союза ССР. Затем апрельский референдум 1993 г., в разгар противостояния между Президентом и Верховным Советом, когда Президенту не удалось получить юридически значимый перевес и разогнать Верховный Совет, как, впрочем, это не удалось и его оппонентам. Далее — выборы в Государственную Думу 1993 г., которые заметно сбили шедшую сверху волну правого радикализма и заставили политиков (благодаря феномену Жириновского) взять на вооружение государственно-патриотическую идею. Еще более выразительны в этом отношении выборы в Государственную Думу 1995 г., когда, несмотря на весь сумбур избирательной кампании, в которой участвовало 43 избирательных объединения, население (в отличие от своих политических лидеров) продемонстрировало на удивление рациональный, взвешенный и осторожный подход и не пропустило в Думу радикалов ни правого, ни левого толка. И наконец, на президентских выборах 1996 г. консервативно-охранительные ориентации населения выразились в том, что оно проголосовало за действующего Президента, не желая прихода нового, неизвестного и в этом смысле всегда опасного лидера.
Таким образом, очевидно, что, оказываясь в ситуации, когда они должны принять решение исходя не из эгоистичных частных интересов, а из своих представлений об общем благе, граждане своей взвешенной и ответственной позицией достаточно четко демонстрируют разницу между общей волей и волей всех. Недооценка данного обстоятельства занимает не последнее место в ряду причин, обусловивших серию неудач отечественных социологов при прогнозировании электорального поведения.
Эта двойственность позиции человека как гражданина государства и как члена гражданского общества зачастую не учитывается и юристами. Характерно, например, высказывание немецкого юриста К. Адомайта о том, что содержащиеся в общественном мнении “представления и ощущения могут быть настолько полярными, что ни о каком выражении истины не может быть и речи. И в то же время именно общественное мнение или мнение большинства, выраженное через выборы и референдумы, детерминирует в условиях демократии законодательство”[621]. Прежде всего здесь трудно согласиться с такой прямой увязкой истинности и ложности суждений общественного мнения со степенью его поляризации. Ведь далекими от истины вполне могут быть суждения и монолитного по своей структуре общественного мнения. Что же касается позиции населения, которая выражена через выборы и референдумы, то это уже не общественное мнение, а общая воля, получившая государственно-правовое оформление.
И еще один аспект данного высказывания заслуживает специального критического внимания. Дело в том, что если в референдуме действительно именно большинство непосредственно принимает законодательное решение, то с выборами в представительные органы дело обстоит иначе. Технология этих выборов строится таким образом, чтобы обеспечить представительство в них интересов не только большинства, но и других слоев населения. В большей мере это обычно достигается на основе пропорциональной избирательной системы, но и мажоритарная система, как правило, не лишает меньшинство возможности иметь своих представителей в законодательном органе. Именно в силу этого законодатель и может выражать общую волю, а не только волю какой-то части общества, пусть даже и большинства. И именно поэтому трудный поиск решения проблемы на базе согласования различных социальных интересов в рамках представительного органа зачастую предпочтительнее вынесения вопроса на референдум. Не случайно, что в законодательстве ряда стран существуют ограничения на проведение референдумов в ситуациях, когда заранее ясно, что корпоративные интересы будут доминировать над общими (например, групповой интерес того или иного этноса в вопросе о границах национально-территориального образования, интересы различных слоев населения в вопросе о налогах и т. д.).
Рассмотренный выше подход, согласно которому “надо законодательствовать в соответствии с общественным мнением”, по сути дела, обесценивает роль и значение представительных органов. Ведь если бы общую волю можно было определять, опираясь только на знание общественного мнения, то общество не нуждалось бы в представительных органах власти. Между тем история становления представительной демократии как раз демонстрирует жизненную необходимость представительных органов в условиях развитого, эффективно функционирующего института общественного мнения.
Итак, законодатель должен знать и учитывать общественное мнение, но отнюдь не должен непосредственно руководствоваться его суждениями как последними императивами. Какую же роль в выявлении законодателем общей воли должна играть информация о состоянии общественного мнения? Очевидно, лишь роль исходного материала, из которого законодатель делает нечто качественно иное. Представленный в общественном мнении неупорядоченный, хаотичный конгломерат мнений законодатель должен свести к такому общему знаменателю, который может быть сформулирован в виде всеобщей нормы закона. Если к данной ситуации применить известное высказывание Гегеля о том, что в общественном мнении “содержится все истинное и все ложное, но обнаружить в нем истинное — дело великого человека”[622], то можно сказать, что демократически избранный законодатель должен как бы заменить собой этого великого человека и коллективными усилиями найти в общественном мнении ту истину, в которой выражена общая воля.
Разумеется, законодатель должен учитывать при этом всю разноголосицу общественного мнения, но в конечном итоге ему нужна одна позиция, которая не может быть результатом каких-то арифметических действий с информацией о структуре общественного мнения. Здесь требуется иной, качественный подход к осмыслению этой информации, в ходе которого должны быть задействованы знания самих депутатов, их жизненный опыт, интуиция, а также знания консультантов, экспертов и т. д. Ведь в конечном итоге законодателю нужно не мнение (даже если это и общественное мнение), а знание, точнее — достоверное знание о тех социальных потребностях и интересах, которые скрываются за теми или иными мнениями.
Как бы ни было возбуждено и неустойчиво общественное мнение, за ним всегда стоят объективные потребности общественной жизни. Зачастую эти потребности могут быть неосознаваемы самими носителями общественного мнения, представлены в суждениях общественного мнения в завуалированном и просто искаженном виде. Однако если за изменчивыми и внешне противоречивыми высказываниями и оценками общественного мнения исследователям удастся увидеть пульсацию жизненных интересов, их коллизии, совпадения и пересечения, выявить опорные ценностно-нормативные ориентации населения, то они получат информацию, которая необходима для создания законов, отвечающих действительным потребностям общественного развития. В этом смысле общественное мнение должно быть для органов власти прежде всего не “ограничивающим фактором”, который они стремятся нейтрализовать путем убеждения и воспитания населения (хотя, разумеется, есть и такая проблема, как просвещение общественного мнения), а индикатором социальных потребностей и интересов, которые необходимо знать и учитывать.
Какое же именно знание должна нести законодателю информация о состоянии общественного мнения, получаемая им от социологов? Очевидно, что характер такой информации должен определяться содержанием работы на различных стадиях процесса создания закона. Так, на начальных этапах, связанных с выявлением потребности в правовом регулировании, законодатель должен получить сведения о наличии социальной проблемы, требующей правового решения. На стадии работы над концепцией правовой новеллы исследования общественного мнения должны дать информацию о соотношении различных социальных интересов и о возможности их согласования на правовой основе. В конечном итоге законодателю нужен здесь выражающий общую волю всеобщий (правообразующий) интерес, который представляет собой результат согласования разнонаправленных социальных интересов. После того как проект закона готов, нередко бывает важно знать общественное мнение по поводу наиболее принципиальных его положений. И наконец, после введения закона в действие законодатель должен регулярно получать сведения о соответствии закона общественным ожиданиям, о степени его легитимации, о причинах его неэффективности и т. д.
Разумеется, в полном объеме такую схему социологического обеспечения законотворческой деятельности целесообразно использовать лишь при разработке законов, характеризующихся особой социальной значимостью. В остальных случаях информация об общественном мнении может и не носить столь комплексного характера. Однако полностью отказаться от помощи науки в вопросе изучения общественного мнения в связи с подготовкой законодательных актов было бы большой ошибкой.
Глава 4. Концепции постсоциалистического развития общества, права и государства
§ 1. Проблемы постсоциалистического пути к праву и государству
Мы все сегодня, на Востоке и на Западе, — современники больших изменений во всемирной истории. Прежний миропорядок и, можно сказать, само направление всемирно-исторического развития определялись в XX в. антагонизмом между капитализмом и социализмом, борьбой между коммунистической и буржуазной идеологиями. С радикальным изменением одного из этих полюсов неизбежны существенные трансформации и на другом полюсе, а вместе с тем и во всем мире.
Глобальное значение в этой связи приобретает проблема постсоциализма. Эта проблематика весьма существенна в плане современной оценки смысла диалектики всемирно-исторического прогресса свободы и права. Характер постсоциализма во многом определит направление развития последующей истории. Речь идет о путях развития всей человеческой цивилизации. Ведь воздействие коммунистической идеи в той или иной форме человечество испытывает несколько тысячелетий. Уже два с половиной тысячелетия назад Платон предлагал свои проекты преодоления частной собственности и достижения “фактического равенства” А это — основная идея всего коммунистического движения, в русле которого в XIX в. сформировалось марксистское учение, а в XX в. практически возник и утвердился социалистический строй в России и в ряде других стран (в меру уничтожения там частной собственности и социализации средств производства и вместе с тем — отрицания права и формально-правового равенства).
Теперь, к концу века, по Европе уже бродит призрак постсоциализма. Но концептуальные характеристики постсоциалистического строя и в целом проблематика постсоциализма остаются дискуссионными.
Конечно, в самом общем виде ясно, что та или иная концепция постсоциализма зависит от того, как понимается и трактуется сам социализм, практически сложившийся в России и в ряде других стран. Вместе с тем можно сказать, что только постсоциализм выявит подлинную природу и суть предшествующего социализма, его действительное место и значение в историческом процессе. Смысл нашего социалистического прошлого объективно-исторически определится тем или иным вариантом возможного для нас постсоциалистического будущего.
Ведь будущее — это всегда какой-то итог и резюме всего предшествующего развития. О смысле прошлого и настоящего объективно можно судить лишь по зрелым результатам будущего. Поясняя сходную мысль, Аристотель говорил, что порода лошади проступает и проясняется по мере ее взросления. О том же самом в Евангелии сказано: по плодам их узнаете их.
Причем характер постсоциалистического строя, та или иная концепция постсоциализма имеют существенное значение для понимания, трактовки и оценки как социализма, так и исторического процесса в целом. Здесь мы имеем дело с диалектикой всемирной истории. И логику движения от социализма к постсоциализму можно адекватно уяснить лишь в контексте всемирно-исторического прогресса свободы и права.
Сегодня мы живем в редкое время — время обновления как самой истории, так и ее понимания. Современный кризис социализма обозначил начало нового большого поворота в ходе всемирной истории. В такие эпохи появляется объективная возможность мысленно заглянуть за предстоящий исторический поворот и благодаря такому новому видению будущего по- новому оценить прошлое и настоящее.
Сова Минервы, говорил Гегель, начинает свой полет в сумерки — во времена, когда на смену старому строю идет новый. В конкретно-историческом плане для Гегеля речь шла о преодолении “старого режима” и победе нового строя, основанного на частной собственности и признании формальноправового равенства всех, т. е. о переходе от феодализма к капитализму. Для него всемирная история как прогресс свободы, по существу, кончается этим (капиталистическим) строем, поскольку, согласно его концепции, уже невозможно ничего принципиально нового в развитии и формообразованиях свободы (сверх свободной частной собственности, всеобщего формально-правового равенства и соответствующих им гражданского общества и правовой организации государства).
В условиях современного краха социализма идея конца истории (в русле гегелевской ее трактовки) получила как бы практическое подтверждение и вместе с тем новое дыхание[623].
Концепция буржуазного, капиталистического конца истории и исторического прогресса была в эпоху Гегеля естественным и необходимым следствием последовательного признания и защиты принципа формального равенства индивидов, без которого невозможны вообще право, индивидуальная свобода, собственность и т. д. Если свобода возможна лишь в правовой форме, а право предполагает формальное равенство индивидов (и соответственно — различия во владении собственностью, т. е. частную собственность), то отсюда Гегель для своего времени заключал, что предел свободы, ее высшая и последняя ступень в историческом развитии (и в. этом смысле — “конец истории”) — это всеобщее формально-правовое равенство, признание которого как раз и характерно для капитализма. Поэтому здесь, по существу, и остановилась гегелевская диалектика исторического прогресса свободы и права.
Примечательно, что и, согласно марксизму, присущие капитализму формы свободы (формальное равенство и свобода индивидов, частная собственность, гражданское общество и правовое государство) — последняя ступень в историческом прогрессе права (а именно буржуазного права как наиболее развитого и исторически последнего типа права, согласно марксизму): после капитализма (т. е. при коммунизме) право и государство “отмирают”, частная (или индивидуализированная) собственность на средства производства, “буржуазный индивидуализм” и т. д. отрицаются.
Принципиальная разница здесь в том, что для Гегеля капитализм — вершина исторического прогресса, а для марксизма и коммунистической идеологии — лишь последняя ступень в “предистории” человечества, настоящая история которого, по марксистской версии, начнется с уничтожения капитализма и кончится “полным коммунизмом” Если Гегель отвергал коммунистическое по своей сути требование “фактического равенства” (равенство во владении собственностью и т. д.) из-за несовместимости такого “фактического равенства” с формальным равенством (т. е. с принципом права и свободы), то коммунистическая доктрина и практика, напротив, отвергают принцип формального равенства (а следовательно — право, свободу, собственность индивидов и т. д.) ввиду его несоответствия требованию “фактического равенства”
И Гегель, и Маркс — при всем радикальном различии их позиций — одинаково отрицали дальнейший прогресс права, саму возможность послебуржуазного типа права, т. е. возможность развития правовой формы свободы, появления более содержательной формы права, новой формы права, выражающей большую меру свободы индивидов, более высокую ее ступень. Поскольку для Гегеля прогресс свободы в социальной истории в принципе возможен лишь в правовой форме, лишь как прогресс права (и государства как правового института), он и связывал конец истории с уже достигнутым (буржуазным) типом права. По Марксу, напротив, прогресс свободы продолжится в неправовой (и в безгосударственной) форме и настоящая свобода начнется после капитализма, с преодолением буржуазного права и государства. И вполне последовательно Маркс (и вслед за ним Энгельс и Ленин) ни о каком послебуржуазном праве (о “пролетарском праве” или о “социалистическом праве”) не говорил, допуская лишь на первой фазе коммунизма (т. е. при социализме) так называемое “буржуазное право” (буржуазное “равное право”) для осуществления равной потребительской оплаты за равный труд[624].
В каком же соотношении находятся эти версии “конца истории” и в целом проблема исторического прогресса свободы и права с учетом последующей истории и практического опыта реального социализма?
Фундаментальный факт всемирно-исторического смысла и значения состоит в том, что с учетом самых существенных критериев (социальных, экономических, правовых, политических, моральных и т. д.) известный нам по практическому опыту XX в. социализм (социализм “советского образца”, социализм в духе марксистско-ленинского учения) — это логически и практически единственно возможный пролетарский, небуржуазный (противоположный капитализму и всем Частнособственническим обществам и радикально их отрицающий), а потому самый настоящий, подлинный, реальный социализм.
Социализм — переходный строй. Предполагалось, что уничтожение “экономического неравенства” капитализма и создание социалистической собственности будут означать движение к коммунизму. Но в реальной истории это не подтвердилось. Хотя максимум того, что вообще можно реально сделать в направлении социализации собственности и жизни, уже давно сделано.
Между тем в историческом движении от прежнего равенства к будущему большему равенству социализм действительно занимает промежуточное положение отрицания прошлого без утверждения будущего. Вслед за таким отрицательным моментом необходимо и завершение — позитивный момент, достижение и утверждение нового равенства, т. е. абсолютно необходимой исходной базы для нового права.
Негативный характер принципа социализма обусловлен в конечном счете тем, что социалистическая собственность (т. е. базис всего социализма) — это лишь последовательное и всеохватывающее отрицание частной собственности на средства производства. Этот негативный принцип исключает возможность правового равенства и права в целом, правовой защиты людей, правовых гарантий и т. д.
В целом социализм как отрицание прошлого и радикальный антикапитализм представляет собой негативную стадию в развитии мировой истории. И для его краткой характеристики очень подходят слова из предметного указателя к одному из советских уголовных кодексов: “Свобода — см. Лишение свободы”
Главная проблема постсоциализма связана с тем или иным ответом на вопрос о том, куда и как можно идти дальше от социалистического принципа отсутствия “экономического неравенства” — назад, к восстановлению “экономического неравенства” (т. е. частной собственности, буржуазного права и т. д.), или вперед, к новому, большему равенству в экономике, праве и т. д.
Сложность нашего пути к настоящей собственности (а вместе с тем — к праву, свободе и т. д.) состоит в том, что от обезличенной социалистической собственности “всех вместе” необходимо перейти к индивидуализированной собственности, но вместе с тем это не может быть возвратом к частной собственности.
В силу буржуазности и частнособственнической основы всякого до сих пор известного права получается, казалось бы, совершенно тупиковая и неразрешимая ситуация: с одной стороны, жизненно необходимо от неправового, тоталитарного социализма перейти к правовому строю, но, с другой стороны, всякое движение в направлении к праву может вести лишь к буржуазному праву и, следовательно, к частнособственническим отношениям — словом, к капитализму. На этом тупиковом пути к праву (и всему остальному, что связано с правом и невозможно в условиях бесправия) оказались пока что и мероприятия по преобразованию социализма в капитализм. Здесь, кстати говоря, коренятся глубинные причины неудач многолетних попыток осуществить их.
Избранный курс преобразований (на путях “разгосударствления” и приватизации бывшей социалистической собственности) привел пока что не к капитализму, а к весьма неразвитым, докапиталистическим (добуржуазным) социальным, экономическим, политическим и правовым формам и отношениям.
Глубинные причины, в силу которых мы в результате проводимых прокапиталистических реформ неизбежно оказываемся в докапиталистической (можно сказать, неофеодальной) ситуации, кроются в природе складывающихся у нас общественных и политических отношений, в типе собственности и права. Эта типология предопределена постсоциалистическим огосударствлением собственности, т. а созданием такой собственности, которая еще не свободна от государственной власти, и такой государственной власти, которая еще не свободна от собственности. В социально-историческом измерении подобная ситуация характерна для феодальной стадии, когда экономические и политические явления и отношения в силу их неразвитости еще не отделились друг от друга и не образовали две различные сферы относительно независимого, самостоятельного бытия. Такой симбиоз власти и собственности, политики и экономики означает, что общественно-политическое целое еще не дозрело до дифференциации на частно-правовую и публично-правовую области, на гражданское общество и правовое государство.
В конце XX в., конечно, не может быть простого повторения исторически известного классического феодализма в чистом виде и полном объеме. Но и феодализм бывает разный. Своеобразие складывающихся в наших постсоциалистических условиях тенденций к феодализации определяется уникальностью нашей государственной собственности и особенностями формируемой на этой основе системы политико-экономических и правовых отношений.
Феодальная природа исходного начала “власть-собственник” по-феодальному деформирует и власть, и собственность, и отношения между ними. Отметим некоторые основные моменты этой тенденции к феодализации. Прежде всего сама формирующаяся постсоветская российская государственность в силу огосударствления собственности оказывается — в духе феодализма (отсутствие внутригосударственного суверенитета, общего правопорядка и единой законности, партикуляризм и разнобой в действующем праве, тенденции к сепаратизму и автаркии) — совокупностью множества фактически достаточно независимых друг от друга государственных образований, наглядно демонстрирующих отсутствие подлинного внутреннего государственного суверенитета. Причем это не обычная, характерная для развитого государства децентрализация единых государственных полномочий и функций, не их частичная передача от государственного центра местам. Напротив, в нашей центробежной ситуации места сами претендуют на роль независимых центров. С этим и связана тенденция к формированию множества самостоятельных центров власти-собственности, по своей сути запрограммированных и ориентированных на утверждение в меру возможности своего суверенитета, на отрицание или ограничение суверенитета объединяющего их государственного целого.
Такой процесс десуверенизации целого и суверенизации его составных частей, названный “парадом суверенитетов”, усугублен и усилен в России национальным фактором. Но многое здесь обусловлено, мотивировано и актуализировано именно постсоциалистическим огосударствлением собственности, в результате чего появилось, как минимум, 90 центров власти- собственности (Федерация в целом и 89 ее субъектов), не считая прочие региональные и местные претензии на власть и собственность. В этой ситуации объективно — независимо от субъективной воли ее участников — мера и пространство власти определяют ареал и состав ее собственности. В свою очередь, такая собственность в сложившейся обстановке — необходимое условие и материальная основа для утверждения региональных элит в качестве государственной власти на определенной территории.
Подобная отягощенность формирующейся государственности (на всех уровнях — общефедеральном, региональном, местном) собственностью развязывает мощную и долгосрочную центробежную тенденцию к самостийности и феодальному дроблению страны. Утверждению единого государственного суверенитета в России препятствует именно государственная собственность в руках Федерации в целом и ее субъектов. Государство-собственник мешает государству-власти утвердиться в качестве суверенной организации, поскольку суверенитет по своей природе — это организация власти, а не собственности. И в этом можно увидеть своеобразную расплату за неправомерное огосударствление общественного достояния (бывшей социалистической собственности) и ее приватизацию в пользу узкого слоя общества за счет всех остальных граждан, имеющих равное право на одинаковую долю от социалистического наследства, т. е. равное право на гражданскую собственность.
Вместо того чтобы наконец-то стать общим делом народа, посттоталитарное государство из-за деформирующей его собственности оказывается во многом частным делом федеральной и региональной бюрократии, новых политико-экономических элит в центре и на местах.
Очевидно, что там, где нет прочно утвердившейся единой системы суверенной государственной власти, там по определению не может быть реального верховенства обязательного для всех закона и вообще единой законности и общего правопорядка, единого экономического, политического и правового пространства. Поэтому для реально складывающейся ситуации характерны такие типично феодальные явления, как отсутствие в стране единого правового пространства, общего правопорядка и единой законности, девальвация роли закона, бездействие общих правовых принципов и норм, конкуренция источников права, разнобой и противоречия между различными нормативными актами, раздробленность, мозаичность и хаотичность правовой регуляции, корпоративный, “сословноцеховой” характер различных правомочий и правовых статусов. Вместо декларированных в новой Конституции всеобщих прав человека и гражданина и в противовес принципу всеобщего правового равенства в реальной жизни доминирует дух корпоративизма, действует множество нормативно установленных общефедеральными и региональными властями особых прав-привилегий, специальных правовых режимов, разного рода правовых исключений и льгот — в пользу отдельных лиц, групп, профессий, социальных слоев, территорий и т. д.
Особенно откровенно и результативно право как привилегия утвердилось в процессе приватизации и вообще в сфере собственности. Здесь каждый субъект и объект собственности, любой промысел появляется, живет и действует не по единому общему правилу, а в виде исключения из него, в каком-то казусном (т. е. определенном для данного конкретного случая) статусе и режиме. Такой крен в сторону феодализации отношений собственности был задан курсом самой приватизации части объектов огосударствленной собственности, в результате которой собственниками такого ограниченного круга объектов реально могли стать лишь некоторые, но никак не все желающие. При этом именно государство (соответствующие государственные органы и должностные лица) как власть и как исходный суперсобственник определяет, кому, как, сколько, для чего и на каких условиях предоставляется собственность.
В процессе огосударствления социалистической собственности и ее частичной приватизации общее для всех право и всеобщее правовое равенство в отношении собственности было выражено в виде фиктивного, бумажно-ваучерного равенства. Приобретение же реальной собственности оказалось привилегией лишь немногих, так что складывающиеся в этих условиях отношения собственности представляют собой пестрый и хаотичный конгломерат особых прав-привилегий. Рука власти настолько зримо управляет всеми этими отношениями собственности, опутанными многочисленными государственными требованиями и ограничениями, что до невидимой руки свободного рынка — целая эпоха. В таких условиях право-привилегия — это зависимость любого собственника от усмотрений власти-собственности и привилегия по отношению ко всем остальным. Сверхмонопольная государственная собственность по своему образу и подобию создает в условиях дефицита собственности монопольно привилегированных собственников помельче, которые зависимы от государства, но всесильны по отношению к несобственникам. Параллельно за счет огосударствленной собственности возникают разного рода акционерные общества (от мелких до гигантских монополий), которыми без надлежащего государственного контроля распоряжаются отдельные лица, группировки и кланы.
Процесс поляризации постсоциалистического общества на меньшинство собственников и большинство несобственников протекает в духе именно таких прав-привилегий в сфере собственности и иных отношений. Отсюда далеко до буржуазного гражданского общества, где давно уже утвердившееся всеобщее формально-правовое равенство существенно дополняется развитой системой социальной политики за счет собственников и верхов общества в пользу несобственников и низов общества. Разница — большая, можно сказать, формационная. Именно на несобственников в нашей ситуации падает основная тяжесть преобразований, в результате которых в большом выигрыше оказываются весьма узкий слой собственников и новая номенклатура, осуществляющая дележ огосударствленной собственности. Большая же часть общества не получает вовремя зарплату, пенсии и пособия.
В целом складывающаяся ситуация становится питательной почвой для социальных, политических и национальных конфликтов, активизации коммунистических, необольшевистских, фашистских и других экстремистских сил и движений, для экономической и всякой иной преступности, взлет которой сопровождается криминализацией всех основных структур, отношений и форм жизнедеятельности общества. Все это (неразвитость отношений собственности и права, умножение и усложнение конфликтов, поляризация социальных слоев и групп, слабость государственных начал и т. д.) усиливает раскол и конфронтацию в обществе, причем значительная часть общества, не получившая своей доли от социалистического наследства, по логике вещей продолжает оставаться в поле притяжения и в активе коммунистической идеологии.
Но если невозможно просто вернуться к буржуазному праву и частной собственности, то к какому же тогда праву и к какой собственности вообще можно идти от социализма?
Этот вопрос можно сформулировать и по-другому. Возможно ли такое право, которое признавало бы принцип всеобщего формального равенства (т. е. необходимый принцип всякого права, права вообще) и вместе с тем не было бы буржуазным правом? С данным вопросом неразрывно связан и другой вопрос: возможна ли такая индивидуализированная собственность на средства производства, которая вместе с тем не была бы частной собственностью?
Положительные ответы на эти вопросы означали бы преодоление представлений о капитализме как “конце истории”, принципиальную возможность (при наличии соответствующих объективных условий) послебуржуазного прогресса свободы, права, собственности и т. д. и вместе с тем небуржуазные ориентиры и перспективы для постсоциалистического строя.
§ 2. Концепция цивилитарного общества, права и государства
Природа коммунизма (и коммунистического отрицания капитализма) как идеи и как практики (в виде реального социализма XX в.) такова, что его действительно (социальноисторически) можно преодолеть и оставить в прошлом лишь адекватным экономико-правовым удовлетворением коммунистических требований в их рационализированном виде, согласуемом с опорными ценностями, институтами, формами и нормами цивилизации. Речь, следовательно, идет о правовой форме удовлетворения требований и вместе с тем преодоления коммунизма, о правовом способе перехода от неправового социализма к постсоциалистическому правовому строю. Суть правового подхода здесь в том, что всеобщий принцип правового равенства должен быть последовательно применен прежде всего в отношении социалистической собственности, в процессе преобразования этого основного итога социализма в настоящую индивидуализированную собственность на средства производства. Отрицание необходимо преобразовать в утверждение с учетом итогов истории, на более высоком уровне.
С позиций права все граждане — наследники социалистической собственности в равной мере и с равным правом. И за каждым гражданином должно быть признано право на равную для всех граждан долю во всей десоциализируемой собственности. Социалистическая собственность тем самым будет преобразована в индивидуализированную гражданскую собственность, и каждый гражданин станет обладателем реального субъективного права на равный для всех минимум собственности. Помимо и сверх этого нового права каждый будет иметь право (в смысле буржуазного права) на любую другую собственность — без ограничительного максимума.
Новый, послесоциалистический строй с такой гражданской (цивильной, цивилитарной) собственностью мы в отличие от капитализма и социализма называем цивилизмом, цивилитарным строем (от латинского слова civis — гражданин)[625].
Переход от социалистической собственности к гражданской собственности, например, применительно к Российской Федерации можно выразить в следующей юридико-нормативной (или, точнее говоря, юридико-нормографической) форме.
Вся бывшая социалистическая собственность в Российской Федерации бесплатно индивидуализируется в пользу всех граждан по принципу равного права каждого гражданина на гражданскую собственность — одинаковую долю от всей преобразуемой социалистической собственности. Все объекты бывшей социалистической собственности становятся объектами права общей собственности всех граждан как равных собственников, владельцев равных индивидуализированных долей собственности в рамках данной общей собственности. Гражданская собственность у всех без исключения граждан одинакова. Арифметический размер доли каждого гражданина-сособственника в общей собственности всех граждан с учетом числа граждан Российской Федерации, тенденций в динамике народонаселения и необходимости резервного фонда гражданской собственности устанавливается (например, в пределах 5-летнего срока) в виде 1/160 000 000 доли общей собственности всех граждан. Юридический статус и титул каждого гражданина в качестве субъекта гражданской собственности официально удостоверяется надлежащим правовым документом о праве собственности. Право на гражданскую собственность носит личный, прижизненный и неотчуждаемый характер. Ни один гражданин не может быть лишен права на гражданскую собственность. Гражданская собственность отдельных граждан не подлежит изъятию из общей собственности всех граждан. Право на гражданскую собственность не может быть полностью или частично передано другому лицу. Для каждого гражданина открывается личный счет гражданской собственности, на который в централизованном порядке поступает равная для всех доля от всех доходов, получаемых от общей собственности всех граждан в результате всех форм рыночно-хозяйственного использования объектов этой собственности.
За государством признается лишь право на налоги, но не на доходы от объектов десоциализируемой собственности. Полное отделение государства от бывшей социалистической собственности является необходимым условием для окончательного раскрепощения населения, для формирования свободных собственников и свободного рынка, настоящих экономических и правовых отношений, независимого от. политической власти гражданского общества и формирования на такой основе правовой государственности. Обществу с гражданской собственностью нужно и соответствующее его сути, целям и интересам государство. И не общество должно приноровляться к государству, а государство — к обществу и потребностям его членов.
Поскольку арифметический размер доли каждого гражданина в общей собственности зависит от общего числа всех граждан, то применительно к Российской Федерации на сегодня этот размер равняется около 1/150 000 000 доли общей собственности. Завышение числа граждан на 10 млн. продиктовано задачами обеспечения стабильности этой доли (скажем, в течение 5 лет) и формирования необходимого резервного фонда. Но, разумеется, размер доли можно определить и на более короткие сроки (допустим, на 1 год) — в этом случае величина доли будет, конечно, больше, а резервный фонд меньше.
Юридически говоря, гражданская собственность — это идеальная доля каждого собственника в общей собственности всех граждан. Каково действительное содержание такой идеальной доли, покажет лишь рынок — по мере вовлечения объектов этой общей собственности в товарно-денежные отношения. Фактически владелец гражданской собственности будет получать лишь соответствующую его идеальной доле часть денежных доходов от объектов общей собственности. Эти денежные поступления на специальные счета каждого юридически можно обозначить как реальную долю владельца гражданской собственности, которой он может распоряжаться по своему усмотрению. Сама же гражданская собственность в виде идеальной доли по природе своей не может быть изъята из общей собственности и не может быть предметом какой-либо сделки. Она носит персонально определенный, неотчуждаемый характер и принадлежит гражданину от рождения до смерти. Будущие новые граждане (из числа тех, кто родится или получит гражданство по иным основаниям), как и все прежние граждане, будут иметь одинаковое право на равную гражданскую собственность.
Неотчуждаемое право на гражданскую собственность — это, следовательно, не естественное право каждого человека, а социально-политическое по своему смыслу прижизненное, личное, субъективное право каждого гражданина. Сказанное вовсе не исключает того, что в условиях утвердившегося цивилизма правом гражданской собственности могут быть наделены и те жители страны, которые не имеют права гражданства.
Равенство в собственности ограничено пределами ранее социализированных средств производства и возможно лишь как право на равную гражданскую собственность. В концепции равной гражданской собственности речь, таким образом, идет именно о признании и закреплении права каждого на равную долю в десоциализируемой собственности, а вовсе не о вульгарном физическом делении поровну между гражданами самих объектов социалистической собственности, что, помимо всего прочего, в принципе невозможно, поскольку равенство вообще (в том числе и в отношениях собственности) возможно лишь в правовой форме.
Такое равное право на одинаковую гражданскую собственность можно получить лишь после социализма — в правовой форме десоциализации уже наличной социалистической собственности. Поэтому, например, взгляды Платона (в “Законах”), Руссо и других эгалитаристов о фактически равной собственности всех выражают неразвитые представления о природе собственности, права, равенства и свободы. С этим связан и антиправовой, антилибертарный характер их утопий. К тому же фактически равная собственность для них — искомый идеал и конец развития, тогда как равное право на гражданскую собственность предполагает допущение и развитие (сверх этого минимума собственности) также и всех других видов собственности, т. е. возможность и необходимость на базе равной гражданской собственности имущественных различий, нового неравенства в отношениях собственности.
Признание гражданской собственности откроет дорогу для любого экономически целесообразного варианта платной приватизации объектов общей собственности граждан и их вовлечения в товарно-денежные отношения. Это будет в интересах каждого владельца гражданской собственности, поскольку их доходы (денежные поступления на их счета) будут напрямую зависеть от интенсивности такого товарно-денежного оборота. На этой основе естественным образом сформируется то необходимое общественное согласие переходу к рынку, которое недостижимо при нынешней приватизации, осуществляемой в ущерб интересам значительной части общества. Вместе с тем только признание гражданской собственности даст реальную социальную гарантию правомерности, стабильности и общественной защищенности также и всех остальных форм собственности.
В принципе после признания гражданской собственности к платной приватизации могут быть допущены все объекты общей собственности граждан (включая и землю), за исключением объектов общенационального значения. При этом определенная часть некоторых из допущенных к обороту объектов (например, часть земли, полезных ископаемых и т. д.) должна оставаться в общей собственности граждан, т. е. не продаваться, а, скажем, сдаваться в аренду и т. д. Иначе говоря, в общей собственности всех граждан должна оставаться определенная часть наиболее ценных объектов, необходимая и достаточная для экономически эффективного и результативного функционирования исходной конструкции гражданской собственности.
Распродажа всех объектов общей собственности граждан и, следовательно, преобразование вещественного состава этой собственности в соответствующие денежные доходы граждан означали бы конец гражданской собственности. Однако не только экономически, но и социально-исторически и политически принципиально важно сохранение на видимую перспективу неотчуждаемого права каждого на гражданскую собственность как гарантированный для всех минимум собственности.
Сверх этого минимума гражданской собственности допускаются и все другие виды собственности, так что физические и юридические лица могут в меру своих возможностей и без всякого ограничения приобретать по правилам рынка себе в собственность любой из объектов, находящихся в товарно-денежном обороте. Разумеется, что в отношении такой (негражданской) собственности ее владелец будет обладать всем комплексом обычных правомочий владения, пользования и распоряжения.
Все эти виды собственности, допускаемые сверх гражданской собственности, можно было бы для простоты назвать “частной собственностью” (индивидуальной, групповой и т. д.), но в строгом социально-экономическом смысле это не частная собственность, точно так же как и “приватизация” после признания гражданской собственности принципиально отличается от нынешней приватизации (т. е. создания частной собственности), которая проводится до и без признания гражданской собственности. Дело в том, что частная собственность (от античной до наиболее развитой, буржуазной) предполагает наличие несобственников, деление общества на собственников и несобственников. Наделение всех гражданской собственностью радикально меняет все отношения собственности и сам тип общественного строя: одно дело — антагонизм между собственниками и несобственниками, и совсем другое дело — отношения между владельцами большей и меньшей собственности в условиях неотчуждаемого права каждого на минимум собственности.
Утверждение гражданской собственности будет означать действительное разрешение проблемы отчуждения, над которой бились Гегель и Маркс, поскольку неотчуждаемая гражданская собственность — это реальная гуманизация отношений собственности, действительное преодоление отчуждения от собственности в интересах каждого индивида. Такая собственность преобразует тоталитарное сообщество “всех вместе” в гражданское общество экономически и юридически свободных и независимых индивидов и создаст необходимые условия для господства права в общественной и политической жизни.
Право на гражданскую собственность — это не просто обычное формальное право, абстрактная правоспособность индивида (в духе буржуазного права) иметь (или не иметь) собственность на средства производства, а уже приобретенное, наличное и неотчуждаемое субъективное право на реальную собственность. Таким образом, цивилитарное право — это новое, послебуржуазное и постсоциалистическое право- образование. Оно сохраняет принцип любого (в том числе и буржуазного) права, т. е. принцип формального равенства, и вместе с тем содержательно дополняет и обогащает его качественно новым моментом — равным правом каждого на одинаковый для всех минимум собственности.
Подобно тому как гражданская собственность — это настоящая, юридически индивидуализированная собственность на средства производства, но уже не буржуазная частная собственность, так и право на гражданскую собственность — настоящее право, но уже не буржуазное право. Цивилитарное право, таким образом, по своему содержанию и уровню развитости стоит выше предшествующих типов права и, следовательно, в правовой форме воплощает большую меру свободы людей и выражает более высокую ступень в историческом прогрессе свободы в человеческих отношениях.
Можно допустить, что и видимый дальнейший прогресс свободы будет осуществляться по цивилитарной модели обогащения и дополнения опорного принципа формально-правового равенства новыми неотчуждаемыми субъективными правами.
§ 3. Цивилитарное право как новая ступень во всемирно-историческом прогрессе равенства, свободы и справедливости
В контексте объективно-исторической возможности перехода от социализма к цивилизму все остальные варианты преобразования реально сложившегося социализма неизбежно предстают как отклонения от вектора исторического прогресса и в этом смысле как исторически регрессивные, как обессмысливание исторических усилий прошлого, неспособность воспользоваться их результатами и, оставаясь на острие истории, продолжать ее дальше — словом, как выход из истории на пенсию и отдых.
Концепция цивилизма показывает, что социализм — не историческая ошибка и не впустую затраченное время, что беспрецедентные жертвы нескольких поколений наших предшественников и соотечественников не пропали даром, что при социализме впервые созданы предпосылки (в виде социалистической собственности) для перехода к более высокой, более справедливой, более гуманной ступени развития общечеловеческой цивилизации.
Реальный опыт социализма и объективно-исторически подготовленные в результате социализма предпосылки для перехода к цивилизму свидетельствуют о том, что искомое на протяжении тысячелетий “фактическое равенство” не абсолютно, а относительно. Оно в действительности возможно лишь как момент “экономического равенства” в экономико-правовой форме и в пределах индивидуализированной равной гражданской собственности как единого для всех минимума собственности, без ограничивающего максимума. И цивилизм, таким образом, тоже не конец исторического прогресса свободы и равенства, а лишь новая ступень в его развитии.
Идея гражданской собственности — главный вывод из всего предшествующего социализма. До и без социализма, априорно и умозрительно, во времена Гегеля, Маркса или Ленина эту идею и такое направление развития истории невозможно было бы и придумать.
Коммунистическое требование “фактического равенства” отвергает ценности и достижения общецивилизационного процесса. Гражданская собственность — это исторически найденная форма удовлетворения и вместе с тем одновременно преодоления этих разрушительных требований в категориях самой цивилизации, т. е. в форме права собственности. Цивилизация при этом развивается благодаря тому, что она обогащается новым формообразованием свободы — неотчуждаемым правом каждого на гражданскую собственность. Средствами досоциалистической цивилизации это всемирно-историческое требование большего равенства, чем формально-правовое равенство, неразрешимо и неодолимо.
Концепция цивилизма обладает регулятивным потенциалом и для капитализма. Это регулятивно-ориентирующее значение идеи цивилизма (в качестве нового категорического императива[626]) можно в общем виде сформулировать так: от капитализма к цивилизму, минуя социализм. Более конкретно это означает: каждому — неотчуждаемое право на гражданскую (цивилитарную) собственность.
Концепция постсоциалистического цивилизма уже содержит адекватный правовой ответ коммунистическим требованиям масс. Этим ответом может (и объективно будет вынуждено) воспользоваться и капиталистическое общество, чтобы избежать мук реального социализма. Но для этого сложившихся социальных услуг бедным и так называемого шведского социализма в пользу несобственников окажется мало: необходимо будет каждого наделить неотчуждаемым правом на достаточный минимум собственности на средства производства, т. е. на персонально определенную равную долю в рамках общей собственности всех. Понятно, что размер этого минимума и самой общей собственности всех граждан будет зависеть от соотношения сил, претензий и интересов в соответствующем обществе, степени его богатства, уровня жизни населения и целого ряда иных факторов, которые в своей совокупности определят конкретное содержание соответствующего “общественного договора” о гражданской собственности. Но это уже, как говорится, их трудности, проблемы для самого капитализма: как и каким конкретно способом может быть в условиях буржуазного общества создана такая общая собственность, на базе которой можно было бы сделать каждого владельцем равной гражданской собственности, найти свой путь к после- капиталистическому цивилизму, оставить тем самым социализм позади себя, избавиться от порождающих и сопровождающих его проблем и т. д.
При всех различиях между ними постсоциалистический цивилизм и посткапиталистический цивилизм обладают принципиальным единством и типологической общностью благодаря их единой основе — неотчуждаемому праву каждого на гражданскую собственность. Лишь на такой принципиально новой основе может быть преодолен и снят антагонизм между коммунизмом и капитализмом. Коммунизм и капитализм могут встретиться и примириться лишь на базе цивилизма, т. е. на почве и в условиях будущего принципиально нового строя. Концепция цивилизма тем самым демонстрирует ошибочность и иллюзорность представлений о конвергенции между капитализмом и социализмом. Речь на самом деле должна идти не о конвергенции капитализма и социализма, а о преодолении и социализма, и капитализма, о переходе и от социализма, и от капитализма к цивилизму.
В контексте исторического прогресса свободы можно уверенно сказать, что порожденный и подкрепленный реальной историей социализма категорический императив о неотчуждаемом праве каждого на общеобязательный минимум гражданской собственности преодолеет сопротивление сложившихся отношений в сфере собственности и подчинит их своему регулятивному воздействию. В исторических масштабах вектор развития общественной практики совпадает с направлением и ориентирами прогресса идей.
Идея цивилизма как новой ступени исторического развития демонстрирует, что новое в истории (как и вообще новое) — это вопреки поговорке не хорошо забытое старое, а до поры до времени отсутствующее, невидимое и неизвестное очередное будущее. Его нельзя придумать или сконструировать лишь из материала прошлого и настоящего, потому что главное и конституирующее в этом будущем, т. е. собственно новое, всегда находится за пределами видимости всех прежних представлений о будущем. Можно сказать, что историческое пространство, как и пространство физическое, искривлено и увидеть, что нового за предстоящим большим историческим поворотом, можно лишь после того, как такой поворот уже реально исторически подготовлен и возможен. И на поверку оказывается, что говорящие о “конце истории”, по существу, признают, что для них действительно предстоящее будущее еще не видимо, не знаемо, не известно.
Применительно к философско-историческим концепциям Гегеля и Маркса можно сказать, что вне поля их видения и теоретического осмысления неизбежно оказалась открывшаяся лишь после реального социализма (радикального антикапитализма, послекапиталистического строя без свободы, права и собственности) объективно-историческая возможность формирования неотчуждаемого права каждого на равную цивильную собственность и в целом движения к цивилизму как более высокой ступени в прогрессе свободы и права.
Наш интерес (под углом зрения цивилизма) к подходам Гегеля и Маркса вызван еще и тем, что именно их позиции до сих пор остаются двумя наиболее развитыми и вместе с тем типологически радикально противоположными трактовками капитализма и посткапитализма (как коммунизма) с точки зрения диалектики социально-исторического прогресса во всемирной истории. При этом, конечно, речь идет не о гносеологическом или моральном упреке в адрес Гегеля или Маркса как идеологов соответственно капитализма и коммунизма, а прежде всего о неизбежной объективно-исторической ограниченности их представлений о путях последующего исторического развития, о будущности права, свободы, собственности и т. д.
Каждая концепция по-своему абсолютизировала относительное, выдавая конец видимого отрезка истории за конец истории вообще. Такой видимой частью истории для гегелевской концепции является капитализм, для марксизма — антикапитализм. И каждая из этих концепций трактовала невидимую ей часть истории как простое и прямое продолжение (до дурной бесконечности — до “конца истории”) видимой части истории. Отсюда и неизбежное историческое мифотворчество о неизвестном будущем, находящемся за невидимым грядущим очередным большим поворотом истории.
Современная перепроверка — с позиций концепции цивилизма — прошлых представлений об историческом прогрессе свободы и права позволяет выявить и отделить в них верное и познавательно ценное от исторически обусловленных иллюзий, искажений, недоразумений (а всякий миф в своей основе — это в буквальном смысле не-до-разумение, т. е. еще адекватно непонятое, пока что недоступное разуму).
Так, с точки зрения концепции цивилизма очевидна мифологичность гегелевских и современных представлений о капитализме как вершине и конце прогресса свободы, права, собственности и т. д. Но вместе с тем в этих представлениях (особенно глубоко и ярко -— у Гегеля) присутствует та верная мысль, что свобода, собственность и т. д. возможны лишь в правовой форме, что исторический прогресс — это, по сути, правовой прогресс и что, следовательно, выход за границы капитализма, его отрицание — это одновременно отрицание права, свободы, собственности вообще. Реальный (антикапиталистический) социализм XX в. выразительно подтвердил это.
Мифом оказалось и представление о том, будто отрицание капитализма (частной собственности, правового равенства и т. д.) освобождает людей, дает им большее, “фактическое равенство”, ведет к полному коммунизму и т. п. Но многие критические положения этого подхода (критика недостатков частной собственности, указание на ограниченный характер формально-правового равенства и т. д.) по существу верны, хотя и искажены коммунистической мотивацией, критериями и ориентирами этой критики. Реально-историческим подтверждением основательности этой критики является фактическая ликвидация капитализма в XX в. в целом ряде стран в духе именно марксистско-пролетарского антикапитализма.
Хотя этот антикапитализм (в реальной истории — социализм) не привел к прогнозированному “полному коммунизму”, однако его всемирно-историческое место в качестве переходного периода между капитализмом и цивилизмом не менее значимо, чем его роль в качестве первой ступени доктринально предсказанного коммунизма. С точки зрения прогресса свободы и права смысл социализма — в подготовке необходимых условий для перехода к цивилизму.
В контексте изложенной диалектики исторического прогресса свободы и права (от капитализма — через социализм — к цивилизму) можно сказать, что с исторических и теоретических позиций и Гегеля, и Маркса (да и вообще — до современного кризиса социализма) цивилизм не только не виден, но и вообще невообразим, поскольку его тогда и за потенциальным историческим горизонтом мысли и реалий еще не было. Ограниченная позитивная диалектика Гегеля в действительности упирается в капитализм, радикальная негативная диалектика Маркса завершается антикапитализмом. Концепция цивилизма продолжает диалектику исторического прогресса, преодолевая ограниченность гегелевской и негативизм марксовой версий диалектики исторического развития.
Таким образом, цивилизм как более высокая ступень развития права (свободы, равенства и справедливости) — это преодоление прежних концепций (в том числе — гегелевской и марксовой) диалектики всемирной истории и выражение новой (индивидуально-правовой, либертарной, либертарноправовой) концепции диалектики, диалектического “снятия” нового негативного (коммунистического отрицания права) и утверждения нового позитивного (цивилитарного права). При этом новый синтез (цивилитарное право) диалектически амбивалентен к предшествующим моментам позитивного и негативного — к буржуазному праву и коммунистическому неправу. Цивилитарное право признает (и утверждает) в буржуазном праве право (правовое начало) и преодолевает его буржуазность (буржуазную ограниченность). В отношении к коммунистическому неправу цивилитарное право отрицает (и преодолевает) это неправо (коммунистическое отрицание права), но признает (и в преобразованной, правовой форме утверждает) правовые формы преобразования (юридической трансформации) итогов такого коммунистического отрицания предшествующего (в том числе буржуазного) права. Цивилизм и цивилитарное право невозможны как без докоммунистического права, так и без его коммунистического отрицания.
Если даже реальный социализм XX в. упустит объективную возможность для перехода к цивилизму, то это вовсе не будет означать ни потери самой идеи цивилизма (и ее автономного регулятивного воздействия — и без прямой практической ее реализации, в концептуально “чистом” виде), ни уже навсегда открывшегося пути к нему. Без перехода к цивилизму ни коммунистическую идеологию, ни новые попытки ее реализации преодолеть невозможно.
Социализм как переходный строй между капитализмом и цивилизмом — такова диалектика всемирной истории и тот всемирно-исторический контекст, в рамках которого только и можно адекватно уяснить координаты российской истории XX в., понять, откуда и куда мы идем, какая будущность нас ждет, каковы предпосылки и условия нашего перехода к праву, к экономически, юридически и морально свободной личности, гражданскому обществу, товарно-рыночным отношениям, правовому государству, каково, наконец, отклонение нашего реального движения от наших объективных возможностей идти к цивилизму.
Очевидно, что до появления соответствующих объективно-исторических реалий периода упадка и кризиса практически сложившегося социализма не было и самой возможности для уяснения его будущности. Так что ни в XIX в., ни в первой половине XX в. не было еще условий для формирования даже представлений о цивилизме как будущности социализма.
Между тем тот или иной смысловой образ будущего, то или иное представление о будущности соответствующего объекта, явления (в нашем случае — о будущности социализма) играет существенную роль в процессе познания и преобразования практики, в понимании и оценке прошлого и современности.
Так, ясно, что ни гегелевское учение, ни представленная в марксистской доктрине концепция социализма с коммунистической будущностью по сути своей не могут допустить после буржуазной частной собственности, буржуазного права, буржуазного товарно-рыночного хозяйства, буржуазного гражданского общества и буржуазного правового государства какого-то нового (послебуржуазного) типа индивидуальной собственности на средства производства, нового типа права, рынка, гражданского общества и государства, поскольку все эти институты, согласно доктрине, будут “отмирать” по мере продвижения от социализма (как первой фазы коммунизма) к полному коммунизму.
И только в концепции цивилизма, отрицающей одновременно и коммунистическую и капиталистическую перспективы для социализма, впервые обосновывается объективно-историческая возможность нового (постсоциалистического и вместе с тем небуржуазного) типа индивидуальной собственности, права, рынка, гражданского общества и правового государства.
Как идейно-теоретический итог российского опыта XX в. цивилизм (в своей непосредственной причастности к судьбам России и российской истории) является современным выражением (в общезначимых для цивилизации категориях всемирно-исторического прогресса свободы и права) того, что традиционно именуется русской национальной идеей[627]. Ведь только концепция цивилизма оправдывает усилия столь тяжкого прошлого (с его мессианством, энтузиазмом, самопожертвованием и неимоверными лишениями во имя будущего), придает всемирно-исторический смысл и адекватную будущность уникальной по своей напряженности российской истории XX в.
В концепции постсоциалистического цивилизма прошлое и будущее России приобретают взаимосвязанный и осмысленный характер как ступени единого, прогрессивно развивающегося исторического процесса. Только благодаря этому можно концептуально, а не голословно утверждать, что у России есть не только прошлое, но и будущее, что у нее есть своя история, которая имеет собственное продолжение.
Идеология ошибочности и тупиковости российской истории XX в., будучи по сути своей антиисторичной, навязывает России и ее народам стойкий комплекс исторической неполноценности и отбрасывает страну на периферию социальноисторического развития.
Между тем ясно, что социализм XX в. — это именно русская история. Более того, это, по критериям всемирной истории, самое существенное во всей истории России. Тот звездный случай, когда национальная история выполняет, как говорил Гегель, “поручение всемирного духа” и напрямую делает дело всемирной истории. Делает потому, что способна это сделать и видит в этом свое собственное дело и свою всемирно-историческую миссию. По ошибке, обману и т. д. Такие дела не делаются. Именно в России проделана вся черновая работа всемирной истории, связанная с реализацией и практической проверкой общечеловеческой коммунистической идеи. Ответ найден — цивилизм с неотчуждаемым правом каждого на гражданскую собственность. Это и есть русская идея сегодня и на будущее, российский вклад во всемирно-исторический прогресс свободы и равенства людей.
Диалектика всемирной истории и всемирно-исторического прогресса свободы, права и справедливости продолжается.
Концепция цивилизма, таким образом, демонстрирует ошибочность возврата назад — к социализму или к капитализму.
Так, совершенно ясно, что новый тоталитаризм, левый или правый, всякого рода попытки восстановления социализма и т. д. лишь радикально ухудшат ситуацию и отодвинут решение исторически назревших и жизненно важных для населения проблем утверждения в стране всеобщих основ свободы, права, собственности и государственности. Повивальной бабкой искомого нового состояния общества здесь могут быть лишь мирные реформы конституционно оформленных властей, а не революционно-насильственные мероприятия. Вместе с тем ясно, что в близкой перспективе в России качественно более совершенной (с точки зрения юридического правопонимания) Конституции и более развитой социально- политической и экономико-правовой действительности не будет и не может быть. Поэтому необходимо сберечь достигнутое, подкрепить его курсом более справедливых и отвечающих правовым ожиданиям общества реформ, приостановить сползание к гражданской войне и удержать ситуацию в мирном режиме, выиграть время для осмысления, подготовки и осуществления качественно новых — цивилитарно ориентированных — общественных и государственно-правовых преобразований.
Вместе с тем с максималистских позиций цивилизма (как выражения требований более высокой ступени прогресса права) очевидны все те существенные недостатки и противоречия, которые порождаются в процессе реализации избранного курса капитализации социализма. Но с тех же цивилитарных позиций — поскольку они опираются именно на юридическое правопонимание, выражают ценности правовой свободы и необходимость перехода от неправового социализма к постсоциалистическому праву — тоже ясно, что всякое движение (даже окольное и не в том направлении, как в нашей действительности) от неправа к праву — это благо и что даже “плохое” право (в том числе и пока что реально складывающееся у нас типологически неразвитое, добуржуазное право) лучше “хорошего” неправа (включая и по-своему весьма развитые и эффективные антиправовые средства тоталитарной регуляции).
В юридической литературе и средствах массовой информации процесс современного развития в стране начал права, собственности и т. д. (на путях так называемого “разгосударствления” и приватизации социалистической собственности) подвергается критике с разных сторон: от полного отрицания этого процесса (радикальные коммунистические силы) до призывов форсировать его (радикальные пробуржуазные силы). Такая поляризация позиций ведет к обострению противостояния и борьбы в обществе, что вообще может перечеркнуть реформистски-правовой путь развития страны.
Установка на капитализацию социализма (оставляя в стороне вопрос о реализуемости такого замысла) — это по природе своей конфронтационный путь к собственности, праву, правовому государству и т. д. в силу игнорирования тех глубинных причин, совокупность которых учтена и выражена в концепции цивилизма и цивилитарного права. Именно поэтому данная концепция и позволяет лучше понять силу и слабость сторонников и противников движения от социализма к капитализму, факторы, содействующие и противодействующие такому движению, объективную природу и глубинный смысл современного раскола и борьбы (идеологической, социальной, политической, национальной и т. д.) в стране, обществе, государстве.
Смысл цивилитарно-юридического подхода к происходящему определяется логикой отношений между типологически более развитой и менее развитой формами права (свободы, собственности, общества, государства и т. д.) на общеправовой основе и в перспективе правового прогресса. Поэтому цивилитарно-юридическая критика реально складывающегося в стране неразвитого права ведется с позиций содействия его развитию, с ориентацией на более высокие стандарты права, объективно возможные в постсоциалистических условиях и крайне необходимые для обеспечения мирного, реформистского, конституционно-правового пути преобразований. Во всех своих проявлениях (научно-объяснительных, программно-ориентирующих, критических, юридико-мировоззренческих и т. д.) концепция цивилизма выступает как теоретическое обоснование и выражение абсолютного смысла категорического императива всей постсоциалистической эпохи — udtu и требования движения к более высокой, чем это было в прошлой истории, ступени правового равенства, свободы и справедливости.
Этим в конечном счете и определяется научно-познавательное и идейно-ориентирующее значение цивилизма и цивилитарной концепции права и юриспруденции для любого направления (школы) постсоциалистической юриспруденции, исходящей из того или иного варианта юридического (антилегистского, антиэтатистского, антипозитивистского) типа правопонимания.
Примечания
1
См.: Нерсесянц В. С. История идей правовой государственности. М., 1993.
(обратно)2
См.: Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып. 1. М., 1987. С. 50.
(обратно)3
См.: Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып. 2. М., 1988. С. 111, 146.
(обратно)4
Там же. С. 109, 146.
(обратно)5
Einfuhrung in die Rechtsphilosophie. Hrsg. von Prof. Weinberger O. in Zusammenarbeit mit Koller P., Strasser P., Prisching M. Graz, 1979. S. 34.
(обратно)6
Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957. С. 7.
(обратно)7
См.: Семенов Ю. И. Как возникло человечество. М., 1956. С. 358—379; Каган М. С. Морфология искусства. Л., 1973. С. 180—183.
(обратно)8
См.: Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930. С. 39, 47.
(обратно)9
См.: Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994. С. 123, 125.
(обратно)10
Там же. С. 123—124.
(обратно)11
Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 13.
(обратно)12
Маркс К. Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 488-489.
(обратно)13
Дэвидсон Б. Африканцы: введение в историю культуры. М., 1975. С. 91.
(обратно)14
Попович М. В. Мировоззрение древних славян. Киев, 1985. С. 12—13.
(обратно)15
Malinowski В. Crime and Custom in Savage Society. London, 1926 (2-ed. 1959). P. 9.
(обратно)16
Spenser B., Gillen F. The native tribes of central Australia. London, 1899. P. 11.
(обратно)17
Арсеньев В. К. Сочинения. Т. V. Владивосток, 1948. С. 206.
(обратно)18
Крейнович Е. А. Нивхгу. Загадочные обитатели Сахалина и Амура. М., 1973. С. 337.
(обратно)19
См.: Богданов А. А. О пролетарской культуре. 1904—1924. М.—Л., 1925. С. 38. См. также: Богданов А. А. Вопросы социализма. М., 1990. С. 47.
(обратно)20
Вестник Социалистической Академии. 1922. № 2. С. 181.
(обратно)21
Оля Б. Боги Тропической Африки. М., 1976. С. 3.
(обратно)22
Богданов А. А. О пролетарской культуре. С. 38.
(обратно)23
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 183.
(обратно)24
Народы Австралии и Океании. Народы мира. Этнографические очерки / Под ред. С. А. Токарева и С. П. Толстова. М., 1956. С. 184—185. Обычаи разделения продуктов охоты поровну или в основном поровну сохранялись у некоторых народов Сибири и Дальнего Востока. См.: Смоляк А. Ульчи. М., 1964. С. 55, 59—60; Проблемы этнографии и этнической истории народов Азии. М., 1968. С. 146; Общественный строй у народов Северной Сибири XV в. М„ 1970. С. 299, 304.
(обратно)25
Врангель Ф. П. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю. М.—Л., 1948. С. 220—222.
(обратно)26
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. І. С. 17.
(обратно)27
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. І. С. 18.
(обратно)28
См.: Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М., 1992. С. 303—304; Фрейд З. Тотем и табу. М., 1997. С. 327—328.
(обратно)29
См.: Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. С. 303; Фрейд З. Тотем и табу. С. 327.
(обратно)30
См.: Фрейд З. Тотем и табу. С. 54.
(обратно)31
Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М., 1992. С. 327.
(обратно)32
См.: Тернбул К. М. Человек в Африке. М., 1981; Вейнберг И. П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М., 1986; Артемова О. Ю. Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине. М., 1987, и др.
(обратно)33
Тернбул К. М. Человек в Африке. С. 10.
(обратно)34
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 99.
(обратно)35
См.: Hippier А. , Conn S. Northern Eskimo Law Ways. Fairbanks, 1973. P. 10—13.
(обратно)36
Вейнберг И. П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М., 1986. С. 108.
(обратно)37
См.: Studies in Social Anthropology / Ed. by J. Beattie and R. Lienhard. Oxford, 1975. P. 335.
(обратно)38
Артемова О. Ю. Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине. М., 1987. С. 181.
(обратно)39
См.: Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 68.
(обратно)40
См.: Урланис Б. Ц. Эволюция продолжительности жизни. М., 1978. С. 11—12, 19.
(обратно)41
Barton R. F. The Hulf-Way Sun. Life among the Headhunters of the Philippines. N. Y., 1930. P. 144.
(обратно)42
Cm.: Barton R. F. Ifugao Law. Berkeley, 1919 (2 ed. — 1969). P 10.
(обратно)43
Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. M., 1987. С. 302.
(обратно)44
Каган М. С. Морфология искусства. Л., 1973. С. 175.
(обратно)45
Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. С. 206.
(обратно)46
См.: Першиц А. И. Проблемы нормативной этнографии // Исследования по общей этнографии. М., 1979. С. 215, 217—218; см. также: История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. М., 1986. С. 544— 545; Социально-экономические отношения и соционормативная культура. М., 1986. С. 91—92; История первобытного общества. Эпоха классооб- разования. М., 1988. С. 454—457.
(обратно)47
См. например: Иванов В. Г. История этики древнего мира. Л., 1980. С. 6.
(обратно)48
См.: Hartland E. S. Primitive Law. (2 ed.), L., 1970. P. 5, 137.
(обратно)49
Malinowski B. Crime and Custome in Savage Society. N. Y., 1959. P 2.
(обратно)50
Gurvitch G. L’ idee do droit social; le temps present et le droit social. P., 1931. P. 73, 78.
(обратно)51
См.: Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. М., 1972. С. 47.
(обратно)52
См.: Фрэзер Дж. Д. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М., 1980. С. 63.
(обратно)53
Малиновский Б. Магия, наука и религия // Магический кристалл. Магия глазами ученых и чародеев. М., 1994. С. 89.
(обратно)54
Там же. С. 97.
(обратно)55
См.: Фрэзер Дж. Золотая ветвь. С. 29—30.
(обратно)56
Косвен М. О. Очерки истории первобытной культуры. М., 1953. С. 144.
(обратно)57
См.: Крейнович Е. А. Нивхгу. С. 242, 247—248, 252—253.
(обратно)58
См.: Barton R. F. Ifugao Law. Berkeley, 1919 (2 ed. 1969). P. 11—12.
(обратно)59
См.: Hagerstrom A. Recht, Pflicht und bindende Kraft des Vortrages. Stockholm, 1965. S. 84—85.
(обратно)60
OlivecTona K. Law as Fact. Copenhagen, 1939. P. 115. См. также: Olivecrona К. The Legal Theories of Axel Hagerstrom and Vilhelm Lundstedt // Scandinavian Studies in Law. Vol. 3. Stockholm, 1959.
(обратно)61
Науек F. A. Law, Legislation and Liberty. Vol. 2. The Mirrage of Social Justice. Chicago; London, 1976. P. 62—63; Hayek F. A. Social Justice, Socialism and Democracy. Three Australian Lectures. Sydney, 1979. P. 5.
(обратно)62
См.: Radcliff-Brown A. R. Religion and Society // The Journal of the Royal Anthropology. 1945. Vol. 75. N 1. P. 38—39; Radcliff-Brown A. R. The Social Anthropology. London; Henley; Boston, 1977. P. 122—123.
(обратно)63
Cm.: Hoebel E. A. The Law of Primitive Man. Cambridge, 1954. P. 257. Cm. также: Schott R. Die Funktion des Rechts in primitiven Gesellschaften // Die Funktion des Rechts in den modernen Gesellschaften. Bd. 1. Bielefeld, 1970. S. 117—120.
(обратно)64
Hoebel E. A. Op. cit. P. 261, 274.
(обратно)65
Diamond A.S. Primitive Law. London, 1950. P. 54, 161.
(обратно)66
Государство и право на Древнем Востоке (круглый стол) // Народы Азии и Африки. 1984. № 2. С. 93.
(обратно)67
Из числа зарубежных публикаций по данной проблематике отметим следующие: Law in Culture and Society / Ed. by L. Nader. Chicago, 1969; Lampe E.J. Rechtsanthropologie. Eine Strukturanalyse des Menschen im Recht. Berlin, 1970; Social Anthropology and Law / Ed. by J. Hamnett. London; N. Y., 1977; Entstehung und Wandel rechtlicher Traditionen / Hrsg. von W. Fikentscher u.a. Freiburg; Miinchen, 1980; Zomen H. Evolution des Rechts. Wien; N. Y., 1983; Beitrage zur Rechtsanthropologie / Hrsg. von E. J. Lampe. Stuttgart, 1985; Law and State in Traditional East Asia / Ed. by B. McKnight. Honolulu, 1987; Snyder F. Law and Anthropology. A Review. Florence, 1993, и др.
(обратно)68
Бромлей Ю. В., Повальный Р. Г. Создано человечеством. М., 1984. С. 174, 179.
(обратно)69
Першиц А. И. Проблемы нормативной этнографии. С. 213.
(обратно)70
История первобытного общества. Эпоха классообразования. С. 448.
(обратно)71
Пост А. Зачатки государственных и правовых отношений: Очерки по всеобщей сравнительной истории государства и права. М., 1901. С. 11—12.
(обратно)72
См.: Diamond A. S. Primitive Law. Р. 1.
(обратно)73
См.: Vinogradov Р. Outlines of Historical Jurisprudence. L., 1922.
(обратно)74
См.: Seagle W. The Quest for Law. N. Y., 1941. См. также: Louthan W. The Politics of Justice. A Study in Law, Social Science and Public Policy. N. Y.; L., 1979. P. 21—26.
(обратно)75
Окот п’Битек. Африканские традиционные религии. М., 1979. С. 22.
(обратно)76
Леви-Строс К. Первобытное мышление. С. 35.
(обратно)77
Hartland E. S. Primitive Law. N. Y.; L., 1970 (1 ed. — 1924). P. 8.
(обратно)78
Op. cit. Р. 63.
(обратно)79
См.: Redfield R. Primitive Law // Law and Warfare. Studies in the Anthropology of Conflict / Ed. by P. Bohannan. N. Y., 1967. P. 5.
(обратно)80
Ibid. P. 6.
(обратно)81
См.: Nader L. The Anthropological Study of Law // The Ethnography of Law / Ed. by L. Nader (“American Anthropologist” Part 1. Vol. 67. N 7). Menascha, 1965. P. 1.
(обратно)82
HoebelE.A. The Law of Primitive Man. A Study in Comparative Legal Dynamics. Cambridge, 1954. P. 28.
(обратно)83
Llewellin R., Hoebel E. A. The Cheyenne Way. Norman, 1961. P. 283—284.
(обратно)84
Cm.: Hoebel E. A. The Law of Primitive Man. P. 275.
(обратно)85
Hoebel Е. A. Man in Primitive World. Cambridge, 1949. P. 376.
(обратно)86
Radcliff-Brown A. R. Primitive Law // Structure and Function in Primitive Society. L., 1952. P. 212.
(обратно)87
См.: Gluckman М. Politics, Law and Ritual in Tribal Society. N. Y.; Toronto, 1965. P. 234—235.
(обратно)88
Cm.: Malinowski B. Crime and Custom in Savage Society. L., 1926. P. 58.
(обратно)89
Интересно, что некоторые северные и дальневосточные народы России имели в прошлом подобные хозяйственные ячейки с признаками, похожими на те, которые описывает Б. Малиновский. Можно указать, например, на “байдарные артели” у чукчей или “байдарные объединения” у коряков. См.: Богораз В. Г. Чукчи. Т. 1. Л., 1930. С. 154—157; Антропова В. В. Культура и быт коряков. М., 1971. С. 94—99.
(обратно)90
Malinowski В. Crime and Custom in Savage Society. P. 20—21.
(обратно)91
См.: Malinowski В. Argonauts of Western Pacific. L., 1922. P 63—65.
(обратно)92
Gluckman M. Politics, Law and Ritual in Tribal Society. P. 239.
(обратно)93
Jan Hogbin Н. Experiments in Civilization The Effects of European Culture on a Native Community of the Solomon Islands. N. Y., 1970. P. 58.
(обратно)94
Bohannan Р., Bohannan L. Tiv Economy. Evanston, 1968. P. 83; см. также; Aboriginal Man in Australia / Ed. by R. and C. Bemdt. Sydney, 1965. P. 183; Bemdt R. Excess and Restraint. Social Control among a New Guinea Mountain People. Chicago, 1962. P. 407—408; Берндт P. M., Берндт K.X. Мир первых австралийцев. M., 1981. С. 88 и далее.
(обратно)95
См.: Malinowski В. Crime and Custom in Savage Society. P. 30.
(обратно)96
См.: Hoebel Е. A. The Law of Primitive Man. P. 209.
(обратно)97
Эти признаки подробно освещены в книгах: Pospisil L. Kapauku Papuans and Their Law. New Haven, 1964. P. 257—262; Pospisil L. The Ethnology of Law. Menlo Park, 1978. P. 30—51.
(обратно)98
Pospisil L. Legal Levels and Multiplicity of Legal Systems in Human Societies // The Journal of Conflict Resolution. 1967. Vol. XI. N 1. P. 3.
(обратно)99
Pospisil L. Kapauku Papuans and Their Law. P. 272.
(обратно)100
См.: Pospisil L. The Ethnology of Law. P. 55—56.
(обратно)101
Pospisil L. Legal Levels and Multi plicity of Legal Systems in Human Society. P. 25.
(обратно)102
См.: Иеринг Р. Цель в праве. Т. 1. СПб., 1881. С. 187—188, 321, 371.
(обратно)103
Гумплович Л. Общее учение о государстве. СПб., 1910. С. 114.
(обратно)104
Гумплович Л. Основы социологии. СПб., 1899. С. 189.
(обратно)105
Там же.
(обратно)106
Дюги Л. Социальное право, индивидуальное право и преобразование государства. М., 1909. С. 24.
(обратно)107
Алексеев А. С. Предисловие к книге Л. Дюги “Социальное право, индивидуальное право и преобразование государства". С. VI.
(обратно)108
Ковалевский М. М. Социология. Т. 1. Социология и конкретные науки об обществе. СПб., 1910. С. 63; Ковалевский М. М. Взаимоотношение свободы и общественной солидарности (глава из истории прогресса) // Интеллигенция в России. М., 1910. С. 74—75.
(обратно)109
Ковалевский М. М. Взаимоотношение свободы и общественной солидарности. С. 75.
(обратно)110
См.: Петражицкий Л, И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Т. 1. СПб, 1909. С. 217; Т. 2. СПб., 1910. С. 470, 479.
(обратно)111
Там же. Том 2. С. 624.
(обратно)112
См.: Изгоев А. С. Общинное право. СПб., 1906; Качоровский К. Р. Народное право. М., 1906; Леонтьев А. А. Крестьянское право. СПб, 1914, и др.
(обратно)113
См.: Ковалевский М. Ч. Первобытное право. Вып. 1 и 2. М., 1886; Гальперин С. Д. Очерки первобытного права. СПб., 1893; Харузин Н. Н. Очерки первобытного права. М., 1898, и др.
(обратно)114
См.: Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988. С. 50, 52.
(обратно)115
См.: Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. С. 9.
(обратно)116
Карбонъе Ж. Юридическая социология. М., 1986. С. 179.
(обратно)117
Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology / Ed. by Barnard A. and Spencer J. L.; N. Y., 1996. P. 332; см. также; Jorgensen S. Pluralis Juris. Towards a Relativistic Theory of Law. Aarhus, 1982; Legal Pluralism / Ed. by P. Sack and P. Minchin. Canberra, 1985.
(обратно)118
См.: Nader L. The Anthropological Study of Law // The Ethnography of Law. “American Anthropologist”. 1965. Vol. 67. N 6. P. 4; Moore S. Marxian Theories of Law in Primitive Society // Culture in History. Essays in Honor Paul Radin / Ed. by S. Diamond. N. Y., 1960. P. 642—662.
(обратно)119
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 336—337.
(обратно)120
Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. Т. IX. М., 1941. С. 55—56, 147.
(обратно)121
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 18. С. 272.
(обратно)122
Бромлей Ю. В., Подольный Р. Г. Создано человечеством. М., 1984. С. 179; см. также: Першиц А. И., Монгайт А. Л., Алексеев В. П. История первобытного общества. М., 1982. С. 196—197.
(обратно)123
Александров Н. Г. и др. Теория государства и права. М., 1968. С. 92.
(обратно)124
См., например: Галанза П. Н. Основные этапы в развитии первобытнообщинного строя и возникновения государства и права. М., 1963. С. 34—35.
(обратно)125
См.: Schlegel S. A. Tiruray Justice. Traditional Tiruray Law and Morality. Berkeley; Los Angeles; L., 1970. P. 27—29.
(обратно)126
См.: Gluckman М. The Idea in Barotse Jurisprudence. New Haven; L., 1965. P. 20.
(обратно)127
См.: Perestiani J. G. The Social Institutions of Kipsigis. L., 1964. P. 183-184.
(обратно)128
См.: Pospisil L. Kapauku and Their Law. P. 130, 224, 226—228.
(обратно)129
Cm.: Goldschmidt W. Sebei Law. Berkeley and Los Angeles, 1967. P. 45.
(обратно)130
Barton R. F. The Kalingas. Their Institutions and Custom Law. Chicago, 1949. P. 115.
(обратно)131
См.: Newell W. Crime and Justice among the Iroquois Nations. Montreal, 1965. P. 52—53.
(обратно)132
Gluckman М. The Ideas in Barotse Jurisprudence. P. 9.
(обратно)133
См.: Bohannan L. Political Aspects of Tiv Social Organisation // Tribes Without Rulers. Studies in African Segmentary Systems / Ed. by L. Middleton ind D. Tait. L., 1958. P. 54.
(обратно)134
Cm.: Bohannan P. Justice and Judgement among the Tiv. L.; Toronto; N. Y., L957. P. 142—144.
(обратно)135
См.: Perestiani J. G. The Social Institutions of the Kipsigis. P. 177—178.
(обратно)136
Тих Н. А. Предыстории общества. Л., 1970. С. 301.
(обратно)137
Parker A. C. An Analytical History of the Seneca Indians. N. Y. 1926. P. 65.
(обратно)138
Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности. М., 1995. С. 158.
(обратно)139
См.: Куббель Л. Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988. С. 134 и далее. См. также: Венгеров А. Б., Куббель Л. Е., Першиц А. И. Этнография и науки о государстве и праве // Вестник АН СССР. 1984. № 10. С. 91; История первобытного общества. Эпоха классообразования. М., 1988. С. 234—237.
(обратно)140
Кобищанов Ю. М. Полюдье: явление отечественной и всемирной истории цивилизаций. М., 1995. С. 3, 294.
(обратно)141
См.: Неусыхин А. И. Дофеодальный период как переходная стадия развития от родо-племенного строя к раннефеодальному (на материале истории Западной Европы раннего Средневековья) // Проблемы истории докапиталистических обществ. М., 1968. С. 603—604.
(обратно)142
См.: Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953. С. 533.
(обратно)143
Рыбаков Б. А. Первые века русской истории. М., 1964. С. 16.
(обратно)144
Лисий. Речи / Пер. С. И. Соболевского. М., 1994. С. 87.
(обратно)145
Златковская Т. Д. Возникновение государства у фракийцев. М., 1971. С. 247.
(обратно)146
Гуревич А. Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970. С. 87.
(обратно)147
Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 149, 151.
(обратно)148
Книга правителя области Шан (Шан Цзюнь Шу) / Пер. Л. С. Переломова. М., 1993. С. 139—140.
(обратно)149
См.: The Babilonian Laws / Ed. by G. Driver and J. Miles. Oxford, 1956. P. 41, 45.
(обратно)150
The Babilonian Laws. Р. 36.
(обратно)151
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 1. М., 1996. С. 239.
(обратно)152
Там же. С. 331.
(обратно)153
Там же. С. 344—345.
(обратно)154
Сборник законов грузинского царя Вахтанга VI / Под ред. Д. 3. Бакрадзе. Тифлис, 1887. С. 12.
(обратно)155
Давид Р. Основные правовые системы современности. С. 71.
(обратно)156
Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. М., 1972. С. 68—69.
(обратно)157
См.: Институции Гая. Варшава, 1892. С. 16-17.
(обратно)158
Гуревич А. Я. Проблема генезиса феодализма в Западной Европе. С. 89.
(обратно)159
Лурье И. М. Очерки древнеегипетского права XVI—X веков до н.э. Л., 1960. С. 113.
(обратно)160
Jorgensen S. What is Law // Legal Pluralism / Ed. by P. Sack and P. Minchin. Canberra, 1985. P. 27—28.
(обратно)161
См.: Нерсесянц В. С. Различение и соотношение права и закона как междисциплинарная проблема // Вопросы философии права. М., 1973; Нерсесянц В. С. Из истории правовых учений: два типа правопонимания // Политические и правовые учения: проблемы исследования и преподавания. М., 1978; Нерсесянц В. С. Право и закон. М., 1983.
(обратно)162
Гоббс Т. Левиафан. М., 1936. С. 214.
(обратно)163
В юриспруденции принято различать источник права в формальном смысле (формальный источник права) и источник права в материальном смысле (материальный источник права): под первым понимается та или иная форма выражения (формулирования) права (соответствующий нормативно-правовой акт, прецедент, обычное право и т. д.); под вторым — то, что, согласно соответствующей точке зрения, порождает (формирует) право (природа человека, разум, общество и т. д,). В этой связи следует отметить, что для юридического позитивизма (и вообще для легизма) закон (все источники позитивного права) является, по существу, источником права в материальном смысле, поскольку с этой точки зрения закон не выражает и формулирует право, а порождает и формирует его. Отсюда и характерные для такого подхода “юридические иллюзии” о всемогуществе закона и неограниченных возможностях (“свободной воле”) законодателя творить по своему усмотрению любое право.
(обратно)164
Austin J. Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of Positive Law, L., 1873. P. 89, 98.
(обратно)165
Amos Sh. A Systematic View of the Science of Jurisprudence, L., 1872. P. 73.
(обратно)166
Шершеневич Г Ф. Общая теория права. М., 1910. Вып. 1. С. 281.
(обратно)167
Там же. С. 314.
(обратно)168
См.: Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып. 1. М., 1987. С. 11; Hart Н. The Concept of Law. Oxford, 1961. P. 201.
(обратно)169
См,: Катков В. Д. Реформированная общим языковедением логика и юриспруденция. Одесса, 1913. С. 391, 407.
(обратно)170
Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып. 1. С. 93.
(обратно)171
Подробнее см.: Нерсесянц В. С. Право и закон. М., 1983. С. 311—329; Нерсесянц В. С Философия права. М., 1997. С. 607—625; Туманов В. А. Буржуазная правовая идеология. М., 1971. С. 318—366; Четвернин В. А. Современные концепции естественного права. М., 1988.
(обратно)172
Radbruch G. Gesetzliches Unrecht und iibergesetzliches Recht (1946) // Radbruch G. Rechtsphilosophie. Heidelberg, 1983. S. 352.
(обратно)173
Zit. nach: Luf G. Zur Verantwortlichkeit des Rechtspositivismus fur “gesetzliches Unrecht” // Nation alsozialismus und Recht. Wien, 1990. S. 22.
(обратно)174
Ibid.
(обратно)175
Radbruch G. Rechtsphilosophie. S. 336.
(обратно)176
Zit. nach: Luf G. Zur Verantwortlichkeit des Rechtspositivismus fur “gesetzliches Unrecht”. S. 25.
(обратно)177
См.: Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 90, 247, 279. Показательно, что это произведение Гегеля было опубликовано в 1820 г. под следующим названием: “Естественное право и наука о государстве в очерках. Основы философии права”.
(обратно)178
Там же. С. 202.
(обратно)179
См.: Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып. 1. М., 1987. С. 82—98; Вып. 2. М., 1988. С. 97—102.
(обратно)180
См.: Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып. 1. С. 83.
(обратно)181
Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 288.
(обратно)182
См.: Бердяев Н. А. Философия неравенства. М., 1990. С. 68, 75, 128, 131.
(обратно)183
Козловский В. В., Уткин А. И., Федотова В. Г. Модернизация: от равенства к свободе. СПб., 1995. С. 3.
(обратно)184
Чичерин Б. Собственность и государство. М., 1882. С. 88.
(обратно)185
Дюги Л. Социальное право, индивидуальное право и преобразование государства. М., 1909. С. V.
(обратно)186
См.: Дробницкий О. Г Понятие морали: Историко-критический очерк. М., 1974. С. 283.
(обратно)187
См.: Дробницкий О. Г. Указ. соч. С. 229.
(обратно)188
Кант И. Соч. в 6-ти т. М., 1965. Т. 4. Ч. 1. С. 383.
(обратно)189
Нерсесянц В. С. Право и закон. М., 1983. С. 342-343.
(обратно)190
Хлебников Н. Право и государство в их обоюдных отношениях. Варшава, 1874. С. 75.
(обратно)191
Вундт В. О развитии этических воззрений. М., 1986. С. 20.
(обратно)192
См.: Вундт В. О развитии этических воззрений. М., 1986. С. 20.
(обратно)193
См.: Крашенинникова Н. А. Индусское право: история и современность. М., 1982. С. 43.
(обратно)194
Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право: Вопросы теории и практики. М., 1986. С. 9.
(обратно)195
Рейснер М. Идеологии Востока: Очерки восточной теократии. М.—Л., 1927. С. 18.
(обратно)196
См.: Токарев С. А. Религия в истории народов мира. М., 1976. С. 382, 415.
(обратно)197
См.: Давид Р. Основные правовые системы современности. М, 1967. С. 79.
(обратно)198
Мальцев Г В. Права личности: юридическая норма и социальная действительность // Конституция СССР и правовое положение личности. М., 1979. С. 50.
(обратно)199
Витрук Н. В. Основы правового положения личности в социалистическом обществе. М., 1979. С. 38.
(обратно)200
См.: Конституция Российской Федерации. Комментарий. М., 1994. С. 76; Конституционный статус личности в СССР. М., 1980. С. 21—26; Витрук Н. В. Основы правового положения личности в социалистическом обществе. С. 29; Кучинский В. А. Личность, свобода, право. М., 1978. С. 115.
(обратно)201
См.: Матпузов Н. И. Субъективные права граждан СССР. Саратов, 1966. С. 53.
(обратно)202
Слово “цивилизованный” происходит от латинского “civitas” — гражданская община, государство. В современном разговорном языке "цивилизованный” приобрело также значение "культурный”, "просвещенный”, что первоначально было связано с противопоставлением римского государства и его народа “некультурным варварам”.
(обратно)203
См.: Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1956. С. 45—47, 71—74.
(обратно)204
В античных государствах, в том числе в древних Афинах и Риме, признавалось наличие естественного права, но его содержание и значение понимались иначе — как право, "общее для всех животных” (см.: Диге- сты Юстиниана. М., 1984. С. 23).
(обратно)205
См.: Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Т. 2. СПб., 1910. С. 473—475.
(обратно)206
Идея обусловленности правовых норм социальными условиями и потребностями разделяется всеми учеными, признающими генетическую концепцию права (подробнее об этом далее). Существование такой обусловленности подтверждается также всей историей возникновения и развития права.
(обратно)207
Совокупность (система) факторов и условий жизнедеятельности данного общества получила в экономической и социальной философии наименование образа жизни людей, членов данного общества.
(обратно)208
Это подчеркнуто в следующих работах: Степанян В. В. Теоретические проблемы правообразования в социалистическом обществе. Ереван, 1986. С. 48—49; Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. М., 1974. С. 7—11.
(обратно)209
См. об этом: Правотворчество в СССР. М., 1974. С. 5.
(обратно)210
См.: Pescka V. Jogforras es Jogalkotas. Budapest, 1965. P. 43.
(обратно)211
См. об этом: Правотворчество в СССР. М., 1976. С. 5—21; Степанян В. В. Теоретические проблемы правообразования в социалистическом обществе. Ереван, 1986. С. 12—29; Нашиц А. Указ. соч. С. 7—11.
(обратно)212
Научные основы советского правотворчества. М., 1981.
(обратно)213
Разумеется, в советской юриспруденции изучались и освещались буржуазные теории права, но неизменно в сочетании с критикой их основных положений.
(обратно)214
Научные основы советского правотворчества. М., 1981. С. 7.
(обратно)215
Научные основы советского правотворчества. М., 1981. С. 7.
(обратно)216
Это положение было широко представлено и разработано дореволюционной юридической наукой, признававшей главной основой соблюдения норм права “авторитет того общества людей, в котором действуют Нормы позитивного права” (Трубецкой Е. Энциклопедия права. М., 1917. С. 94). Аналогичные мысли о том, что не принуждение, а обращение к Сознанию человека — главное, на что опирается право, отстаивали Н. М. Коркунов (см.: Лекции по общей теории права, 1983. С. 68—75); Г. Ф. Шершеневич (см.: Общая теория права. М., 1911. С. 290—298) и др. В советской теории права это было полностью забыто.
(обратно)217
См.: Нормы советского права. Проблемы теории. Саратов, 1987. С. 22—- 23; Общая теория права. М., 1995. С. 153 и др.
(обратно)218
См.: Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева. М., 1996. С. 147.
(обратно)219
Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с примечаниями И. С. Перетерского. М., 1984. С. 32.
(обратно)220
Деонтическая логика — это логика норм и нормативных понятий: “обязательно”, “разрешено”, "дозволено”, “запрещено”, “безразлично” и т. д.
(обратно)221
См., например: Черданцев Л. Ф. Теория государства и права: Курс лекций. Екатеринбург, 1996. С. 83—84; Общая теория права / Под ред. А. С. Пиголкина. М, 1995. С. 157—158.
(обратно)222
Название “диспозиция” как специальное для “карательных” норм уголовного и административного права вполне укрепилось и может быть сохранено.
(обратно)223
См. гл. 6 данного раздела.
(обратно)224
См.: Виноградов П. Г. Очерки по теории права. Пг., 1915.
(обратно)225
См.: Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1985. С. 28.
(обратно)226
См.: Кросс Р. Указ. соч. С. 91; Уолкер Р. Английская судебная система. М., 1980. С. 160—161.
(обратно)227
Богдановская И. Ю. Закон в английском праве. М., 1988. С. 103.
(обратно)228
См.: Конституционное право развивающихся стран. Предмет. Наука. Источники. М., 1987. С. 153.
(обратно)229
См.: Боботов С. В. Конституционная юстиция. М., 1994. С. 108.
(обратно)230
Зивс С. Л. Источники права. М., 1982. С. 185.
(обратно)231
См.: Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1967. С. 134.
(обратно)232
См., например: Талалаев А. Н. Соотношение международного и внутригосударственного права и Конституция Российской Федерации // Московский журнал международного права. 1994. № 4; Усенко E. Т. Соотношение и Взаимодействие международного и национального права и российская Конституция // Московский журнал международного права. 1995. № 2.
(обратно)233
См.: Чиркин В. Е. Закон как источник права в развивающихся странах // Государство и право в развивающихся странах. Источники права. М., 1985. С. 9.
(обратно)234
См.: Уолкер Р. Английская судебная система. М., 1980. С. 115—119.
(обратно)235
См.: Уолкер Р. Английская судебная система. М., 1980. С. 190—191.
(обратно)236
Давид Р. Основные правовые системы современности. С. 104, 107.
(обратно)237
См.: David R. Sources of Law// International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. II. Chapter 3. Tubingen; Mohr., 1984. P. 145.
(обратно)238
См.: David R. Sources of Law. P. 140—141.
(обратно)239
См., например: Марксистско-ленинская общая теория государства и права // Социалистическое право. М., 1973. С. 43.
(обратно)240
В свое время профессор С. С. Алексеев определил данный процесс с помощью понятия “механизм правового регулирования”. См.: Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М., 1966.
(обратно)241
Вместе с тем существуют и другие ее истолкования. Так, рассмотренную с позиций семиотики (науки о знаковых системах) правовую систему отождествляют с одной из знаковых систем (вербальных и невербальных), служащих обмену информацией в обществе. Ее рамки при этом существенно расширяются за счет включения в нее таких невербальных элементов знаковых систем, как форма полисмена, дорожные знаки, судебный ритуал и т. д. См.: Friedman L. Е. The Legal System. N. Y., 1975; Kevelson R. The Law as a System of Signs. N. Y.; L., 1988.
(обратно)242
Обзор литературы по этому вопросу см.: Саидов А. X. Введение в основные правовые системы современности. Ташкент, 1988.
(обратно)243
Понятие правовой семьи введено в научный оборот известным французским компаративистом Р. Давидом. Это следует понимать как совокупность правовых систем, обладающих общностью основных параметров: доктрины, структуры, источников права, юридической техники и т. д.
(обратно)244
См.: Саидов А. X. Введение в основные правовые системы современности. Ташкент, 1988; Саидов А. X. Введение в сравнительное правоведение. М, 1988.
(обратно)245
См.: Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1967.
(обратно)246
Между тем из таких позиций исходят, например, авторы работы Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева.
(обратно)247
См.: Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева; Гойман-Червонюк В. И. Очерк теории права и государства. М., 1996.
(обратно)248
См.: История государства и права зарубежных стран / Под ред. О. А. Жидкова и Н. А. Крашенинниковой. Ч. II. М., 1998. С. 527.
(обратно)249
Следует признать известную условность такого деления. Ведь публичный интерес включает интересы и частных лиц, так же как последние возможно обеспечить лишь в условиях общественного правопорядка. О нечеткости границ между публичным и частным правом см. также: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1994.
(обратно)250
Правда, высшие суды как в самой Англии, так и в других англоязычных странах сегодня, как правило, уже отказались от принципа связанности своими собственными решениями.
(обратно)251
Так, термин “шариат”, отождествляемый обычно с мусульманским правом, означает путь, указанный Аллахом, которому правоверный мусульманин должен следовать в течение жизни (см.: Мусульманское право (структура и основные институты). М., 1984). Точно так же в европейской литературе социальный регулятор традиционных обществ Тропической Африки обозначают понятием “обычное право”. Однако ни в одном из местных языков, которых более тысячи, нет ни одного термина, адекватного этому понятию. (См.: Allott A. Law and Language. L., 1964.)
(обратно)252
Elias Т. О. J. Africa and Development of International Law. Leiden, 1972. P. 44—45.
(обратно)253
См.: Берман Дж. Европейская традиция права. М., 1994.
(обратно)254
См.: Супатаев М. А. Право современной Африки. М., 1988. С. 163.
(обратно)255
См., например: Derrett J. D. М. Hindu Law // An Introduction to Legal Systems / Ed. by Derrett J. D. M. L., 1968. P. 81.
(обратно)256
См.: Derrett J. D. М. Hindu Law. Р. 81.
(обратно)257
См.: Singh N. Juristic Comept of Ancient Indian Policy. New Delhi, 1980. P. 13.
(обратно)258
См.: Крашенинникова Н. А. Индусское право: история и современность. М., 1982. С. 23.
(обратно)259
Derrett J. D. М. Translator’s Preface // Lingat R. The Classical Law of India. L., 1973. P. 5.
(обратно)260
Cm.: Lingat R. Op. cit. P. 27.
(обратно)261
В единственном из дошедших до нас произведений этого жанра — Артхашастра Каутильи — советника царя Чандрагупты (IV—III вв. до н.э.) основное внимание уделяется рассмотрению сквозь призму артхашастры царя внутренней и внешней политики и т. д.
(обратно)262
См.: Мэн Г. С. Древний закон и обычай. М., 1884. С. 33.
(обратно)263
Мусульманское право (структура и основные институты). М., 1984. С. 21.
(обратно)264
См.: Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М., 1986.
(обратно)265
Вакф предполагает посвящение какого-либо имущества религиозной или благотворительной цели с изъятием его из гражданского оборота. При этом управителем данного имущества, согласно “классическому” исламу, может быть сам собственник. Последнее положение подвергается законодательным ограничениям.
(обратно)266
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 17. Ст. 890.
(обратно)267
См., например: Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1967; Решетников Ф. М. Правовые системы стран мира: Справочник. М., 1993.
(обратно)268
См.: Тилле А. А. Социалистическое сравнительное правоведение. М., 1975. С. 90—100; Сравнительное правоведение / Под ред. В. А. Туманова. 1978; Саидов А. X. Сравнительное правоведение и юридическая география мира. М., 1993.
(обратно)269
См. об этом: Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 1. М., 1981. С. 86—89; Правовая система социализма. Кн. 1. Понятие, структура, социальные связи. М., 1986. С. 32—38. В этой книге дан широкий обзор литературы, характеризуется генезис понятия “правовая система” в правовой науке СССР и других социалистических стран.
(обратно)270
См.: СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 509.
(обратно)271
См.: СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4488 (Приложение 1, п. 1.6).
(обратно)272
См.: СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 829.
(обратно)273
Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М., 1973. С. 177. См. также: Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Системный подход в современной науке // Проблемы методологии системного исследования. М., 1970.
(обратно)274
Керимов Д. А. Философские проблемы права. М., 1972. С. 313.
(обратно)275
См.: Алексеев С. С. Структура советского права. М., 1983. С. 27—29; Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. М., 1972. С. 12—17, 202, 206—208; Красавчиков О. А. Система права и система законодательства (гражданско-правовой аспект) // Правоведение. 1975. № 2: С. 68—69.
(обратно)276
См. об этом: Тихомиров Ю. А. Публичное право. М., 1995. С. 45, 212—215; Российское законодательство: проблемы и перспективы. М., 1995. С. 21 29, 105—107, 123—134.
(обратно)277
Данный термин употреблен здесь для краткости и означает акты органов субъектов Российской Федерации.
(обратно)278
См.: Обозрение исторических сведений о Своде законов. СПб., 1833. С. 7—8; Соборное уложение 1649 г. Текст. Комментарий. Л., 1987. С. 18.
(обратно)279
См., например: Теория государства и права. М., 1985. С. 428—429; Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Т. 3. Социалистическое право. М., 1973. С. 289—291; Явич Л. С. Общая теория права. Л., 1976. С. 131—135; Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. М., 1961. С. 351.
(обратно)280
См. об этом: Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 1848. С. 347—354; Хвостов В. М. Общая теория права. М., 1914. С. 114—116; Трубецкой Е. Энциклопедия права. М., 1917 С. 204—212; Характерно, что анализ системы права строится Н. М. Коркуновым и Е. Трубецким на основе анализа не столько самих норм, сколько правовых отношений.
(обратно)281
См.: Павлов И. В. О системе советского социалистического права. М., 1958. С. 5.
(обратно)282
См.: Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. М., 1961. С. 346—347, 350; И. В. Павлов был также прав, когда писал: “Правильно Построенная система права должна соответствовать существующему строю общественных отношений” (указ. соч. С. 5). Эта позиция была преобладающей (в частности, в учебной литературе), хотя выдвигались и другие Мнения, к коим сейчас вряд ли нужно возвращаться.
(обратно)283
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 19; Т. 21. С. 310, 312.
(обратно)284
См., например: Теория государства и права. М., 1949. С. 443; Теория государства и права. М., 1995. С. 427, 430.
(обратно)285
См.: Общая теория права / Под ред. А. С. Пиголкина. М., 1996. С. 184—185.
(обратно)286
См., например: Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева. М., 1996. С. 168—169; Теория государства и права: Курс лекций. М., 1997. С. 348—350.
(обратно)287
О единстве формы (источников) и содержания права (его норм) см.: Шебанов А. Ф. Система законодательства как научная основа кодификации // Советское государство и право. 1971. № 2.
(обратно)288
Впервые эту мысль высказал В. К. Райхер, назвавший систему права научной конструкцией, которая объективируется затем в общественном сознании по мере ее внедрения в науку, в практику, в законодательство. См.: Райхер В. К. О системе права // Правоведение. 1975. № 3. С. 65—70. ® Дальнейшем эта идея как бы затерялась в бурной полемике, отстаивающей объективность системы права, деление ее на отрасли.
(обратно)289
См.: Евграфов П. Б. Соотношение структуры советского права и структуры советского законодательства: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Харьков, 1981. С. 14—15.
(обратно)290
См.: Лившиц Р. 3. Современная теория права. М., 1992. С. 51—58.
(обратно)291
См.: Теория права и государства. М., 1995. С. 183.
(обратно)292
Кроме них в Свод предполагается включать нормативные постановления палат Федерального Собрания, постановления Конституционного Суда как акты, дающие толкование Конституции и разрешающие дела о соответствии Конституции федеральных законов, нормативных актов Президента, Совета Федерации, Государственной Думы и Правительства, а также нормативные правовые акты высших органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, продолжающие действовать на территории Российской Федерации.
(обратно)293
Термином “регион” для краткости обозначаются здесь все другие субъекты Российской Федерации, кроме республик.
(обратно)294
См., например: ст. 22 Устава Иркутской области.
(обратно)295
См.: Синюков В. Н. Российская правовая система. Саратов, 1994.
(обратно)296
См.: Каримова Е. А. Правовой институт: Автореф. дис. канд. юрид. Наук. Саратов, 1998. С. 8.
(обратно)297
См. об этом: Красавчиков О. А. Система права и система законодательства (гражданско-правовой аспект) // Правоведение. 1975. № 2. С. 68—69.
(обратно)298
Регулирование в социальной сфере в форме социального права развивается в настоящее время в законодательстве Франции, ФРГ, Швеции и других стран Европы. В Германии существует Социальный кодекс, составленный в виде общей инкорпорации социальных законов. В Швеции действует Закон о всеобщем страховании 1962/381.
(обратно)299
См. об этом: Правовая реформа: концепция российского законодательства. М., 1955. С. 119.
(обратно)300
СЗ РФ. 1995. № 7. Ст. 509.
(обратно)301
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13. С. 6-7.
(обратно)302
См.: Трубецкой Е. Лекции по энциклопедии права. М., 1917. С. 199—200; Хвостов В. М. Общая теория права. М., 1914. С. 134.
(обратно)303
См.: Хвостов В. М. Общая теория права. С. 132.
(обратно)304
Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 1909. С. 276—277.
(обратно)305
См.: Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. С. 227—228.
(обратно)306
Чичерин Б. Философия права. М., 1900. С. 99.
(обратно)307
См.: Чичерин Б. Философия права. С. 100—108.
(обратно)308
Петражицкий Л. И. Очерки философии права. СПб., 1900. С. 9, 15.
(обратно)309
См.: Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией Нравственности. СПб., 1909. Т. 2. С. 480.
(обратно)310
Кистяковский Б. Право как социальное явление // Вопросы права- 1911. Кн. 8. С. 8—9.
(обратно)311
См.: Кистяковский Б. Право как социальное явление. С. 11—17.
(обратно)312
Алексеев Н. Народное право и задачи нашей правовой политики // Евразийская хроника. 1927. Вып. 8. С. 37.
(обратно)313
Герцен А. И. Собр. соч. М., 1950. Т. 7. С. 251.
(обратно)314
Алексеев Н. Народное право и задачи нашей правовой политики. С. 38, 40.
(обратно)315
Петражицкий Л. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 1907. Т. 1. С. 92.
(обратно)316
См.: Марксистско-ленинская общая теория права и государства. Социалистическое право. М., 1973. С. 147—148.
(обратно)317
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 2. С. 146.
(обратно)318
Соловьев В. С. Соч. Т. 1. М., 1988. С. 283—286.
(обратно)319
Новгородцев П. И. Кризис современного правосознания. М., 1909. С. 260-261.
(обратно)320
Подробнее см.: Исаев И. А. Политико-правовая утопия в России. М., 1991.С. 175—176.
(обратно)321
См.: Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1992. С. 6, 10.
(обратно)322
Коркунов Н. М. Указ и закон. СПб., 1894. С. 272.
(обратно)323
Подробнее см.: Баранов П., Витрук Н. Правосознание работников милиции // Право и жизнь. 1992. № 2. С. 124.
(обратно)324
Соловьев В. С. Соч. Т. 1. М., 1988. С. 96.
(обратно)325
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 6. С. 140.
(обратно)326
Полный православный богословский энциклопедический словарь. М., 1992. Т. 2. Ст. 2090.
(обратно)327
См.: Иванов В. Вера — совесть — правосознание — государство // Право и жизнь. 1994. № 6. С. 110.
(обратно)328
Туманов В. А. Правовой нигилизм в историко-идеологическом ракурсе // Государство и право. 1993. № 8. С. 52.
(обратно)329
Подробнее об этом см.: Лазарев В. В. Теория государства и права. М., 1992. С. 116—118.
(обратно)330
Представляется правильным рассматривать акты государственного управления как средство проведения в жизнь законов (см.: Васильев Р. Ф- Акты управления. М., 1987. С. 9).
(обратно)331
См.: Фридмен Л. Введение в американское право. М., 1993. С. 152; Кряжков В. А., Лазарев Л. В. Конституционная юстиция в Российской Федерации. М., 1998. С. 38.
(обратно)332
Витрук Н. В. Конституционное правосудие. М., 1998. С. 319.
(обратно)333
Гойман В. И. Действие права (методологический анализ): Автореф. дисс д-ра. юрид. наук. М., 1992. С. 22, 23.
(обратно)334
См.: Гревцов Ю. И. Правовые отношения и осуществление права. Л., 1987. С. 61.
(обратно)335
Сазонов Б. И. Социальные, организационные и правовые основы механизма действия права // Государство и право. 1993. № 1. С. 25.
(обратно)336
Так, например, в российском законодательстве отсутствует норма, которая устанавливала бы пропорциональное распределение депутатских мандатов между кандидатами в депутаты от разных избирательных объединений соответственно тому, какой процент голосов был собран данными объединениями. Что это — пробел в законе? Ведь очень многими признается необходимость установления такой нормы! Однако даже если бы и была в действительности такая необходимость, расценивать данный случай как пробел в праве не приходится, поскольку существует ст. 62 Федерального закона “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации”, в соответствии с которой избирательные объединения, избирательные блоки, списки которых получили менее 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, из распределения депутатских мандатов по федеральному избирательному округу исключаются. Мы не вдаемся здесь в оценку существующего положения вещей. Но если окажутся правы те, кто считает наганную норму не соответствующей Конституции, то можно будет констатировать именно ошибку в праве, а не наличие пробела.
(обратно)337
В настоящее время, например, инициируется работа над авторским законопроектом “О конституционном праве граждан Российской Федерации на честь и достоинство и об обеспечении этого права государством и обществом” (проект федерального закона Кобзона—Боканя). Авторы полагают, что в современной России честь и достоинство гражданина обесценены, что действующее законодательство не обеспечивает их защиту в полном объеме и не содержит специальных положений, направленных на утверждение чести и достоинства гражданина Российской Федерации. Разумеется, каждое из этих утверждений нуждается в доказательствах и по каждому из них следует ожидать дискуссию в Федеральном Собрании.
(обратно)338
См.: Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения. М., 1974. С- 57—97.
(обратно)339
См.: Конституционный Суд Российской Федерации: Постановления. Определения. 1992—1996. М., 1997. С. 5.
(обратно)340
Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. Вып. IV. М., 1912. С. 724.
(обратно)341
Недбайло П. Е. Применение советских правовых норм. М., 1960. С. 434-444.
(обратно)342
Голунский С. А., Строгович М. С. Теория государства и права. М., 1940. С. 265.
(обратно)343
История знает и такие периоды, когда законодателю было выгодно иметь двусмысленные законы. Тем самым достигалось неодинаковое их применение по отношению к представителям господствующих и угнетенных классов. Но справедливо замечено: “Где закон дает простор для толкования, там закона, в сущности, почти нет” (Унковский).
(обратно)344
Следует иметь в виду, что запрещение толкования законов не всегда проводилось в жизнь. Хотя, например, ст. 65 Основных законов Российской империи требовала механического применения закона “по точному и буквальному смыслу оных”, не допуская “обманчивого непостоянства самопроизвольных толкований", в действительности имело место другое (см.: Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 1908. С. 306).
(обратно)345
Брайнин Я. М. Уголовный закон и его применение. М., 1967. С. 234.
(обратно)346
Элькинд П. С. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права. М., 1967. С. 133.
(обратно)347
Коренев А. П. Толкование и применение норм советского административного права // Советское государство и право. 1971. № 1. С. 46—47.
(обратно)348
См.: Пиголкин А. С. Толкование нормативных актов в СССР. М., 1962. С. 113—114.
(обратно)349
В классической теории толкования законов указывалось, что возражения против неограниченного использования расширительного толкования покоятся на смешении его с аналогией (см.: Ф. Регельсбергер. Общее учение о праве. М., 1897. С. 159—160).
(обратно)350
На том основании, что сила аутентичного толкования состоит не в его убедительности, а в его обязательности, Г. Ф. Шершеневич, например, отрицал за ним качество толкования. С его точки зрения, толкование является частным, свободным делом, не имеющим никакой обязательности, все равно, от кого бы оно ни исходило (см.: Г. Ф. Шершеневич. Общая теория права. Вып. IV. М., 1912. С. 725—726).
(обратно)351
Этого утверждения не опровергает тот несомненный факт, что в ряде случаев неофициальное толкование дается должностными лицами. Во- первых, должностные лица могут давать свои разъяснения, не облекая их в форму специального акта. Поэтому, хотя бы они и были предназначены для подчиненных исполнителей, они не могут являться юридически обязательными. Во-вторых, должностные лица могут давать комментарии законодательства вне рамок своих служебных полномочий. В-третьих, должностные лица дают иногда юридически необязательное толкование при исполнении своих служебных обязанностей (например, прокурор толкует норму в ходе судебного процесса). Только в этом третьем случае наблюдается некоторый выход за рамки общего правила. Представляется, что любое действие (в том числе и толкование) должностного лица по выполнению своих функций должно обязательно влечь какие-либо последствия, являться юридическим фактом.
(обратно)352
См.: Федеральный конституционный закон “О Конституционном Суде Российской Федерации”: Комментарий. М., 1996. С. 326.
(обратно)353
Российская газета. 1998. 30 июля.
(обратно)354
См.: Ленин В. И. Соч. Т. 45. С. 198 и далее.
(обратно)355
Здесь и далее см.: Лазарев В. В., Липень С. В. Теория государства и Права. М, 1998. С. 340—360.
(обратно)356
Ленин В. И. Соч. Т. 33. С. 91.
(обратно)357
Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М, 1995. С. 247.
(обратно)358
Кант И. Соч. Т. 6. М., 1994. С. 367.
(обратно)359
В настоящее время — Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.
(обратно)360
См.: Эффективность правосудия и проблема устранения судебных ошибок: В 2-х ч. / Под ред. В. Н. Кудрявцева. М, 1975; Эффективность гражданского законодательства / Под ред. В. П. Грибанова. М, 1984; Эффективность правовых средств обеспечения качества продукции / Под ред. В. Л. Грибанова. М., 1987; Эффективность природоохранительной деятельности. Алма-Ата, 1988, и др.
(обратно)361
Эффективность правовых норм. М., 1980. С. 22.
(обратно)362
Там же. С. 37.
(обратно)363
См.: Юридический конфликт: процедуры разрешения. М., 1995. С. 6.
(обратно)364
См.: Эффективность правовых норм. С. 156.
(обратно)365
Лившиц Р. З. Современная теория права: Краткий очерк. М., 1992. С. 97.
(обратно)366
Пригожим А. И. Перестройка: переходные процессы и механизмы. 1990. С. 114.
(обратно)367
Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения. М., 1991. С. 103—104. О праве как способе разрешения социальных конфликтов см. также: Юридический конфликт: процедуры разрешения. М., 1995. С. 50—58.
(обратно)368
См.: Юридический конфликт: процедуры разрешения. М., 1995.
(обратно)369
См.: Спиридонов Л. И. Теория государства и права. СПб., 1995. С. 216.
(обратно)370
Мысль о необходимости выработки с помощью экспертов подобного рода стандартов (эталонов) для измерения эффективности уже высказывалась в литературе: “...при измерении эффективности действия конкретной правовой нормы за единицу измерения может быть принята условная (стандартная) социальная ситуация. Это, например, эффективность действия и применения нормы в некоторой социальной среде. Данная эффективность действия может быть выше или ниже принятого стандарта. В этой сфере необходимо привлечение экспертов, которые обладают практическими знаниями об условиях эффективности конкретных правовых норм” (Гаврилов О. А. Математические методы в социально-правовых исследованиях. М., 1980. С. 37).
(обратно)371
Стародубцев С. Л. Оценочные исследования: первое знакомство // Социологические исследования. 1992. № 7. С. 60.
(обратно)372
См.: Глазырин В. В., Лапаева В. В. Пути повышения эффективности норм о премировании за улучшение качества продукции // Труды ВНИИСЗ. 1977. № 10. С. 71—82.
(обратно)373
См.: Глазырин В. В., Медведев Г. С., Казаринова С. Е., Чежина Э. А. Вознаграждение по годовым итогам работы предприятия (опыт изучения эффективности лекальных норм) // Труды ВНИИСЗ. 1975. № 3. С. 72—73.
(обратно)374
См.: Чинарян Е. О. Сравнительное законоведение республик: опыт, тенденции, методология // Государство и право. 1992. № 11. С. 150.
(обратно)375
См.: Леванский В. А. Моделирование в социально-правовых исследованиях. М., 1986. С. 100.
(обратно)376
См.: Кучеренко В. Законы принимаем хорошие, а товаров все меньше // Известия. 1991. 26 янв.
(обратно)377
Подробнее см.: Конституция и закон: стабильность и динамизм. М., 1998. С. 101—102.
(обратно)378
См.: Мамут Л. С. Государство в ценностном измерении. М., 1998. С. 37.
(обратно)379
См.: Нерсесянц В. С. Философия права. М., 1997. С. 65.
(обратно)380
См., например: Нерсесянц В. С. Право и закон. М., 1983; Нерсесянц В. С. Наш путь к праву. От социализма к цивилизму. М., 1992; Нерсесянц В. С- Право — математика свободы. М., 1996; Нерсесянц В. С. Философия права; Нерсесянц В. С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. М., 1998; Четвернин В. А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. М., 1993; Четвернин В. А. Понятия права и государства. М., 1997.
(обратно)381
Подробнее см.: Зорькин В. Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978. С. 64—73.
(обратно)382
Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. М., 1994. С. 36—37 (авторы раздела — В. С. Афанасьев и В. В. Лазарев). Названный учебник написан с позиции преодоления марксистско-ленинской идеологии. Но в российской учебной литературе сохранилось и марксистско-ленинское классовое понимание государства. В качестве призера можно привести учебник юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М. Н. Марченко. М., 1996 (1997). С. 23—158). И вот последний пример: “Таким обрати, государство представляет собой аппарат, машину для управления Делами классового общества и по преимуществу в интересах экономически господствующего класса” (Сырых В. М. Теория государства и права / Учебник для вузов. М., 1998. С. 17).
(обратно)383
Алексеев С. С. Социальная ценность права в советском обществе. М., 1971. C. 193.
(обратно)384
Сырых В. М. Теория государства и права / Учебник для вузов. С. 409.
(обратно)385
Сырых В. М. Теория государства и права / Учебник для вузов. С. 189.
(обратно)386
См.: Зорькин В. Д. Позитивистская теория права в России. С. 73—84.
(обратно)387
См.: Нерсесянц В. С. Право -— математика свободы. С. 51—52.
(обратно)388
См.: Нерсесянц В. С. Право — математика свободы. С. 27—50.
(обратно)389
См.: Нерсесянц В. С. Юриспруденция. С. 47.
(обратно)390
Нерсесянц В. С. Право — математика свободы. С. 54.
(обратно)391
О возникновении современного понятия и термина “государство” см.: Деев Н. Н. Из истории происхождения и взаимосвязи понятий и терминов “государство” и “нация” // Становление конституционного государства в посттоталитарной России. Вып. 2. М., 1998.
(обратно)392
С точки зрения соотношения отдельного человека и социальной системы, в которой он существует, возможны два типа цивилизации. По терминологии А. В. Оболонского, они называются персоноцентризм и системоцентризм (см.: Оболонский А. В. Драма российской политической истории: система против личности. М., 1994). На подобном различении “вторичных” (“гражданских”) и “первичных” (“общинных”) цивилизаций строится так называемый цивилизационный подход в типологии государства, который в действительности позволяет различать два типа политической власти, но не два типа государства.
Если в обществе существует сфера автономной социальной активности, то человек может быть относительно независимым от системы, то есть свободным в рамках системы. Это персоноцентристский тип цивилизации. Здесь достигается равновесие между интересами социального целого и свободой отдельных людей, а пренебрежение интересами индивида ради блага социального целого является ненормальным. Цивилизации противоположного типа — системоцентристские — возникают постольку поскольку существование человека в системе является формой борьбы за выживание рода, коллектива, этноса и т. д. Для системоцентристской цивилизации характерно, что социальная система ради продолжения существования коллектива жертвует отдельными людьми. Например, в Древних деспотических цивилизациях часть населения погибала при проведении ирригационных работ, необходимых для жизнедеятельности целого, коллектива. Отдельный человек (член общины, сословия, касты) здесь выступает как средство существования системы, обеспечивающей существование всем людям в целом. В процессе исторического развития сначала появляются древневосточные системоцентристские цивилизации, а затем - греко-римская цивилизация, ориентированная преимущественно на персоноцентристское развитие. По мере исторического прогресса системоцентристские цивилизации оказываются неконкурентоспособными и остаются в прошлом. Современная европейская цивилизация является однозначно персоноцентристской. Вместе с тем в XX в. сохраняются социальные системы преимущественно системоцентристского типа, а в Условиях тоталитарных режимов системоцентризм господствует.
Право как особый социальный регулятор возникает и развивается как один из элементов персоноцентризма. В преимущественно системоцентристских цивилизациях правовые нормы складываются и действуют лишь Постольку, поскольку персоноцентристское начало общественной жизни в той или иной мере проявляется и конкурирует с преобладающим системоцентристским началом.
(обратно)393
В особой жесткости советского тоталитаризма проявились системоцентристские традиции старой российской культуры.
(обратно)394
Подробнее см.: Нерсесянц В. С. Наш путь к праву. От социализма к цивилизму; Нерсесянц В. С. Право — математика свободы; Нерсесянц В. С- Философия права. С. 113—338; Четвернин В. А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. С. 43—53.
(обратно)395
Марксистско-ленинская теория классового насилия отражает в основном архаичные проявления политической власти. В этой теории население государства предстает не как элемент государства, а как социальная среда, в которой происходит непримиримая классовая борьба, порождающая государство в марксистско-ленинском понимании — диктатуру класса. В рамках этой теории понятие “государствообразующий народ” отвергается. Нация же отождествляется с политически господствующей Частью населения, а именно с экономически и политически господствующим (эксплуататорским) классом, который, согласно этой теории, лишь Претендует на выражение публичного интереса, но подменяет его своими классовыми интересами.
(обратно)396
Даже современная позитивистская теория, воспринимающая государство как эмпирическую данность, исключающая из своего предмета вопрос об историческом происхождении государства, признает: “Население государства, бесспорно, образует основную субстанцию в понятии государства, ибо государственная территория и государственная власть должны служить народу, и ради народа они нуждаются в правовом обосновании. Без государствообразующего народа нет государства... Хотя раньше этот тезис казался сомнительным, сегодня следует исходить из того, что государствообразующий народ — это такой, который стремится образовать отдельную нацию; в противном случае государствообразующий народ не стоило бы считать признаком государства. По крайней мере, это относится к возникновению государств. Если в прежние времена еще можно было отрицать, что стремление народа является условием возникновения государства, то сегодня это однозначно подтверждается безоговорочным признанием права народов и наций на самоопределение” (Doehring К. Allgemeine Staatslehre: eine systematische Darstellung- Heidelberg, 1991. S. 25—26).
(обратно)397
См.: Деев H. H. Из истории происхождения и взаимосвязи понятий и терминов “государство” и “нация” // Становление конституционного государства в посттоталитарной России. Вып. 2. М., 1998.
(обратно)398
Используемое здесь понятие этноса в общем и целом совпадает с понятием, разработанным Л. Н. Гумилевым в теории этногенеза (см.: Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989; Гумилев Л. Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 1993). Этносы здесь рассматриваются как естественно складывающиеся общности людей, осознающих свою идентичность, коллективную неповторимость и противопоставляющих себя другим аналогичным общностям.
Аналогичное понятие этноса как общности людей, связанных в конечном счете чувством этнической принадлежности, общности, стремящейся к внешнему самоопределению, использовал австрийский ученый П. Пернталер (Pemthaler Р. Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre. Wien; N. Y., 1986. S. 35—61), ссылаясь на работы французских этнологов (Breton R. Les Ethnies. P., 1981; Heraud G. L’EJurope des Ethnies. P., 1974).
(обратно)399
Этногенез включает в себя биологическое рождение этноса, его последующее историческое (а не биологическое) развитие и исчезновение (как этнической общности, а не людей, ее составляющих) примерно через 1200—1500 лет. При этом этнос проходит ряд фаз, определяющих его активность (пассионарность), а затем пассивность, но не определяющих общественные отношения (см.: Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли).
(обратно)400
О понятиях русско-евразийского и российско-евразийского типов этнополитического сообщества см.: Деев Н. Н. О евразийстве российской государственности // Становление конституционного государства в посттоталитарной России. Вып. 1. М., 1996: С. 66—72.
(обратно)401
См.: Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М. Н. Марченко. М, 1996 (1997). С. 173—186.
(обратно)402
См.: Гумилев Л. Н. Этносфера. С. 54—55, 538—539.
(обратно)403
См.: Гумилев Л. Н. Этносфера. С. 23—25, 39—77, 540—541.
(обратно)404
Так, в ст. 26 Конституции Российской Федерации говорится о национальной принадлежности в этническом смысле: “Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность".
(обратно)405
Нельзя считать субъектом права народов на политическое самоопределение только нации. Иначе право народа на создание своего государства превратится в свою противоположность (см.: Pernthaler Р. A'llgemeine Staatslehre und Verfassungslehre. S. 44—45).
(обратно)406
См.: Doehring К. Allgemeine Staatslehre: eine systematische Darstellung. S. 126—128.
(обратно)407
В любой нации есть хотя бы одно этническое ядро, для которого территория его государства является родиной. Так, североамериканскую (США) Чацию называют нацией эмигрантов. Но возникла она на основе англоязычного этнического ядра — этнической общности, которая сформировалась в XVII—XVIII вв. в колониях на территории будущих штатов восточного побережья, а затем колонизировала всю территорию современных США.
(обратно)408
Pernthaler Р. Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre. S. 49—50.
(обратно)409
Pleiner-Gerster Th. Allgemeine Staatslehre. Berlin; Heidelberg; N. Y., 1980. S. 144—145; Zippelius R. Allgemeine Staatslehre. 7. Aufl. Miinchen, 1980. S. 87—88.
(обратно)410
Herzog R. Allgemeine Staatslehre. Frankfurt a. M., 1971. S. 171 ff.; Pemtha- fer P. Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre. S. 358 ff.
(обратно)411
См.: Нерсесянц В. С. Право — математика свободы. С. 56—57.
(обратно)412
Fleiner-Gerster Th. Allgemeine Staatslehre. S. 135.
(обратно)413
Так, в ст. 3 Конституции Российской Федерации говорится, что: 1) носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ и что 2) народ обладает властью, которую он осуществляет непосредственно, а также через органы государственной власти и местного самоуправления; причем 3) высший непосредственным выражением власти народа являются референдум я свободные выборы.
(обратно)414
Maritain J. Man and the State. L., 1954. P. 36-48.
(обратно)415
См., например: Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М. Н. Марченко. С. 113.
(обратно)416
Например, дается такое определение: “Под механизмом государства понимается система его органов, посредством которых оно осуществляет государственную власть и реализует свои функции. Памятуя роль социальных потребностей, вызвавших к жизни государство, его механизм можно определить и как функционирующую систему государственных органов, обеспечивающих решение общих дел” (Спиридонов Л. И. Теория государства и права. М., 1996. С. 66). Или: “Механизм государства — это совокупность государственных органов, осуществляющих государственную власть и обеспечивающих реализацию функций государства” (Сырых В. М. Теория государства и права. М., 1998. С. 40).
(обратно)417
Например: “Государственный механизм — это совокупность органов, осуществляющих управление обществом, реализующих основные направления государственной деятельности. В государственный механизм входят законодательные органы, судебные и иные органы, а также силовые структуры, осуществляющие в случае необходимости меры принуждения (армия, внутренние войска, тюрьмы и т. п.)” (Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. С. 37; см. также: Теория государства и права / Под ред. М. Н. Марченко. С. 114).
(обратно)418
См.: Спиридонов Л. И. Теория государства и права. С. 69.
(обратно)419
См.: Сравнительное конституционное право / Отв. ред. В. Е. Чиркин. М., 1996. С. 434—440; Чиркин В. Е. Элементы сравнительного государ- ствоведения. М., 1994. С. 17; Чиркин В. Е. Основы конституционного права. М., 1996. С. 96—98.
(обратно)420
См.: Теория государства и права / Под ред. М. Я. Марченко. С. 116—118.
(обратно)421
См.: Теория государства и права / Под ред. М. Я. Марченко. С. 118—120.
(обратно)422
См.: Теория государства и права / Под ред. М. Я. Марченко. С. 120—122.
(обратно)423
Монтескье Ш. Л. Избранные произведения. М., 1955. С. 290.
(обратно)424
См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 апреля 1996 г. № 11-П // СЗ РФ. 1966. № 19. Ст. 2320.
(обратно)425
См., например: Сравнительное конституционное право. С. 433.
(обратно)426
Dr. Bonham's Case (1610) 8 Со. Rep. 114а, 117b—118b.
(обратно)427
Между тем в современной России это требование нарушено в таком законе, который должен быть чистым воплощением права, — Конституции 1993 г. По Конституции Правительство Российской Федерации несет ответственность только перед Президентом Российской Федерации. Но в соответствии с ч. 4 ст. 111 Конституции между Президентом и Государственной Думой может возникнуть спор по кандидатуре Председателя Правительства; причем если Дума трижды отклонит предложенную Президентом кандидатуру, то Президент распускает Думу и назначает Председателя Правительства уже без ее согласия. Тем самым по Конституции Президент в этом споре с Думой оказывается судьей в своем деле. Можно предположить, что если бы такая Конституция была принята в Англии, то высший суд страны признал бы недействительной ч. 4 ст. 111 этого акта.
(обратно)428
Marbury v. Madison. 1 Cranch 137. 177-2 Law Ed. U. S. 60, 73 (1803).
(обратно)429
Подробнее см.: История буржуазного конституционализма XIX в. М., 1986.
(обратно)430
Деспотия в чистом виде существовала главным образом в Древнем Египте и Древнем Китае. В то же время в Месопотамии, Индии и других странах Древнего Востока существовали архаичные формы права и государства и даже гражданские общины типа античного полиса.
(обратно)431
См.: Теория государства и права. Ч. 1. Теория государства / Под ред. А. Б. Венгерова. М., 1995. С. 110.
(обратно)432
См.: Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. М., 1994. С. 258.
(обратно)433
См.: Энтин Л. М. Разделение властей: опыт современных государств. М„ 1995. С. 27, 47.
(обратно)434
Pemthaler Р. Allgemeine Staatslehre und Verfassunglehre. Wien; N. Y., 1986. S. 323.
(обратно)435
См.: Энтин Л. М. Разделение властей: опыт современных государств. С. 124—128.
(обратно)436
О разделении властей в Российской Федерации см.: Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий / Отв. ред. В. А. Четвернин. М., 1997.
(обратно)437
См.: Дзодзиев В. Проблемы становления демократического государства в России. М., 1996. С. 199—220.
(обратно)438
См.: Утченко С. Л. Политические учения Древнего Рима (III—I вв. до н. э.). М., 1977. С. 39—40.
(обратно)439
См.: Дзодзиев В. Проблемы становления демократического государства в России. С. 198; Ковлер А. И. Кризис демократии? (Демократия на рубеже XXI века). М., 1997. С. 22.
(обратно)440
Для наиболее развитых демократических стран характерен абсентеизм — воздержание большей части избирателей от участия в выборах. В голосовании обычно участвует 20—40% населения, имеющего право голоса (народа). Это происходит потому, что интересы злит, организованных групп, реально конкурирующих на выборах, в лучшем случае безразличны для большей части избирателей. Избирательные кампании являются дорогостоящими мероприятиями, так как современных избирателей трудно убедить в том, что политические партии представляют интересы народа.
(обратно)441
Государственное право Германии. Т. 1. М., 1994. С. 36.
(обратно)442
См.: Четвернин В. А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. М., 1993. С. 53—56.
(обратно)443
См.: Dahl R. A. Polyarchy. New Haven, 1971.
(обратно)444
О многообразии форм территориального устройства см.: Чиркин В. Е. Элементы сравнительного государствоведения. М., 1994. С. 38—55.
(обратно)445
О принципиальной децентрализации государственной власти см.: Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество? М., 1993.
(обратно)446
См.: Государственное право Германии. Т. 1. С. 251—253.
(обратно)447
См.: Zippelius R. Allgemeine Staatslehre. 7. Aufl. Munchen, 1980. S. 326-340
(обратно)448
См.: Чиркин В. Е. Элементы сравнительного государствоведения. С. 53.
(обратно)449
См.: Чиркин В. Е. Элементы сравнительного государствоведения. С. 52.
(обратно)450
См.: Спиридонов Л. И. Теория государства и права. М., 1996. С. 30—33.
(обратно)451
Этому принципу соответствует формулировка ст. 2 Конституции РФ: “Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства”.
(обратно)452
См.: Спиридонов Л. И. Теория государства и права. М., 1996. С. 47—48.
(обратно)453
Herzog R. Allgemeine Staatslehre. Frankfurt a.M., 1971. S. 107 ff; Hesse G. Staatsaufgaben: Zur Theorie der Legitimation und Identifikation staatlicher Aufgaben. Baden-Baden, 1979; Matzner E. Der Wohlfahrtsstaat von morgen. Wien, 1982; Pemthaler P. Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre. Wien; N.'Y., 1986. S. 88 ff.
(обратно)454
См.: Welcker К. Т. Die letzten Griinde von Recht, Staat und Strafe. Giesen, 1813. S. 25, 71 u.a.; Mohl R. Die Polizeiwissenschaft nach den Grundsatzen des Rechtsstaates. Bd 1—2. Tubingen, 1832—1833. В англоязычной литера- тУре этот термин не используется; в известной мере его эквивалентом является "правление права” (rule of law).
(обратно)455
См.: Аристотель. Афинская полития. М., 1996. С. 41.
(обратно)456
См.: Аристотель. Афинская полития. С. 17.
(обратно)457
См.: Аристотель. Афинская полития. С. 42.
(обратно)458
Фрагменты Гераклита приводятся по кн.: Материалисты Древней Греции. М., 1955. С. 39—52.
(обратно)459
Эрнст Кассирер отмечал, что “дике” означает “порядок права”, но для Гераклита “дике” вместе с тем означает “порядок природы”, поскольку и право, и природа подчиняются одному и тому же всеобщему праву: бытие через логос и через дике утверждает (велит) нечто универсальное, возвышающееся над всяким своенравием и любой особенностью индивидуальных представлений и иллюзий. Право тем самым выступает Как установление разума, а логос и дике подлежат признанию как “все- общее и божественное” (Cassirer Е. Logos, Dike, Kosmos in der Entwicklung. Goteborg, 1941. S. 10, 21).
(обратно)460
Русский перевод сохранившихся фрагментов Демокрита см.: Лурье С. Я. Демокрит. Л., 1970. С. 187—382; Материалисты Древней Греции. М., 1955. С. 53—178.
(обратно)461
Материалисты Древней Греции. С. 152.
(обратно)462
См.: Лурье С. Я. Демокрит. С. 373.
(обратно)463
Материалисты Древней Греции. С. 168.
(обратно)464
Там же.
(обратно)465
См.: Лурье С. Я. Демокрит. С. 360—361.
(обратно)466
Материалисты Древней Греции. С. 168.
(обратно)467
См.: Маковельский А. Софисты. Вып. 1. Баку, 1940. С. 34.
(обратно)468
Там же. С. 34.
(обратно)469
Антология мировой философии. Т. 1. Ч. 1. М., 1969. С. 321.
(обратно)470
Антология мировой философии. Т. 1. Ч. 1. С. 321.
(обратно)471
Антология мировой философии. С. 320.
(обратно)472
См.: Аристотель. Политика. М., 1911. С. 408.
(обратно)473
Подробнее см.: Нерсесянц В. С. Сократ. М., 1977. (Новое издание — М., 1996.)
(обратно)474
См.: Нерсесянц В. С. Платон. М., 1984.
(обратно)475
Известный исследователь естественноправовых концепций Г. Райнер, характеризующий принцип “каждому — свое” в качестве основного положения естественного права, подчеркивает связь этого принципа с платоновским определением права, согласно которому "каждый имеет, свое” Соответствующие суждения Платона о справедливости и праве в переводе Г. Райнера с учетом терминологии оригинала звучат так: “Право (dikaion) и справедливость (dikaiosyne) состоят в том, что каждый имеет и делает свое, так чтобы никто не имел чужого и не лишался своего” (см.: Reiner Н. Die Hauptgrundlagen der fundamentalsten Normen des Naturrechts. Basel, 1976. S. 2).
(обратно)476
Исследователь правовых взглядов Аристотеля В. Зигфрид следующим образом характеризует его естественноправовые представления: “По-моему, высшее и всеобщее положение естественного права весьма сжато гласит: каждому — свое, надлежащее... Второе основное положение, представляющее собой форму применения первого, гласит: равным — равное, неравным (соответственно) неравное” (см.: Siegfried W. Der Rechtsgedanke bei Aristoteles. Zurich, 1947. S. 64—65).
(обратно)477
В этой связи В. Зигфрид отмечает: “В наше время мы говорим об идеале правового государства. До некоторой степени соответствующее этому выражение у Аристотеля звучит: эвномия (благозаконие)” Об аристотелевской трактовке деспотизма он пишет: “Деспотический (тиранический) означает неограниченный, не огражденный естественным или позитивным порядком; видимо, мы можем использовать здесь современное слово: тоталитарный” (см.: Siegfried W. Der Rechtsgedanke bei Aristoteles. S. 47, 68).
(обратно)478
Слова “эквивалент”, “эквивалентный”, “эквивалентно” (из-за отсутствия более точных слов), на наш взгляд, адекватнее всего передают смысл латинских слов aeiqui, aequum, aequitas, которые отличны от слова justitia (справедливость) и с помощью которых римские юристы выражали присущее праву специфическое свойство — признак равенства (справедливого равенства), надлежащей (справедливой) равномерности, соразмерности, равного (справедливого для всех) соответствия — словом, всего того, что мы бы назвали принципом формального равенства, подразумевающим справедливость права (ius aequum). В этой связи следует отметить, что в приведенном суждении Ульпиана имеется определенное этимологическое и смысловое смещение. Очевидно, что и этимологически, и по смыслу ius первичнее iustitia и, следовательно, именно justitia (справедливость) восходит к ius (право), а не наоборот. Кстати, в определении юриста Цельса (I в. н.э.) нет слова iustitia, и то, что Ульпиан считает справедливостью права, Цельс (в поисках смысла и принципа права и справедливости) выражает посредством других слов — boni et aequi. По Ульпиану, получается, что право как ars boni et aequi — следствие justitia, тогда как из определения Цельса напрашивается противоположный вывод. И в самом деле, не потому право есть ars boni et aequi, что оно справедливо (или восходит к справедливости), а, наоборот, право справедливо (справедливость восходит к праву и является правовой) потому, что оно есть ars boni et aequi. Словом, не право восходит к справедливости, а справедливость восходит к праву и выражает правовой смысл. Суть дела не только в том, что право справедливо, но и в том, что справедливость является правовой (правовое свойство).
(обратно)479
Покровский И. А. История римского права. Пг., 1918. С. 191—192.
(обратно)480
Стоянов А. Методы разработки положительного права и общественное значение юристов от глоссаторов до конца XVIII столетия. Харьков, 1862. С. 11.
(обратно)481
Стоянов А. Методы разработки положительного права и общественное значение юристов от глоссаторов до конца XVIII столетия. Харьков, 1862. С. 11.
(обратно)482
См.: Покровский И. А. История римского права. С. 198.
(обратно)483
См.: Гроций Г О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы публичного права. М., 1956. С. 52.
(обратно)484
Гроций Г О праве войны и мира. С. 46, 71.
(обратно)485
Гроций Г О праве войны и мира. С. 72.
(обратно)486
Гроций Г. О праве войны и мира. С. 74.
(обратно)487
См.: Гроций Г. О праве войны и мира. С. 52.
(обратно)488
См.: Локк Д. Избранные философские произведения. Т. И. М., 1960. С. 116.
(обратно)489
Локк Д. Избранные философские произведения. Т. II. С. 16—17.
(обратно)490
Монтескье Ш. Л. Избранные произведения. М., 1955. С. 290—291.
(обратно)491
Монтескье Ш. Л. Избранные произведения. С. 289.
(обратно)492
Монтескье Ш. Л. Избранные произведения. С. 318.
(обратно)493
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. М., 1984. С. 209.
(обратно)494
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. С. 208.
(обратно)495
Кант И. Соч. Т. 4. Ч. II. С. 233. Под “правовым законом” Кант имеет в виду законы государства (позитивное право) в их отличии от моральных законов.
(обратно)496
Кант И. Соч. Т. 4. Ч. II.
(обратно)497
Кант И. Соч. Т. 6. С. 269.
(обратно)498
Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 89.
(обратно)499
Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 318.
(обратно)500
См.: Kelsen Н. Allgemeine Staatslehre. Berlin, 1925. S. 45.
(обратно)501
Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып. 2. М., 1988. С. 146.
(обратно)502
Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып. 2. С. 153.
(обратно)503
Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып. 2.
(обратно)504
Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып. 2. С. 153—154.
(обратно)505
В этой связи предстоит большая работа по имплементации положений Международных пактов по правам человека и других международноправовых документов, по приведению внутреннего законодательства России (общефедеративного и законодательства субъектов Российской Федерации) в соответствие с международно-правовыми требованиями. Принятие России в 1996 г. в Совет Европы и ее присоединение к Конвенции о защите прав человека и основных свобод заметно актуализировали данную проблему.
(обратно)506
См.: Палеев М. С., Пашин С. А., Савицкий В. М. Закон о статусе судей в Российской Федерации: Комментарий. М., 1994.
(обратно)507
Особо следует подчеркнуть то принципиальное обстоятельство, что, согласно российской конституционной концепции разделения властей, суд (любое звено судебной системы и вся судебная власть в целом) применяет право, но не имеет права на правотворчество, на создание новых норм права, судебного прецедента и т. д. Также и судебная практика не имеет значения источника права (см.: Нерсесянц В. С. Суд не законодательствует и не управляет, а применяет право // Судебная практика как источник права. М., 1997. С. 34—41).
(обратно)508
Хайек Ф. А. Дорога к рабству // Новый мир. 1991. № 7. С. 183.
(обратно)509
Новгородцев П. Кризис современного правосознания. М., 1909. С. 340.
(обратно)510
Дюги Л. Социальное право, индивидуальное право и преобразование государства. М., 1909. С. 72.
(обратно)511
Мальцев Г. Буржуазный эгалитаризм. М., 1984. С. 186.
(обратно)512
Вольман Г Чем объяснить стабильность экономического и политического развития Федеративной Республики Германии // Государство и право. 1992. № 11. С. 134.
(обратно)513
Новгородцев П. Кризис современного правосознания. С. 342.
(обратно)514
Всесторонний анализ концепции Дж. Роулса содержится в книге: Мальцев Г. В. Буржуазный эгалитаризм. М., 1984. С. 184—214.
(обратно)515
См.: Дюги Л. Социальное право, индивидуальное право и преобразование государства. С. 72.
(обратно)516
См.: Новгородцев П. Кризис современного правосознания. С. 373.
(обратно)517
См.: Вольман Г. Чем объяснить стабильность политического и экономического развития Федеративной Республики Германии // Государство и право. 1992. № 11. С. 134.
(обратно)518
Государственное право Германии, Т. 1. М., 1994. С. 59.
(обратно)519
Новгородцев П. Кризис современного правосознания. С. 340.
(обратно)520
Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1992. С. 373.
(обратно)521
См., например: Нерсесянц В. С. Право — математика свободы. М., 1996. С. 63—100; Четвернин В. А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. М., 1993. С. 43—53.
(обратно)522
Основные задачи науки советского социалистического права. М., 1938. С. 183.
(обратно)523
См.: Четвернин В. А. Понятия права и государства. М., 1997. С. 23—25.
(обратно)524
См., например: Алексеев С. С. Социальная ценность права в советском обществе. М., 1971.
(обратно)525
А. А. Малицкий усматривал правовой характер советского государства в том, что оно осуществляет свою деятельность в условиях “правового режима”, то есть подчиняя свои органы велениям закона. При этом он специально отмежевывался от “буржуазного” понятия правового государства как государства, ограниченного некими “правами личности”, подчиненного “принципам отвлеченного права” (см.: Малицкий А. Советская конституция. Харьков, 1925. С. 46).
(обратно)526
Каганович Л. Двенадцать лет строительства советского государства и борьба с оппортунизмом // Советское государство и революция права. 1930. № 1. С. 9.
(обратно)527
См., в частности: Советское государство и право. 1979. № 7—8.
(обратно)528
См., например: Нерсесянц В. С. Право и закон. М., 1983; Нерсесянц В. С. Право: многообразие определений и единство понятия // Советское государство и право. 1983. № 10; Нерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции. М., 1986; Нерсесянц В. С. Право и закон: их различение и соотношение // Вопросы философии. 1988. № 5; Мамут Л. С. Право как отношение // Wahrheit und Wahrhaftigkeit in der Rechtsphilosophie. Berlin, 1987. C. 260—269; Мамут Л. С. Анализ правогенеза и правопонимания // Ученые записки Тартуского университета. 1989. Вып. 3 (850). С. 5—28.
(обратно)529
Подробнее см.: Драма российского закона. М., 1996. С. 73—87.
(обратно)530
См., например: Алексеев С. С. Правовое государство — судьба социализма. М., 1988.
(обратно)531
См., например: Нерсесянц В. С. Концепция Советского правового государства в контексте истории учений о правовом государстве // Социалистическое правовое государство: проблемы и суждения. М., 1989. С. 45—67; Деев Н. Н., Четвернин В. А. Советское государство и перестройка (проблемы теории). М., 1990. С. 147—223.
(обратно)532
Ведомости РСФСР. 1990. № 2. Ст. 22.
(обратно)533
Ведомости РСФСР. 1990. № 7. Ст. 101.
(обратно)534
Ведомости РСФСР. 1990. № 21. Ст. 237.
(обратно)535
Ведомости РСФСР. 1990. № 22. Ст. 260.
(обратно)536
Ведомости РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1456.
(обратно)537
Ведомости РСФСР. 1991. № 51. Ст. 1798, 1799.
(обратно)538
См.: Известия. 1993. 25 марта.
(обратно)539
Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 39. Ст. 3597.
(обратно)540
См., например: Оболонский А. В. Драма российской политической истории: система против личности. М., 1994.
(обратно)541
Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарий / Под ред. Б. Н. Топорнина. М., 1997. С. 161.
(обратно)542
“Собственность является не просто одной из форм и направлений выражения свободы и права человека, но она образует собой вообще цивилизованную почву для свободы и права. Где нет собственности, там не только нет, но и в принципе невозможны свобода и право” (Нерсесянц В. С. Право — математика свободы. С. 17).
(обратно)543
Нерсесянц В. С. Право — математика свободы. С. 85.
(обратно)544
Нерсесянц В. С. Право — математика свободы. С. 64.
(обратно)545
См.: Четвернин В. А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. С. 52.
(обратно)546
См.: Нерсесянц В. С. Право — математика свободы. С. 143—144.
(обратно)547
Холмс С. Политические аспекты экономического развития Чешской Республики // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 1995. № 2 (11). С. 21.
(обратно)548
Холмс С. Политические аспекты экономического развития Чешской Республики. С. 21.
(обратно)549
Подробнее см.: Кордобский С. Г. Социальная структура и механизм торможения // Постижение: Социология. Социальная политика. Экономическая реформа. М., 1989. С. 36—51.
(обратно)550
См., например: Шайо А. Как верховенство права погубило реформу социальной защиты в Венгрии // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 1996. № 2 (15). С. 3; Холмс С. Политические аспекты экономического развития Чешской Республики. С. 20.
(обратно)551
Вспомним знаменитую ст. 16 французской Декларации прав человека и гражданина: “Общество, где не обеспечена гарантия прав и нет разделения властей, не имеет конституции” (см.: Французская Республика. Конституция и законодательные акты. М., 1989. С. 29).
(обратно)552
Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1995. С. 215.
(обратно)553
См.: Конституции государств Центральной и Восточной Европы. М., 1997.
(обратно)554
Подробнее см.: Шаблинский И. Г Пределы власти. Борьба за российскую конституционную реформу (1989—1995 гг.). М., 1997; Варламова Н. В. Конституционный процесс в России (1990—1993 гг.). М., 1998.
(обратно)555
Подробнее см.: Правовое государство, личность, законность. М., 1997. С. 101—121.
(обратно)556
См., например: Шаблинский И. Г. Пределы власти. Борьба за российскую конституционную реформу (1989—1995 гг.). С. 26—50.
(обратно)557
См.: Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 41. Ст. 3921.
(обратно)558
См.: СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.
(обратно)559
Исключение составляли субъекты Федерации. Они были не в состоянии диктовать центру свои условия, но и Президент не решился навязать им свое видение федеративного устройства. Именно поэтому соответствующие положения Конституции оказались наиболее “размытыми”.
(обратно)560
Вариант, отстаивавшийся законодательной властью, был прямо противоположным: декоративный президент, чрезмерно усиленный парламент, полностью зависимое от него правительство (см.: Аргументы и факты. 1992. № 12).
(обратно)561
См.: Четвернин В. А. Идеология прав человека и принципы разделения властей в Конституции Российской Федерации // Становление конституционного государства в посттоталитарной России. Вып. 1. М., 1996. С. 27—29.
(обратно)562
Так принято называть достаточно сложные отношения Президента и Правительства (основанные на тщательном следовании тексту Конституции) в период, когда Президент и Премьер-министр принадлежат-к разным партиям, в связи с тем что президентская партия не имеет большинства в Национальном собрании (см.: Исполнительная власть, судебная власть и учредительная власть во Франции. Российско-французская серия “Информационные и учебные материалы” М., 1993. № 8. С. 42—44.
(обратно)563
См., например: Страшун Б. Как это ни парадоксально, проект Конституционной комиссии предусматривает “президентскую республику”, а проект Совещания — “парламентскую” // Конституционное совещание. Информационный бюллетень. 1993. № 1. Август. С. 60—61; Страшун Б. О “смешанной” форме правления в проекте Конституции Российской Федерации // Конституционное совещание. 1993. № 2. Октябрь. С. 57—65.
(обратно)564
См., например: Холмс С. Сверхпрезидентство и его проблемы // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. № 4 (5)/1 (6). Осень 1993/зима 1994. С. 22—25.
(обратно)565
См.: СЗ РФ. 1994. № 2. Ст. 74; 1996. № 12. Ст. 1039.
(обратно)566
См.: СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.
(обратно)567
См.: СЗ РФ. 1998. № 1. Ст. 1.
(обратно)568
См.: СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506; 1996. № 17. Ст. 1917; № 49. Ст. 5500; 1997. № 12. Ст. 1378.
(обратно)569
Лишь через три года после принятия Федерального закона “Об общественных объединениях” (в июле 1998 г.) в него были внесены изменения и дополнения, связанные с определением понятия политического общественного объединения и порядка регистрации таких объединений.
(обратно)570
Юдин Ю. А. Политические партии и право в современном государстве. М., 1998. С. 5.
(обратно)571
См.: Ведомости СССР. 1990. № 42. Ст. 839.
(обратно)572
Впоследствии Конституционный Суд Российской Федерации, оценивая деятельность коммунистической партии этого периода, констатировал, что “КПСС занимала в государственном механизме положение, не согласующееся с основами конституционного строя” (см.: Ведомости РФ. 1993. №11. Ст. 400).
(обратно)573
См.: Ведомости РСФСР. 1990. № 2. Ст. 22, п. 12.
(обратно)574
См.: Ведомости РСФСР. 1991. №31. Ст. 1035.
(обратно)575
См.: Ведомости РФ. 1991. № 45. Ст. 1537.
(обратно)576
См.: Реформирование России: мифы и реальность. М., 1994. С. 54.
(обратно)577
См.: Реформирование России: мифы и реальность. С. 54.
(обратно)578
О тоталитарной демократии, в частности, см.: A Hegel Symposium. Austin, 1962. Р. 62.
(обратно)579
Подробнее см.: Демократическое движение после августа 1991 г.: провал или кризис // Социологические исследования. 1993. № 6. С. 51 и далее.
(обратно)580
См.: Ведомости РСФСР. 1993. № 11. Ст. 400.
(обратно)581
См.: Головков А. Российский политический театр: без массовки нет солистов // Известия. 1996. 2 марта.
(обратно)582
См.: Первая леди в мантии // Фигуры и лица. Приложение к “Независимой газете” 1998. Март. №5(6). С. 10.
(обратно)583
САПП РФ. 1993. № 39. Ст. 3597.
(обратно)584
См.: СЗ РФ. 1993. № 41. Ст. 3907.
(обратно)585
См.: Реформирование России: мифы и реальность. М., 1996. С. 286.
(обратно)586
См.: Веденеев Ю. Политические партии в избирательном процессе // Доверие. 1995. № 3—4. С. 10; см. также: Пастухов В., Постников А. Закон сохранения элиты // Общая газета. 1994. 22—28 декабря; Выборы в Государственную Думу. М., 1995. С. 8—10, и др.
(обратно)587
См.: Жарихин В. Л. Ложные альтернативы. В России никогда не было смешанной пропорционально-мажоритарной системы выборов // Независимая газета. 1998. 5 февраля. С. 3.
(обратно)588
САПП РФ. 1993. № 43. Ст. 4080.
(обратно)589
Проблема субъектности российской политики: Доклад фонда “Реформы” // Независимая газета. 1998. 19 февраля. С. 8.
(обратно)590
См.: Федоров Ю. Ф. Экономические группы интересов в России: ТЭК и добывающие отрасли // Лоббизм: мировой опыт и проблемы России, Специальный выпуск журнала “Бизнес и политика” 1995. № 1. С. 48; Перегудов С. Корпоративные интересы и государство // Независимая газета. 1997. 3 марта.
(обратно)591
Цит. по: Власть и демократия. Зарубежные ученые о политической науке. М., 1992. С. 96. Вскоре справедливость этих опасений достаточно наглядно подтвердилась в ходе выборов в органы представительной власти субъектов Российской Федерации, проводившихся главным образом по мажоритарной системе при слабом участии политических объединений. В результате, по данным на начало 1995 г., почти 30% депутатского корпуса в регионах составили представители исполнительной власти (в том числе 22% — это главы администраций и их заместители) и 23,5% — руководители промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
(обратно)592
См.: Реформирование России: мифы и реальность. М., 1996. С. 286.
(обратно)593
См.: Ведомости РСФСР. 1991. № 42. Ст. 839.
(обратно)594
В частности, некоторые специалисты справедливо относят не к политическим, а к корпоративным организациям Аграрную партию России и движение “Женщины России”, имевшие свои фракции в Государственной Думе первого созыва (см.: Коргуюок Ю. Г., Заславский С. Е. Российская многопартийность. М., 1996. С. 184).
(обратно)595
См.: СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3608.
(обратно)596
Duverger М. Les partis politiques. Paris, 1958. P. 465.
(обратно)597
См.: Panebianco A. Political Parties: Organization and Power. Cambridge, 1988. P. 262—265.
(обратно)598
См.: Право и политика современной России. М., 1996. С. 37.
(обратно)599
См.: Проблема субъектности российской политики: Доклад фонда “Реформа” // Независимая газета. 1998. 19 февраля. С. 8.
(обратно)600
Проблема субъектности российской политики: Доклад фонда “Реформа” // Независимая газета. 1998. 18 февраля.
(обратно)601
См.: Рабочая книга социолога. М., 1983. С. 100.
(обратно)602
См.: Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 448.
(обратно)603
См.: Основы социологии / Под ред. А. Г. Эфендиева. М., 1993. С. 130.
(обратно)604
Сафаров Р. А. Политический статус общественного мнения // Социологические исследования. 1979. № 4. С. 14.
(обратно)605
Гегель Г В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 352.
(обратно)606
См.: Социология в России. М., 1996. С. 45—50, 516—518.
(обратно)607
См.: Социология в России. С. 50.
(обратно)608
См.: Социология в России. С. 521.
(обратно)609
См.: Сафаров Р. А. Политический статус общественного мнения. С. 16.
(обратно)610
См.: Федеральный закон “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” (ст. 38 и ч. 6 ст. 37) от 5 сентября 1997 г.
(обратно)611
См.: Блондъе Л. Изучение общественного мнения // Политика и общество во Франции. М., 1993. С. 42.
(обратно)612
См.: Noelle-Neumann Е. Spiral of Silence. Public Opinion — Our Social Skin. Chicago and London, 1984. P. 77.
(обратно)613
Карцева Н. Общество, лишенное мифов: Изложение содержания доклада В. Э. Шляпентоха в Институте социологии АН СССР // Социологические исследования. 1991. № 1. С. 157.
(обратно)614
Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1986. С. 335.
(обратно)615
Вятр Е. Социология политических отношений. М., 1979. С. 395—396.
(обратно)616
Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 173.
(обратно)617
Коробейников В. С. Пирамида мнений. М., 1981. С. 12.
(обратно)618
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 390—-393.
(обратно)619
Такие данные, в частности, были получены социологической службой Съезда народных депутатов СССР в преддверии первого Съезда (руководитель исследования — Н. И. Бетанели, исследование проводилось с участием автора). Опрошено около 2 тыс. москвичей.
(обратно)620
См.: Новый курс России: предпосылки и ориентиры. М., 1996. С. 63.
(обратно)621
Адомайт К. Нормативная логика — теория метода — юридическая политология: Сб. статей по теории права // Общественные науки за рубежом”. Сер. Государство и право. 1988. № 3. С. 10.
(обратно)622
Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 353—354.
(обратно)623
Этим обусловлен и значительный резонанс статьи Ф. Фукуямы, который (со ссылкой на Гегеля и неогегельянца А. Кожева) дает гегельянское “добро” нынешнему процессу капитализации социализма и в целом капиталистическому (в духе, как говорят, современного западного либерального, рыночного и т. д. строя) концу мировой истории и человеческой цивилизации (см.: Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3. С. 134—148).
(обратно)624
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 18—19; Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 33. С. 94—99. Термин “пролетарское право” получил широкое распространение вскоре после революции (в работах П. И. Стучки, Д. И. Курского, Н. В. Крыленко и др.). Термин же “социалистическое право” появился в литературе (в статье Е. Б. Пашуканиса) в середине 30-х годов (см.: Пашуканис Е. Государство и право при социализме // Советское государство. 1936. № 3. С. 4).
(обратно)625
Подробнее см.: Нерсесянц В. С. Закономерности становления и развития социалистической собственности // Вестник АН СССР. 1989. № 9; Нерсесянц В. С. Концепция гражданской собственности // Советское государство и право. 1989. № 10; Нерсесянц В. С. Прогресс равенства и будущность социализма // Вопросы философии. 1990. № 3; Нерсесянц В. С. Наш путь к праву. От социализма к цивилизму. М., 1992; Нерсесянц В. С. Продолжение истории: от социализма — к цивилизму // Вопросы философии. 1993. № 4; Нерсесянц В. С. Право — математика свободы. М., 1996; Нерсесянц В. С. Философия права. М., 1997.
(обратно)626
У Канта, чье понятие мы здесь используем, отсутствует, разумеется, идея равной гражданской собственности, появление которой исторически и логически возможно лишь после социализма. Это, кстати говоря, очень хорошо демонстрирует апостериоризм реального содержания максим его категорического императива, ограниченного социально-историческими границами формально-правового равенства и частной собственности.
(обратно)627
См.: Нерсесянц В. С. Цивилизм как русская идея // Рубежи. 1996. № 4. С. 129—153; см. также: Пивоваров Ю., Фурсов А. Послесловие к “Цивилизму” В. С. Нерсесянца // Там же. С. 154—158.
(обратно)




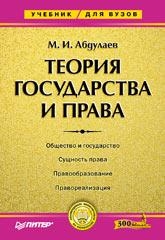
Комментарии к книге «Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев