Литература. 8 класс Учебник-хрестоматия для школ с углубленным изучением литературы (под редакцией М. Б. Ладыгина)
Первый урок мастерства
О том, что такое литературный процесс
Вам, наверное, не раз приходилось читать предисловие или послесловие к книге какого-нибудь писателя, и, быть может, встретилось словосочетание «литературный процесс». Это очень серьезное понятие, опирающееся на законы, без которых невозможно литературное творчество.
Вы, конечно, знаете, что в каждый конкретный исторический отрезок времени творит множество писателей, произведения которых в той или иной степени являются откликом на современные события. Кроме того, они читают книги друг друга, спорят между собой, развивают уже известные темы и по-разному разрешают общие проблемы. Это и есть литературная жизнь.
Но ведь люди читают книги не только своих современников, они обращаются и к творениям великих писателей прошлого, при этом как бы заново прочитывая книги, которые человечество хранило на протяжении многих-многих лет. Читатели обнаруживают в них удивительно новые, свежие и очень современные мысли. Давно забытая книга снимается с полки, и вдруг оказывается, что забыта она была лишь потому, что ее автор сумел заглянуть в будущее намного раньше своих современников, не сумевших оценить его сочинения.
Вот видите, литература живет очень непростой жизнью. Книги существуют во времени: они спорят между собой, учат и разочаровывают, старятся и умирают, некоторые из них как бы рождаются заново… Между ними существуют связующие нити, которые тянутся из далекого прошлого и переплетаются с нитями только что созданных произведений. Это и есть литературный процесс. Он – как нескончаемый прекрасный ковер, в который каждое новое поколение писателей вплетает свой узор, иногда подражая уже созданному, а иногда изобретая нечто совершенно новое.
Если внимательно приглядеться к этому прекрасному ковру, то можно заметить сходство с мозаичным полотном. Кусочки тесно соединяются, но в то же время просматриваются очертания каждого. Объясняется это тем, что на протяжении своего развития европейская литература прошла несколько этапов, несколько стадий.
Стадии литературного процесса отражают смену основных этапов развития европейского общества, европейской цивилизации. Однако дело не только в этом. Не следует думать, что общественные изменения, смена исторических формаций непосредственно влияют на искусство. Не будем забывать, что у искусства есть свои законы и они не менее существенны, чем законы исторического развития. Стадии развития литературы – это в первую очередь этапы развития литературных принципов, способов создания художественного мира произведения. Но поскольку художественный мир отражает представления автора о мире, в котором он живет, то процесс развития литературы включает и смену представлений человека, вызванных изменением общества.
Литературный процесс в Европе прошел несколько стадий: средневековую, эпохи Возрождения, XVII века, Просвещения, Нового времени, рубежа XIX и XX веков, а сейчас мы наблюдаем развитие современной литературы.
В разных европейских литературах названные этапы проявлялись по-разному. Например, литература Возрождения возникла в Италии в XIV веке, во Франции – в XV веке, а в Испании – только в XVI веке.
Вспомните, что́ мы говорили о своеобразии развития русской литературы? Я хочу напомнить вам, что в нашей национальной литературе не было Возрождения как отдельной стадии. Но в этом нет ничего страшного, так тоже бывает, и русская литература не стала от этого хуже других литератур. В развитии литератур других стран тоже были и пропуски стадий, и неожиданные рывки вперед.
На первый взгляд это связано с развитостью или отсталостью какой-либо нации. Но на самом деле мы сталкиваемся с действием одного из великих законов искусства. О нем мы сейчас и поговорим.
Литературный процесс развивается в результате постоянного взаимодействия двух основных факторов – традиции и новаторства. Основа любой литературы – ее национальная традиция, художественные принципы, которые передаются от поколения к поколению и проявляются в каждом новом произведении. Время от времени какой-нибудь писатель придумывает что-то новое. Это может быть неожиданная тема, необычный характер, яркий художественный прием и т. п. Авторское открытие может ограничиться пределами только его произведений, а может быть использовано и продолжено другими писателями. В любом случае мы имеем дело с новаторством. Но при этом не следует забывать, что если новаторские открытия берутся на вооружение последующими поколениями писателей, то они уже становятся частью национальной традиции.
Каждая национальная литература опирается на собственную традицию, в которой отражаются и история данного народа, и его взаимоотношения с другими народами, и его этические и эстетические принципы, и многое другое.
Напомню вам, что национальная традиция влияет на литературный процесс. Она способствует переходу литературы к следующему этапу развития (это происходит, когда эстетические возможности национальной литературы перестают удовлетворять запросам читателей) либо замедляет этот переход, а иногда в силу национальной традиции смена этапов вообще становится ненужной.
А теперь, поскольку вы уже достаточно много узнали о нашей родной русской литературе, подумайте: как русская национальная традиция повлияла на литературный процесс в нашей стране? Только не забудьте при этом, что литературный процесс тесно связан с фольклором и духовной литературой.
Валерий Яковлевич Брюсов
Имя В. Я. Брюсова вам уже хорошо известно. Этот прекрасный поэт был одним из самых образованных людей своего времени. Он считал, что культурные ценности, накопленные человечеством за все время его существования, являются самым важным достоянием людей. Его очень беспокоила проблема сохранения культурных ценностей человечества. В 1900 году, в самом начале нового столетия, он пишет стихотворение, образно представляющее труд поколений, стремящихся не только преумножить достижения предков, но и вернуть себе то, чем эти предки владели.
Задумайтесь над тем, какой художественный образ в этом стихотворении центральный, как он концентрирует идейный смысл. Обратите внимание на сочетание метафор и символов в стихотворении.
«В глуби тайные вселенной…»
В глуби тайные вселенной, В воды темные столетий Мы бросаем с лодки бренной Золотые сети. И из прочных уз мы рады Доставать морских чудовищ, И растут в челне громады Скопленных сокровищ.Вопросы и задания
1. Объясните, почему добываемые «сокровища» автор называет «чудовищами», как это соотносится с двумя первыми строками стихотворения.
2. Составьте ритмическую схему стихотворения. Установите связь логического ударения с ритмикой. Объясните интонационные паузы.
3. Подготовьте выразительное чтение стихотворения наизусть.
Литература Средневековья
Друг мой! Вы уже знаете, что любая национальная литература зарождается на основе фольклора, используя его эстетические принципы и художественные приемы. Литература европейских стран также опирается на фольклорные традиции древних племен: Западная Европа использовала наследие кельтского и германского фольклора, а Восточная Европа – памятники славянского устного народного творчества.
Поскольку у молодых народов, расселившихся на территории Европы, не было своей письменности, они вынуждены были обращаться к наследию античной цивилизации. В основу письменности Западной Европы был положен латинский язык, долгое время выполнявший роль средства международного общения и языка официальных документов. Восточнославянские народы использовали греческое письмо (надеюсь, вы знаете имена двух великих средневековых славянских просветителей Кирилла и Мефодия).
Использование письменных памятников античной цивилизации привело к тому, что содержащиеся в этих текстах проблемы, художественные приемы и литературные средства повлияли на формирование европейских литератур. Для Западной Европы античное влияние было связано с литературами Древней Греции и Древнего Рима, а для восточных славян более тесной была связь с византийским искусством.
Непосредственный контакт варварских племен с античной цивилизацией в свою очередь привел к тому, что эти племена начали отказываться от своих языческих богов и принимать христианство. Христианская религия к этому времени уже располагала богатой духовной литературой, имевшей свои жанровые особенности, свои приемы обращения к читателю, свою эстетическую традицию. Религиозная литература также участвовала в формировании европейских литератур. Тут вновь произошло разделение: Западная Европа воспринимала уроки римско-католической духовной литературы, а Восточная Европа оказалась под воздействием православной духовной литературы, созданной в Греции и Византии.
Вот три основных источника, три кита, на которых покоится европейская литература: фольклор варварских племен, античная литература и христианские духовные тексты.
Должен заметить, что в период Средневековья, особенно в самом его начале, авторы еще не ощущали различия между литературой и фольклором, между текстами художественными, историческими или деловыми. Создатель текста совсем не заботился о своем авторстве, напротив, часто ссылался на несуществовавшие источники, послужившие якобы основой его произведения. Именно поэтому подавляющее большинство ранних средневековых памятников являются анонимными: мы не знаем имен создателей таких шедевров, как «Слово о полку Игореве», «Стефанит и Ихнилат», «Роман о Тристане и Изольде» и многих других. Вы, я надеюсь, помните средневековый роман «Мул без узды», автор которого скрылся под псевдонимом Пайен де Мезиер («язычник из Мезиера»).
Иногда просто невозможно безоговорочно отнести тот или иной текст к фольклору или литературе, настолько тесно переплетаются в средневековье черты двух этих видов словесного творчества. Не случайно ученые до сих пор спорят, был ли автор у «Песни о Роланде».
К сожалению, многие средневековые тексты для нас утрачены, ведь в те далекие времена еще не было печатного станка и произведения переписывались от руки. Это был тяжелый труд, да и пергамент, на котором писали в Средневековье, был очень дорог. Многие произведения вовсе не допели до нашего времени, другие сохранились в отрывках или в неполных текстах. Однако известные нам произведения поражают своей красотой и эстетическим совершенством. Одновременно следует учесть, что средневековое искусство отнюдь не было примитивным, это не «зародышевое искусство», а искусство, достигшее значительной степени развития.
Принципы организации художественного мира средневекового произведения существенно отличаются от принципов, лежащих в основе античной литературы и литератур более поздних эпох (например, Возрождения). Нельзя забывать, что многое из того, что воспринимается сегодня как фантастика, для средневекового человека выглядело не только правдоподобным, но и единственно возможным. Магия, которую мы рассматриваем сегодня сквозь призму откровенной мистики, имела в прошлом сугубо практическое значение и была направлена как на достижение материального благосостояния (богатого урожая), так и личного благополучия (крепкого здоровья).
Рассматривая средневековую литературу, нужно уметь увидеть не только христианские мотивы, но и языческую мифологию, нередко затемненную более поздним влиянием христианства. Между тем в средневековых произведениях именно эти ранние языческие элементы были самыми важными. Например, средневековый писатель Кретьен де Труа может описывать идеальный порядок в «бескрайнем» королевстве Логр, где все подчинено воле справедливого короля Артура, а затем спокойно заявить, что рыцарь, выехавший из королевского замка Камелот, сразу же оказался в заколдованном лесу, кишащем противниками Артура. Для автора в таком повествовании вообще нет противоречия: здесь представлены две разные реальности, мифологически сосуществующие, но не взаимосвязанные, причем переход героя из одной реальности в другую мгновенен и им самим не осознаваем.
Вот видите, как своеобычен и не похож на современный первый этап европейского литературного процесса.
Вспомните, пожалуйста, какие произведения средневековой литературы вам уже знакомы и как в них проявляются те особенности, о которых я только что рассказал.
Коронование Людовика Перевод О. Мандельштама
Героический эпос средневековых народов – это произведения, дающие удивительно полное представление о мире, в котором жили люди на заре нашей цивилизации. Они отразили быт, нравы, систему юридических и этнических норм Средневековья. В них в тонкой поэтической форме воплотился общенародный идеал, на который ориентировались представители всех сословий.
«Коронование Людовика» – песнь, входившая в «Каролингский цикл», то есть в цикл, объединенный образом императора франков Карла Великого. Вы уже знакомы с «Песнью о Роланде», центральным произведением этого цикла. Во Франции произведения героического эпоса назывались «Песни о деяниях», и это очень точное название: в них всегда описывалось поучительное «деяние», причем мудрая мысль, веское слово, правильно совершенный выбор значили не меньше, чем военная победа, строительство храма и т. п.
Подумайте, какое «деяние» является главным в «Короновании Людовика», каков идеал правителя, запечатленный в песне, как создается здесь художественный образ Карла Великого. О каком «хорошем уроке» говорится в самом начале песни?
II
Не хотите ль, господа бароны, извлечь хороший урок Из прекрасной складной песни, приятной на слух? Когда Господь назначил девяносто девять царств, Нежнейшее внимание он Франции подарил — Лучший из государей носит имя – Карл, Он Францию взял в руки и поднял выше всех. И все другие земли к его державе льнут: И баварская марка[1], и алеманский круг[2]. Французские уделы Норман, Анжу, Бретань, Ломбардское княжество и с Новарой Тоскань.III
Царь, что носит корону французской земли, Должен быть сердцем весел и в решеньях мудр. Кто с ним поступит дурно, обидчик или тать[3], Пускай он рыщет в роще, пусть убегает в гать[4], Все равно будет пойман, живым иль мертвым взят. Легко теряет Францию неотмщенный король, — Так говорит преданье – он коронован зря!IV
Когда коронованье в Айсе пропел клир[5] И вывели из камня готовый монастырь, Там двор образовался на весь христианский мир, Во дворе дежурят графы, четырнадцать человек И жалобщики ходят – бедных людишек тьма; Всем проясняют дело и разбирают спор. Не жалуется правый, виноватый молчит. Вот была справедливость! Теперь такой уж нет: Взятка решает дело, и окривел судья. Бог – человек мудрый, он нас судит и пасет, Из-за него мы пачкаемся в грязном аду, В этой зловонной яме, откуда нельзя уйти.V
В этот день служили согласно восемнадцать епископов, В этот день служили дружно восемнадцать архиепископов, Сам римский апостол[6], обедню пел.VI
В этот день была служба такая сладкая и пышная, Что другой такой службы во Франции не слышали, Кто ее слышал, долго потом рассказывал.VII
В этот день служили согласно двадцать шесть священников, При том были четыре короля коронованных. В этот день величали Людовика, На алтаре корону приготовили, — Император-отец венчал свою кровь. По лесенке на кафедру архиепископ влез, Произнес проповедь на французском языке. Он говорил: «Бароны, откройте мне ваш слух, Наш государь великий, Карл, совсем одряхлел: Бремя светской жизни ему не по душе, И тяжела корона на его голове. Есть у него сын – ему корона впору». Все развеселились, услыхав такую радость, Руки подняли к небу, где сияет Бог. «Отец небесной славы! Тебя благодарим За то, что чужестранец к нам не придет владеть. Наш император вызвал сына – ему корона впору! «Сын мой прекрасный, откройте мне ваш слух, Взгляните на корону, что лежит на алтаре. Не взяв с вас обещания, как вам ее отдать? Бегите грехов плотских и всех прочих грехов. Не утесняйте гневом и предательством людей. Что у сирот осталось, храните, как свой глаз. Так угодишь ты Богу, меня развеселишь, — Возьми мою корону и венчайся сейчас. Если же вы не согласны, короны вам не видать, И я вам запрещаю притрагиваться к ней!VIII
Людовик, сын мой милый, на корону взгляни: Хочешь быть императором всей римской[7] земли? Уведешь с собой войско в тысячу сто человек, Перейдешь Жиронду-воду насильно и вброд, Язычников рассеешь – неприятный народ! Их поганую землю к рукам приберешь… Если это вам нравится, хватай корону – бери, А не нравится, не дам, не на кого пенять.IX
Незаконных поборов, сын, с людей не бери; Избегай всех излишеств и дурных страстей, Грехов роскошных плоти и худых затей. Защити ребеночка от наследников злых И вдовицы бедной четыре гроша. Если хочешь в иисусовой короне ходить, Сын мой Людовик, ты должен ей служить». Слушает ребеночек, не смеет шагу ступить, Пожилые рыцари за него плачут навзрыд, Император же гневается, сердце его кипит. «Меня околпачили, горе мне – увы! Видно, с женой моей лежал негодяй, Когда этот выродок был ими зачат. Для такого в жизнь мою пальцем не шелохну! С таким императором связываться грех! Остричь ему волосы на маковке все, Запереть урода в этот монастырь, Пускай доит колокол и будет пономарем[8], Десятиной прокормится, с голоду не умрет!» — Стоял близ императора из Арля Ансеис, Упрямец и строптивец, не в меру самолюбив. Сладкоречивой хитростью он Карла с толку сбил: «Справедливый император, полно вам бушевать, Молодой государь еще молод, что такое пятнадцать лет? Ребенка сделайте рыцарем, он со страху умрет. Это дело перемелется – поручите его мне: За три года все изменится, много воды утечет, Он оправится, он выравняется, станет рыцарь и муж. Буду я за ним присматривать, а потом приведу к вам. Округлю его земли тем временем, увеличу его доход». «Это дело подходящее», – император говорит. Рассыпаются в благодарности злоязычники-шептуны, Ансеиса из Арля родственники подымают радостный шум. Однажды к императору хочет прийти Вильгельм, Он в лесах охотился, с рогом зверя травил. Бертран, племянник маленький за стременем бежит, Задыхается – лепечет, хочет много сказать: «Государь мой дядя, не понравился мне монастырь: Там людей обижают злоязычники-шептуны, Там морочит наследника опекун Ансеис. А потом французы скажут: «Император виноват». «Император промахнулся», – сказал гордый Вильгельм, Нацепил на пояс саблю и пошел в монастырь сам. Растолкал зевак праздных, там в густой толчее Похваляется перед всадниками нарядный Ансеис. Сгоряча обезглавить Ансеиса он хотел, Но удержался немного, вспомнил кротость Отца небес: Душе бессмертной вреден человекоубийства грех! Сильно отдернул саблю, с шумом вложил в ножны И пошел на Ансеиса, саблю вложив в ножны. Опустил ему на темя тяжесть левой руки, Опрокинул навзничь так, что хрустнули позвонки. Позвоночник – столб жизни без намеренья сломал. Мертвого на землю бросил, прямо к своим ногам, Заметил, что тот не дышит, начинает его корить: «Ах разбойник, ах жадина, разрази тебя Божий гром, Ты зачем огорчал господина, клевал его зерно? Ты бы должен его лелеять и ночью и днем, Округлить его земли, увеличить его добро. На полушку не разживешься от своих темных дел. Я тебя только немножко хотел поучить, А ты взял и совсем умер, не получишь ни гроша!» К алтарю оборотился, где корона лежит, …………………………………………… Подошел к Луи-ребенку, его короновал: «Носите на здоровье, дитя мое государь, Бог научит вас дела людские справедливо вершить». На сына веселится император отец: «Большое вам спасибо, государь Вильгельм, Давайте породнимся, соединим наш род.X
Сын мой прекрасный, сир Лоуис, Возьми мою державу и царский скипетр. Исполнить обещанье свое потрудись: От жадных наследников ребеночка беречь И вдовицы бедной четыре гроша. Церкви нашей матери будь верный друг, Чтобы не забрал вас в лапы дьявол, наш враг. Еще держите в почести свой рыцарский круг, Он тебя поддержит тысячью услуг. Всем ты будешь дорог, всем ты будешь мил!»Вопросы и задания
1. В чем проявляется народный идеал средневекового человека в этом произведении?
2. Охарактеризуйте образ Ансеиса из Арля.
3. Как соотносятся в произведении христианская и рыцарская этика?
4. Приведите примеры художественной образности, используемой в произведении.
5. От имени средневекового правителя составьте «поучения» своему наследнику.
Шота Руставели
Мы уже говорили с вами об эстетическом богатстве и многообразии средневековой литературы. Один из несравненных шедевров этого периода был создан в Грузии на рубеже XII и XIII столетий (более точная дата нам неизвестна). В то время древняя грузинская культура переживала период расцвета. Правила страной царица Тамар, чье имя встречается в произведениях выдающихся русских поэтов XIX века, а государственным казначеем при дворе мудрой царицы был Шота Руставели. Но память потомков он заслужил не верной службой, а романом «Витязь в тигровой шкуре». Именно этот средневековый рыцарский роман обессмертил имя автора. Кстати, и сама царица Тамар оказалась среди персонажей произведения. Ее имел в виду гениальный поэт, создавая удивительно привлекательный образ принцессы Нестан-Дареджан.
Итак, перед вами еще один рыцарский роман. И я сразу же попрошу вас объяснить, почему «Витязя в тигровой шкуре» я отнес к этому средневековому жанру. Подумайте, чем творение Руставели отличается от эпической песни (эпопеи).
У «Витязя в тигровой шкуре» увлекательный сюжет. Роман прославляет верную любовь и преданную дружбу. Разумеется, герои проходят через ряд препятствий, преодолевают многие опасности. Их приключения ни на мгновение не дают отвлечься читателю.
Рассказывая о событиях, участниками которых становятся три отважных воина-побратима: Автандил, Тариэл и Фридон, автор создает цельные и яркие характеры.
Сопоставьте этих героев, опишите их характеры и отметьте, какие художественные средства использует Шота Руставели для их создания.
Говоря о характерах «Витязя в тигровой шкуре», нельзя не обратить внимания на принцессу Нестан-Дареджан. В этом образе отразилось представление мудрого писателя об идеальной женщине. Приглядитесь, какие качества подчеркивает в ней автор.
Хотя в нашей хрестоматии приводятся лишь отрывки из романа Руставели, вы, я уверен, захотите прочесть это произведение целиком. Возможно, вам бросятся в глаза строки писателя о том, что он просто пересказывает «старинную» персидскую повесть. Не удивляйтесь! Я уже говорил вам, что средневековые авторы нередко пользовались таким приемом. Современные ученые убеждены, что великий грузинский поэт сам придумал и сюжет, и героев своего романа, но, следуя распространенному обычаю, сослался на неведомый источник. Роман Шота Руставели написан очень красивыми стихами (в грузинском стихосложении они называются шаири). Русские переводчики – Николай Заболоцкий, Константин Бальмонт и другие – постарались передать богатство и напевность поэтической речи оригинала. Обратите внимание, как умело поэт использует метафоры.
Есть у языка «Витязя в тигровой шкуре» и еще одна особенность – его афористичность. Роман буквально наполнен точными искрометными высказываниями. Припомните, я ведь вам говорил о животворной связи средневековой литературы с фольклором! В афоризмах Руставели сконцентрирована народная мудрость. Ну разве не похожа на пословицу строка:
Кто себе друзей не ищет, самому себе тот враг…
Выпишите, читая роман, наиболее точные и глубокие афоризмы средневекового грузинского писателя.
Витязь в тигровой шкуре. Главы из романа Перевод Н. Заболоцкого
Вступление
Тот, кто силою своею основал чертог вселенной, Ради нас украсил землю красотою несравненной. Животворное дыханье даровал он твари бренной. Отражен в земных владыках лик его благословенный. Боже, ты единый создал образ каждого творенья! Укрепи меня, владыка, сатане на посрамленье! Дай гореть огнем миджнура[9] до последнего мгновенья! Не карай меня по смерти за былые прегрешенья! Лев, служа Тамар-царице, держит меч ее и щит. Мне ж, певцу, каким деяньем послужить ей надлежит? Косы царственной – агаты, ярче лалов[10] жар ланит. Упивается нектаром тот, кто солнце лицезрит. Воспоем Тамар-царицу, почитаемую свято! Дивно сложенные гимны посвящал я ей когда-то. Мне пером была тростинка, тушью – озеро агата. Кто внимал моим твореньям, был сражен клинком булата. Мне приказано царицу славословить новым словом, Описать ресницы, очи на лице агатобровом, Перлы уст ее румяных под рубиновым покровом — Даже камень разбивает мягким молотом свинцовым! Мастерство, язык и сердце мне нужны, чтоб петь о ней. Дай мне силы, вдохновенье! Разум сам послужит ей. Мы прославим Тариэла, утешителя людей, Трех героев лучезарных, трех испытанных друзей. Сядем, братья, и восплачем о несчастном Тариэле! Скорбь о нем копьем печали ранит сердце мне доселе. Это древнее сказанье я, чье имя Руставели, Нанизал, как цепь жемчужин, чтоб его стихами пели. Страсть любви меня, миджнура, к этой повести склонила: Та, кому подвластны рати, для меня светлей светила. Пораженный ею в сердце, я горю в огне горнила. Коль не сжалится светило, ждет безумного могила. Эта повесть, из Ирана занесенная давно, По рукам людей катилась, как жемчужное зерно. Спеть ее грузинским складом было мне лишь суждено Ради той, из-за которой сердце горестью полно. Ослепленный взор безумца к ней стремится поневоле. Сердце, сделавшись миджнуром, в отдаленном бродит поле. Пусть она спасет мне душу, предавая плотской боли! Как воспеть мне трех героев, если сил не станет боле? Что кому дано судьбою – то́ ему и утешенье: Пусть работает работник, воин рубится в сраженье, Пусть, безумствуя, влюбленный познает любви лишенья, — Не суди других, коль скоро сам боишься поношенья! Стихотворство – род познанья, возвышающего дух. Речь божественная с пользой услаждает людям слух. Мерным словом упиваться может каждый, кто не глух. Речь обычная пространна, стих же краток и упруг. Испытаньем иноходцу служит дальняя дорога, Игроку – удар искусный, если мяч рассчитан строго. Для певца же дело чести – ширь стихов, богатство слога, Он и сам коня осадит, увидав, что речь убога. Если вдруг в стихотворенье речь становится невнятна, Присмотреться стихотворцу и полезно и приятно: Увидав свою ошибку, он попятится обратно И, геройски в мяч ударив, победит неоднократно! Кто два-три стишка скропает, тот, конечно, не творец. Пусть себя он не считает покорителем сердец. Ведь иной, придумав глупость, свяжет рифмою конец И твердит, как мул упрямый: «Вот искусства образец!» Небольшой стишок – творенье стихотворца небольшого, Не захватывает сердца незначительное слово. Это жалкий лук в ручонках у стрелочка молодого: Крупных он зверей боится, бьет зверушек бестолково. Мелкий стих подчас пригоден для пиров, увеселений, Для любезностей веселых, милых шуток, развлечений. Если он составлен бойко, он достоин одобрений. Но певец лишь тот, кто создан для значительных творений. Надо, чтобы стихотворец свой талант не расточал, Чтоб единственно любимой труд упорный посвящал. Пусть она в стихах искусных, пламенея, как кристалл, Удостоится созвучий музыкальных и похвал. Той, кого я раньше славил, продолжаю я гордиться. Я пою ее усердно, мне ли этого стыдиться! Мне она дороже жизни, беспощадная тигрица. Пусть, не названная мною, здесь она отобразится! Есть любовь высоких духом, отблеск высшего начала, Чтобы дать о ней понятье, языка земного мало. Дар небес, она нередко нас, людей, преображала И терзала тех несчастных, чья душа ее взалкала. Объяснить ее не в силах ни мудрец, ни чародей, Понапрасну пустословы утомляют слух людей. Но и тот, кто предан плоти, подражать стремится ей, Если он вдали страдает от возлюбленной своей. Называется миджнуром у арабов тот влюбленный, Кто стремится к совершенству, как безумец исступленный, Ведь один изнемогает, к горним высям устремленный, А другой бежит к красоткам, сластолюбец развращенный. Должен истинно влюбленный быть прекраснее светила, Для него приличны мудрость, красноречие и сила, Он богат, великодушен, он всегда исполнен пыла… Те не в счет, кого природа этих доблестей лишила. Суть любви всегда прекрасна, непостижна и верна, Ни с каким любодеяньем не равняется она: Блуд – одно, любовь – другое, разделяет их стена. Человеку не пристало путать эти имена. Нрав миджнура постоянен: не чета он блудодею, Верен он своей любимой и скорбит в разлуке с нею. Будь любимая сурова – он и так доволен ею… В мимолетных поцелуях я любви не разумею. Не годится звать любовью шутки взбалмошные эти. То одна у ветрогона, то другая на примете. Развлекаться столь беспечно лишь дурные могут дети. Долг миджнура: если нужно, обо всем забыть на свете. У влюбленного миджнура свой единственный закон: Затаив свои страданья, о любимой грезит он. Пламенеет он в разлуке, беспредельно исступлен, Подчиняется смиренно той, в которую влюблен. Тайну раненого сердца не откроет он другому, Он любимую позорить не захочет по-пустому, Он свои скрывает чувства, он к ее не ходит дому, Он за счастье почитает эту сладкую истому. Трудно верить в человека, коль о милой он бормочет. Сам себе он вред приносит – что ж он попусту хлопочет? Чем он милую прославит, если тут же опорочит? Почему он сердцу милой причинять страданье хочет? Не пойму я: чем притворство привлекает сумасброда? Если он не любит деву, разве нет ему исхода? Почему ж ее он хочет запятнать в глазах народа? Но злодею злое слово слаще сахара и меда! Плач миджнура о любимой – украшенье, не вина. На земле его скитанья почитают издавна. И в душе его, и в сердце вечно царствует одна, Но толпе любовь миджнура открываться не должна.Начальная повесть о Ростеване, царе аравийском
Жил в Аравии когда-то царь от Бога, царь счастливый, Ростеван, искусный воин и владыка справедливый. Снисходительный и щедрый, величавый и правдивый, Был он грозный полководец и мудрец красноречивый. Кроме дочери, владыка не имел другого чада. Дочь его звездой сияла и была ему отрада. Славных витязей царевна с одного пленяла взгляда. Чтоб воспеть ее достойно, мудрецов немало надо. Тинатин ей дали имя. Лишь царевна подросла И затмила свет светила блеском юного чела, Царь собрал своих вазиров[11], знатоков добра и зла, И завел беседу с ними про высокие дела. Царь сказал: «Когда под старость сохнет роза, увядая, Вместо этой старой розы расцветает молодая. Вот и я не вижу света, меркнет взор, изнемогая. Справедливого совета жду от вашего ума я. Жизнь моя к концу подходит, старость хуже всякой боли. Завтра, если не сегодня, я умру по Божьей воле. Для чего и свет, коль мрака не избегнуть в сей юдоли! Пусть же дочь, мое светило, воцарится на престоле». Но вазиры отвечали: «Царь, с ущербною луной, Как бы звезды ни сияли, не сравниться ни одной. Увядающая роза дышит слаще молодой. Что ж ты сетуешь на старость и зовешь ее бедой? Нет, не вянет наша роза, не тверди нам, царь, об этом! Но совет твой, даже худший, не чета другим советам. Делай так, как ты задумал, коль другой исход неведом. Пусть воссядет на престоле та, чей лик сияет светом! Хоть и женщина, но Богом утверждается царица. Мы не льстим: она способна на престоле потрудиться. Не напрасно лик царевны светит миру, как денница: Дети льва равны друг другу, лев ли это или львица». Сын вельможи-полководца, сам прославленный спаспет[12], Автандил-военачальник был в расцвете юных лет. Стройный станом, почитался он соперником планет, Но ресницы солнцеликой довели его до бед. Затаив любовь к царевне, он страдал, испепеленный. Розы щек его бледнели в тишине уединенной, И росло при каждой встрече пламя страсти затаенной… Сколь достоин сожаленья унывающий влюбленный! В день, когда решилось дело с солнцеликою царевной, Боль души его сменилась светлой радостью душевной. Он сказал: «Теперь все больше, с каждой встречей ежедневной Буду я освобождаться от судьбы моей плачевной». Ростеван по всей державе разослал такой указ: «Тинатин на царском троне будет править вместо нас. Пусть она сияет миру, словно царственный алмаз! Дочь-царицу славословить приходите в добрый час!» И сошлись к царю арабы, и приехали вельможи, И Сограт, вазир любимый, с Автандилом прибыл тоже, И, когда они воздвигли трон, устроенный пригоже, Весь народ сказал в восторге: «Нет цены ему, о Боже!» И когда на трон царевну царь возвел пред всем собором, И когда ее венчал он дивным царственным убором, — С царским скипетром, в короне, восхваляемая хором, На людей смотрела дева вдохновенно-кротким взором. И склонились перед нею все собравшиеся ниц, И признали эту деву величайшей из цариц, И ударили кимвалы[13], и, как крылья черных птиц, Все в слезах, затрепетали стрелы девичьих ресниц. Ей казалось: трон отцовский отдан ей не по заслугам, Потому в слезах томился садик роз, взращенный югом. Царь сказал: «Отцы и дети, мы царим здесь друг за другом. Не отдав тебе престола, был бы я убит недугом! Не томись напрасно, дочка! – он просил, увещевая. — Ты теперь надежда наша, отдал все тебе права я. Аравийская царица, будь правительницей края, Мудро, скромно, прозорливо государством управляя. Как бурьяну, так и розам солнце светит круглый год, — Будь и ты таким же солнцем для рабов и для господ. Царской щедростью и лаской привлеки к себе народ, Помни: море не иссякнет, расточая бездны вод. Щедрость – слава государей и премудрости основа. Дивной щедростью владыки покоряют даже злого. Есть и пить любому нужно, в том не вижу я плохого. Что припрячешь – то погубишь, что раздашь — вернется снова». Поучениям отцовским дочь послушная внимала, Светлым разумом без скуки в наставленья проникала. Царь устроил пир веселый, веселился сам немало, Солнце дивной красотою юной деве подражало. И царица повелела вызвать дядьку-пестуна: «Под печатями твоими сохраняется казна. Сундуки открой с деньгами и очисти их до дна: Дочь царя, своим богатством поделиться я должна». Раздала все то царица, что своим считала сроду. Всем – и знатным и незнатным – поприбавилось доходу. Дева так и говорила: «Пусть родителю в угоду Ныне все мое богатство будет роздано народу. Открывайте кладовые, отпирайте все подвалы! Выводи коней, конюший! Выносите перлы, лалы! Ничего не пожалею!» И войска, наполнив залы, На сокровища царицы устремились, как шакалы. Как законную добычу завоеванных земель, Всех коней они угнали, столь лелеемых досель. И была похожа дева на небесную метель, Чтоб любой ее дарами мог наполнить свой кошель. Первый день прошел в забавах. Пили, ели, пировали, Многочисленные гости властелина окружали. Вдруг поник он головою, преисполненный печали. «Что с владыкой приключилось?» – перешептываться стали. Автандил-военачальник с добродетельным Согратом Во главе иных придворных на пиру сидели рядом. Увидав отца царицы странной горестью объятым, — «Что с царем?» – они невольно стали спрашивать себя там. И решили: «Наш владыка стал задумчив не к добру, Ведь никто не мог обидеть государя на пиру!» Автандил сказал Сограту: «Эту странную хандру Постараемся рассеять: нам она не по нутру». Встал Сограт седобородый, встал воитель, стройный станом, Подошли они к владыке – каждый с поднятым стаканом, — Опустились на колени на ковре золототканом, И Сограт вступил в беседу с престарелым Ростеваном: «Загрустил ты, царь великий! Взор твой больше не смеется. Что ж, ты прав! В твоих подвалах даже драхмы[14]не найдется. Дочь твоя свои богатства раздала кому придется. Лучше б ей не быть царицей, чем с нуждой тебе бороться!» Оглянувшись на вазира, усмехнулся царь-отец, Удивился: как он смеет упрекать его, наглец. «Одолжил меня ты славно, мой прославленный мудрец, Но ошибся, утверждая, что арабский царь – скупец! Нет, вазир, не эти мысли доставляют мне мученье! Стар я стал, уходят годы, чую смерти приближенье. Кто, скажи, теперь возьмется заменить меня в сраженье? Кто сумеет в ратном деле перенять мое уменье? Не дала судьба мне сына. Жизнь моя – сплошная мука. И хотя привычна стала для меня земная скука, — Сын сравнялся бы со мною, как лихой стрелок из лука… Лишь отчасти Автандилу впрок пошла моя наука». Слово царское услышав, улыбнулся Автандил, Светозарною улыбкой всю долину озарил. Пред царем потупил очи, был он молод, полон сил. «Ты чему смеешься, витязь? – царь, нахмурившись, спросил.— Разве речь моя безумна и достойна порицанья?» «Государь, – ответил витязь, – дай сперва мне обещанье, Что меня ты не осудишь за обидное признанье, Не предашь меня на муки, не придешь в негодованье». Милой дочерью поклявшись, что, как солнце, пламенела, Царь сказал: «Не бойся, витязь, говори мне правду смело». «Царь, – сказал отважный рыцарь, – предан я тебе всецело, Но напрасно ты кичишься, недостойно это дело! Я, твой верный полководец, только пыль у царских ног, Но пускай решает войско, кто искуснее стрелок. Выходи ж на состязанье, государь, и видит Бог, Лук и стрелы нас рассудят и дадут тебе урок». Царь воскликнул: «Я с тобою говорю не для забавы. Коль со мной ты спор затеял, не уйдешь ты от расправы! Мы в свидетели поставим лучших воинов державы, Поле быстро обнаружит, кто из нас достоин славы». Так они договорились в этот вечер меж собою. Царь шутил и улыбался, расположенный к герою. В заключение решили: кто не справится с стрельбою, Тот проходит трое суток с непокрытой головою. И загонщикам велел он: «Рассыпаясь цепью длинной, Ваше дело – из трущобы гнать на нас косяк звериный». И бойцов на состязанье пригласил он всей дружиной, И закончил пир веселый, и расстался с чашей винной. В золотой чалме, в оружье, как лилея, строен станом, На рассвете прибыл витязь ко дворцу за Ростеваном. С высоко подъятым ликом, светозарным и румяным, На коне он красовался в одеянье златотканом. Скоро выехал владыка, для охоты снаряжен. Луг, назначенный заране, был народом окружен. Вдалеке звучали крики – начался звериный гон, И стрелки схватили луки, как предписывал закон. Царь двенадцати любимцам приказал: «Вперед, за мною! Лук держите наготове, приготовьте стрелы к бою! Подсчитайте, сколько дичи я убью моей рукою!» Между тем лесные звери приближались к зверобою. Многочисленное стадо появилось в отдаленье, На охотников бежали серны, лани и олени. Царь и витязь их встречали градом стрел, не зная лени. Созерцая их проворство, люди были в изумленье. Пыль, поднявшаяся к небу, солнце кутала во мглу, Кровь лилась вокруг рекою, пот струился по челу. Но любой из нападавших за стрелою слал стрелу, И нельзя укрыться было ни оленю, ни козлу. Поле быстро проскакали, все зверье поразогнали, Многих насмерть уложили, землю кровью запятнали. «Кипарис в садах эдемских[15]! Есть другой такой едва ли!» — Так о витязе твердили те, кто спор их наблюдали. Поле кончилось, за полем поднимался лес дремучий, Вдалеке торчали скалы, громоздясь на кручу кручей. Звери прянули в трущобу, там их спас счастливый случай, Ибо в чаще их настигнуть даже конь не мог могучий. Царь, усталый, но довольный, возгласил: «Моя взяла!» Автандил не соглашался, отирая пот с чела. Услыхав их спор веселый, к ним дружина подошла. Царь сказал: «Без всякой лести расскажите, как дела?» «Государь, – сказали слуги, – чтоб тебе не заблуждаться, Знай, что с юным Автандилом ты не можешь состязаться. Мы помочь тебе не в силах, мы обязаны признаться, Что от стрел его оленям было некуда деваться. Двадцать раз по сто животных мы за вами прикололи, Только счет у Автандила штук на двадцать будет боле. Он без промаха стреляет, ты же, царь, помимо воли, Много стрел своих напрасно разметал на этом поле». Царь забавной схваткой в нарды посчитал событье это. Был ему успех питомца слаще солнечного света. Соловей не любит розу так, как он любил спаспета. И печаль его исчезла, и душа была согрета. Оба сели под деревья, дали воинам сигнал, И войска, как строй колосьев, устремились на привал, И двенадцать слуг царевых, каждый строен и удал, Наблюдали за рекою и за выступами скал.Повесть о жизни Тариэла, рассказанная Автандилу при первой встрече
«Будь внимателен, мой витязь, к моему повествованью. Лишь с трудом событья эти поддаются описанью, Ибо та, из-за которой сердце отдано терзанью, Мне отрадою не будет вопреки ее желанью! Семь царей когда-то были господами Индостана. Шесть из них своим владыкой почитали Фарсадана. Царь царей, богатый, щедрый, равный льву красою стана, Мудро правил он страною и сражался неустанно. Мой отец, седьмой на троне, Саридан, гроза врагов, Управлял своим уделом, супостатов поборов. Был счастливец он при жизни, весельчак и зверолов. Порицать его боялись и мудрец и суеслов. Стал со временем родитель одиночеством томиться. Он подумал: «Враг мой сломлен, и крепка моя граница. Сам я, грозный и могучий, смог на троне утвердиться, — Пусть же будет мне оплотом Фарсаданова десница». И посла он к Фарсадану снарядил, не медля боле: «Государь, велик и славен на индийском ты престоле! Я тебе мои владенья отдаю по доброй воле, Пусть об этом помнят люди, существует мир доколе». Фарсадан ему ответил: «Я, владыка этих стран, Воздаю хваленье Богу, светом счастья осиян, Ибо власть мою признал ты, хоть имел такой же сан! Приезжай и будь мне братом, благородный Саридан!» Царь ему оставил царство и назначил амирбаром[16], Амирбар же в Индостане служит главным спасаларом[17]. Отказавшись от престола и владея царским даром, Мой отец единовластно управлял уделом старым. В эти годы мой родитель был царю всего дороже. Царь твердил: «На целом свете нет достойнее вельможи!» Оба тешились охотой и врагов карали тоже. Мы с отцом, как вы со мною, друг на друга не похожи. Горевали царь с царицей: не давал им Бог детей, Горевала и дружина, и народ индийский с ней. В это время я родился. Царь решил с женой своей: «Будет он нам вместо сына, ведь и он – дитя царей». Стал я жить в чертоге царском, окруженный мудрецами, Обучался править царством и начальствовать войсками. Обиход познав державный и освоившись с делами, Я возрос и стал как солнце – лев, сильнейший между львами. Лишь тебе, Асмат, известно, как поблек я в цвете лет. Был же я прекрасней солнца, как прекрасней тьмы рассвет. Всякий, кто со мной встречался, восклицал: «Эдемов цвет!» Ныне я – лишь тень былого, тень того, кого уж нет! На шестом году узнал я, что беременна царица. Срок прошел, настало время царской дочери родиться…» Витязь смолк… Ему водою окропила грудь девица… Он сказал: «Родилась дочка, светозарна, как денница! Мой язык, увы, не в силах описать ее красоты! Фарсадан, весь день пируя, позабыл свои заботы. Драгоценные подарки привозили доброхоты, И посыпались на войско бесконечные щедроты. Справив пышные родины, стали нас растить супруги. Дочь царя, подобно солнцу, стала счастьем для округи. Одинаково любили нас родители и слуги… Но смогу ль назвать я имя дорогой моей подруги!» Снова смертная усталость Тариэлом овладела, Автандил заплакал тоже, огорченный до предела. Но когда Асмат водою оживила Тариэла, Он сказал, вздыхая горько: «Как душа не отлетела! Эту девушку, мой витязь, звали Нестан-Дареджан. Доброта ее и разум удивляли горожан. Лет семи она сияла, словно солнце южных стран. Потеряв ее, заплачет и бездушный истукан! В год, когда она созрела, стал я воином отважным. Царь воспитывал царевну и к делам готовил важным. Возвращенный в дом отцовский, но привыкший к царским брашнам, Львов душил я, словно кошек, в состязанье рукопашном. Безоаровую башню царь воздвиг для черноокой, Был рубинами украшен паланкин ее высокий. Перед башней, средь деревьев, водоем сиял глубокий. Здесь меня царевна наша болью ранила жестокой. Здесь курильницы курились, арфы слышался напев. То скрывалась в башне дева, то гуляла средь дерев. И Давар, сестра царева, в царстве каджей овдовев, Всем премудростям учила эту лучшую из дев. За прекрасною завесой аксамита[18] и виссона[19] Возросла она, царевна, словно пальма Габаона, Но жила вдали от мира, как всегда, уединенно, Лишь Асмат и две рабыни у ее служили трона. Мне пятнадцать лет минуло, царским сыном я считался, Во дворце у властелина день и ночь я оставался. Кипарис в садах эдемских, силой я со львом сравнялся, Бил без промаха из лука и с друзьями состязался. Стрелы, пущенные мною, были смертью для зверей. Возвратившись, в мяч играл я на ристалище царей, Пристрастившийся к веселью, пировал среди друзей… Ныне я лишился жизни для возлюбленной моей. Мой отец внезапно умер, и отцовская кончина Пресекла увеселенья во дворце у властелина. Сокрушенный враг воспрянул и сомкнулся воедино, Супостаты ликовали, горевала вся дружина. Целый год, одетый в траур, плакал я в уединенье, Целый год ни днем, ни ночью я не знал успокоенья. Наконец от Фарсадана получил я повеленье: «Тариэл, сними свой траур, прекрати свои мученья! Смертью равного по сану ведь и мы удручены!» Царь велел мне сто сокровищ дать в подарок от казны. Он сулил мне сан отцовский – полководца всей страны: «Будь отныне амирбаром, чтоб решать дела войны!» Изнемогшего от горя и сгоревшего от муки, Повели меня к владыке врачеватели и слуги. И, устроив пир веселый, венценосные супруги Вновь меня облобызали, как родители и други. На пиру меня владыки возле трона посадили И о сане амирбара вновь со мной заговорили. Я, покорный царской воле, отказаться был не в силе И, склонившись перед троном, принял то, о чем просили. Уж всего мне не припомнить. Много времени прошло. О событьях лет минувших вспоминать мне тяжело. Мир изменчивый и лживый непрестанно сеет зло. Пламя искр его, навеки обреченного, сожгло!»Приезд хорезмийского царевича и гибель его от руки Тариэла
«Государь, жених приехал!» – объявил царю глашатай. Мог ли знать жених, какою Бог грозит ему расплатой? Позабыл печаль владыка, светлой радостью объятый, И велел мне сесть с собою в царской горнице богатой. Царь сказал: «Да будет ныне день великого веселья! Свадьбу радостную справлю посреди своих земель я. Пусть сокровища немедля принесут из подземелья! Скупость – признак скудоумья. Все раздам, чем жил досель я!» За сокровищами тотчас я послал моих людей. Хорезмиец вскоре прибыл с пышной свитою своей. Горожане и вельможи выпели чествовать гостей. Для собравшегося войска не хватало площадей. Царь сказал: «Украсьте город драгоценными шатрами! Пусть приехавший царевич отдыхает там с друзьями. Прикажи войскам, чтоб выпели пир отпраздновать с гостями. Сам же, встретив хорезмийца, оставайся вместе с нами». Площадь красными шатрами мы уставили мгновенно. Хорезмиец въехал в город и сошел с коня степенно. Царедворцы из покоев пели к нему – за сменой смена, И войска вокруг стояли, собираясь постепенно. Все, что надобно, исполнив, я к себе вернулся в дом. Утомившись на приеме, я хотел забыться сном. Вдруг Асмат раба прислала с запечатанным письмом: «Та, чей стан стройней алоэ, ждет тебя в саду своем». Я поехал, но у башни лишь одна Асмат рыдала. Я спросил: «О чем ты плачешь, завернувшись в покрывало?» «Витязь, – молвила девица, – больше сил уже не стало Защищать твои поступки. Я гожусь на это мало». Мы вошли. И, словно солнце, освещая тьму алькова, На меня взглянула дева раздраженно и сурово. «Что ты ждешь? – она спросила. – Разве жертва не готова? Иль опять меня забыл ты? Иль обманываешь снова?» Прочь я бросился от девы и воскликнул, весь в огне: «Будешь знать, кого люблю я и на чьей я стороне! Разве доблесть полководца изменила нынче мне, Чтобы деве приходилось понуждать меня к войне?» Сотню воинов я поднял и сказал: «Готовьтесь к бою!» И на площадь через город полетели мы стрелою. Возлежал жених на ложе, распростертый предо мною. Не пролив ни капли крови, он простился с головою. Я схватил его за ноги и о столб шатра с размаха Головой его ударил. Стража вскрикнула от страха. Я вскочил в седло, помчался, поднимая тучи праха. Был на мне шелом походный и кольчужная рубаха. Слух прошел среди народа, что на площади резня. Отбиваясь от погони, гнал я верного коня. Некий город укрепленный был в то время у меня. Там я скрылся за стеною, участь горькую кляня. И приказ войскам отправил с человеком в тот же день я: «Тот, кто мне помочь желает, пусть придет без промедленья», И до полночи глубокой, исполняя повеленье, К крепостным моим воротам подходили подкрепленья. Встал я с утренней зарею, свел отряды воедино И увидел трех придворных, что пришли от властелина. Царь вещал мне: «Бог свидетель, я взрастил тебя, как сына. Ныне я в тоске и горе. Ты один тому причина. Ты зачем мой дом, безумец, этой кровью запятнал? Если дочь мою любил ты, отчего мне не сказал? Престарелый твой наставник, от страданий я устал И тебя перед кончиной безвозвратно потерял!» «Царь, – ответил я владыке, – я выносливей металла, Оттого меня доселе пламя смерти не пожрало. Но царям, владыкам нашим, правый суд творить пристало! Знай же, царь: твоей царевны не желаю я нимало. Города, дворцы и троны украшают нам державу. Я – законный их наследник по рождению и праву. Все цари поумирали, ты стяжал на троне славу, — Твой престол теперь за мною остается по уставу. Царь, ты сына не имеешь, у тебя лишь дочь – девица. Если ты на трон индийский нам посадишь хорезмийца, Что взамен себе добуду я, законный сын индийца? Нет, покуда меч со мною, здесь пришлец не воцарится! Выдавай царевну замуж, не давай видаться нам, Я же Индию другому добровольно не отдам. Тех, кто будет мне перечить, разорву я пополам, Мне помощников не нужно, я расправлюсь с ними сам».Свадьба Автандила и Тинатин, устроенная царем арабов
В этот день на царском троне величали Автандила. Тариэлу нежность сердца украшением служила. Тинатин с Нестан сидела, и толпа о них твердила, Что сошли с небес на землю два сияющих светила. Чтоб дружинников насытить, принесли там хлеба, соли, И немало там баранов и коров перекололи. Раздавали там подарки сообразно царской воле, И цари, подобно солнцу, там сияли на престоле. Был там дивного чекана каждый свадебный бокал, Гиацинтовые чаши, кубки – выдолбленный лал. Ты, увидев эту свадьбу, сам бы сердцу приказал: «Погуляй с гостями, сердце! Не спеши покинуть зал!» И гремели там кимвалы, и по воле властелина Сто фонтанов источали удивительные вина, И сияли там созвездья бадахшанского рубина, И гуляла там до света Ростеванова дружина. Не остался без подарка ни хромой там, ни увечный. Рассыпали там горстями дивный жемчуг безупречный. Набивали там карманы каждый встречный-поперечный… Дружкой был у Автандила Тариэл добросердечный. Ночь прошла, и на рассвете Тариэлу, выбрав срок, Царь промолвил: «Вы с царицей озарили мой чертог! Вы – владыки над царями, мы – рабы у ваших ног: Их следы напоминают блеск невольничьих серег. Восседать нам вместе с вами, царь великий, не годится!» И престол на возвышенье был поставлен для индийца. Автандил воссел пониже, рядом – юная царица. Дар, врученный Тариэлу, и с горой не мог сравниться! Царь их потчевал, как равных, по законам царской чести, Подходил с своим бокалом то к герою, то к невесте, За свои благодеянья был хвалим без всякой лести… Царь Фридон близ Автандила восседал на царском месте. И индийского владыку, и владычицу сердец, Словно зятя и невестку, одарил старик отец. Малой доли тех подарков сосчитать не мог мудрец. Был там скипетр, и порфира, и рубиновый венец. Соответствовали сану эти дивные подарки: Самоцветы из Романьи сходны с яйцами цесарки, Перлы крупные, как сливы, многочисленны и ярки, Кони рослые, как горы, – скакуны, не перестарки. Девять полных блюд Фридону царь насыпал жемчугами, Девять редких иноходцев отдал вместе с чепраками… Отвечал владыка индов благодарными словами И вполне казался трезвым, хоть немало пил с друзьями. Лишних слов не буду тратить: день за днем летели дни. Целый месяц с Тариэлом пировали там они. Царь дарил владыке индов лалы дивные одни, И горели эти лалы, как небесные огни. Тариэл сиял, как роза, но, прервав увеселенья, С Автандилом государю он послал уведомленье: «Был бы рад с тобой, владыка, развлекаться каждый день я, Но боюсь, что край индийский враг пожрет без промедленья. Чтоб тебя не огорчала ни одна моя утрата, Должен знаньем и искусством я низвергнуть супостата. Ныне я спешу в отчизну, покидаю я собрата, Но надеюсь вас увидеть после скорого возврата!» «Не смущайся! – царь ответил, ожиданьям вопреки. — Делай то, что нужно делать, коль враги недалеки. Автандил тебе на помощь поведет свои полки. Бей коварных супостатов, разрывай их на куски!» Автандил сказал миджнуру о решении царевом. Тот ответил: «Спрячь свой жемчуг под рубиновым покровом! Как ты можешь, поженившись, распроститься с мирным кровом!» Но ему собрат любимый возразил шутливым словом: «Ты, я вижу, уезжаешь, чтоб потом злословить друга: «Он в беде меня оставил! Для него милей супруга!» Я же буду здесь томиться, погасив огонь недуга. Нет! Покинуть побратима – невеликая заслуга!» Смех веселый Тариэла рассыпался, как кристалл. Он сказал: «И я б в разлуке горевать не перестал! Торопись же, если хочешь, и не жди моих похвал!» И дружинам аравийским царь собраться приказал. Он не мешкал и составил свой отряд в престольном граде. Ровно восемьдесят тысяч было всадников в отряде, Все в доспехах хорезмийских и воинственном наряде. Царь-отец, увидев это, приуныл разлуки ради. С грудью грудь и с шеей шею на прощание сливая, Там сестру свою царица провожала молодая. Дав друг другу слово клятвы, обнялись они, рыдая, И народ на них дивился, со всего собравшись края. Вместе с утренней звездою и луна горит с утра, Но сестру потом бросает бледноликая сестра. Коль они не разойдутся, небо скажет им: пора! Чтобы их увидеть вместе, будь высоким, как гора. Точно так же тот, кто создал и земные два светила, Отведет их друг от друга, как бы им ни трудно было. Розы, слитые в лобзанье, вновь судьба разъединила. Тем, кто с ними разлучался, оставалась лишь могила! «Если б мы, – Нестан сказала, – здесь не встретились с тобою, Никогда бы и разлуку не считала я бедою. Не забудь, пиши мне письма, если я вниманья стою! Как сгораю по тебе я, так и ты томись тоскою!» «О пленительное солнце! – Тинатин сказала ей. — Как могу я отказаться от тебя, сестры моей! Без тебя просить о смерти буду я царя царей! Сколько слез я потеряю, столько ты процарствуй дней!» Так расстались две царицы, столь счастливые дотоле. Та, что дома оставалась, вдаль смотрела поневоле. Оборачивалась к дому та, что выехала в поле… Я не мог из тех страданий описать десятой доли! Провожая побратимов, убивался царь могучий. «Горе мне!» – твердил владыка, трепеща от скорби жгучей. Видно, сердце в нем кипело, как котел кипит кипучий! Тариэл был хмур, как солнце, занавешенное тучей. Старый царь, прощаясь с гостем, поминутно говорил: «Сладким кажешься виденьем ты, светило из светил! В двадцать раз я стал печальней, потеряв остаток сил. Сам меня вернул ты к жизни, сам теперь и погубил!» Витязь сел на вороного, опечаленный немало. Стража, вышедшая в поле, дол слезами орошала. «Близ тебя, – она твердила, – даже солнце темным стало!» Он в ответ: «Мои страданья тяжелей страданий Сала!» Так они в поход пустились, и под стягом Тариэла Автандил с царем Фридоном войском правили умело, С ними восемьдесят тысяч пели в неведомое дело, И сердца их там друг другу были преданы всецело. Славных витязей подобных в мире нет уже давно! Спорить встречным-поперечным было с ними мудрено. На привалах эти братья расстилали полотно И не сыворотку пили, а как водится – вино!Свадьба Тариэла и Нестан-Дареджан
Позвала детей царица, руки их соединила И на трон земли индийской в царском зале посадила. Исстрадавшееся сердце новой силой укрепила, Позабыв свои печали, светлой радости вкусила. На высоком царском троне Тариэл воссел с женою, Оба равные друг другу и любимые страною. Кто сумел бы в полной мере возвеличить их хвалою? Кто из всех сынов Адама спорил с ними красотою? Семь престолов Индостана, все отцовские владенья, Получили здесь супруги, утолив свои стремленья. Наконец они, страдальцы, позабыли про мученья: Только тот оценит радость, кто познает огорченья. Даже солнце ликовало, отражаясь в тех героях! Люди били здесь в литавры, громыхали на гобоях. Принесли ключи хранилищ и, собравшись в тех покоях, «Вот наш царь с своей царицей», – говорили про обоих. На отдельных сели тронах там Фрид он и Автандил. Хор вельмож, представ пред ними, их деяния хвалил. Бог подобных им героев на земле не сотворил, И любой из них о прошлом там с гостями говорил. Пили, ели, круг придворных становился больше, шире, Свадьбу радостно справляли, как справляют свадьбы в мире. Драгоценные подарки получили все четыре. Много нищих вспоминает о великом этом пире. Ублажали их индийцы, как спасителей народа: «Возродились мы для жизни после вашего прихода!» Был любой из них прославлен, как герой и воевода, И всегда толпа придворных ожидала их у входа. И тогда владыка индов объявил Асмат-рабыне: «Верной службой ты служила нам с царицею в пустыне! Из семи моих престолов дам тебе один отныне, Будь на нем такой же верной, как в пещере на чужбине. Управляя этим царством, позаботься и о муже, Послужи нам верной службой, став счастливою к тому же!» Но Асмат упала в ноги: «Есть ли что на свете хуже, Чем покинуть вас с царицей и о вас томиться вчуже!» В Индостане трое братьев проводили день за днем, Позабавиться охотой удосужились втроем. Наделен был каждый витязь дивным жемчугом, конем… Автандил один, тоскуя, вечно думал о своем. Увидав, что сердце друга вновь охвачено тоскою, Тариэл сказал: «Я вижу, нелегко тебе со мною! Семь напастей без супруги увеличил ты восьмою… Рок, завидуя счастливым, разлучает нас с тобою!» Царь Фридон за Автандилом стал отпрашиваться следом: «Путь к земле твоей индийской мне отныне будет ведом. Можешь мной распоряжаться, как сосед своим соседом. Я примчусь быстрее лани, чтоб помочь твоим победам! И тогда их царь индийский отпустил в обратный путь, Но напомнил он Фридону: «Возвратись забудь!» Автандилу же прибавил: «Без тебя изноет грудь! Как мне быть, коль солнцу мира льва обязан я вернуть!» Царь в подарок Ростевану слал одежд различных груду, Из граненых самоцветов драгоценную посуду. «Отвези, – сказал, – все это, утоли мою причуду!» «Без тебя, – ответил витязь, – что теперь я делать буду!» Шубку с ценным покрывалом Дареджан сестре дарила, И была даров достойна лишь супруга Автандила. Был на шубке этой камень, весь горящий, как светило, В темноте его сиянье отовсюду видно было. Попрощавшись с Тариэлом, удалился верный друг. Запылал огонь разлуки и в сердцах воспрянул вдруг. Горько плакали индийцы, слезы падали на луг. «Яд судьбы, – промолвил витязь, – умножает мой недуг!» Долго ехали два брата через горные отроги. Наконец они расстались: расходились их дороги. Все желанья их свершились, уничтожились тревоги. Так вернулся царь арабов в Ростевановы чертоги. Украшение державы, был он встречен там с почетом И, свое увидев солнце, положил конец заботам. Вместе с юною царицей возвели на трон его там, И вознес его корону Бог к сияющим высотам. Были преданы друг другу три державные собрата: Часто все они встречались, победивши супостата. Нарушители их воли исчезали без возврата, И росли их государства вместе с мощью их булата. Милосердные дела их всюду сыпались, как снег. Вдов, сирот они кормили, престарелых и калек. Усмирен был в их владеньях недостойный человек, И на пастбище с козою волк не ссорился вовек.Вопросы и задания
1. Сформулируйте идею «Витязя в тигровой шкуре». Какие гуманистические ценности утверждаются в этом произведении?
2. Сопоставив характеры Автандила и Тариэла, а также Тинатин и Нестан-Дареджан, объясните, как в них утверждается средневековый идеал мужчины и женщины.
3. Как проявляется характер Ростевана в споре с Автандилом?
4. Опишите характер повествователя. Какую роль он играет в произведении?
5. Объясните, в чем Ш. Руставели видит задачи поэта.
6. Что называет «настоящей любовью» автор и как, по его мнению, это чувство влияет на характер человека?
7. Как соотносятся образы Автандила и Тариэла с характеристикой миджнура, данной во «Вступлении»?
8. Сопоставив «Коронование Людовика» и «Витязя в тигровой шкуре», составьте схему сходных черт и отличий фольклорного и литературного произведений Средневековья.
9. Сопоставьте наставления будущим правителям в «Короновании Людовика» и «Витязе в тигровой шкуре».
Томас Мэлори
Т. Мэлори жил в XV веке. Он был одним из последних защитников куртуазной[20] рыцарственности и выступал против усиления королевской власти в Англии. Посаженный за своеволие в тюрьму, он создал там грандиозный свод легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, придав ему форму прозаического рыцарского романа. При публикации этот роман получил название «Смерть Артура».
Хотя название произведению дал и не сам его автор, в нем очень точно отразилась основная идея романа: гибель рыцарского идеала, воплощенного в легендарном образе короля Артура. Т. Мэлори выступает в «Смерти Артура» не только талантливым писателем, мастерски соединившим все известные ему легенды о рыцарях Круглого стола, но и идеологом, противопоставляющим феодальную систему культурных ценностей новым веяниям. Отрицая усиление государственности в европейских странах, он мечтает о всемирном братстве благородных рыцарей, посвятивших бы свою жизнь защите христианских идеалов.
Т. Мэлори создает поэтичный мир легендарного королевства Логр, у которого нет границ, ибо оно включает в себя все пространство, на котором разворачиваются деяния рыцарей Круглого стола.
Постарайтесь описать тот рыцарский идеал, который утверждает в своем произведении Т. Мэлори, обратите внимание на роль женщин в его романе, назовите основные художественные средства, используемые писателем для создания характеров.
Попробуйте проследить, как Т. Мэлори соединяет христианский идеал с мифологическими элементами древних кельтских легенд, как он решает в своем произведении проблему соотношения добра и зла.
Смерть Артура. Главы из романа Перевод И. Бернштейн
О девице, которая прибыла, препоясанная мечом, ища рыцаря таких достоинств, чтобы мог извлечь его из ножен
После смерти Утера царствовал Артур, сын его, и вел он в те дни великую войну за то, чтобы забрать в свои руки всю Англию: ибо тогда было много королей в пределах королевства в Англии, а также в Шотландии, Уэльсе и Корнуэлле.
И случилось раз, когда был король Артур в Лондоне, приехал туда один рыцарь и поведал королю о том, что король Риенс, правивший в Северном Уэльсе, собрал великое множество людей, вторгся в его земли и предает огню и мечу верных подданных короля.
– Если воистину это так, – сказал Артур, – то великий будет позор моему королевскому достоинству, если он не встретит могучий отпор.
– Это воистину так, – отвечал рыцарь, – ибо я видел его войско своими глазами.
– Ну что же, – молвил король, – я позабочусь, чтобы был дан отпор его коварству.
И повелел король кликнуть клич, чтобы все лорды, рыцари и служилые дворяне в краткий срок съехались в замок Камелот[21], и король там устроит всеобщий совет и большой турнир. Когда прибыл туда король со своими баронами и расположились они там, как казалось им лучше, приехала в замок также и одна девица, которую прислала великая Владычица острова Авалона[22].
Явилась она пред королем Артуром и поведала ему, откуда она, и объявила, что прислана она к нему с поручением. Тут скинула она с плеч свой плащ, богато отороченный мехом, и увидели все, что на поясе у нее – добрый меч, и король удивился этому и спросил:
– О, девица, для чего препоясались вы мечом? Вам не подобает это.
– Я поведаю вам причину, – отвечала девица. – Сей меч, что препоясывает меня, причиняет мне великие страдания и неудобства, но освободить меня от него может лишь рыцарь добрый, и по делам рук его и по праведной жизни, не ведающий низости, измены и обмана. Если я найду такого рыцаря и он будет обладать всеми этими достоинствами, то сумеет вытащить меч у меня из ножен. Побывала я у короля Риенса, ибо люди говорили, будто при его дворе много славных рыцарей; и сам он пытался, и все рыцари его, но ни один не преуспел.
– Это великое диво, – сказал Артур. – Если воистину это так, я тогда и сам попытаюсь вытащить сей меч; не потому что мыслю о себе, будто я лучше всех остальных рыцарей, но просто начну первым и тем покажу пример баронам, дабы и они все попытались один за другим после меня.
И Артур взялся за ножны, потянул с силою, но меч не вынимался.
– Сэр[23], – сказала девица, – вам нет нужды тянуть и вполовину так сильно, ибо тот, кому суждено его вытащить, сделает это с легкостью.
– Верно, – отвечал Артур. – А теперь пытайте удачи и вы все, мои бароны.
– Только смотрите, чтобы не быть вам запятнанными ни позором, ни изменой, ни хитростью, ибо тогда вы не преуспеете, – сказала девица, – ибо тот рыцарь должен быть чист душой и чужд коварства, и должен он быть благородного происхождения с отцовской стороны и с материнской.
Чуть не все бароны Круглого стола, какие собрались там в то время, по очереди стали пытать удачи, но ни одному не дано было преуспеть. И девица тогда опечалилась превыше меры и молвила:
– Увы! А я-то думала, что здесь при дворе состоят лучшие в мире рыцари – без предательства и обмана!
– Клянусь, – сказал Артур, – на мой суд, тут перед вами лучшие рыцари в свете, но им не дано освободить вас, и это меня весьма печалит.
Как Балин в обличии бедного рыцаря извлек из ножен меч, ставший потом причиной его погибели
Случилось же так, что в то время был у короля Артура на дворе бедный рыцарь, он полгода содержался там узником за то, что убил одного рыцаря, который королю Артуру доводился родичем. Имя же ему было Балин, и с доброй помощью баронов был он вызволен из тюрьмы, ибо у него была добрая слава и рождением он был нортумберландец. И вот пришел он потихоньку на королевский двор и увидел, над чем бьются там рыцари; тут сердце его взыграло, и захотелось ему тоже попытать удачи. Но был он беден и в бедных одеждах и потому не стал протискиваться вперед. В глубине же души своей он твердо знал, что не ударит в грязь лицом, если только судьба ему будет благоприятствовать. И когда девица поклонилась королю Артуру и всем баронам и собралась в обратный путь, этот рыцарь Балин обратился к ней и сказал:
– Благородная девица, я молю вас о милости, чтобы вы дозволили и мне попытать удачи, как другим лордам. Хоть я, может, и бедно одет, все равно в душе моей я столь же твердо верю в удачу, как и иные из этих лордов, и думается мне, что дано мне тут преуспеть.
Поглядела девица на бедного рыцаря и видит: он собою хорош; но из-за того, что его одежда была бедна, не верилось ей, что он славный рыцарь без низости и обмана. И сказала ему она:
– Сэр, нет нужды вам опять беспокоить меня, ибо где уж вам преуспеть там, где остальные рыцари потерпели неудачу.
– Ах, прекрасная девица, – сказал Балин, – о достоинствах и добродетелях да и о славных подвигах судят не только по одежде; мужество и доблесть скрываются в самом человеке, и немало есть добрых рыцарей на свете, о которых никто из людей не знает. Достоинства и отвага не в одежде.
– Видит Бог, – отвечала девица, – вы говорите правду, и потому дозволяю вам попытать удачи, если вы желаете.
Тогда Балин взялся за рукоять и за ножны и вытащил меч с легкостью.
А когда взглянул он на меч, то пришелся ему меч по сердцу.
А король и все бароны очень подивились, что Балин свершил этот подвиг; и многие рыцари затаили против него зло.
– Воистину, – молвила девица, – это добрый рыцарь, лучший изо всех, кого довелось мне встретить, рыцарь достойнейший, без измены, обмана и низости. И немало дивных дел он еще свершит. А теперь, благородный и любезный рыцарь, возвратите мне этот меч.
– О нет, – отвечал Балин, – меч этот оставлю я у себя, и отнимут у меня его только силою.
– Напрасно, – сказала девица, – хотите вы сохранить у себя мой меч, ибо этим мечом убьете вы своего лучшего друга, человека, кого дороже не будет у вас никого на свете, и станет этот меч вашей погибелью.
– Я готов принять все испытания, – отвечал Балин, – какие пошлет мне Бог. Но теперь, клянусь жизнью, я меча вам не отдам!
– Вы скоро раскаетесь в этом, – сказала девица, – я прошу у вас этот меч более для вашей пользы, нежели для моей; и я горько сокрушаюсь о вас, ибо если не оставите мне его, то он обернется вашей погибелью, а это будет великой жалости достойно.
И с такими словами покинула их благородная девица, плача и печалясь.
А Балин после этого послал за своим конем и за доспехами, ибо собрался покинуть королевский двор. Стал прощаться с королем Артуром.
– Нет, – молвил ему король, – не следует вам так вдруг покидать нас. Вы, верно, держите зло против меня за то, что я был с вами суров. Но не вините меня слишком, ибо вас предо мною оговорили, я не знал, что вы столь славный и искусный рыцарь. Если вы захотите остаться здесь при дворе среди моих рыцарей, я одарю вас щедро, и будете вы довольны.
– Да наградит Бог ваше величество, – отвечал Балин. – Щедрость вашу и вполовину не выразить словами, но настал срок, когда я непременно должен вас покинуть, и молю лишь, чтобы милость ваша всегда была со мною.
– Воистину, – сказал король, – я весьма досадую на вас за то, что вы уезжаете. Но прошу вас, добрый рыцарь, не мешкайте вдали от нас, возвращайтесь, здесь будете вы приняты мною и моими баронами с великим радушием, и я возмещу то зло, что было причинено вам.
– Бог да наградит вашу милость, – отвечал Балин и стал собираться в путь.
Между тем из рыцарей Круглого стола многие говорили, что он свершил этот подвиг не силою, но колдовством.
Как Владычица Озера[24] потребовала себе голову рыцаря, которому достался меч, или голову девицы
Но пока собирался он в дорогу, прибыла ко двору Владычица Озера на коне и в богатых одеждах. Она поклонилась королю Артуру и сказала, что хочет получить от него дар, как он обещал, когда она отдала ему меч.
– Это правда, – сказал Артур, – я обещал отдать вам в дар, что вы ни попросите, только я забыл, как зовется мой меч, который вы мне подарили.
– Зовется он, – отвечала Владычица Озера, – Экскалибур, а это означает: «Руби Сталь».
– Хорошо сказано, – молвил Артур. – Спрашивайте, чего вы хотите, и вы получите все, если только это в моей власти.
– Тогда, – сказала дама, – я прошу голову рыцаря, что сейчас вытащил заколдованный меч, или же голову той девицы, что привезла меч к вашему двору. Я готова принять и обе их головы, ибо он убил моего брата, доброго и честного рыцаря, а эта благородная девица погубила моего отца.
– Воистину, – отвечал король Артур, – честь не позволяет мне пожаловать вам ни его голову, ни ее, а потому просите у меня, что еще вы захотите, и я тогда исполню ваше желание.
– Ничего иного не стану я у вас просить, – отвечала она.
А Балин собрался в дорогу и вдруг увидел Владычицу Озера, которая кознями своими погубила некогда его мать, и он за то три года искал ее по свету. Когда же сказали ему, что она просила у короля Артура его голову, приблизился он прямо к ней и сказал:
– В недобрый час ты явилась. Ты хотела получить мою голову, и за то лишишься ты своей!
И мечом в тот же миг отсек ей голову на глазах у короля Артура.
– Увы, позор! – воскликнул король Артур. – Зачем вы это сделали? Вы опозорили меня и весь мой двор, ибо перед этой дамой я в большом долгу и она прибыла сюда под мое покровительство. И потому я никогда не прощу вам такое самоуправство.
– Сэр, – сказал Балин, – меня печалит ваша немилость, ведь эта дама – коварнейшая из женщин на свете, чарами и колдовством погубила она многих добрых рыцарей, из-за нее и моя мать погибла на костре – через измену ее и предательство.
– Какова бы ни была у вас причина, – отвечал Артур, – все равно следовало вам сдержаться в моем присутствии. И не думайте, вам еще придется раскаяться в своем поступке, ибо такого беззакония никогда еще не бывало у меня при дворе. А потому покиньте мой двор со всей возможной поспешностью.
Подобрал Балин срубленную голову и отнес ее на подворье, где он стоял, а там ожидал его оруженосец, который был очень опечален, что его господин навлек на себя немилость короля.
Вот выехали они из города.
– А теперь, – сказал Балин, – надлежит нам расстаться. Ты возьми эту голову, и отвези ее друзьям моим, и расскажи обо мне, и поведай им в Нортумберланде, что мой злейший враг мертв. И еще скажи им, что я освобожден из заточения, и о том расскажи, как удалось мне добыть этот меч.
– Увы! – сказал оруженосец. – Велика ваша вина, что навлекли вы на себя немилость короля Артура.
– Что до этого, – отвечал Балин, – то должен я отправиться в путь со всей поспешностью, дабы встретиться мне с королем Риенсом и сокрушить его или же пасть самому. Если же посчастливится мне его одолеть, тогда будет король Артур мне добрым другом.
– Сэр, где увижу я вас снова? – спросил оруженосец.
– При дворе короля Артура, – отвечал Балин.
Так и расстались они с оруженосцем. А король Артур и весь его двор горько сокрушались из-за гибели Владычицы Озера и из-за навлеченного на них позора. И король богато похоронил ее.
Как Мерлин[25] поведал историю этой девицы
А в то время был там один рыцарь, сын Ирландского короля, и звался он Лансеор: был он рыцарь надменный и сам себя почитал из первых при дворе. На Балина затаил он великое зло за то, что тот преуспел в приключении с мечом, ибо не желал, чтобы кто-то почитался доблестнее и искуснее, нежели он. И стал он просить у короля Артура изволения, чтобы поскакать ему вслед Балину и отплатить за причиненное королю оскорбление.
– Поезжайте и отличитесь, как можете, – сказал Артур. – Я сильно разгневан на Балина. И хочу, чтобы он поплатился за оскорбление, какое нанес он мне и моему двору.
И отправился Лансеор на подворье, где он стоял, чтобы собраться в дорогу.
Между тем прибыл ко двору короля Артура Мерлин, и поведали ему о приключении с мечом и о гибели Владычицы Озера.
– Вот что скажу я вам, – молвил Мерлин, – прямо при девице этой, что стоит сейчас перед вами, привезшей тот меч к вашему двору, я открою причину, по какой прибыла она к вам. Она – лживейшая из женщин, – и пусть попробует отрицать это! Ибо у нее есть брат, рыцарь добрый и искусный, и верный сердцем, а эта девица полюбила другого рыцаря, который взял ее в наложницы. И добрый рыцарь, брат ее, встретился в поединке с тем рыцарем, что содержал ее в наложницах, и зарубил его силою руки своей. И когда увидела это сия лживая девица, отправилась она к Владычице острова Авалона и просила у нее помощи, дабы отомстить своему брату.
Как сэр Лансеор, ирландский рыцарь, увидел Балина, как они сразились и он был убит
И Владычица Авалона дала ей тот меч, с которым приехала она потом к вашему двору, и сказала ей, что вытащить его из ножен сумеет лишь лучший рыцарь в королевстве, и будет он доблестен и могуч; и что мечом этим он убьет собственного брата. Вот какая причина, о девица, что прибыли вы сюда ко двору. Мне она известна, как и вам. О, лучше бы не приезжать вам сюда! Ибо никогда, являясь среди общества достойных людей, не причиняли вы им добра, но лишь великое зло. И рыцарь, добывший тот меч, из-за меча того и погибнет; а это будет великим злом, ибо не живет на земле рыцарь искуснее его. А вам, господин мой Артур, он сделает много чести и добра; и превеликой жалости достойно, что жить ему лишь краткий срок, ибо по силе и мужеству не знаю я равных ему на земле.
А ирландский рыцарь тем временем снарядился в погоню, повесил щит на плечо, сел на коня, в руку взял добрый меч и пустил коня во весь дух.
В скором времени разглядел он с горы Балина и громким голосом вскричал:
– Помедли, о рыцарь! Не то все равно придется тебе помедлить, хочешь ты того или нет. И щит, на груди у тебя висящий, тебе не поможет, – сказал ирландский рыцарь. – Ибо я еду вослед тебе.
– Может быть, – отвечал Балин, – лучше бы вам было оставаться дома. Ибо немало рыцарей, полагавших повергнуть своих врагов, а вместо того оборачивалось дело против них же самих. От какого двора явились вы? – спросил Балин.
– От двора короля Артура, – сказал ирландский рыцарь, – и здесь я для того, чтобы отмстить за оскорбление, которое нанесли вы ныне королю Артуру и всему его двору.
– Ну что ж, – отвечал Балин, – вижу я, что должен вступить с вами в поединок. Что огорчил я короля Артура и его двор, это меня печалит. На ваше против меня обвинение ответить просто, – сказал Балин, – ибо убитая мною дама причинила мне великое зло, а будь это не так, заслуживал бы я презрения, как и всякий рыцарь, который поднимет меч на даму.
– Готовьтесь к бою! – вскричал рыцарь Лансеор. – И нападайте на меня! Ибо лишь один из нас останется на поле брани.
Уперли они копья в упоры на луке седла и ринулись друг на друга, как могли только нести их кони. Ирландский рыцарь ударил в щит Балина, и в куски разлетелось копье его. А Балин в ответ ударил его – и прошло копье сквозь щит, прорвало кольчугу, пронзило тело, и перебросил Балин рыцаря через круп его коня. А потом в ярости повернул снова на него коня и обнажил меч, не ведая еще, что уже убил его.
Как Мерлин влюбился до безумства в одну из девиц Владычицы Озера и как он оказался заперт в скале под камнем и там умер
После того как возвратились из странствий сэр Гавейн, сэр Тор и король Пелинор, случилось так, что Мерлин влюбился до безумия в ту девицу, что привез ко двору король Пелинор, а была она одной из приближенных Владычицы Озера по имени Нинева. Мерлин же покоя ей не давал, он все время хотел быть с нею. И она была с ним ласкова и приветлива, пока не вызнала у него все, что хотела, и не переняла его искусство, а он без ума ее любил, так что жить без нее не мог.
Вот однажды объявил он королю Артуру, что недолго ему, Мерлину, осталось жить на свете, но быть ему вскорости, несмотря на его колдовское искусство, заживо зарытым в землю. И еще многое открыл он королю Артуру, что должно произойти в будущем, но всего строже наказал ему беречь меч Экскалибур с ножнами, ибо будут у него меч и ножны похищены женщиной, которой он более всех доверяет. И еще предсказал он королю Артуру, что не раз пожалеет он о нем, Мерлине.
– Все владения свои согласитесь вы тогда отдать за то, чтобы снова я был с вами.
– Но раз уж, – сказал ему король, – вам ведома судьба ваша, позаботьтесь, чтобы силою чар ваших отвести от себя такое несчастье.
– Нет, – отвечал Мерлин, – это невозможно. Расстался он с королем Артуром, а в скором времени девица из Озерной страны покинула Артуров двор и Мерлин вместе с нею, и следовал он за нею повсюду, куда бы она ни направлялась.
По пути не раз замышлял он овладеть ею тайно силою волшебных чар своих. Но она заставила его поклясться, что он никогда не употребит против нее волшебства, чтобы добиться своего, и он дал ей в том клятву.
Переехала она с Мерлином через море в страну Бенвик, где правил король Бан, который вел великую войну с королем Клаудасом. Там говорил Мерлин с женою короля Бана, женщиной прекрасной и доброй, а имя ей было – Элейна. И там увидел он юного Ланселота. А королева сильно горевала из-за кровопролитной войны, что вел король Клаудас против ее владений.
– Не печальтесь, – сказал ей Мерлин, – ибо не пройдет и двадцати лет, как вот этот мальчик, юный Ланселот, отомстит за вас королю Клаудасу, так что весь христианский мир станет о том говорить; и будет тот мальчик доблестнейшим и славнейшим мужем на свете. А прежнее имя его – Галахад, о том доподлинно мне известно, – добавил Мерлин, – лишь позднее окрестили вы его Ланселотом.
– Это правда, – отвечала королева. – Сначала назвали его Галахад. О Мерлин, – сказала королева, – неужели доживу я и увижу моего сына столь славным мужем?
– Да, воистину, госпожа, клянусь спасением своим, вы это увидите и много зим еще после того проживете.
И в скором времени отбыли оттуда Мерлин и его дама. По пути показывал он ей многие чудеса, и так прибыли они в Корнуэлл. А он все замышлял овладеть ее девственностью, и так он ей докучал, что она только и мечтала, как бы избавиться от него, ибо она страшилась его, как сына дьяволова, но отделаться от него не могла никаким способом. И вот однажды стал он ей показывать великое чудо – волшебную пещеру в скале, прикрытую тяжелой каменной плитой. Она же хитро заставила его лечь под тот камень, чтобы могла она убедиться, в чем заключалась волшебная сила, а сама так наколдовала, что он со всем своим искусством уже не мог никогда поднять каменную плиту и выйти наружу, и с тем, оставив Мерлина, отправилась в дальнейший путь.
Вопросы и задания
1. Как показывается в «Смерти Артура» сила и слабость королевской власти в период раннего Средневековья?
2. Как сочетаются в характерах, создаваемых Т. Мэлори, верность рыцарскому идеалу и феодальное своеволие?
3. Как понимается в «Смерти Артура» зло?
4. Сопоставьте женские образы в «Смерти Артура» и «Витязе в тигровой шкуре», объясните различия в понимании женского идеала Ш. Руставели и Т. Мэлори.
5. Охарактеризуйте образ сэра Балина. Можно ли назвать этот образ трагическим?
Данте Алигьери
На рубеже XIII и XIV веков в Италии расцветает талант одного из самых великих поэтов.
Данте Алигьери родился во Флоренции, первой в мире буржуазной республике, и хотя происходил из старинного аристократического рода, добровольно записался в ремесленный цех аптекарей (к которому относились все средневековые «интеллигенты»), тем самым подчеркнув сознательное непризнание феодальных привилегий.
Серьезно занимаясь поэзией, Данте в то же время был крупным политическим деятелем, принимавшим активное участие в формировании и защите Флорентийской республики. Политическая борьба в то время была делом опасным, и вскоре великий поэт оказывается изгнанным из родного города. Большую часть своей жизни Данте провел на чужбине и был похоронен в Равенне.
Уже в своем первом литературном произведении, небольшой книге «Новая жизнь», Данте проявил удивительную художественную смелость, соединив любовные стихи с прозаической повестью. Затем поэт создает целый ряд произведений, который завершается величественной эпической поэмой «Божественная комедия».
Название этого шедевра тоже очень показательно. Дело в том, что сам поэт назвал свое творение просто «комедией», а эпитет «божественная» был добавлен восхищенными читателями, потрясенными грандиозным сочинением великого флорентийца. В «Божественной комедии» удивительно легко и естественно соединились философские размышления о человеке, страстные политические призывы, сатирические разоблачения и христианский гимн мудрости и справедливости Творца.
В поэме Данте использовал старинный и чрезвычайно популярный в Средневековье жанр виде́ния, в котором обычно повествовалось о путешествии человека по загробному миру в сопровождении какого-нибудь святого или самой Богородицы. В соответствии с традицией поэт подразделяет свое произведение на три основные части (кантики): «Ад», «Чистилище» и «Рай». Проводников же Данте выбирает, нарушая традицию: по аду и чистилищу его сопровождает древнеримский поэт Вергилий, а по раю – Беатриче.
Есть и еще одно важное отличие «Божественной комедии» от средневековых видений: она написана на итальянском, а не на латинском языке, причем терцинами. Терцина – особая стихотворная строфа, состоящая из трех стихов: первый стих рифмуется с третьим, второй – с первым и третьим стихом второй терцины, и так далее… Это сложная поэтическая форма, требующая недюжинного мастерства.
Прочитав отрывки из поэмы, попытайтесь определить, к какому литературному роду относится это произведение. Скажите, как проявляется характер повествователя и его проводника Вергилия.
Данте обычно характеризуют как последнего поэта Средневековья и первого поэта Нового времени. Действительно, в «Божественной комедии» причудливо переплелись средневековая суровость к земным радостям и восхищение человеческой жизнью. Описывая судьбу влюбленных Паоло и Франчески, Данте сочувствует их любви и поражается силе чувства, но поскольку любовь эта преступна (Франческа была замужем) – место влюбленным лишь в аду.
Когда вы станете читать «Ад», обратите внимание на то, что поэт считает грехом, кого помещает он в круги ада и как распределяет наказания. Поразмыслите, зачем Данте потребовалось описывать кроме ада еще и его преддверье – лимб.
Данте был поистине великим художником, прекрасно чувствовавшим силу слова. При чтении книги заметьте: «Ад» вызывает перед мысленным взором четкие скульптурные образы, «Чистилище» поражает цветовой гаммой, а «Рай» наполнен музыкой. Как поэт достигает такого эффекта?
«Божественная комедия» пользовалась заслуженной любовью не только в Италии, но и во всей Европе. Восхищались этой поэмой и в России, с упоминания ее автора начинает известный вам «Сонет» А. С. Пушкин. Н. В. Гоголь, приступая к созданию «Мертвых душ», далеко не случайно называет свое произведение «поэмой»: он в качестве образца видел творение Данте и хотел использовать композицию его бессмертного произведения. Вот почему мне очень хотелось бы, чтобы вы были внимательны, знакомясь с «Комедией», справедливо названной «Божественной».
Божественная комедия. Отрывок из поэмы Перевод В. Брюсова
Ад
Песнь первая
На полдороге странствия земного[26] Себя увидел я в лесу глухом, Затем, что сбился я с пути прямого. О, как же трудно описать стихом Тот мрачный лес, столь дикий и глубокий, Что я дрожу при мысли лишь о нем! Едва ль страшней миг смерти недалекой. Но, так как благо я в лесу обрел, Скажу, что раньше видело там око. Не вспомнить мне, как я спустился в дол: Я словно сонным шел по бездорожью, Когда с дороги истинной сошел. Но, наконец, я подступил к подножью Холма[27], где тот заканчивался бор, Который сердце мне наполнил дрожью, — И к озаренным высям поднял взор, Уже одетым в свет того светила, Чей луч ведет отвсюду на простор. Сиянье это ужас мой смирило, Что в озере души всю ночь стоял, Пока меня отчаянье томило. Как человек, что, задыхаясь, встал На берег, выйдя из морской пучины, Глядит назад и видит грозный вал, — И дух мой так, покинув дно долины, Еще дрожа, глядел назад, где мгла, Откуда жив не вышел ни единый. Когда ж усталость несколько прошла, Стал подниматься я на склон отлогий; Ногой опорной – низшая была. И вот, на первых же шагах дороги, — Пятнистой шкуры выставив наряд, Пантера, легкий зверь и быстроногий, Бесстрашно встретив мой упорный взгляд, Она мне путь столь грозно заступала, Что я не раз бежать хотел назад. Был ранний час, и солнце поднимало С тем сонмом звезд свой лик на высоту, Как в оный день, когда Любви начало Впервые двинуло их красоту. Меня бодрило многое в невзгоде: Убор пантеры, тешащий мечту, Час дня и месяц, всех нежнее в годе, — Но был охвачен ужасом былым Я, льва увидя на пустынном всходе. Поднявши голову, алчбой томим, Ко мне как будто он стремил движенья, И воздух словно трепетал пред ним. За львом волчица шла; все вожделенья, Казалось, в худобе своей тая, Она уж многим принесла мученья! Под тяжестью сдавилась грудь моя: Столь властный страх ее метали взгляды! На высь надежду вновь утратил я. Скупец, упорно собиравший клады, Теряя их, и плачет, и дрожит, Ни в чем себе не ведая отрады. И я, в тот час, имел такой же вид, Когда, за шагом шаг, без состраданья, Зверь гнал меня туда, где день молчит[28]. Я в дол срывался, где познал блужданья, И некто вдруг явился предо мной. Без голоса от долгого молчанья Казался он; к нему в глуши лесной, «О, сжалься ты над мною! – возопил я. — Кто б ни был, тень иль человек земной!» В ответ: «Не человек, но оным был я. Меня отец ломбардец породил, И мантуанца прозвище носил я. Sub Julio[29], но поздно, в Риме жил При добром Августе я, в век известный, Что призрачных богов и ложных чтил. Поэт я был; воспет мной благочестный Анхисов сын, кто кинул Илион, Когда был Трои град сожжен чудесный. Но почему вспять шаг твой обращен, К печалям всем, а не к прекрасным горам? Путь и начало всяких благ – сей склон!» «Ужель Вергилий ты, тот ключ, в котором Берет исток река великих слов?» — Так я ответил, со смущенным взором. «О, честь и светоч всех других певцов! Да значит мне любовь к тебе и рвенье Вникать усердно в смысл твоих стихов! Учитель мой! мой образец! Творенья Твои мне дали тот хороший слог, Которым мог снискать я одобренье. Се – зверь, меня что гонит без дорог! Мудрец прославленный! Меня избавить Ты в силах: я дрожу и изнемог!» «Иным путем ты должен шаг направить[30], — Ответил он, в слезах мой видя лик, — Коль ты готов сей дикий край оставить. Зверь, у тебя что исторгает крик, Не терпит на своем пути другого, А кто противится, тот гибнет вмиг. Он нрава столь свирепого и злого, Что ввек не насыщает свой живот, Но, глад насытив, больше алчет снова. Совокупляясь, много привлечет Зверей еще он, не придет доколе Пес, что его, в мученьях, загрызет. Питаньем Псу не серебро, не поле, Но мудрость, добродетель и любовь, И край от Фельтро к Фельтро будет долей. Несчастную Италию он вновь Спасет, за кою девушку Камилла, Турн, Эвриал и Нис пролили кровь[31]. Чрез грады все его погонит сила Волчицы и низвергнет в самый Ад: Ее оттуда зависть возродила. Но должен ты, – мой это видит взгляд, — Идти за мной; я буду твой водитель Чрез царства вечные, а не назад. Прискорбных стонов узришь ты обитель, Страданья древних душ, что тщетно ждут, Чтоб снова смерть пришла как избавитель[32]! И узришь тех, что в пламени живут Счастливыми, надеждой утешаясь, Что в круг блаженных и они войдут. Коль жаждешь к ним взнестись ты, возвышаясь, — Душа придет достойней, чем моя: Ей поручу тебя я, расставаясь[33]. Тот Властелин, что держит те края, Не хочет, чтоб туда я был вожатый: Ведь был врагом его закона я[34]. Царит он всюду: там – его палаты, Его престол, его нетленный свет. Блаженны те, кто в этот град прияты!» Он двинулся, я вслед пошел за ним. И я ему: «Молю тебя, поэт, Во имя Бога, коего не знал ты! Чтоб минул я и тех и горших бед, Веди меня в те царства, что назвал ты, Чтоб стал у врат я, пред Петром Святым[35], И зрел несчастных, коих описал ты!»Вопросы и задания
1. Как вы думаете, какой смысл вкладывает Данте в слово «комедия» в названии своего произведения?
2. Почему проводником Данте по Аду становится Вергилий?
3. Дайте характеристику образа повествователя.
4. Какой смысл вкладывает поэт в понятие «грех» и какие человеческие качества он считает «греховными»?
5. Каким представляется человек в поэме Данте?
6. Перескажите наиболее понравившийся вам эпизод из поэмы, объясните, как проявляется в нем авторская позиция.
7. Охарактеризуйте композицию и строфику поэмы.
8. Напишите сочинение на тему «Сила и слабость человека в западноевропейской средневековой литературе».
Национальное своеобразие средневековой русской литературы
О начале развития русской литературы можно говорить только с X века, когда на Руси появилась письменность. Однако уже в XI и XII веках русская национальная литература не только поражает читателей своей зрелостью, но и приобретает черты самобытности.
Следует сказать, что Русь не оставалась равнодушной и к творениям зарубежных писателей, охотно обращая внимание на созвучные ее потребностям и отличающиеся художественным совершенством произведения. Наиболее тесные литературные связи установились между Киевской Русью и Византией, а также со славянскими странами, с которыми Русь сближала общность книжного (церковнославянского) языка. Из Болгарии Русь позаимствовала переводы библейских книг и житийную литературу. Жития заимствовались также из Чехии. А из Византии пришли на землю наших предков «Повесть об Акире Премудром», «Повесть о Варлааме и Иоасафе», «Александрия».
Наибольший интерес вызывали на Руси исторические сочинения и публицистические произведения нравственно-религиозной тематики. В то же время Русь осталась совершенно равнодушной к зарубежной поэзии и любовной прозе, скорее всего потому, что подобного рода произведения были достаточно хорошо представлены в национальном фольклоре.
Но с самых первых шагов молодая русская литература приобрела и ревниво оберегала ряд характерных особенностей, заложивших основы национальной литературной традиции.
Во-первых, это уважительное отношение к славе своих предков. Так, в одном из самых ранних памятников русской литературы – «Слове о законе и благодати», принадлежавшем перу митрополита Иллариона, воздается хвала героическим предкам князя Владимира Киевского – Игорю и Святославу. Илларион воспевает славу князьям несмотря на то, что оба они были язычниками, а основной мыслью автора было прославление «благодати» Евангелия, снизошедшей на Русь.
Ревнивой заботе о славе земли Русской можно приписать и огромное внимание, уделявшееся созданию летописей, самой замечательной из которых была «Повесть временных лет». Летописи скрупулезно фиксировали наиболее значительные исторические события, но включали в себя и легенды, и мифологические предания, особенно способствовавшие прославлению Русской земли и русского народа.
Второй особенностью средневековой русской литературы была ее ориентированность на всю Русь в целом. Вы понимаете, что феодальная раздробленность была явлением исторически закономерным, что идеи государственности тогда попросту не существовало. Русские писатели не мыслили о государстве, они охотно принимали удельное княжение, которое, однако, не отменяло в их сознании понятия «Русская земля». Они и писали-то о всей Русской земле и для всей Русской земли.
Для восточных славян Русская земля была понятием не географическим и не политическим (как, например, территория Киевской Руси), а той общностью, которая объединяла многие поколения родственных славянских племен. Очень ярко прославление родины представлено в «Слове о погибели Русской земли», отразившем страшную трагедию монголо-татарского нашествия. Именно патриотический пафос придавал всем произведениям средневековой русской литературы известную публицистичность.
Третьей особенностью, отличающей средневековую русскую литературу, была тесная взаимосвязь духовных и светских мотивов. Русская литература ориентировалась на православие с его строгой системой нравственных ценностей. Первыми советчиками князей были отцы русской православной церкви, центром русского села или русского города был храм. Поскольку богослужение велось на понятном народу языке и на этом же языке создавались все духовные книги, между священнослужителями и паствой не было той резкой грани, которая разделяла эти два сословия в католичестве.
Многочисленные жития святых, проповеди, поучения наряду с христианскими откровениями содержали и актуальные светские проблемы. Именно поэтому национальная традиция русской литературы закладывалась как традиция духовная, нравственная и патриотическая.
Вам уже известны некоторые произведения русских средневековых авторов. Попытайтесь обнаружить в них обозначенные выше особенности.
Повесть временных лет. В сокращении Перевод Д. Лихачева
Это произведение – одно из древнейших сочинений русской литературы. Оно создано в самом начале XII века монахом Киевско-Печерской лавры Нестором-летописцем. В нем рассказывается о происхождении Русской земли, о первых русских князьях и о важнейших событиях средневековой русской истории.
Летопись – характерный средневековый жанр (в Западной Европе он назывался «хроники»), содержащий описание легендарных и реальных событий, мифологических представлений и проч., отражающий нерасчлененность в сознании человека художественного и научного творчества. Летописи создавались, чтобы сохранить память о событиях прошлого – чему свидетелем был сам летописец, или о чем он услышал или прочел в других летописях. В них причудливо переплетаются реальные факты, легендарные предания и откровенный художественный вымысел. Академик Д. С. Лихачев говорил, что у древнерусской литературы был один сюжет – «мировая история» и одна тема – «смысл человеческой жизни». Именно летопись наилучшим образом подтверждает эту мысль замечательного ученого.
Яркая особенность «Повести временных лет» – ее поэтический слог. Нестор мастерски владел словом. Он использует художественные средства для придания убедительности своему повествованию и восполняет таким образом недостаток фактических сведений об исторических событиях. В этом произведении нашла воплощение характерная особенность русского летописания. Летописцы не только фиксировали события в их хронологической последовательности, но создавали универсальный свод имеющихся в их распоряжении письменных источников и устных преданий, на основе которых они делали свои обобщения.
Таким образом, рассказ о реальном или легендарном событии превращался в своеобразную притчу, заключающую в себе важное для читателя поучение.
Попробуйте выделить художественный пласт повествования в повести. Задумайтесь, какая литературная традиция закладывается этим произведением.
В год 6420[36](912)…
Неудивительно, что от волхвования сбывается чародейство. Так было и в царствование Доментиана[37]: тогда был известен некий волхв[38] именем Аполлоний Тианский[39], который ходил и творил всюду бесовские чудеса – в городах и селах. Однажды, когда из Рима пришел он в Византию, его упросили живущие там сделать следующее: он отогнал из города множество змей и скорпионов, чтобы не было от них вреда людям, и ярость конскую обуздал на сонмище бояр. Так и в Антиохию[40] пришел, и упрошенный людьми теми – антиохиянинами, страдавшими от скорпионов и комаров, сделал медного скорпиона, и зарыл его в землю, и поставил над ним небольшой мраморный столп, и повелел взять людям палки и ходить по городу и выкликивать, потрясая теми палками: «Быть городу без комара!» И так исчезли из города скорпионы и комары. И спросили его еще об угрожавших городу землетрясениях, и, вздохнув, написал он на дощечке следующее: «Увы тебе, несчастный город, много тебя будет трясти земля, и огнем будешь попален, оплачет тебя и Оронтия на берегу». Об Аполлонии этом и великий Анастасий[41] Иерусалимский сказал: «Чудеса, произведенные Аполлонием, даже и до сих пор на некоторых местах исполняются: некоторые из них сотворены, чтобы отогнать четвероногих животных и птиц, которые могли бы вредить людям, другие же для удержания речных струй, вырвавшихся из берегов, но иные и на погибель и в ущерб людям, хотя и на обуздание их. Не только ведь при жизни его так делали бесы такие чудеса, но и по смерти, у гроба его, творили чудеса его именем, чтобы обольщать жалких людей, часто уловляемых на них дьяволом». Итак, кто что скажет о творящих волшебство? Ведь вот искусен был на волшебное обольщение и никогда не считался Аполлоний с тем, что в безумстве предался мудрому ухищрению; а следовало бы ему сказать: «Словом только творю я то, что хотел», и не совершать действий, ожидаемых от него. То все попущением Божиим и творением бесовским случается, – всеми подобными делами испытывается наша православная вера, что тверда она и пребывает подле Господа и не увлекаема дьяволом, его призрачными чудесами и сатанинскими делами, творимыми врагами рода человеческого и слугами зла…
В год 6370. Изгнали варяг[42] за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть. И не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать сами с собой. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И попели за море к варягам, к руси[43].
Те варяги назывались русью подобно тому, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, – вот так и эти прозывались. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли к славянам, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, – на Белоозере, а третий, Трувор, – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же – те люди от варяжского рода, а прежде были славяне. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И овладел всею властью один Рюрик и стал раздавать мужам своим города – тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах – находники, а коренное население в Новгороде – славяне, в Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик. И было у него два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили: «Чей это городок?» Тамошние же жители ответили: «Были три брата, Кий, Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их потомки, и платим дань хозарам[44]».
Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же в это время княжил в Новгороде.
В год 6390. Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов: варягов, чудь, славян, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и принял власть в городе, и посадил в нем своих мужей. Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и также посадил своих мужей. И пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади, а сам подошел к горам, неся ребенка Игоря. И подплыл к Угорской горе, спрятав своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря им, что-де «мы купцы, идем к грекам от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, к родичам своим». Когда же Аскольд и Дир пришли, все спрятанные воины выскочили из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода», а когда вынесли Игоря, добавил: «Вот он сын Рюрика». И убили Аскольда и Дира, отнесли на гору и погребли: Аскольда – на горе, которая называется ныне Угорской, где теперь Ольмин двор; на той могиле Ольма поставил церковь святого Николы; а Дирова могила – за церковью святой Ирины. И сел Олег, княжа в Киеве, и сказал Олег: «Да будет матерью городам русским». И были у него варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся русью. Тот Олег начал ставить города и установил дани славянам, и кривичам, и мери, положил и для варягов давать дань от Новгорода по триста гривен[45] ежегодно ради сохранения мира, что и давалось варягам до самой смерти Ярослава.
В год 6391. Начал Олег воевать против древлян и, покорив их, брал дань с них по черной кунице.
В год 6392. Отправился Олег на северян, и победил их, и возложил на них легкую дань, и не позволил им платить дань хозарам, говоря так: «Я враг их, и вам им платить незачем».
В год 6393. Послал Олег к радимичам, спрашивая: «Кому даете дань?» Они же ответили: «Хозарам». И сказал им Олег: «Не давайте хозарам, но платите мне». И дали Олегу по шелягу[46], как раньше хозарам давали.
И властвовал Олег над полянами, и древлянами, и северянами, и радимичами, а с уличами и тиверцами воевал.
В год 6406. Шли угры (венгры) мимо Киева горою, которая прозывается теперь Угорской, и пришли к Днепру, и стали вежами[47]: ходили они так же, как теперь половцы[48].
И, придя с востока, устремились через великие горы, которые прозвались Угорскими (Карпаты), и стали завоевывать живших там волохов и славян. Сидели ведь тут прежде славяне, а затем Славянскую землю захватили волохи. А после угры прогнали волохов, унаследовали ту землю и поселились со славянами, покорив их себе; и с тех пор прозвалась земля Угорской. И стали угры воевать против греков и попленили землю Фракийскую и Македонскую до самой Селуни. И стали воевать против моравов и чехов. Был един народ славянский: и те славяне, которые сидели по Дунаю, покоренные уграми, и моравы, и чехи, и поляки, и поляне, которых теперь называют русь. Для них ведь, моравов, первоначально созданы буквы, названные славянской грамотой; эта же грамота и у русских и у болгар дунайских.
Когда славяне жили уже крещенными, князья их Ростислав, Святополк и Коцел послали к царю Михаилу[49], говоря: «Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который бы наставил и поучил нас и объяснил святые книги; ибо не знаем мы ни греческого языка, ни латинского. Одни учат нас так, а другие иначе, от этого не знаем мы ни начертания букв, ни их значения. И пошлите нам учителей, которые бы могли нам рассказать о книжных словах и о смысле их». Услышав это, царь Михаил созвал всех философов и передал им все, что сказали славянские И сказали философы: «В Селуни есть муж, именем Лев. Имеет он сыновей, знающих славянский язык; два сына у него искусные философы». Услышав об этом, царь послал за ними ко Льву в Селунь со словами: «Пошли к нам без промедления своих сыновей Мефодия и Константина». Услышав об этом, Лев вскоре же послал их. И пришли они к царю, и сказал им царь: «Вот, прислала послов ко мне Славянская земля, прося себе учителя, который мог бы им истолковать священные книги. Ибо этого они хотят». И уговорил их царь и послал их в Славянскую землю к Ростиславу, Святополку и Коцелу. Когда же братья эти пришли, – начали они составлять славянскую азбуку и перевели Апостол и Евангелие[50].
И рады были славяне, что услышали они о величии Божьем на своем языке. Затем перевели Псалтырь и Октоих[51] и другие книги. И поднялись на них некие люди, роптали и говорили, что-де «ни одному народу не следует иметь свою азбуку, кроме евреев, греков и латинян, как в надписи Пилата[52], который на кресте Господнем написал только на этих языках». Услышав об этом, папа римский осудил тех, кто ропщет на славянские книги[53], сказав так: «Да исполнится слово Писания: «Пусть восхвалят Бога все народы», и другое: «Пусть все народы восхвалят величие Божие, поскольку дух святой дал им говорить». Если же кто бранит славянскую грамоту, да будет отлучен от церкви, пока не исправится; это волки, а не овцы, их следует узнавать по поступкам их и беречься их. Вы же, дети, послушайте божественного учения и не отвергните церковного поучения, которому поучал вас учитель ваш Мефодий». Константин же вернулся назад и отправился учить болгарский народ, а Мефодия оставил в Моравии. Затем князь Коцел поставил Мефодия епископом в Паннонии на столе святого Андроника, одного из семидесяти апостолов[54], ученика святого апостола Павла. Мефодий же посадил двух попов, хороших скорописцев, и перевел все книги полностью с греческого языка на славянский в шесть месяцев, начав в марте, а закончив 26 октября. Закончив же, воздал достойную хвалу Богу, давшему такую благодать епископу Мефодию, преемнику апостола Андроника; ибо учитель славянскому народу – апостол Андроник. До моравов же доходил и апостол Павел и учил там. Там же находится и Иллирия, до которой доходил апостол Павел и где первоначально жили славяне. Вот почему учитель славян – апостол Павел, из тех же славян – и мы, русь; поэтому и нам, руси, учитель Павел, так как учил славянский народ и поставил по себе для славян епископом и наместником Андроника. А славянский народ и русский един, от врагов ведь прозвались русью, а прежде были славяне; хоть и полянами назывались, но речь была славянской. Полянами прозвались потому, что сидели в поле, а язык был им общий – славянский.
В год 6415. Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою множество варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцов, известных как толмачи: этих всех называли греки «Великая Скифь». И с этими всеми пошел Олег на конях и в кораблях; и было кораблей числом две тысячи. И пришел к Царьграду; греки же замкнули Суд[55], а город затворили. И вышел Олег на берег, и начал воевать, и много убийств сотворил в окрестностях города грекам. И разбили множество палат, и церкви пожгли.
А тех, кого захватили в плен, одних иссекли, других мучили, иных же застрелили, а некоторых побросали в море, и много другого зла сделали русские грекам, как обычно делают враги.
И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на них корабли. И с попутным ветром подняли они паруса и пошли со стороны поля к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали через послов Олегу: «Не губи города, дадим тебе дани, какой захочешь». И остановил Олег воинов, и вынесли ему пищу и вино, но не принял его, так как было оно отравлено. И испугались греки и сказали: «Это не Олег, но святой Дмитрий[56], посланный на нас от Бога». И приказал Олег дать дани на две тысячи кораблей: по двенадцати гривен на человека, а было в каждом корабле по сорок мужей.
И согласились на это греки, и стали греки просить мира, чтобы не воевал Греческой земли. Олег же, немного отойдя от столицы, начал переговоры о мире с греческими царями Леоном и Александром и послал к ним в столицу Карла, Фарлафа, Вермуда, Рулава и Стемида со словами: «Платите мне дань». И сказали греки: «Что хочешь дадим тебе». И приказал Олег дать воинам своим на две тысячи кораблей по двенадцати гривен на уключину, а затем дать дань для русских городов: прежде всего для Киева, затем для Чернигова, для Переяславля, для Полоцка, для Ростова, для Любеча и для других городов: ибо по этим городам сидят великие князья, подвластные Олегу. «Когда приходят русские, пусть берут содержание для послов сколько хотят; а если придут купцы, пусть берут месячное[57] на шесть месяцев: хлеба, вина, мяса, рыбы, плодов. И пусть устраивают им баню – сколько захотят. Когда же русские отправятся домой, пусть берут у царя на дорогу еду, якоря, канаты, паруса и что им нужно». И обязались греки, и сказали цари и все бояре: «Если русские явятся не для торговли, то пусть не берут месячное. Да запретит русский князь указом своим, чтобы приходящие сюда русские не творили ущерба в селах и в стране нашей. Прибывающие сюда русские пусть обитают у церкви святого Мамонта и, когда пришлют к ним от нашего государства и перепишут имена их, только тогда пусть возьмут полагающееся им месячное, – сперва те, кто пришли из Киева, затем из Чернигова, и из Переяславля, и из других городов. И пусть входят в город через одни только ворота, в сопровождении царского мужа, без оружия, по пятьдесят человек, и торгуют сколько им нужно, не уплачивая никаких сборов».
Итак, царь Леон и Александр заключили мир с Олегом, обязались уплачивать дань и ходили ко взаимной присяге: сами целовали крест, а Олега с мужами его водили к клятве по закону русскому, и клялись те своим оружием и Перуном, их богом, и Волосом, богом скота[58], и утвердили мир. И сказал Олег: «Сшейте для руси паруса из паволок, а славянам копринные[59]!»
И было так! И повесил щит свой на вратах в знак победы, и пошли от Царьграда. И подняла русь паруса из паволок, а славяне копринные, и разодрал их ветер. И сказали славяне: «Возьмем свои простые паруса, не дали славянам паруса из паволок». И вернулся Олег в Киев, неся золото, и паволоки, и плоды, и вино, и всякое узорочье. И прозвали Олега Вещим, так как были люди язычниками и непросвещенными.
В год 6420.
И жил Олег, княжа в Киеве, мир имея со всеми странами. И пришла осень, и помянул Олег коня своего, которого когда-то поставил кормить, решив никогда на него не садиться. Ибо когда-то спрашивал он волхвов и кудесников: «От чего я умру?» И сказал ему один кудесник: «Князь! От коня твоего любимого, на котором ты ездишь, – от него тебе и умереть!» Запали слова эти в душу Олегу, и сказал он: «Никогда не сяду на него и не увижу его больше». И повелел кормить его и не водить его к нему, и прожил несколько лет, не видя его, пока не пошел на греков. А когда вернулся в Киев и прошло четыре года, – на пятый год помянул он своего коня, от которого когда-то волхвы предсказали ему смерть. И призвал он старейшину конюхов и сказал: «Где конь мой, которого приказал я кормить и беречь?» Тот же ответил: «Умер». Олег же посмеялся и укорил того кудесника, сказав: «Не право говорят волхвы, но все то ложь: конь умер, а я жив». И приказал оседлать себе коня: «Да увижу кости его». И приехал на то место, где лежали его голые кости и череп голый, слез с коня, посмеялся и сказал: «От этого ли черепа смерть мне принять?» И ступил он ногою на череп, и выползла из черепа змея и ужалила его в ногу. И от того разболелся и умер он. Оплакивали его все люди плачем великим, и понесли его, и похоронили на горе, называемою Щековица. Есть же могила его и доныне, слывет могилой Олеговой. И было всех лет княжения его тридцать и три.
В год 6523. Святополк сел в Киеве по смерти отца своего, и созвал киевлян, и стал давать им подарки. Они же брали, но сердце их не лежало к нему, потому что братья их были с Борисом. Когда Борис уже возвратился с войском назад, не найдя печенегов, пришла к нему весть: «Отец у тебя умер». И плакался по отце горько, потому что любим был отцом больше всех, и остановился, дойдя до Альты[60].
Сказала же ему дружина отцовская: «Вот у тебя отцовская дружина и войско: пойди сядь в Киеве на отцовском столе». Он же отвечал: «Не подниму руки на брата своего старшего: если и отец у меня умер, то пусть этот будет мне вместо отца». Услышав это, воины разошлись от него. Борис же остался стоять с одними своими отроками. Между тем Святополк задумал беззаконное дело, воспринял мысль Каинову и послал сказать Борису: «Хочу с тобою любовь иметь и придам тебе еще к тому владению, которое ты получил от отца», но сам обманывал его, чтобы как-нибудь его погубить. Святополк пришел ночью в Вышгород, тайно призвал Путшу и вышгородских мужей боярских и сказал им: «Преданы ли вы мне всем сердцем?» Отвечали же Путша с вышгородцами: «Согласны головы свои сложить за тебя». Тогда он сказал им: «Не говоря никому, ступайте и убейте брата моего Бориса». Те же обещали ему немедленно исполнить это. О таких сказал Соломон: «Спешат они на пролитые крови без правды. Ибо принимают они участие в пролитии крови и навлекают на себя несчастия. Таковы пути всех, совершающих беззаконие, ибо нечестием изымают свою душу». Посланные же пришли на Альту ночью, и когда подступили ближе, то услыхали, что Борис поет заутреню, так как пришла ему уже весть, что собираются погубить его. И, встав, начал он петь: «Господи! За что умножились враги мои! Многие восстают на меня»; и еще: «Ибо стрелы твои вонзились в меня; ибо я готов к бедам, и скорбь моя предо мною»; и еще говорил он: «Господи! Услышь молитву мою и не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред тобой никто из живущих, так как преследует враг душу мою». И, окончив шестопсалмие и увидев, что пришли посланные убить его, начал петь псалмы: «Обступили меня тельцы тучные… Скопище злых обступило меня»; «Господи, Боже мой, на тебя уповаю, спаси меня и от всех гонителей моих избавь меня». Затем начал он петь канон; а затем, кончив заутреню, помолился и сказал так, смотря на икону, на образ Владыки: «Господи Иисусе Христе! Как ты в этом образе явился на землю нашего спасения, собственною волею дав пригвоздить руки свои на кресте, и принял страдание за наши грехи, так и меня сподобь принять страдание. Я же не от врагов принимаю это страдание, но от своего же брата, и не вмени ему, Господи, это в грех». И, помолившись Богу, возлег на постель свою. И вот напали на него, как звери дикие, из-за шатра, и просунули в него копья, и пронзили Бориса, а вместе с ним пронзили и слугу его, который, защищая, прикрыл его своим телом. Ибо был он любимец Бориса. Был отрок этот родом венгр, по имени Георгий. Борис его сильно любил, и возложил он на него гривну золотую большую, в которой он и служил ему. Убили они и многих других отроков Бориса. С Георгия же убитого не могли они быстро снять гривну с шеи, и отсекли голову его, и только тогда сняли гривну, а голову отбросили прочь, поэтому-то впоследствии и не обрели тела его среди трупов. Убив же Бориса, окаянные завернули его в шатер, положили на телегу и повезли, а он еще дышал. Святополк же окаянный, узнав, что Борис еще дышит, послал двух варягов прикончить его. Когда те пришли и увидели, что он еще жив, то один из них извлек меч и пронзил его в сердце. И так скончался блаженный Борис, приняв с другими праведниками венец вечной жизни от Христа Бога, сравнявшись с пророками и апостолами, пребывая с сонмом мучеников, почивая на лоне Авраама, видя неизреченную радость, распевая с ангелами и веселясь со святыми. И положили тело его в церкви Василия, тайно принеся его в Вышгород. Окаянные же те убийцы пришли к Святополку, точно хвалу возымев от людей, беззаконники. Вот имена этих законопреступников: Путша, Талец, Еловит, Ляшко, а отец им всем сатана. Ибо такие бывают слуги – бесы; бесы ведь посылаются на злое, ангелы же посылаются для добрых дел. Ангелы ведь не творят человеку зла, но добра ему желают постоянно, особенно же помогают христианам и защищают их от супостата-дьявола; а бесы уловляют человека на злое, завидуя ему; и так как видят, что человек от Бога в чести, – потому и завидуют, а посылаемые на злое – скоры на выполнение. Злой человек, усердствуя злому делу, хуже беса, ибо бесы Бога боятся, а злой человек ни Бога не боится, ни людей не стыдится; бесы ведь и креста Господня боятся, а человек злой и креста не боится.
Святополк же окаянный стал думать: «Вот убил я Бориса; как бы убить Глеба?» И, замыслив Каиново дело, послал, обманывая, посла к Глебу со следующими словами: «Приезжай сюда поскорее, отец тебя зовет: сильно он болен». Глеб тотчас же сел на коня и отправился с малою дружиною, потому что был послушлив отцу. И когда пришел он на Волгу, то в поле запнулся конь его о яму и повредил себе немного ногу. И пришел в Смоленск, и отошел от Смоленска недалеко, и стал на Смядыне в насаде[61].
В это время пришла от Предславы весть к Ярославу об отцовской смерти, и послал Ярослав сказать Глебу: «Не ходи, отец у тебя умер, а брат твой убит Святополком». Услыхав это, Глеб громко возопил со слезами, плачась по отце, но еще больше по брате, и стал молиться со слезами, говоря так: «Увы мне, Господи! Лучше было бы мне умереть с братом, нежели жить на свете этом. Если бы видел я, брат мой, лицо твое ангельское, то умер бы с тобою; ныне же зачем остался я один? Где речи твои, что говорил ты мне, брат мой любимый? Ныне уже не услышу тихого твоего наставления. Если доходят молитвы твои к Богу, то помолись обо мне, чтобы и я принял ту же мученическую кончину. Лучше бы было мне умереть с тобою, чем в свете этом обманчивом жить». И когда он так молился со слезами, внезапно пришли посланные Святополком погубить Глеба. И тут вдруг захватили посланные корабль Глебов и обнажили оружие. Отроки же Глебовы пали духом. Окаянный же Горясер, один из посланных, велел тотчас же зарезать Глеба. Повар же Глеба, именем Торчин, вынув нож, зарезал Глеба, как безвинного ягненка. Так был принесен он в жертву Богу, вместо благоуханного фимиама жертва разумная, и принял венец царствия Божия, войдя в небесные обители, и увидел там желанного брата своего, и радовался с ним неизреченною радостию, которой достиг благодаря своему братолюбию. «Как хорошо и как прекрасно жить братьям вместе!» Окаянные же возвратились назад, как сказал Давид: «Да возвратятся грешники в ад». Когда же они пришли, сказали Святополку: «Сделали приказанное тобою». Он же, услышав это, возгордился еще больше, не ведая, что Давид сказал: «Что хвалишься злодейством, сильный? Весь день беззаконие… умышляет язык твой».
Итак, Глеб был убит, и был он брошен на берегу между двумя колодами[62], затем же, взяв его, увезли и положили его рядом с братом его Борисом в церкви святого Василия.
И соединились они телами, а сверх того и душами, пребывая у Владыки, Царя всех, в радости бесконечной, в свете неизреченном и подавая дары исцеления Русской земле и всех приходящих с верою из иных стран исцеляя: хромым давая ходить, слепым давая прозрение, болящим выздоровление, закованным освобождение, темницам открытие, печальным утешение, гонимым избавление. Заступники они за Русскую землю, светильники сияющие и вечно молящиеся Владыке Богу о своих людях. Вот почему и мы должны достойно восхвалять страстотерпцев этих Христовых, прилежно молясь им со словами: «Радуйтеся, страстотерпцы Христовы, заступники Русской земли, подающие исцеление приходящим к вам с верою и любовью. Радуйтесь, небесные обитатели, были вы ангелами во плоти, единомысленными служителями Богу единообразной четой, святым единодушной; поэтому и подаете вы исцеление всем страждущим. Радуйтесь, Борис и Глеб богомудрые, источаете вы как бы струи из колодца живописной воды исцеления, истекают они верным людям на выздоровление. Радуйтесь, поправшие коварного змея, явившиеся подобно лучам светозарным, как светильники, озаряющиеся верою неуклонною. Радуйтесь, заслужившие незасыпающее око, души свои к исполнению святых Божьих заповедей в сердцах своих склонившие, блаженные. Радуйтесь, братья, вместе пребывающие в местах светозарных, в селениях небесных, в неувядаемой славе, обладания которой удостоились. Радуйтесь, явно для всех осиянные божественным светом, весь мир обошедшие, бесы отгоняющие, недуги исцеляющие, светильники добрые, заступники теплые, с Богом пребывающие, божественными лучами всегда озаряемые, мужественные страстотерпцы, просвещающие души верным людям. Возвысила вас светоносная небесная любовь; через нее вы и наследовали все красоты небесного жития, славу, и райскую пищу, и свет разума, прекрасные радости. Радуйтесь, потому что напояете вы все сердца, горести и болезни отгоняете, страсти злые исцеляете; каплями своими кровавыми святыми обагрили свою багряницу, прославленные, ибо, ее прекрасно нося, с Христом царствуете всегда, молясь за новых христианских людей и сродников своих. Благословилась земля Русская кровью вашею и мощами, покоящимися в церкви, просвещаете вы церковь эту духом божественным, в ней же с мучениками, как мученики, молитесь вы за людей своих. Радуйтесь, светлые звезды, утром восходящие! Христолюбивые же страстотерпцы и заступники наши! Покорите поганых под ноги князьям нашим, молясь Владыке Богу нашему, чтобы пребывали они в мире, в единении и в здоровье, избавляя их от усобных войн и от пронырства дьявола, удостойте и нас того же, поющих вам и почитающих ваше славное торжество, во вся веки до скончания мира».
Святополк же окаянный и злой убил Святослава, послав к нему к горе Угорской, когда тот бежал в Угры. И стал Святополк думать: «Перебью всех своих братьев и стану один владеть Русскою землею». Так думал он в гордости своей, не зная, что «Бог дает власть кому хочет, ибо поставляет цесаря и князя Всевышний тому, кому захочет дать». Если же какая-нибудь страна станет угодной Богу, то ставит ей Бог цесаря и князя праведного, любящего суд, и закон, и властителя, и судью, судящего суд. Ибо если князья справедливы в стране, то много согрешений прощается стране той; если же злы и лживы, то еще большее зло насылает Бог на страну ту, потому что князь глава земли. Ибо так сказал Исайя: «Согрешили от головы и до ног», то есть от цесаря и до простых людей. «Горе городу тому, в котором князь юн», любящий пить вино под звуки гуслей вместе с молодыми советниками. Таких князей дает Бог за грехи, а старых и мудрых отнимает, как сказал Исайя: «Отнимет Господь у Иерусалима крепкого исполина и храброго мужа, судью, и пророка, и смиренного старца, и дивного советника, и мудрого художника, и разумного, живущего по закону». «И дам им юношу князя и обидчика поставлю обладать ими».
Святополк же окаянный стал княжить в Киеве. Созвав людей, стал он им давать кому плащи, а другим деньгами, и роздал много богатств. Ярослав же не знал еще об отцовской смерти, и было у него множество варягов, и творили они насилие новгородцам и женам их. Новгородцы восстали и перебили варягов во дворе Промоньем. И разгневался Ярослав и пошел в село Ракомо, сел там во дворе и послал к новгородцам сказать: «Мне уже тех не воскресить». И призвал к себе лучших мужей, которые перебили варягов, и, обманув их, перебил в свой черед.
В ту же ночь пришла ему весть из Киева от сестры его Предславы: «Отец твой умер, а Святополк сидит в Киеве, убил Бориса, а на Глеба послал, берегись его очень». Услышав это, печален был Ярослав и об отце, и о братьях, и о дружине. На другой день, собрав остаток новгородцев, сказал Ярослав: «О, милая моя дружина, которую я вчера перебил, а сегодня она оказалась нужна». Утер слезы и обратился к ним на вече: «Отец мой умер, а Святополк сидит в Киеве и убивает братьев своих». И сказали новгородцы: «Хотя, князь, и иссечены братья наши, – можем за тебя бороться!» И собрал Ярослав тысячу варягов, а других воинов сорок тысяч, и пошел на Святополка, призвав Бога в свидетели своей правды и сказав: «Не я начал избивать братьев моих, но он; да будет Бог мстителем за кровь братьев моих, потому что без вины пролил он праведную кровь Бориса и Глеба. Пожалуй, и со мной то же сделает? Рассуди меня, Господи, по правде, да прекратятся злодеяния грешного». И пошел на Святополка.
В год 6573 (1065)… В те же времена было знаменье[63] на западе, звезда великая, с лучами как бы кровавыми; с вечера всходила она на небо после захода солнца, и так было семь дней. Знамение это было не к добру, после того были усобицы многие и нашествие поганых на Русскую землю, ибо эта звезда была как бы кровавая, предвещая крови пролитье. В те же времена ребенок был брошен в Сетомль; этого ребенка вытащили рыбаки в неводе, и рассматривали мы его до вечера и опять бросили в воду. Был же он такой: на лице у него были срамные части, а иного нельзя и сказать срама ради. Перед тем временем и солнце изменилось[64] и не стало светлым, но было как месяц, о таком солнце невежды говорят, что оно объедено. Знамения эти бывают не к добру, мы потому так думаем, что именно так случилось в древности, при Антиохе[65], в Иерусалиме: внезапно по всему городу в течение сорока дней стали являться в воздухе всадники скачущие, с оружием, в золотых одеждах, полки обеих сторон являлись, потрясая оружием: и это предвещало нападение Антиоха, нашествие рати на Иерусалим. Потом при Нероне[66] цесаре в том же Иерусалиме над городом воссияла звезда в виде копья: это предвещало нашествие римского войска. И снова так было при Юстиниане[67] цесаре: звезда воссияла на западе, испускавшая лучи, и прозвали ее лампадой, и так блистала она дней двадцать; после же того было звездотечение на небе с вечера до утра, так что все думали, будто падают звезды, и вновь солнце сияло без лучей: это предвещало крамолы, болезни людям, смерти. Снова, уже при Маврикии[68] цесаре, было так: жена родила ребенка без глаз и без рук, а к бедрам у него рыбий хвост прирос; и пес родился шестиногий; в Африке же двое детей родилось: один о четырех ногах, а другой о двух головах. Потом же было при царе Константине[69] Иконоборце, сыне Леона, звездотечение на небе, звезды срывались на землю, так что видевшие думали, что конец мира; тогда же воздухотечение было сильное; в Сирии же было землетрясение великое, так что земля разверзлась на три поприща и, дивно, из земли вышел мул, говоривший человеческим голосом и предсказывавший нашествие иноземцев, как и случилось потом: напали сарацины на Палестинскую землю. Знамения ведь на небе, или в звездах, или в солнце, или в птицах, или в чем ином не к добру бывают; но знамения эти ко злу бывают: или войну предвещают, или голод, или смерть…
В год 6579 (1071). Воевали половцы у Ростовца и Неятина. В тот же год выгнал Всеслав Святополка из Полоцка. В тот же год победил Ярополк Всеслава у Голотическа. В те же времена пришел волхв, обольщенный бесом; придя в Киев, он рассказывал людям, что на пятый год Днепр потечет вспять и что земли начнут перемещаться, что Греческая земля станет на место Русской, а Русская на место Греческой, и прочие земли переместятся. Невежды слушали его, верующие же смеялись, говоря ему: «Бес тобою играет на погибель тебе». Что и сбылось с ним: в одну из ночей пропал без вести. Бесы ведь, подстрекая людей, во зло их вводят, а потом насмехаются, ввергнув их в погибель смертную, подучив их говорить; как мы сейчас и расскажем об этом бесовском наущении и деянии.
Однажды во время неурожая в Ростовской области явились два волхва из Ярославля, говоря, что «мы знаем, кто запасы держит». И отправились они по Волге и куда ни придут в погост, тут и называли знатных жен, говоря, что та жито прячет, а та – мед, а та – рыбу, а та – меха. И приводили к ним сестер своих, матерей и жен своих. Волхвы же, мороча людей, прорезали за плечами и вынимали оттуда либо жито, либо рыбу и убивали многих жен, а имущество их забирали себе. И пришли на Белоозеро, и было с ними людей триста. В это же время случилось Яню, сыну Вышатину, собирая дань, прийти от Святослава; поведали ему белозерцы, что два кудесника убили уже много жен по Волге и по Шексне и пришли сюда. Янь же, расспросив, чьи смерды[70], и узнав, что они смерды его князя, послал к тем людям, которые были около волхвов, и сказал им: «Выдайте мне волхвов, потому что смерды они мои и моего князя». Они же его не послушали. Янь же пошел сам без оружия, и сказали ему отроки его: «Не ходи без оружия, осрамят тебя». Он же велел взять оружие отрокам и с двенадцатью отроками пошел к ним к лесу. Они же исполчились против него. И вот, когда подошли к Яню, говоря ему: «Видишь, что идешь на смерть, не ходи». Янь же приказал убить их и пошел к оставшимся. Они же кинулись на Яня, и один из них промахнулся в Яня топором. Янь же, оборотив топор, ударил того обухом и приказал отрокам рубить их. Они же бежали в лес и убили тут Янева попа. Янь же, войдя в город к белозерцам, сказал им: «Если не схватите этих волхвов, не уйду от вас весь год». Белозерцы же пошли, захватили их и привели к Яню. И сказал им: «Чего ради погубили столько людей?» Те же сказали, что «они держат запасы, и если истребим их, будет изобилие; если же хочешь, мы перед тобою вынем жито, или рыбу, или что другое». Янь же сказал: «Поистине ложь это; сотворил Бог человека из земли, составлен он из костей и жил кровяных, нет в нем больше ничего, никто ничего не знает, один только Бог знает». Они же сказали: «Мы знаем, как человек сотворен». Он же спросил: «Как?» Они же отвечали: «Бог мылся в бане и вспотел, отерся ветошкой и бросил ее с небес на землю. И заспорил сатана с Богом, кому из нее сотворить человека. И сотворил дьявол человека, а Бог душу в него вложил. Вот почему, если умрет человек, – в землю идет тело, а душа к Богу». Сказал им Янь: «Поистине прельстил вас бес; какому Богу веруете?» Те же ответили: «Антихристу!» Он же сказал им: «Где же он?» Они же сказали: «Сидит в бездне». Сказал им Янь: «Какой это Бог, коли сидит в бездне? Это бес, а Бог на небесах, восседает на престоле, славимый ангелами, которые предстоят ему со страхом и не могут на него взглянуть. Один из ангелов был свергнут – тот, кого вы называете антихристом; низвергнут был он с небес за высокомерие свое и теперь в бездне, как вы и говорите; ожидает он, когда сойдет с неба Бог. Этого антихриста Бог свяжет узами и посадит в бездну, схватив его вместе со слугами его и теми, кто в него верует. Вам же и здесь принять муку от меня, а по смерти – там». Те же сказали: «Говорят нам боги: не можешь нам сделать ничего!» Он же сказал им: «Лгут вам боги». Они же ответили: «Мы станем перед Святославом, а ты не можешь сотворить ничего». Янь же повелел бить их и выдергивать им бороды. Когда их били и выдирали расщепом бороды, спросил их Янь: «Что же вам молвят боги?» Они же ответили: «Стать нам перед Святославом». И повелел Янь вложить рубли в уста им и привязать их к мачте лодки и пустил их перед собою в ладье, а сам пошел за ними. Остановились на устье Шексны, и сказал им Янь: «Что же вам теперь боги молвят?» Они же сказали: «Так нам боги молвят: не быть нам живым от тебя». И сказал им Янь: «Вот это-то они вам правду поведали». Волхвы же ответили: «Но если нас пустишь, много тебе добра будет; если же нас погубишь, много печали примешь и зла». Он же сказал им: «Если вас пущу, то плохо мне будет от Бога, если же вас погублю, то будет мне награда». И сказал Янь гребцам: «У кого из вас кто из родни убит ими?» Они же ответили: «У меня мать, у того сестра, у другого дочь». Он же сказал им: «Мстите за своих». Они же, схватив, убили их и повесили на дубе: так отмщение получили они от Бога по правде! Когда же Янь отправился домой, то на другую же ночь медведь влез, загрыз их и съел. И так погибли они по наущению бесовскому, другим пророчествуя, а своей гибели не предвидя. Если бы ведь знали, то не пришли бы на место это, где им предстояло быть схваченными; а когда были схвачены, то зачем говорили: «Не умереть нам», в то время, когда Янь уже задумал убить их? Но это и есть бесовское наущение: бесы ведь не знают мыслей человека, а только влагают помыслы в человека, тайны его не зная. Бог один знает помышления человеческие. Бесы же не знают ничего, ибо немощны они и скверны видом. Вот и еще расскажем о виде их и о наваждениях их. В то же время, в те же годы случилось некоему новгородцу прийти в землю Чудскую, и пришел к кудеснику, прося волхвования его. Тот же по обычаю своему начал призывать бесов в дом свой. Новгородец же сидел на пороге того дома, а кудесник лежал в оцепенении, и вдруг ударил им бес. И, встав, сказал кудесник новгородцу: «Боги не смеют прийти – имеешь на себе нечто, чего они боятся». Он же вспомнил, что на нем крест, и, отойдя, положил его вне дома того. Кудесник же начал вновь призывать бесов. Бесы же, подбрасывая его, поведали то, ради чего пришел новгородец. Затем новгородец стал спрашивать кудесника: «Чего ради бесы боятся того, чей крест на себе мы носим?» Он же сказал: «Это знамение небесного Бога, которого наши боги боятся». Новгородец же сказал: «А каковы боги ваши, где живут?» Кудесник же сказал: «В безднах. Обличьем они черны, крылаты, имеют хвосты; взбираются же и под небо послушать ваших богов. Ваши ведь боги на небесах. Если кто умрет из ваших людей, то его возносят на небо, если же кто из наших умирает, его несут к нашим богам в бездну». Так ведь и есть: грешники в аду пребывают, ожидая муки вечной, а праведники в небесном жилище водворяются с ангелами.
Такова-то бесовская сила, и обличие их, и слабость. Тем-то они и прельщают людей, что велят им рассказывать видения, являющиеся им, нетвердым в вере, одним во сне, а другим в мечтании, и так волхвуют научением бесовским. Больше же всего через жен бесовские волхвования бывают, ибо искони бес женщину прельстил, она же мужчину, потому и в наши дни много волхвуют женщины чародейством, и отравою, и иными бесовскими кознями. Но и мужчины неверные бывают прельщаемы бесами, как это было в прежние времена. При апостолах ведь был Симон Волхв[71], который заставлял волшебством собак говорить по-человечески и сам оборачивался то старым, то молодым или кого-нибудь оборачивал в иной образ, в мечтании. Так творили Ананий[72] и Мамврий[73]: они волхвованием чудеса творили, противоборствуя Моисею[74], но вскоре уже ничего не могли сделать равное ему; так и Куноп напускал наваждение бесовское, будто по водам ходит, и иные наваждения делал, бесом прельщаем, на погибель себе и другим.
Такой волхв объявился и при Глебе[75] в Новгороде; говорил людям, притворяясь богом, и многих обманул, чуть не весь город, уверяя, будто наперед знает все, что произойдет, и, хуля веру христианскую, уверял, что «перейду по Волхову перед всем народом». И был мятеж в городе, и все поверили ему и хотели погубить епископа. Епископ же взял крест в руки и надел облачение, встал и сказал: «Кто хочет верить волхву, пусть идет за ним, кто же верует Богу, пусть ко кресту идет». И разделились люди надвое: князь Глеб и дружина его попели и стали около епископа, а люди все попели к волхву. И начался мятеж великий между ними. Глеб же взял топор под плащ, подошел к волхву и спросил: «Знаешь ли, что завтра случится и что сегодня до вечера?» Тот ответил: «Знаю все». И сказал Глеб: «А знаешь ли, что будет с тобою сегодня?» «Чудеса великие сотворю», – сказал. Глеб же, вынув топор, разрубил волхва, и пал он мертв, и люди разошлись. Так погиб он телом, а душою предался дьяволу.
В год 6599 (1091)… В тот же год знамение было на солнце, как будто бы должно было оно погибнуть и совсем мало его осталось, как месяц стало, в час второй дня, месяца мая в 21-й день. В тот же год, когда Всеволод охотился на зверей за Вышгородом и были уже закинуты тенета и кличане кликнули, упал превеликий змей с неба, ужаснулись все люди. В это же время земля стукнула, так что многие слышали. В тот же год волхв объявился в Ростове и вскоре погиб.
В год 6600 (1092). Предивное чудо явилось в Полоцке в наваждении: ночью стоял топот, что-то стонало на улице, рыскали бесы, как люди. Если кто выходил из дома, чтобы посмотреть, тотчас невидимо уязвляем бывал бесами язвою и оттого умирал, и никто не осмеливался выходить из дома. Затем начали и днем являться на конях, а не было их видно самих, но видны были коней их копыта; и уязвляли так они людей в Полоцке и в его области. Потому люди и говорили, что это мертвецы бьют полочан. Началось же это знамение с Друцка. В те же времена было знамение в небе – точно круг посреди неба превеликий. В тот же год засуха была, так что изгорала земля, и многие леса возгорались сами и болота; и много знамений было по местам…
Вопросы и задания
1. Как проявляется в летописи идейная позиция автора? Дайте характеристику образу автора в «Повести временных лет».
2. Объясните, почему «Повесть временных лет» считается литературным памятником.
3. Чем привлекает автора образ Олега Вещего? Охарактеризуйте этот персонаж.
4. Какой идейный смысл заключает в себе повествование об убиении Бориса и Глеба?
5. На основе летописи подготовьте устный рассказ о введении письменности на Руси.
6. Как в летописи сочетаются фантастика и правдоподобие?
7. Что является историческим материалом для автора летописи?
Слово о полку Игореве
Это произведение – один из самых великих памятников мировой литературы! Оно было создано в конце XII века, после неудачного похода новгород-северского Игоря на половцев. Поход закончился небывалым для русского войска поражением – в плен попали сразу четыре удельных князя (Игорь, его сын Владимир, племянник Святослав и брат Всеволод). Это оказалось для современников совершенно неожиданным: никогда до этого русские князья не попадали в плен. Тяжелое поражение не могло вызвать серьезных размышлений о его причинах и возможных последствиях.
Имя автора «Слова…» нам неизвестно, но скорее всего он был знатным русичем из окружения киевского князя Святослава из рода Ольговичей. Возможно, он был княжеским певцом, исполнявшим кроме собственных произведений и творения устного народного творчества. Его волнует судьба родной земли, ответственность князей за безопасность своих владений, он призывает их объединить усилия в борьбе с внешним врагом. Очень важным в «Слове…» является утверждение общности русского народа, объединенного верой и единой культурной традицией.
«Слово о полку Игореве», как и любое другое произведение средневековой литературы, перекликается с русским фольклором, о чем свидетельствует, например, использование автором постоянных эпитетов. Попробуйте указать их в тексте.
Вообще, должен вам сказать, что «Слово о полку Игореве» – произведение во многих отношениях уникальное. Оно дает нам возможность убедиться, сколь богатой и поэтически зрелой была русская средневековая литература. Обратите внимание, какие яркие поэтические средства используются для создания языческих образов. Здесь упоминаются не только славянские боги, повелевающие природными силами (Велес, Даждьбог, Стрибог, Хорс), но действуют и сами природные силы, помогающие или мешающие русским воинам: волки, лисицы, орлы; трава, деревья; солнце, месяц, ночь, тучи, гроза. Да и сами герои нередко уподобляются здесь животным. Посмотрите, Игорь бежит «волком», скачет «горностаем», а Ярославна плачет «зегзицей». В этих поэтических приемах проявляется характерное для древних русичей ощущение тесных связей с родной природой, с родной землей.
Родная земля, ее защита, приумножение ее славы – основная тема средневекового русского памятника. Автор использует неудачный воинский поход князя Игоря для того, чтобы высветить в «Слове…» целый ряд важнейших проблем.
Нужно обратить внимание на жанр этого памятника.
В названиях многих произведений средневековой русской литературы используется понятие «слово» («Слово Даниила Заточника», «Слово о князьях», «Слово о погибели Русской земли»). Этим понятием определяется литературный эпический жанр, близкий западноевропейским «Песням о деяниях». Этот жанр описывал значительные события, рассматривал важнейшие проблемы, волновавшие русских людей, и содержал конкретные советы и поучения. В то же время, в отличие от западноевропейских фольклорных «песней», русское «слово» несло на себе яркий отпечаток авторской индивидуальности, заключало в себе идеал конкретного человека: неизвестного нам автора «Слова о полку Игореве» или исторической личности Даниила. Поскольку по своему жанру «Слово…» является эпической песнью, то для него очень важен элемент поэтической назидательности. Автор стремится преподать князьям мудрый урок. Призывая к организации совместного отпора внешним врагам и прославляя доблесть русских воинов, автор корит Игоря за стремление в одиночку решить вопрос о безопасности Руси. Думая о личной славе, князь пренебрегает интересами всей Русской земли.
Сравните действия князя Игоря с поведением Роланда. Барон отказался вначале трубить в рог, заботясь о личной славе, и едва не оставил беззащитным своего повелителя. Поразмыслите: как оценивают поступки героев русский и французский авторы?
Раз уж мы начали сопоставлять два героических эпоса, нелишне обратить внимание на совпадение еще ряда черт, характерных для средневековой эпической традиции. Если в «Песни о Роланде» олицетворением мудрости и справедливости является Карл Великий, то в произведении русского автора подобную роль играет киевский князь Святослав. Главные герои обоих произведений (Роланд и Игорь) предпочитают смерть позору поражения. Обе эпические песни изображают борьбу христианского мира с языческим, и русский и французский авторы явно идеализируют воинскую силу и ратные подвиги героев. Подобные совпадения говорят об общности идеалов разных народов в определенный период исторического развития.
В «Слове о полку Игореве» отражаются характерные, неповторимые черты, присущие именно русской национальной традиции.
Ни в одном другом европейском героическом эпосе не звучит так ярко патриотический призыв, нет столь откровенной национальной гордости за свой народ (вспомните, в «Песни о Роланде» в войске Карла сражаются и бретонцы, и датчане, и баварцы, и многие другие). Это связано как раз с удивительно ясным представлением об объединяющей силе Русской земли.
В «Слове о полку Игореве» ярко проявляется лирический элемент. Автор использует поэтические приемы, присущие не эпическим, а именно лирическим жанрам.
Перечитайте повнимательнее те части произведения, где описывается плач Ярославны и побег Игоря из плена, постарайтесь сами назвать эти приемы.
В этом произведении героического эпоса отчетливо звучит голос автора. Мы не знаем его имени, но мы слышим его и даже различаем интонации. С самого начала своего повествования автор заявляет нам о своей поэтической позиции, отказываясь подражать Бояну. А затем он постоянно появляется на страницах своего произведения, комментируя происходящие события, давая оценку героям, размышляя о судьбе Русской земли: восхищается, негодует и сетует. Автор – такой же полноправный персонаж «Слова…», как Игорь, Ярославна или Святослав. Подобного голоса вы не услышите ни в произведениях западноевропейского героического эпоса, ни в русских былинах. Надеюсь, вы уже поняли, что перед вами произведение именно литературы, а не фольклора, и авторское присутствие – первое тому доказательство. Рукопись «Слова…» была найдена в начале 90-х годов XVIII века и приобретена известным коллекционером старинных рукописей А. И. Мусиным-Пушкиным, в чьем доме этот бесценный памятник и сгорел во время московского пожара 1812 года. К счастью, рукопись была переписана для императрицы Екатерины Великой, а в 1800 году опубликована для широкого круга читателей. Именно этими, возможно недостаточно точными, текстами мы и пользуемся сегодня.
Читая замечательное произведение русской словесности, обратите внимание на его композицию, выделите лирические отступления, постарайтесь вычленить основные мысли, которые стремится донести до читателя автор. Обязательно проследите, какие художественные средства и приемы использует автор для создания поэтических образов. Вдумайтесь в значение авторского призыва – «За землю Русскую!».
Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова Древнерусский текст и перевод Д. Лихачева
Не пристало ли нам, братья, начать старыми словами печальные повести о походе Игоревом, Игоря Святославича? Пусть начнется же песнь эта по былям нашего времени, а не по замышлению Бояна[76]!
Боян же вещий, если хотел кому песнь воспеть, то растекался мыслию по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками. Помнил он, говорят, прежних времен усобицы. Тогда пускал десять соколов на стаю лебедей, и какую лебедь настигали – та первой и пела песнь старому Ярославу[77], храброму Мстиславу[78], что зарезал Редедю пред полками косожскими, прекрасному Роману Святославичу[79]. Боян же, братия, не десять соколов на стаю лебедей напускал, но свои вещие персты на живые струны воск лад ал, а они уже сами славу князьям рокотали.
Начнем же, братья, повесть эту от старого Владимира до нынешнего Игоря[80], который скрепил ум волею своею и поострил сердце свое мужеством, исполнившись ратного духа, навел свои храбрые полки на землю Половецкую за землю Русскую.
Тогда Игорь взглянул на светлое солнце и увидел, что оно тьмою воинов его прикрыло[81]. И сказал Игорь дружине своей: «Братья и дружина! Лучше убитым быть, чем плененным быть; так сядем, братья, на борзых коней да посмотрим на синий Дон». Страсть князю ум охватила, и желание отведать Дон Великий заслонило ему предзнаменование. «Хочу, сказал, копье преломить на границе поля Половецкого, с вами, русичи, хочу либо голову сложить, либо шлемом испить из Дона».
О Боян, соловей старого времени! Вот бы ты походы эти воспел, скача, соловей, по мысленному древу, летая умом под облаками, свивая славу обеих половин этого времени, рыща по тропе Трояна[82] через поля на горы.
Так бы пелась тогда песнь Игорю, того внуку: «Не буря соколов занесла через поля широкие – стаи галок несутся к Дону Великому». Или так бы запел ты, вещий Боян, внук Велеса[83]: «Кони ржут за Сулой – звенит слава в Киеве.
Трубы трубят в Новегороде, стоят стяги в Путивле». Игорь ждет милого брата Всеволода. И сказал ему Буй Тур Всеволод[84]: «Один брат, один свет светлый – ты, Игорь! Оба мы Святославичи! Седлай же, брат, своих борзых коней, а мои-то готовы, уже оседланы у Курска. А мои-то куряне опытные воины: под трубами повиты, под шлемами взлелеяны, с конца копья вскормлены, пути им ведомы, овраги им знаемы, луки у них натянуты, колчаны отворены, сабли навострены; сами скачут как серые волки в поле, ища себе чести, а князю – славы».
Тогда вступил Игорь-князь в золотое стремя и поехал по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заграждало, ночь стонами грозы птиц пробудила, свист звериный поднялся, встрепенулся Див[85], кличет на вершине дерева, велит послушать земле неведомой, Волге, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, Тмутороканский идол[86]. А половцы непроторенными дорогами помчались к Дону Великому. Кричат телеги в полуночи, словно лебеди испугнутые.
А Игорь к Дону войско ведет. Уже беду его подстерегают птицы по дубравам, волки грозу накликают по оврагам, орлы клектом зверей на кости зовут, лисицы брешут на червленые[87] щиты.
О Русская земля! Уже ты за холмом!
Долго ночь меркнет. Заря свет зажгла, туман поля покрыл, щекот соловьиный уснул, говор галочий пробудился. Русичи великие поля червлеными щитами перегородили, ища себе чести, а князю – славы.
Спозаранок в пятницу потоптали они поганые полки половецкие и, рассыпавшись стрелами по полю, помчали красных девушек половецких, а с ними золото, и паволоки, и дорогие оксамиты. Покрывалами, и плащами, и кожухами стали мосты мостить по болотам и топям, и дорогими нарядами половецкими. Червленый стяг, белая хоругвь, червленый бунчук[88], серебряное древко – храброму Святославичу!
Дремлет в поле Олегово храброе гнездо. Далеко залетело! Не было оно в обиду порождено ни соколу, ни кречету, ни тебе, черный ворон, поганый половец! Гзак бежит серым волком, Кончак ему след указывает к Дону Великому.
На другой день спозаранку кровавые зори свет предвещают, черные тучи с моря идут, хотят прикрыть четыре солнца[89], а в них трепещут синие молнии. Быть грому великому, идти дождю стрелами с Дону Великого! Тут копьям преломиться, тут саблям побиться о шеломы половецкие, на реке на Каяле[90], у Дона Великого.
О Русская земля! Уже ты за холмом!
Вот ветры, внуки Стрибога[91], веют с моря стрелами на храбрые полки Игоря. Земля гудит, реки мутно текут, пыль поля прикрывает, стяги говорят: половцы идут от Дона и от моря и со всех сторон русские полки обступили. Дети бесовы кликом поля перегородили, а храбрые русичи перегородили червлеными щитами.
Яр Тур Всеволод! Бьешься ты впереди, прыщешь на воинов стрелами, гремишь о шлемы мечами булатными. Куда, Тур, поскачешь, своим золотым шлемом посвечивая, – там лежат поганые головы половецкие. Расщеплены шлемы аварские твоими саблями калеными. Яр Тур Всеволод! Что тому раны, дорогие братья, кто забыл честь и богатство, и города Чернигова отчий золотой престол, и своей милой жены, прекрасной Глебовны[92], свычаи и обычаи!
Были века Трояновы[93], минули годы Ярославовы, были и войны Олеговы, Олега Святославича[94]. Тот ведь Олег мечом крамолу ковал и стрелы по земле сеял. Вступил в золотое стремя в городе Тмуторокани, а звон тот же слышал давний великий Ярослав, а сын Всеволода Владимир каждое утро уши закладывал в Чернигове. А Бориса Вячеславича похвальба на смерть привела, и на Канине зеленый саван постлала за обиду Олега, храброго и молодого князя. С такой же Каялы и Святополк[95] полелеял отца своего между венгерскими иноходцами ко святой Софии к Киеву. Тогда при Олеге Гориславиче засевалось и прорастало усобицами, погибало достояние Дажь-Божьего внука[96], в княжеских крамолах сокращались жизни людские. Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали, но часто вороны граяли, трупы между собой деля, а галки по-своему говорили. Хотят полететь на поживу! То было в те рати и в те походы, а такой рати не слыхано! С раннего утра до вечера, с вечера до света летят стрелы каленые, гремят сабли о шлемы, трещат колья булатные в поле незнаемом
среди земли Половецкой. Черна земля под копытами костьми была посеяна, а кровью полита; горем взошли они по Русской земле!
Что мне шумит, что мне звенит издалека рано до зари? Игорь полки заворачивает: жаль ему милого брата Всеволода. Бились день, бились другой, на третий день к полудню пали стяги Игоревы! Тут разлучились братья на берегу быстрой Каялы; тут кровавого вина недостало; тут пир закончили храбрые русичи: сватов напоили, а сами полегли за землю Русскую. Никнет трава от жалости, а древо с тоской к земле приклонилось.
Уже ведь, братья, невеселое время настало, уже пустыня войско прикрыла. Встала обида в войсках Дажь-Божьего внука, вступила девой на землю Троянову, восплескала лебедиными крылами на синем море у Дона, плеская, растревожила времена обилия. Борьба князей с погаными кончилась, ибо сказал брат брату: «Это мое, и то мое же». И стали князья про малое «это великое» молвить и сами на себя крамолу ковать, а поганые со всех сторон приходили с победами на землю Русскую.
О, далеко залетел сокол, птиц избивая, – к морю! А Игорева храброго полка не воскресить! По нем кликнула Карна, и Желя[97] поскакала по Русской земле, размыкивая огонь[98] людям в пламенном роге. Жены русские восплакались, приговаривая: «Уже нам своих милых лад ни в мысли помыслить, ни думою сдумать, ни глазами не повидать, а золота и серебра и пуще того в руках не подержать!» И застонал, братья, Киев от горя, а Чернигов от напастей. Тоска разлилась по Русской земле, печаль обильная потекла среди земли Русской. А князья сами на себя крамолу ковали, а поганые сами, с победами нарыскивая на Русскую землю, брали дань по белке[99] от двора.
Так и те два храбрых Святославича, Игорь и Всеволод, уже зло пробудили, которое перед тем усыпил было отец их, Святослав[100] грозный великий киевский, грозою своею, усмирил своими сильными полками и булатными мечами; пришел на землю Половецкую, притоптал холмы и овраги, взмутил реки и озера, иссушил потоки и болота.
А поганого Кобяка из лукоморья, из железных великих полков половецких, словно вихрем исторг, и пал
Кобяк в городе Киеве, в гриднице[101] Святославовой. Тут немцы и венецианцы, тут греки и моравы поют славу Святославу, корят князя Игоря, что потопил богатство на дне Каялы, реки половецкой, русское золото просыпав. Тут Игорь-князь пересел из золотого седла в седло рабское. Приуныли у городов забралы, и веселье поникло.
А Святослав смутный сон видел в Киеве на горах. «Этой ночью с вечера одевали меня – говорил, – черным саваном на кровати тисовой, черпали мне синее вино, с горем смешанное, сыпали мне крупный жемчуг[102]из пустых колчанов поганых толковин[103] и нежили меня. Уже доски без князька[104] в моем тереме златоверхом. Всю ночь с вечера серые вороны граяли у Плесньска на лугу, были в дебри Кисаней и понеслись к синему морю».
И сказали бояре князю: «Уже, князь, горе ум полонило. Вот слетели два сокола с отчего золотого престола добыть города Тмутороканя либо испить шлемом Дона. Уже соколам крылья подсекли саблями поганых, а самих опутали в путы железные. Темно ведь было в третий день: два солнца померкли[105], оба багряные столпа погасли и в море погрузились, и с ними оба молодых месяца, Олег и Святослав[106], тьмою заволоклись. На реке на Каяле тьма свет прикрыла: по Русской земле рассыпались половцы, точно выводок пардусов[107], и великое ликование пробудили в хиновах[108].
Уже пала хула на хвалу; уже ударило насилие по свободе; уже бросился Див на землю. Вот уже готские красные девы запели на берегу синего моря, звеня русским золотом, воспевают время Бусово, лелеют месть за Шарукана[109]. А мы уже, дружина, невеселы».
Тогда великий Святослав изронил золотое слово, со слезами смешанное, и сказал: «О племянники мои, Игорь и Всеволод! Рано начали вы Половецкой земле мечами обиду творить, а себе славы искать. Но без чести вы одолели, без чести кровь поганую пролили. Ваши храбрые сердца из крепкого булата скованы и в отваге закалены. Что же сотворили вы моей серебряной седине!
А уже не вижу власти сильного, и богатого, и обильного воинами брата моего Ярослава[110], с черниговскими боярами, с могутами, и с татранами, и с шельбирами, и с топчаками,
и с ревугами, и с ольберами. Они ведь без щитов, с засапожными ножами, кликом полки побеждают, звоня в прадедовскую славу. Но сказали вы: «Помужествуем сами: прошлую славу себе похитим, а будущую сами поделим». А разве дивно, братья, старому помолодеть? Если сокол в мытех[111] бывает, то высоко птиц взбивает, не даст гнезда своего в обиду. Но вот зло – князья мне не подмога: худо времена обернулись. Вот у Римова кричат под саблями половецкими, а Владимир под ранами. Горе и тоска сыну Глебову!»[112]
Великий князь Всеволод![113] Не думаешь ли ты прилететь издалека, отчий золотой престол поблюсти? Ты ведь можешь Волгу веслами расплескать, а Дон шлемами вычерпать. Если бы ты был здесь, то была бы раба по ногате, а раб по резане[114]. Ты ведь можешь посуху живыми шереширами[115] стрелять, удалыми сынами Глебовыми[116].
Ты, буйный Рюрик, и Давид![117] Не ваши ли воины злачеными шлемами в крови плавали? Не ваша ли храбрая дружина рыкает, как туры, раненные саблями калеными, на поле незнаемом? Вступите же, господа, в золотое стремя за обиду нашего времени, за землю Русскую, за раны Игоря, буйного Святославича!
Галицкий Осмомысл Ярослав![118] Высоко сидишь на своем златокованом престоле, подпер горы Венгерские[119]своими железными полками, заступив королю[120] путь, затворив Дунаю ворота, меча бремена через облаки, суды рядя до Дуная. Грозы твои по землям текут, отворяешь Киеву ворота, стреляешь с отцовского золотого престола салтанов за землями. Стреляй же, господин, Кончака, поганого раба, за землю Русскую, за раны Игоревы, буйного Святославича!
А ты, буйный Роман, и Мстислав![121] Храбрая мысль влечет ваш ум на подвиг. Высоко взмываешь на подвиг в отваге, точно сокол на ветрах царя, стремясь птицу в смелости одолеть. Ведь у ваших воинов железные паворзи под шлемами латинскими. От них дрогнула земля, и многие страны – Хинова, Литва, Ятвяги, Деремела[122], и половцы копья свои повергли и головы свои склонили под те мечи булатные. Но уже, князь, Игорю померк солнца свет, а дерево не к добру листву сронило: по Роси и по Суле города поделили. А Игорева храброго полка не воскресить!
Дон тебя, князь, кличет и зовет князей на победу. Ольговичи, храбрые князья, уже поспели на брань…
Ингварь и Всеволод и все три Мстиславича[123] – не худого гнезда соколы! Не по праву побед добыли себе владения! Где же ваши золотые шлемы и копья польские и щиты? Загородите полю ворота своими острыми стрелами за землю Русскую, за раны Игоревы, буйного Святославича!
Уже Сула не течет серебряными струями к городу Переяславлю, и Двина болотом течет для тех грозных полочан под кликом поганых. Один только Изяслав, сын Васильков[124], позвенел своими острыми мечами о шлемы литовские, прибил славу деда своего Всеслава, а сам под червлеными щитами на кровавой траве литовскими мечами прибит со своим любимцем, а тот сказал: «Дружину твою, князь, крылья птиц приодели, а звери кровь полизали». Не было тут брата Брячислава, ни другого – Всеволода. Так в одиночестве изронил жемчужную душу из храброго тела через золотое ожерелье[125]. Приуныли голоса, поникло веселье, трубы трубят городенские.
Ярослав и все внуки Всеслава! Уже склоните стяги свои, вложите в ножны мечи свои поврежденные, ибо лишились вы славы дедов. Своими крамолами начали вы наводить поганых на землю Русскую, на достояние Всеслава. Из-за усобиц ведь попело насилие от земли Половецкой!
На седьмом веке Трояна кинул Всеслав жребий о девице[126] ему милой. Хитростью оперся на коней и скакнул к городу Киеву, и коснулся древком золотого престола киевского. Отскочил от них лютым зверем в полночь из Белгорода, объятый синей мглой, урвал удачу в три попытки: отворил ворота Новгороду, расшиб славу Ярославу, скакнул волком до Немиги[127] с Дудуток.
На Немиге снопы стелют из голов, молотят цепами булатными, на току жизнь кладут, веют душу от тела. Немиги кровавые берега не добром были засеяны, засеяны костьми русских сынов.
Всеслав-князь людям суд правил, князьям города рядил, а сам ночью волком рыскал: из Киева до петухов дорыскивал Тмуторокани, великому Хорсу[128] волком путь перерыскивал. Ему в Полоцке позвонили к заутрени рано у святой Софии в колокола, а он в Киеве звон тот слышал.
Хоть и вещая душа была у него в дерзком теле, но часто от бед страдал. Ему вещий Боян еще давно припевку, разумный, сказал: «Ни хитрому, ни умелому, ни птице умелой суда Божьего не миновать!»
О, стонать Русской земле, вспоминая первые времена и первых князей! Того старого Владимира нельзя было пригвоздить к горам киевским; а ныне встали стяги Рюриковы, а другие – Давыдовы, но врозь их знамена развеваются. Копья поют!
На Дунае Ярославнин[129] голос слышится, кукушкой безвестной рано кукует. «Полечу, говорит, кукушкою по Дунаю, омочу шелковый рукав в Каяле-реке, оботру князю кровавые его раны на могучем его теле».
Ярославна рано плачет в Путивле на забрале[130], приговаривая: «О ветер, ветрило! Зачем, господин, веешь ты наперекор? Зачем мчишь хиновские стрелочки на своих легких крыльицах на воинов моего лады? Разве мало тебе было под облаками веять, лелея корабли на синем море? Зачем, господин, мое веселье по ковылю развеял?»
Ярославна рано плачет на забрале Путивля-города, приговаривая: «О Днепр Словутич! Ты пробил каменные горы[131] сквозь землю Половецкую. Ты лелеял на себе Святославовы ладьи до стана Кобяка. Возлелей, господин, моего ладу ко мне, чтобы не слала я к нему слез на море рано».
Ярославна рано плачет в Путивле на забрале, приговаривая: «Светлое и тресветлое солнце! Всем ты тепло и прекрасно, зачем же, владыко, простерло горячие свои лучи на воинов лады? В поле безводном жаждой им луки согнуло, горем им колчаны заткнуло».
Прыснуло море в полуночи, идут смерчи тучами. Игорю-князю Бог путь указывает из земли Половецкой на землю Русскую, к отчему золотому престолу. Погасли вечером зори. Игорь спит и не спит: Игорь мыслью поля мерит от великого Дона до малого Донца. В полночь свистнул Овлур[132] коня за рекой – велит князю разуметь: не быть князю Игорю! Кликнул, стукнула земля, зашумела трава, задвигались вежи половецкие. А Игорь-князь скакнул горностаем в тростники и белым гоголем на воду, вскочил на борзого коня и соскочил с него серым волком. И помчался к излучине Донца, и полетел соколом
под облаками, избивая гусей и лебедей к завтраку, и к обеду, и к ужину. Коли Игорь соколом полетел, тогда Овлур волком побежал, отряхая студеную росу: загнали они своих борзых коней.
Донец сказал: «Князь Игорь! Не мало тебе величия, а Кончаку нелюбия, а Русской земле веселия!» Игорь сказал: «О Донец! Не мало тебе величия, лелеявшему князя на волнах, стлавшему ему зеленую траву на своих серебряных берегах, одевавшему его теплыми туманами под сенью зеленого дерева. Ты стерег его гоголем на воде, чайками на струях, чернядями на ветрах». Не такая, сказал, река Стугна: скудную струю имея, поглотив чужие ручьи и потоки, расширилась к устью и юношу князя Ростислава[133] заключила. На темном берегу Днепра плачет мать Ростислава по юноше князе Ростиславе. Уныл и цветы от жалости, и дерево с тоской к земле приклонилось.
То не сороки застрекотали – по следу Игоря едут Гзак с Кончаком. Тогда вороны не граяли, галки примолкли, сороки не стрекотали, только полозы ползали. Дятлы стуком путь к реке указывают, соловьи веселыми песнями рассвет возвещают. Говорит Гзак Кончаку: «Если сокол к гнезду летит, расстреляем соколенка своими злачеными стрелами». Говорит Кончак Гзе: «Если сокол к гнезду летит, то опутаем мы соколенка красной девицей». И сказал Гзак Кончаку: «Если опутаем его красной девицей, не будет у нас ни соколенка, ни красной девицы[134], и станут нас птицы бить в поле Половецком».
Сказали Боян и Ходына, Святославовы песнотворцы, старого времени Ярославова, Олега-князя любимцы:
«Тяжко голове без плеч, беда и телу без головы», – так и Русской земле без Игоря.
Солнце светится на небе – Игорь-князь в Русской земле. Девицы поют на Дунае – вьются голоса через море до Киева. Игорь едет по Боричеву[135] ко святой Богородице Пирогощей[136]. Страны рады, города веселы.
Спев песнь старым князьям, потом молодым петь! Слава Игорю Святославичу, Буй Туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу! Здравы будьте, князья и дружина, борясь за христиан против полков поганых! Князьям слава и дружине!
Аминь.
Вопросы и задания
1. Как проявляется в «Слове о полку Игореве» идейная позиция автора?
2. Объясните, почету это произведение следует считать литературным, а не фольклорным.
3. Определите композицию «Слова…».
4. Какую идейную и художественную роль играет «Плач Ярославны»?
5. Какую идейную и художественную нагрузку несет на себе образ Святослава Киевского?
6. Как и с какой целью используются в «Слове…» образы природы?
7. Для чего вводится образ Бояна?
8. Приведите примеры использования автором «Слова…» образов славянской языческой мифологии.
9. Какими художественными средствами создаются картины битвы Игорева войска с половцами?
10. Назовите основные черты героического эпоса, проявляющиеся в «Слове о полку Игореве».
Русские апокрифические «хождения по мукам»
В средневековой русской литературе большой популярностью пользовался жанр видений, или «хождений по мукам». В нем описывались путешествия в ад, которые совершали Богородица, святые, а иногда и простые люди, которым позволено было увидеть мучения грешников, чтобы предупредить православных христиан о неизбежности загробного воздаяния. Этот жанр прекрасно иллюстрирует особенности средневековой русской литературы. Пронизанный христианским пафосом, содержащий церковное поучение, он тем не менее имел ярко выраженный светский характер. Не случайно «хождения по мукам» не включались в состав церковных книг, осуждались и были обращены к простым мирянам.
Поразмыслите, какие житейские советы содержатся в приводимых здесь текстах и какие художественные приемы используются в них, чтобы вызвать эмоциональные впечатления у читателей.
Хождение Богородицы по мукам (в сокращении) Перевод М. Рождественской
…Богородица хотела увидеть, как мучаются души человеческие, и сказала архистратигу[137] Михаилу: «Поведай мне обо всем, на земле сущем». И ответил ей Михаил: «Что просишь, благодатная, я все тебе расскажу». И спросила его святая Богородица: «Сколько мук, какими мучится род христианский?» И ответил ей архистратиг: «Не назвать всех мук». Попросила его благодатная: «Расскажи мне, какие они на небесах и на земле?»
Тогда архистратиг велел явиться ангелам с юга, и разверзся ад, и увидела Богородица мучающихся в аду, и было тут множество мужей и жен, и вопили они. И спросила благодатная архистратига: «Кто это такие?» И ответил архистратиг: «Это те, кто не веровали в Отца и Сына и Святого Духа, забыли Бога и веровали в то, что сотворил нам Бог для трудов наших, прозвав это богами: солнце и месяц, землю и воду, зверей и гадов; все это те люди сделали из камней, – Траяна, Хорса, Велеса, Перуна в богов превратили, и были одержимы злым бесом, и веровали, и до сих пор во мраке злом находятся, потому здесь так мучаются…
Архистратиг спросил ее: «Куда хочешь теперь, благодатная, на юг или на север?» И ответила благодатная: «Пойдем к югу». Тогда повернулись херувимы и серафимы и четыреста ангелов, привели Богородицу на южную сторону, где протекала огненная река, там было множество мужей и жен, все погружены в реку – одни до пояса, другие до подмышек, третьи по шею, а иные с головой.
Увидев их, святая Богородица заплакала громким голосом и спросила архистратига: «Кто это, по пояс в огонь погруженные?» И сказал ей архистратиг: «Это те, кого прокляли отцы и матери, за это здесь, проклятые, мучаются». Снова спросила Богородица: «А кто те, что до подмышек в огне?» И ответил ей архистратиг: «Это были близкие кумовья, а меж собой враждовали, а другие блуд творили, за это здесь и мучаются». И спросила пресвятая Богородица: «А кто те, что по шею в огненном пламени?» И сказал ей архангел: «Это те, кто ел человеческое мясо, за то здесь и мучаются так». И спросила святая Богородица: «А кто те, что с головой ввержены в огонь?» И ответил ей архистратиг: «Это те, госпожа, которые, крест честной держа, ложно клялись силами честного креста, а даже ангелы при взгляде на него трепещут и со страхом поклоняются ему. Эти же люди, держа крест, клянутся на нем, не зная, какая мука их ожидает, потому-то так и мучаются».
И увидела святая Богородица мужа, висящего за ноги, поедаемого червями, и спросила ангела: «Кто это? Какой грех он совершил?» И сказал ей архистратиг: «Это человек, который получал прибыль за свое золото и серебро, за то он навеки мучается».
И увидела Богородица жену, подвешенную за зубы, разные змеи выползали из ее рта и поедали ее. Видя это, пресвятая спросила ангела: «Что это за женщина и в чем грех ее?» И отвечал архистратиг, и сказал ей: «Эта женщина, госпожа, ходила к своим близким и к соседям, слушала, что про них говорят, и ссорилась с ними, распуская сплетни. Из-за этого и мучается». И сказала святая Богородица: «Лучше бы такому человеку не родиться». Михаил сказал ей: «Еще не видела ты, святая Богородица, великих мук». Святая сказала архистратигу: «Пойдем и увидим все муки». И сказал Михаил: «Куда ты хочешь идти, благодатная?» Святая ответила: «На север». И, повернувшись, херувимы и серафимы и четыреста ангелов вывели благодатную на север. Там расстилалось огненное облако, а посреди него стояли раскаленные скамьи, и на них лежало множество мужей и жен. Увидев это, святая вздохнула и сказала архистратигу: «Кто это такие, в чем согрешили?» Архистратиг сказал: «Это те, кто в святое воскресенье не встают на заутреню, ленятся и лежат, как мертвые, за это они мучаются». И сказала святая Богородица: «Но если кто не может встать, то какой грех сотворили они?» И ответил Михаил: «Послушай, святая, если у кого загорится дом с четырех сторон, и обойдет его огонь кругом, и сгорит этот человек, так как встать не сможет, то он не грешен»…
И увидела святая Богородица железное дерево, с железными ветвями и сучьями, а на вершине его были железные крюки, а на них множество мужей и жен, подвешенных за языки. Увидев это, святая заплакала и спросила Михаила: «Кто это, в чем их грехи?» И сказал архистратиг: «Это клеветники и сводники, разлучившие брата с братом и мужа с женой». И сказал Михаил: «Послушай, пресвятая, что я тебе скажу о них. Если кто-то хотел креститься и покаяться в своих грехах, то эти клеветники отговаривали их и не наставляли их к спасению. За это они навек мучаются».
А в другом месте святая увидела мужа, подвешенного за ноги и за руки с четырех сторон, за края ногтей его. Он сильно исходил кровью, а язык его от огненного пламени скрутился, и не мог он ни вздохнуть, ни сказать: «Господи, помилуй меня». Глядя на него, пресвятая Богородица сказала: «Господи, помилуй», – трижды – и сотворила молитву. К ней подошел ангел, владеющий муками, чтобы освободить этому человеку язык. И спросила его святая: «Кто этот бедный человек, который так мучается?» И сказал ангел: «Это эконом и служитель церкви, он не волю Божию творил, но продавал сосуды и церковную утварь и говорил: «Кто работает в церкви, тот от церкви и питается», поэтому он и мучается здесь». И сказала святая: «Что заслужил, то и получает». И ангел снова связал ему язык…
И увидела святая мужа и крылатого змея с тремя головами – одна голова была обращена к глазам мужа, а другая – к его губам. И сказал архистратиг: «Этот бедный человек не может отдохнуть от змея». И добавил архистратиг: «Он, госпожа, и святые книги, и Евангелие прочитал, а сам не следовал им. Учил людей, а сам не волю Божию творил, а жил в блуде и беззаконии…»
И сказал архистратиг: «Пойдем, пресвятая, я покажу тебе, где мучается множество грешников». И святая увидела реку огненную, и словно кровь текла в той реке, которая затопила всю землю, а посреди ее вод – многих грешников. Увидев это, Богородица прослезилась и сказала: «В чем их грехи?» Ответил архистратиг: «Это блудники и прелюбодеи, воры, тайно подслушивавшие, что говорят близкие, это сводники и клеветники, и те, кто пожинали чужие нивы и срывали чужие плоды, те, кто питались чужими трудами, разлучали супругов, пьяницы, немилосердные князья, епископы и патриархи, цари, не творившие волю Божию, сребролюбцы, наживающие деньги, беззаконники». Услышав это, пречистая Богородица заплакала и сказала: «О горе грешникам!» И добавила архистратигу: «Лучше таким грешникам и не рождаться!»
Вопросы и задания
1. Какие грехи описываются в этом произведении и как они отражают систему ценностей средневекового русского человека?
2. Сопоставьте это произведение с «Божественной комедией» Данте, отметьте сходство и различия в системе ценностей этих произведений.
3. Объясните, почему Богородица плачет, видя мучения грешников.
Сказание о Вавилонском царстве Перевод Н. Дробленковой
Это средневековое русское произведение восходит к XI веку. Легендарные сказания о путешествии в Вавилон (выступающий в них как царство змей, как поверженный мир язычества, идолопоклонства и зла) были широко распространены на Руси и существовали в различных жанрах (сказки, легенды, повести) на протяжении многих веков. Прототипом вымышленного греческого царя Левкия является византийский император Лев VI Премудрый, правивший на рубеже IX и X веков. В сказании также упоминается популярная на Руси легенда о трех отроках – Азарии, Анании и Мисаиле, отказавшихся поклониться языческому идолу и брошенных в огненную печь вавилонским царем Навуходоносором, но вышедших из огня невредимыми. В основе легенды лежит библейский рассказ о трех иудеях из Книги пророка Даниила (глава 3).
Очень интересна сама конструкция «Сказания о Вавилонском царстве». За христианским знамением послы Левкия должны отправиться к месту средоточения зла, «переступить через змея». В художественной форме здесь утверждается спасительная сила христианства. Очень интересна в произведении и трактовка богатства.
Подумайте, для чего описываются сокровища Вавилона, каково их значение и символический смысл.
Слово о Вавилоне, о трех отроках. Посольство царя Левкия, нареченного в крещении Василием, который посылал в Вавилон испросить знамения у святых трех отроков – Анании, Азарии, Мисаила
Сначала он хотел послать трех человек, христиан сирийского рода. Они же сказали: «Не подобает нам идти туда, но пошли из Греции грека, из Обезии обежанина, из Руси русского». И он отправил посланцами тех, кого они хотели.
Когда они были за пятнадцать дней пути до Вавилона, царь Василий сказал им: «Если здесь будет явлено знамение святых, то я не отрекусь от Иерусалима[138], но буду приверженцем веры христианской и поборником против врагов иноверных за род христианский».
И пошли три мужа, грек Гугрий, Яков-обежанин, русин Лавер, и ехали до Вавилона три недели. А когда пришли туда, не увидели града: все быльем поросло так, что не видно было дворца. Пустили они коней и нашли тропу, по которой ходили малые звери. В зарослях же там была лишь часть травы, а две части гадов; но не было у них страха. И они попели тем путем и пришли к змею.
Через змея была положена лестница из кипарисового дерева, а на ней была надпись из трех частей: по-гречески, по-обежски и по-русски. Первая надпись по-гречески: «Которого человека Бог приведет к лестнице этой…» Вторая надпись по-обежски: «Пусть перейдет через змея без боязни…» Третья надпись по-русски: «Пусть идет с лестницы через палаты до часовни». И была та лестница из восемнадцати ступеней: такова толщина того змея. Взошли они на верх ее, а там – другая лестница, вниз, в город, и написано на ней то же.
А когда они проходили через палаты, то палаты были полны гадов, но те не причинили им никакого вреда.
Когда же они подошли к церкви и вошли в нее, уста их наполнились благоуханием, ибо в церкви было написано много деяний святых. Поклонились они гробам святых трех отроков – Анании, Азарии и Мисаила – и сказали: «Пришли к вам по велению Божию и великого богохранимого царя Василия просить от вас знамения». И стоял на гробе Анании золотой кубок, украшенный дорогими камнями и жемчугом, полный мирра и Ливана[139], и стеклянная чаша, подобной которой и не видывали. Они же пригубили из того кубка и возликовали. А восстав от сна, подумали было взять кубок с вином и нести к царю. Но был им глас от гроба в девятый час дня: «Не отсюда возьмете знамение, а идите в царев дом и там получите знамение!» Они же пришли в великий ужас. И был им глас вторично: «Не ужасайтесь, идите!»
И, встав, они пошли. Царева же палата была у часовни. И когда они вошли в цареву палату, тут они увидели ложе, а на нем – два венца: царя Навуходоносора и царицы его. Они же, взяв их, увидели грамоту, написанную греческим языком: «Эти венцы были сделаны, когда царь Навуходоносор воздвиг золотого идола[140] и поставил его на Дирелмесском лугу». И были те венцы из сапфира, измарагда[141], крупного жемчуга и аравийского золота. «До сих пор эти венцы были скрыты, а ныне молитвами трех святых отроков должны быть возложены на богохранимого царя Василия и на блаженную царицу Александру».
А войдя во вторую палату, они увидели царские одежды, порфиры[142], но едва прикоснулись к ним руками, как все обратилось в прах. И стояли тут украшенные золотом и серебром ларцы, и, открыв их, увидели они золото, серебро и драгоценные камни. И взяли они двадцать великих камней, чтобы отнести к царю, а себе взяли столько, сколько могли унести, а также взяли и кубок, такой же, какой был на гробнице трех отроков.
Затем они вернулись к церкви и, войдя в нее, поклонились трем отрокам, но не было им гласа свыше. И стали они тужить, но отпили из кубка того и возликовали. А утром на рассвете воскресного дня был им глас, изрекший: «Умоем лица свои!» И они увидели церковный кубок с водой, умыли лица свои и воздали хвалу Богу и трем отрокам. Когда же они отпели заутреню и часы, был им глас такой: «Знамение вы взяли, теперь, ведомые Богом, пойдите своим путем к царю Василию». Они же поклонились, испили по три чаши и попели к змею. И, приставив лестницу, перебрались через змея и перенесли все, что с собой взяли.
Сын же обежанин, именем Яков, запнулся, и с пятнадцатой ступени полетел вниз, и разбудил змея. И поднялась на змее чешуя, как волны морские. Они же, подхватив друга своего, попели сквозь заросли и к полудню увидели коней и своих слуг. А когда они начали укладывать на коней своих принесенное, свистнул змей. Они же от страха пали замертво.
Свист змея достиг и того места, где стоял царь Василий, ожидая детей своих, – ибо нарек он их своими детьми. От того свиста ослепли и пали замертво многие из их братии, до трех тысяч, ибо царь подошел к Вавилону на пятнадцать дней пути. И отступил он от того места на шестнадцать дней пути и сказал: «Уже дети мои мертвы». А затем сказал: «Еще подожду немного».
Те же, вставши, как ото сна, попели, и настигли царя за шестнадцать дней пути, и, прийдя, поклонились царю. И рад был царь и все войско его. И они рассказали ему все – каждый по очереди.
Патриарх же взял два венца и, прочитав грамоту, возложил их на царя Василия и на царицу Александрию, родом из Армении. Царь же, взяв кубок, повелел наполнить его чистым золотом, а пять дорогих камней послал в Иерусалим к патриарху. И обо всем, что они принесли для себя, – о золоте, и серебре, и драгоценных камнях, и крупном жемчуге, – посланцы поведали царю. Царь же не взял себе ничего, но и еще дал им по три золотых монеты. Отпустил их и сказал им: «Идите с миром к отцам вашим и матерям и прославляйте Бога, и трех отроков, и царя Левкия, в крещении нареченного Василием». Оттуда царь пожелал было идти в Индию. Давид же, царь критский, сказал: «Пойди на страны северные, на врагов иноверных, за род христианский!»
Вопросы и задания
1. Расскажите о человеческих пороках, запечатленных в описании Вавилонского царства.
2. Какую роль играет в «Сказании…» образ змея? Сопоставьте этот образ с образами змеев из русского фольклора.
3. Проследите по тексту, как развивается в нем тема «знамения», когда и для чего дается «знамение» посольству царя.
4. Перескажите «Сказание о Вавилонском царстве», сохраняя в пересказе важнейшие символические детали произведения.
Сокровища книжных полок
Средневековая русская литература сохранила для нас не только содержательную, но и эмоциональную сторону исторических событий и целых эпох, облик и социальную роль русских воинов, князей, царей и их приближенных, взаимоотношения славян с другими народами и государствами.
Прежде всего я предлагаю вам познакомиться с тремя весьма значительными памятниками древнерусской литературы: «Житие Бориса и Глеба» (XI век), «Поучение» Владимира Мономаха (XI век), «Задонщина» (конец XIV – начало XV века). Каждое из этих произведений является достаточно ярким образцом своего жанра: житие, поучение, слово.
«Житие Бориса и Глеба» рассказывает о первых русских святых. Повествуя о мученической смерти братьев-князей, житие утверждает строгую систему человеческих ценностей, объясняет подлинный смысл христианской любви. Предлагаю вам сравнить это «Житие» со сказанием о Борисе и Глебе в «Повести временных лет».
В «Поучении» в роли прекрасного автора и повествователя выступает великий князь Владимир Мономах, мудрый правитель, смелый воин и образованный человек. Он с удивительной точностью и художественностью передал исторический колорит времен Киевской Руси. Особенно интересно то, что в этом произведении предпринята первая попытка создания в литературе наставления молодому поколению (великий князь адресовал его своим детям): как стать настоящими людьми, достойными своих родителей, и избежать гнева Божьего. «Поучение» – пример тесного взаимодействия светской литературы с фольклором.
«Задонщина» – одно из самых замечательных произведений, повествующих о Куликовской битве. В его основу легли реальные события, описываемые современником, брянским боярином, а впоследствии священником в Рязани, Софонием. Автор, продолжая традицию русской средневековой литературы, значительное место отводит описаниям сил природы, умело сравнивая их с действиями воинов князя. Тот, кто познакомится с «Задонщиной», получит уникальную возможность почувствовать эмоциональную атмосферу происходившего, которая во многом предопределила исход сражения. «Съехались все князья русские к великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его, князю Владимиру Андреевичу, говоря им так: «Господин князь великий, уж поганы татары на поля наши наступают, а вотчину нашу у нас отнимают, стоят между Доном и Днепром, на реке на Мече. И мы, господин, пойдем за быструю реку Дон, соберем диво для земель, повесть для старых, память для молодых, а храбрых своих испытаем, а в реку Дон кровь прольем за землю Русскую, за веру христианскую».
Переломным и решающим моментом битвы автор считает наступление Дмитрия Ивановича и его брата Владимира Андреевича «со своими сильными полками на рать поганых», тем самым восхваляя мужество русских князей и их желание постоять за землю Русскую. (Если вы сопоставите это произведение со «Словом о полку Игореве», вы ясно увидите традицию, на которой базировалась русская литература.)
Тонким лиризмом проникнута средневековая «Повесть о Петре и Февронии», в которой использованы два популярных фольклорных мотива: о мудрой деве и борьбе со змеем. Повесть рассказывает о любви муромского князя и девушки-крестьянки. Это одно из лучших произведений средневековой литературы.
«Повесть о начале царствующего града Москвы» основана на драматическом эпизоде феодальной вражды русских князей. В произведении соединяются черты различных жанров: жития, летописи и слова. Зарождается жанр, предвосхищающий появление русского романа. В произведении прекрасно описывается семейная драма Данила Александровича. Ярко показан образ жены-предательницы Улиты.
Важное место занимает в средневековой русской литературе жанр «хожений» («хождений»), описывающий путешествия русских людей в иноземные страны и по святым местам. Здесь я советую обратить внимание на прекрасное «Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина.
Второй урок мастерства
О том, что такое творческий метод, художественная система и литературное направление
Вопрос о законах создания художественного мира литературного произведения – один из самых сложных в искусстве слова. Вы уже хорошо знаете, что художественная реальность условна и не совпадает с реальной действительностью, но в то же время источником создания художественного мира всегда является личный опыт писателя, то есть его представления о реальном мире.
Как же представление о действительной жизни превращается в художественный мир литературного произведения? На этот вопрос искали ответ многие поколения художников и ученых. Результатом их размышлений стало понятие творческого метода.
Творческий метод – это основные художественные принципы оценки, отбора и воспроизведения действительности в произведении.
Что это значит? Подумайте, ведь для того чтобы создать художественную реальность на основе одного из видов условности, необходимо сначала представить себе, что такое реальность. Иными словами, прежде чем изображать природу и человека, писателю следует осознать, что он называет природой и каким представляет себе человека. Ему приходится прежде всего определить свой взгляд на окружающий его мир, создать свою концепцию мира и человека (вам уже знакомо это понятие).
Итак, прежде всего писатель производит оценку реальной действительности на основе имеющихся в его распоряжении научных данных и в соответствии со своим мировоззрением. Созданная им концепция мира и человека и служит исходным материалом для построения художественного мира литературного произведения.
Однако вы уже знаете, что нельзя механически перенести все известное о земном мире, в котором живет человек, на страницы книги. Писателю неизбежно приходится отбирать то, что представляется ему наиболее важным. В этом ему помогают принципы типизации.
Типизация – это отбор и художественное осмысление характерных черт, явлений и свойств реальной действительности в процессе создания художественных образов и построения художественного мира литературного произведения. Проще говоря, – это отображение общих, характерных черт жизни в конкретных художественных образах.
Типизация – одно из основных свойств любого искусства. Чтобы создать художественный мир, автор должен, опираясь на собственный опыт, отобрать из фактов реальной жизни, из многообразия человеческих характеров такие, которые, будучи перенесенными в художественное произведение, создадут в нем иллюзию живой жизни. В единичных, неповторимых художественных образах отражаются характерные свойства обыденной реальности. Вспомните коллизии «Дубровского». А. С. Пушкин создал два прекрасных, неповторимых художественных характера – Андрея Дубровского и Кирилы Троекурова. Но в них запечатлелись черты многих русских помещиков: гордость обедневшего дворянства, заносчивость богатых аристократов, понятие чести, свойственное русским офицерам. А в сцене суда как в капле воды отразилась зависимость чиновников от местных богачей, характер рассмотрения тяжб. В исключительности, единичности ссоры Андрея Дубровского и Кирилы Троекурова отобразились многочисленные конфликты поместного дворянства.
Типизируются не только обыденные, привычные особенности повседневной жизни. Умение писателя почувствовать зарождение новых веяний времени, новых людей и вывести их в своем творении также связано с типизацией. Это отражение в конкретном образе идеальных или же только нарождающихся новых явлений. Вот, к примеру, образ Говена из «Мула без узды»: в нем отразилась мечта об идеальном рыцаре, о настоящем защитнике слабых и обиженных. А В. С. Пикуль в очерке «Конная артиллерия – марш-марш!» сумел в образе реального русского офицера показать черты былинных богатырей – вот вам и воплощение мечты предков в конкретном облике их потомка…
Типизация существует в искусстве столько же, сколько существует само искусство. С глубокой древности художники создавали свои образы, в которых другие люди узнавали привычный им мир. Но по мере развития человечества менялось искусство, менялись и принципы типизации, так как они зависят от того, каким человек видит мир, какое место отводит в нем для себя. Типизация отражает тот уровень человеческих представлений, который присущ конкретному историческому периоду развития общества.
Вот видите, какую непростую работу приходится проделать автору, чтобы воплотить свой жизненный опыт в создание художественного мира произведения! Но и это еще не все. Мало отобрать необходимый материал, нужно, чтобы придуманный мир зажил своей самостоятельной жизнью, стал полнокровным и естественным в восприятии читателя, необходимо чувствовать возможности художественной условности, знать законы литературы как вида искусства (поэтику). Именно поэтика и определяет принципы воспроизведения действительности в литературном произведении. Писатель выбирает форму условности, жанр, приемы и средства художественной выразительности… Однако эти составные части поэтики были открыты художниками далеко не сразу, они исторически менялись, обогащались и развивались. Изменчивость принципов оценки, отбора и воспроизведения действительности была объективной причиной смены творческих методов на протяжении развития литературного процесса.
Одни творческие методы возникали на основе господствующей идеологии и существовали длительное время, видоизменяясь под влиянием новых исторических условий. Такие творческие методы принято называть продуктивными. К ним относятся классицизм, романтизм, реализм. Они образовывали в литературном процессе целые художественные системы (совокупность всех литературных произведений, созданных на основе одного продуктивного творческого метода).
Поскольку продуктивный творческий метод существовал на протяжении длительного времени, испытывая известные видоизменения, внутри художественной системы появлялись литературные направления, то есть конкретно-исторические проявления творческого метода.
Но существовали и непродуктивные творческие методы (барокко, сентиментализм, натурализм), появлявшиеся в результате творческой полемики писателей с представителями продуктивных методов. Непродуктивные методы существовали сравнительно недолго, и на их основе не возникало художественных систем, хотя они и создавали собственные литературные направления.
Поскольку каждая национальная литература опирается на свою самобытную национальную традицию и использует свой язык, национальные проявления творческого метода имеют свои характерные черты и называются литературным течением.
Первым из творческих методов, известных нам в литературном процессе европейской цивилизации, был классицизм, возникший в эпоху Возрождения.
Здесь вы справедливо можете поинтересоваться: а как же существовала без творческих методов литература Средневековья? Дело в том, что средневековая литература еще не отделилась от других видов творческой деятельности человека: агиографии (житийной литературы), хроник, научных рассуждений. Писатели не чувствовали потребности осознания способов построения художественного мира.
В то же время в средневековой литературе довольно часто синтезировались мифологическое, публицистическое и художественное начала. Жанровая самостоятельность была абсолютной, и взаимодействие жанров (явление обычное для последующих эпох) началось в средневековом искусстве сравнительно поздно.
Проще говоря, роль метода в это время выполняли отдельные жанры. Надеюсь, вы помните, что в средневековье еще не было четких границ между литературой и фольклором, а метод является характерной чертой именно литературного творчества.
Третий урок мастерства
О классицизме как творческом методе и художественной системе
Мы с вами уже отметили, что первый творческий метод появился в эпоху Возрождения и получил название «классицизм». В XIV веке в Италии начал формироваться новый взгляд на человека и его возможности, и перед художниками встал вопрос о принципах изображения нового героя. Выступая против средневековой ограниченности в истолковании материального мира и земной жизни, первые гуманисты обратились к наследию античности. Им казалось, что древние греки и римляне сумели передать красоту и значение человека в земной жизни, и новое искусство призвано было подражать прекрасным античным образцам, подражать классикам.
Термин «классицизм» означает «образцовый» и связан с принципом подражания образцам. Однако подражание не означало копирования. Подражать, по мнению классицистов, значило понять и использовать те принципы и приемы, на которые опирались античные авторы. Задавая себе вопрос о том, что же было главным в искусстве древних художников, уже первые гуманисты сформулировали основное правило классицистского искусства: «подражание природе». «Поэзия и живопись – искусства родственные. Оба заняты подражанием природе».
Поскольку главным в искусстве классицизма было подражание не конкретным произведениям античных авторов, а основным принципам создания этих произведений, классицисты внимательно изучали труды теоретиков античной литературы: «Поэтику» Аристотеля и «Послание к Пизонам» Горация.
Как видите, у классицистов существовала собственная концепция мира и человека, весьма отличная от средневековой. Оценка действительности у них основывалась на рационалистическом познании природы, в которой человек занимал центральное место.
Классицизм эпохи Возрождения изменил и принципы типизации. Средневековая типизация, с одной стороны, отражает феодальное мировоззрение, утверждавшее строгую иерархию мироздания «от Бога до камня», а с другой стороны, явно пренебрегает материальными законами земного мира, что связано с христианской концепцией жизни на земле как «наказания и испытания» человека за первородный грех. Это нашло выражение в яркой идеализации и гиперболизации, пронизывающей средневековое искусство, а также в присущем средневековому искусству аллегоризме.
В эпоху Возрождения происходит своего рода открытие мира и человека, что связано с утверждением буржуазной идеологии. Именно в этот период человеком осознаются материальные законы природы. Природа рассматривается как гармоничное целое, а человек – как часть природы. Искусство начинает ориентироваться на изображение не идеальных черт, а конкретных признаков, присущих отдельной ситуации и отдельному характеру. Типизация в эпоху Возрождения базируется на принципе индивидуализации. Конкретны и неповторимы ситуации, в которые попадают персонажи, а характеры наделены личностными качествами конкретных людей. Так, в «Декамероне» Дж. Боккаччо невозможно описать «монаха» или «дворянина» вообще: есть добрые и злые дворяне и монахи, скупые и щедрые, тупые и находчивые, и каждый характер определяется не столько социальной принадлежностью, сколько комбинацией индивидуальных качеств.
В эпоху Возрождения меняются и принципы воспроизведения художественной действительности, появляется новая поэтика. На смену средневековым жанрам эпопеи, баллады, рыцарского романа, видения приходят роман, сонет, поэма. Театр начинает ориентироваться на античность, в нем ставят трагедии и комедии, вместо аллегории и фантастической условности все чаще используется жизнеподобие. Авторы стремятся передать свое представление об устройстве земной жизни.
Принципы классицизма оказались очень жизнеспособными. Возникнув в XIV столетии, они просуществовали до конца XVIII века. На их основе возникла художественная система классицизма, включившая в себя три основных литературных направления: классицизм Возрождения, классицизм XVII века и просветительский классицизм.
Литература эпохи Возрождения. Ренессансный классицизм
Изучая историю, вы уже узнали, что Новое время, сменившее эпоху феодализма в развитии европейской цивилизации, наступило в XVII веке и ознаменовалось Английской буржуазной революцией. Однако в истории культуры эпоха Средневековья завершается гораздо раньше.
Начиная с XIV века в литературном процессе отмечаются очень серьезные изменения, заставляющие говорить о зарождении новых явлений, о самостоятельной эпохе, получившей название «эпоха Возрождения» (иногда ее еще называют эпохой Ренессанса, используя термин итальянцев, поскольку рождение новой стадии относится именно к Италии).
Эпоха Возрождения – это очень важный этап развития европейской культуры. Хронологически входящее в средневековую историю европейских народов, возникшее в недрах феодального общества, Возрождение открывает принципиально новую культурную эпоху, знаменуя собой начало борьбы буржуазии за господство в обществе. Заметьте, буржуазия еще не обладает достаточными силами, чтобы открыто вступить в борьбу за политическую власть, но ее реальная финансовая и общественная значимость в жизни любого европейского государства постепенно разрушает средневековое представление об устройстве мира и о взаимоотношениях человека и природы.
В эпоху Возрождения происходит целый ряд важнейших научных открытий: Коперник доказывает, что Земля обращается вокруг Солнца, Магеллан своим кругосветным путешествием подтверждает шарообразность нашей планеты, Колумб открывает Америку… Все чаще и чаще люди убеждаются в существовании объективных законов природы и начинают развивать учение о первичности материальных законов в жизни природы.
Мыслители Возрождения не посягают на идею божественного происхождения мира и человека, но утверждают, что мир создан гармоничным и подчинен вечным и неизменным законам. Разум же дан человеку для того, чтобы постигнуть эти законы и применить их к организации собственного общества, что и будет залогом его счастливого существования на земле и залогом загробного блаженства. Человек разумный и естественный (развивающийся в соответствии с законами природы) не только становится центром материального мира, но и основным объектом художественного осмысления и изображения.
При этом писателей эпохи Возрождения в первую очередь интересуют индивидуальные проявления человеческой личности, ее своеобразие и непохожесть на других. Для них не подлежит сомнению, что каждый человек от рождения наделен только хорошими и добрыми качествами, а превращение его в негодяя, предателя или злодея связано с отклонениями от предназначенного ему пути. Отклонения эти вызваны дурным воспитанием, причем «воспитателями» человека выступают не только родители и педагоги, но и все его окружение.
Появляется учение о том, что Бог передал на земле свою власть человеку. Человек же должен доказать, что он достоин столь высокого предназначения, что он действительно подобен Богу. Это учение получило название «антропоцентризм» (человек – центр Вселенной), а мыслителей Возрождения стали называть гуманистами.
Мировоззрение гуманистов на этапе Возрождения характеризуется установкой на материалистическое истолкование законов природы (принцип «природосообразности»), антропоцентризм (человек рассматривается как венец природы), рационализм (человек познает окружающий мир и самого себя с помощью разума, что отличает его от всех остальных земных существ и приближает к Богу, чьим подобием на земле человек и является). Это были основы новых общественных взглядов, новой идеологии, отвечающей интересам буржуазии. Само возникновение буржуазной идеологии приводит к постепенному разрушению средневековой концепции мира и человека.
Одновременно меняется и характер искусства. Антропоцентристские тенденции гуманизма заставляют деятелей Возрождения отказаться от традиций средневекового искусства и обратиться «через головы» своих непосредственных предшественников к искусству античности. Такой выбор свидетельствует о том, что искусство осознается гуманистами как особая и специфическая форма человеческой деятельности. Суть этой деятельности заключается для ренессансных мыслителей в создании «другой», «украшенной» природы на основе подражания реальной природе и «образцам» (то есть античному искусству). Так, в недрах Возрождения формируется творческий метод – ренессансный классицизм, или классицизм Возрождения, на основе которого начинает формироваться художественная система европейского классицизма и возникает первое литературное направление, также называющееся «ренессансный классицизм», или «классицизм Возрождения». К этому же времени относятся первые попытки создания «нормативных поэтик», своеобразных учебников для молодых писателей. Положив в основу своих сочинений принципы Аристотеля, такие поэтики создавали итальянцы Ю. Ц. Скалигер, Л. Кастельветро, англичанин Ф. Сидни и др.
Искусство классицизма возникло как попытка преодолеть абстрактность средневекового искусства, опиравшегося на религиозные представления о мире и человеке. Классицизм – творческий метод светского искусства, тесно связанный с идеями гражданственности.
Дезидерий Эразм Роттердамский
Дезидерий Эразм – одна из самых крупных фигур эпохи Возрождения. Он был идеологом гуманизма, страстным популяризатором античности, критиком религиозного мракобесия. Ученый-богослов, он хотел возродить чистоту ранней Христовой церкви, проповедовавшей любовь, а не нетерпимость.
Славу Эразму принесла его книга «Похвала Глупости», яркое сатирическое произведение, высмеивающее пороки современного ему общества и утверждающее идеалы гуманизма.
Не меньшей популярностью у современников пользовались и его диалоги, объединенные в книгу «Разговоры запросто». Он начал писать их еще в самом конце XV века, когда учился в Сорбонне. Тогда Эразм задумал создать новый учебник латинского языка, в котором все основные грамматические примеры давались бы в непринужденной забавной форме. Небольшие сценки с разговорами на житейские темы были написаны на прекрасной латыни, но их содержание оказалось настолько глубоким, что только при жизни писателя книга выдержала более 100 изданий. Успех диалогов заставлял писателя постоянно возвращаться к книге, над которой он проработал более пятнадцати лет.
Жанр диалога был очень популярен в эпоху Возрождения. Увлечение античностью и изучение Платона, выдающегося мастера этого жанра, открыли гуманистам лаконичность и динамизм диалога. В репликах собеседников они раскрывали их характеры, а полемика беседующих позволяла поставить перед читателем сложнейшие проблемы. Простота разговорной речи делала диалог демократичным.
Вам предлагается диалог «Исповедь солдата».
Вы сами сумеете определить его основную тему и сатирическую направленность. Задумайтесь над характерами собеседников, обратите внимание на использование в диалоге античных образов. Очень важны в этом диалоге христианские принципы, утверждаемые нидерландским гуманистом. Назовите их.
Исповедь солдата Перевод С. Маркиша
Ганнон. Трасимах[143]
ГАННОН. Откуда к нам, Трасимах? Уходил ты Меркурием[144], а возвращаешься Вулканом[145].
ТРАСИМАХ. Какие там еще Меркурии, какие Вулканы? О чем ты толкуешь?
ГАННОН. Да как же: уходил – будто на крыльях улетал, а теперь хромаешь.
ТРАСИМАХ.С войны так обычно и возвращаются.
ГАННОН. Что тебе война – ведь ты пугливее серны!
ТРАСИМАХ. Надежды на добычу сделали храбрецом.
ГАННОН. Значит, несешь уйму денег?
ТРАСИМАХ. Наоборот, пустой пояс[146].
ГАННОН. Зато груз необременительный.
ТРАСИМАХ. Но я обременен злодеяниями.
ГАННОН. Это, конечно, груз тяжелый, если верно сказано у пророка[147], который грех зовет свинцом.
ТРАСИМАХ. Я и увидел и совершил сам больше преступлений, чем за всю прошлую жизнь.
ГАННОН. Понравилось, стало быть, воинское житье?
ТРАСИМАХ. Нет ничего преступнее и злополучнее!
ГАННОН. Что же взбредает в голову тем, которые за плату, а иные и даром, мчатся на войну, будто на званый обед?
ТРАСИМАХ. Не могу предположить ничего иного, кроме одного: они одержимы фуриями[148], целиком отдались во власть злому духу и беде и явно рвутся в преисподнюю до срока.
ГАННОН. Видимо, так. Потому что для достойного дела их не наймешь ни за какие деньги. Но опиши-ка нам, как происходило сражение и на чью сторону склонилась победа.
ТРАСИМАХ. Стоял такой шум, такой грохот, гудение труб, гром рогов, ржание коней, крики людей, что я и различить ничего не мог – едва понимал, на каком я свете.
ГАННОН. А как же остальные, которые, вернувшись с войны, расписывают все в подробностях, кто что сказал или сделал, точно не было такого места, где бы они не побывали досужими наблюдателями?
ТРАСИМАХ. Я убежден, что они лгут почем зря. Что происходило у меня в палатке, я знаю, а что на поле боя – понятия не имею.
ГАННОН. И того даже не знаешь, откуда твоя хромота?
ТРАСИМАХ. Пусть Маворс[149] лишит меня наперед своей благосклонности – пожалуй что нет. Скорее всего, камень угодил в колено или конь ударил копытом.
ГАННОН. А я знаю.
ТРАСИМАХ. Знаешь? Разве тебе кто рассказал?
ГАННОН. Нет, сам догадался.
ТРАСИМАХ. Так что же?
ГАННОН. Ты бежал в ужасе, грохнулся оземь и расшиб ногу.
ТРАСИМАХ. Провалиться мне на этом месте, если ты не попал в самую точку! Твоя догадка так похожа на правду!
ГАННОН. Ступай домой и расскажи жене о своих победах.
ТРАСИМАХ. Не слишком сладкой песнею она меня встретит, когда увидит, что муж возвращается наг и бос.
ГАННОН. Но как ты возместишь то, что награбил?
ТРАСИМАХ. А я уж возместил.
ГАННОН. Кому?
ТРАСИМАХ. Потаскухам, виноторговцам и тем, кто обыграл меня в кости.
ГАННОН. Вполне по-военному. Худо нажитое пусть сгинет еще хуже – это справедливо. Но от святотатства, я надеюсь, вы все-таки удержались.
ТРАСИМАХ. Что ты! Там не было ничего святого. Ни домов не щадили, ни храмов.
ГАННОН. Каким же образом ты искупишь свою вину?
ТРАСИМАХ. А говорят, что и не надо ничего искупать – дело ведь было на войне, а на войне, что бы ни случилось, все по праву.
ГАННОН. Ты имеешь в виду – по праву войны?
ТРАСИМАХ. Верно.
ГАННОН. Но это право – сама несправедливость! Тебя повела на войну не любовь к отечеству, а надежда на добычу.
ТРАСИМАХ. Не спорю и полагаю, что не многие явились туда с более чистыми намерениями.
ГАННОН. Все же утешение: не один безумствуешь, а вместе со многими.
ТРАСИМАХ. Проповедник с кафедры[150] объявил, что война справедливая.
ГАННОН. Кафедра лгать не привычна. Но что справедливо для государя, не обязательно справедливо и для тебя.
ТРАСИМАХ. Слыхал я от людей ученых, что каждому дозволено жить своим ремеслом.
ГАННОН. Хорошо ремесло – жечь дома, грабить храмы, насиловать монашек, обирать несчастных, убивать невинных!
ТРАСИМАХ. Нанимают же мясников резать скотину, – за что тогда бранить наше ремесло, если нас нанимают резать людей?
ГАННОН. А тебя не тревожило, куда денется твоя душа, если тебе выпадет погибнуть на войне?
ТРАСИМАХ. Нет, не очень. Я твердо уповал на лучшее, потому что раз навсегда поручил себя заступничеству святой Варвары.
ГАННОН. И она приняла тебя под свою опеку?
ТРАСИМАХ. Да, мне показалось, что она чуть-чуть кивнула головой.
ГАННОН. Когда это тебе показалось? Утром?
ТРАСИМАХ. Нет, после ужина.
ГАННОН. Но об ту пору тебе, верно, казалось, что и деревья разгуливают.
ТРАСИМАХ. Как он обо всем догадывается – поразительно!.. Впрочем, особенную надежду я возлагал на святого Христофора и каждый день взирал на его лик.
ГАННОН. В палатке? Откуда там святые?
ТРАСИМАХ. А я нарисовал его на парусине углем.
ГАННОН. Вот уж, конечно, не липовая, как говорится, была защита – этот угольный Христофор. Но шутки в сторону: я не вижу, как ты можешь очиститься от такой скверны, разве что отправишься в Рим[151].
ТРАСИМАХ. Ничего, мне известна дорога покороче.
ГАННОН. Какая?
ТРАСИМАХ. Пойду к доминиканцам[152] и там задешево все улажу.
ГАННОН. Даже насчет святотатства?
ТРАСИМАХ. Даже если бы ограбил самого Христа да еще и голову бы ему отсек вдобавок! Такие щедрые у них индульгенции[153] и такая власть все устраивать и утишать.
ГАННОН. Хорошо, если Бог утвердит ваш уговор.
ТРАСИМАХ. Я о другом беспокоюсь – что диавол не утвердит. А Бог от природы жалостлив.
ГАННОН. Какого выберешь себе священника?
ТРАСИМАХ. Про которого узнаю, что он самый бесстыжий и беззаботный.
ГАННОН. Чтобы, значит, дым с чадом сошлися, как говорится? И после этого будешь чист и причастишься тела Господня?
ТРАСИМАХ. Почему же нет? Как только выплесну всю дрянь к нему в капюшон, тотчас станет легко. Кто отпустил грехи, тот пусть дальше об них и думает.
ГАННОН. А как ты узнаешь, что отпустил?
ТРАСИМАХ. Да уж узнаю.
ГАННОН. По какому признаку?
ТРАСИМАХ. Он возлагает руки мне на голову и что-то там бормочет, не знаю что.
ГАННОН. А что, если он оставит все твои прегрешения на тебе и, когда возложит руку, пробормочет так: «Отпускаю тебе все добрые дела, коих не нашел за тобою ни единого, и каким встретил тебя, таким и провожаю»?
ТРАСИМАХ. Это его дело. Мне достаточно верить, что я получил отпущение.
ГАННОН. Но такая вера опасна. Быть может, для Бога, которому ты должник, ее недостаточно.
ТРАСИМАХ. Откуда ты взялся на моем пути, чтобы ясную мою совесть затуманивать облаками?
ГАННОН. Счастливая встреча: друг с добрым советом – добрая примета в пути.
ТРАСИМАХ. Может, она и счастливая, но не слишком приятная.
Вопросы и задания
1. Какие художественные средства используются автором для дегероизации войны?
2. Обрисуйте характер Трасимаха.
3. Как в произведении используется ирония? Подготовьте выразительное чтение произведения.
4. Найдите в тексте критику папского Рима и его церковной политики.
5. Как в этом произведении проявляется авторская позиция Эразма Роттердамского?
Ганс Сакс
Немецкий поэт XVI века Ганс Сакс был простым сапожником в городе Нюрнберге. С детства он увлекся творчеством мейстерзингеров, городских поэтов, объединявшихся в особые цехи, и прошел специальный курс обучения в одном из цехов. Захваченный идеями Возрождения, он принимает активное участие в реформации церкви, отстаивая в своей поэзии идеи протестантизма. Но основой поэтического творчества Г. Сакса были бытовая сатира и назидание. Поэт обращается к простым людям города Нюрнберга.
Г. Сакс создавал произведения в средневековых жанрах, но вкладывал в них новое гуманистическое содержание. Одним из самых любимых его жанров был шванк. Шванк – это стихотворная новелла сатирического содержания. Под пером Г. Сакса шванк приобретает черты басни: в нем всегда содержится ясное и разумное назидание, но в то же время поэт стремится сохранить бытовой реализм повествования, не переходящий в чистую аллегорию.
Шванк «Святой Петр и коза» очень характерен для творчества Г. Сакса. Здесь есть четкое назидание (определите его сами), но это не простая аллегория. Приглядитесь к характеру св. Петра, этот простодушный апостол обладает многими чертами немецкого горожанина. Мудрость и терпение Господа также не декларируются, а поэтически показываются в шванке. Небольшое произведение изображает перед нами целый мир, где даже старуха и коза раскрываются перед читателем почти полностью.
Обратите внимание на фольклорные традиции, придающие шванку Г. Сакса особую убедительность.
Святой Петр и коза Перевод Т. Гнедич
Когда Христос меж смертных жил, Повсюду с ним и Петр ходил. В село Христос однажды шел, А Петр такую речь повел: «Ах, Господи, владыко мой, Дивит меня нрав кроткий твой. Ты Вседержитель, а грехам Ты попустительствуешь сам, И злу все не выходит срок, Как древле Аввакум изрек. Везде безбожник зло творит, Везде насилие царит, Везде гоненье, поношенье Слуг правой веры и смиренья. Ты, Боже, распустил людей! Как рыбы хищные морей, Друг друга все они глотают, И злые всюду побеждают; Всем людям тяжко – видишь сам: И богачам, и беднякам. А ты молчишь, тебя, наверно, Не возмущает эта скверна! Не след тебе спокойным быть. Ты мог бы зло искоренить, Когда б мудрее миром правил. Эх, кабы ты меня поставил Быть Богом хоть один годок И властью полною облек, Уж я бы властвовал толково: Всех рассудил бы я сурово. Лихву, войну, обман, разбой Вот этой самою рукой Я б на земле искоренил!» «Скажи мне, Петр, – Господь спросил, — Ты, значит, сможешь лучше править, Сумеешь всех и вся исправить, Убогих сможешь защитить, А злых смирить и проучить?» Ответствовал апостол сразу: «Да, зла проклятую заразу И непорядок извести Давно пора, чтоб мир спасти. Уж я-то правил бы построже!» Господь сказал ему: «Ну что же! Аминь! Бери-ка от меня Власть Божию с сего же дня И правь людьми, как знаешь сам: Будь добр и кроток, строг и прям; Благословляя, проклиная, Грозу и ведро насылая, Суди, казни и награждай, Щади, гони и защищай. Бери же с нынешнего дня Бразды правленья от меня!» Так произнес Господь благой, Петру вручая посох свой. Понятно, Петр доволен был И мудро властвовать решил. Тут подошла к нему, хромая, Крестьянка тощая, больная, В лохмотьях грязных, босиком; Она гнала козу прутом. Сказала женщина, вздыхая: «Иди, коза моя родная! Господь храни и защити Тебя в лесу и на пути И от волков и от ненастья! Не отведу сама напасть я: Мне на поденщину идти, Чтобы детишкам принести Поесть сегодня, ну а ты Иди, пасись до темноты! Храни тебя Творца десница!» Затем отправилась вдовица В село, коза – своим путем, А Бог заговорил с Петром: «Ты внял ли, Петр, словам убогой, Просившей помощи у Бога? А как ты сам сегодня Бог, Так ты бы сей вдове помог. Она ведь об одном просила, Чтоб сберегла Господня сила Ее козу от бед и зла: Чтоб в лес далеко не ушла, Чтоб вору в руки не попалась, Медведю, волку не досталась И мирно вечером домой Пришла дорогою прямой. Внемли молению убогой И будь сегодня ей подмогой!» Внял Божьей речи Петр, и вот Козу он бережно пасет. На луг ее он выгоняет, Но незадача ожидает Петра: коза упряма, зла, Носиться глупая пошла, То вскочит вдруг на холмик ловко, То прыгнет с холмика плутовка, То к лесу ринется густому, Ну и досталось же святому! Пришлось и бегать и кричать, А солнце стало припекать. Апостол потом обливался, Едва дышал, а все гонялся До самой ночи за козой, Пока привел ее домой. Святой уж выбился из сил, А Бог, смеясь, его спросил: «Что, Петр, и доле хочешь ты Держать правления бразды?» А Петр ответил: «Боже мой! Бери обратно посох свой! В твои дела теперь соваться Зарекся я; готов сознаться, Что, проработав день-деньской, Едва управился с козой. А как устал! Невзвидел свету! Прости мне, Боже, дурость эту! Судить дела твои, поверь, Вовек не стану я теперь!» Господь ответил: «Ну так вот, Живи-ка лучше без забот, Спокойно, мирно, в тишине, А власть оставь навеки мне!»Вопросы и задания
1. Какую художественную роль играет в этом произведении образ Петра? Дайте описание его характера.
2. Как в этот шванке проявляется мудрость Бога?
3. Какие черты роднят этот шванк с басней, а какие отличают от нее?
4. Подготовьте выразительное чтение шванка.
Уильям Шекспир Гамлет
Творчество этого драматурга завершает период английского Возрождения и отражает наиболее характерные черты, присущие драматургии Ренессанса.
О самом драматурге нам известно очень мало. Он родился в небольшом городке Стрэтфорде-на-Эвоне, перебрался в Лондон и здесь стал членом театральной труппы Джеймса Бербреджа, называвшейся «Люди лорда-камергера». Это была лучшая театральная труппа того времени, имевшая в Лондоне свой собственный театр «Глобус». Для этой труппы У. Шекспир писал свои пьесы, в ней он выступал как режиссер и актер, исполнявший женские роли (в то время актерами были только мужчины). Театральная деятельность У. Шекспира продолжалась до 1612 года. Затем он вновь вернулся в Стрэтфорд, где умер в 1616 году.
Творчество драматурга принято разделять на три основных периода. С 1593 по 1600 год – первый период, когда драматург создает в своих драмах гуманистическую картину земной человеческой жизни. В это время драматург написал все свои исторические хроники, среди которых знаменитый «Ричард III», большинство комедий (вы, надеюсь, слышали о таких его пьесах, как «Двенадцатая ночь», «Два веронца», «Укрощение строптивой») и несколько трагедий (в том числе «Ромео и Джульетта»).
Во второй период – с 1601 по 1607 год – Шекспир словно проверяет идеалы гуманизма, пытаясь понять, почему они не воплощаются в реальной жизни людей. Этот период знаменуется написанием всех великих трагедий: «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет».
Наконец, третий период – с 1608 по 1612 год. Поняв невозможность переустройства человеческих отношений на основе учений гуманистов, Шекспир обращается в будущее, к своим мудрым потомкам, и создает лишь три драмы. Но это три шедевра – «Зимняя сказка», «Цимбелин» и «Буря».
Драматургия У. Шекспира удивительно многообразна. Автор прекрасно знал законы сцены и умел создать напряженное драматическое действие.
Самым известным и самым сложным произведением писателя является трагедия «Гамлет». В ней отчетливо проявляются характерные черты классицизма Возрождения. Вот мы с вами, например, рассуждали о том, что гуманисты рассматривают человека как подлинного властелина земли. Обратите внимание на слова Гамлета (акт II, сцена 2):
«Что за мастерское создание – человек! Как благороден разумом! Как беспределен в своих способностях, обличьях и движениях! Как точен и чудесен в действии! Как он похож на ангела глубоким постижением! Как он похож на некоего бога! Краса Вселенной! Венец всего живущего!»
В этих словах первым достоинством человека называется разум, что опять-таки является характерной чертой классицизма. И мотивы человеческих поступков в пьесе тоже не «божественные», а земные, сугубо человеческие.
ГАМЛЕТ Истинно велик, Кто не встревожен малою причиной, Но вступит в ярый спор из-за былинки, Когда задета честь… Акт IV, сцена 4Подумайте, какие еще черты классицистской концепции мира и человека наглядно проявляются в трагедии.
Показательна и поэтика «Гамлета». Это типичная трагедия, ориентированная на воплощение учения Аристотеля. В основе ее лежит трагическая вина Гамлета, обещавшего отцу восстановить справедливость в Датском королевстве, но не имеющего достаточно сил выполнить данное обещание. Внутренние колебания, мучительный внутренний конфликт героя даже стали нарицательными и обозначались словом «гамлетизм».
ГАМЛЕТ А я, Тупой и вялодушный дурень, мямлю, Как ротозей, своей же правде чуждый, И ничего сказать не в силах; даже За короля, чья жизнь и достоянье Так гнусно сгублены. Или я трус? ........................................ …Ведь у меня И печень голубиная – нет желчи, Чтоб огорчаться злом; не то давно Скормил бы я всем коршунам небес Труп негодяя… ......................................... …я расслаблен и печален… Акт II, сцена 2Проследите, пожалуйста, как развивается основной конфликт трагедии от завязки к развязке, а заодно поразмыслите: почему Гамлет, не задумываясь, убивает Полония, посылает на смерть Розенкранца и Гильденстерна, вопреки приказу отца упрекает мать, мучает несправедливыми упреками Офелию, но не решается выступить против Клавдия?
Замечательны и принципы типизации в этой трагедии. Изображая Датское королевство, У. Шекспир ставит вопрос об обязанностях короля перед своим народом. Далеко не случайно после смерти Клавдия и Гамлета корона должна перейти не к Горацию (родственник принца), а к норвежцу Фортинбрасу. Постарайтесь обосновать этот вывод драматурга.
Обратите внимание, как часто автор, следуя принципам эпохи Возрождения, ссылается на отношение к происходящему народа:
Сам океан, границы перехлынув, Так яростно не пожирает землю, Как молодой Лаэрт с толпой мятежной Сметает стражу. Чернь идет за ним; И словно мир впервые начался… Акт IV, сцена 5Не решаясь расправиться с Гамлетом, Клавдий все время ссылается на волю простых людей:
Другое основанье Не прибегать к открытому разбору — Любовь к нему простой толпы… Акт IV, сцена 7 …быть строгим с ним нельзя: К нему пристрастна буйная толпа… Акт IV, сцена 3Как вы полагаете, оправдал ли Гамлет любовь своего народа?
Прочитав пьесу, подумайте, пожалуйста, еще над одним вопросом: какое качество характера датского принца послужило основой для понятия «гамлетизм»?
Вопросы и задания
1. К какому творческому методу можно отнести трагедию «Гамлет»?
2. В чем сущность «гамлетизма» и как «гамлетизм» проявляется в трагедии?
3. В чем заключается «трагическая вина» Гамлета?
4. Почему Призрак запрещает Гамлету преследовать Гертруду?
5. Какую идейную роль выполняет в трагедии образ Офелии?
6. Подтверждаются или опровергаются в трагедии мысли Гамлета, высказанные им в монологах?
7. Зачем в трагедию вводится образ Лаэрта?
8. Какова идейная и композиционная роль образа Горацио?
9. В ком из персонажей воплощено ренессансное представление о настоящем монархе?
10. Как У. Шекспир представляет идею королевской власти?
11. Определите место Фортинбраса в композиционной структуре и идейном содержании трагедии.
12. Как воплощаются в трагедии идеи ренессансного гуманизма?
13. Оптимистичен или пессимистичен финал трагедии? (Ответ обоснуйте.)
Мигель де Сервантес Сааведра Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский
Эпоха Возрождения на своем излете подарила миру двух величайших писателей: англичанина Шекспира и испанца Мигеля де Сервантеса. Оба они творили на рубеже XVI и XVII столетий и умерли в один и тот же год – 1616-й.
Мигель де Сервантес Сааведра родился в семье обедневшего дворянина. В молодости был солдатом, принимал участие в морском сражении при Ле Панто, избавившем Европу от угрозы турецкого нашествия. В этом сражении Сервантес проявил неслыханное мужество, спасшее флагманскую галеру от гибели, но получил жестокую рану, лишившую его возможности действовать левой рукой. Возвращаясь в Испанию, он попал в плен к алжирским пиратам и несколько лет провел в рабстве, регулярно предпринимая попытки к бегству и восхищая своих поработителей неукротимым мужеством.
Выкупленный из рабства монахами Ордена Милости, он возвратился на родину, где его ждали нищета, равнодушие королевского двора и несправедливые гонения. Его книги переводились на разные языки, слава его гремела по всей Европе, а при королевском дворе не могли ответить на вопрос, жив ли еще автор «Дон Кихота» или уже умер.
Вы уже знакомы с творчеством великого испанского гуманиста: знаете, что ему принадлежит несколько драм, стихотворных произведений и сборник «Назидательных новелл», одну из которых вы изучали в прошлом году.
Но для большинства читателей Сервантес – автор бессмертного романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчскии». Имя этого литературного героя знают даже те, кто никогда не держал в руках ни одного из двух томов этого произведения. Русский писатель Ф. М. Достоевский говорил, что на Страшном Суде на вопрос Бога о том, как человек прошел земное испытание, можно не отвечать, молча протянув Господу роман Сервантеса.
Это поистине удивительное произведение. В нем соединились жанровые черты уже известного вам рыцарского романа (все повествование строится на авантюрах: герой, возомнивший себя Рыцарем Печального Образа, отправляется на поиски справедливости и переживает ряд приключений) с очень популярным во времена Сервантеса плутовским романом. С жанром плутовского романа вам еще предстоит познакомиться, но уже сейчас я должен заметить, что идея дать в оруженосцы рыцарю плутоватого крестьянина Санчо Пансу была очень смелой.
Роман Сервантеса заключает в себе характерные идеалы эпохи Возрождения (вам предстоит самим объяснить, что понимал писатель под «золотым веком») и одновременно ясное понимание того, что эпоха Возрождения заканчивается. Не случайно прекрасные мечты Дон Кихота разбиваются о грубую действительность, а житейская мудрость «губернатора» Санчо Пансы оказывается лишь поводом для насмешек высокопоставленных бездельников.
Кстати, в связи с «губернаторством» Санчо Пансы я хотел бы задать вам вопрос: почему этот герой добровольно отказывается от правления, к которому стремился?
Одним из самых выдающихся достижений великого испанского писателя было создание первого в истории литературы образа чудака. Это очень непростой образ, имеющий для создания художественного мира произведения особое значение.
Дело в том, что многим авторам часто приходилось решать очень сложную задачу: как изобразить идеального героя в несовершенном, враждебном ему мире? Если сделать такого героя жертвой, произведение вызовет возмущение читателей, а если изобразить его победителем – значит, солгать или явно приуменьшить несовершенство реальной действительности.
Сервантес первым сумел разрешить эту задачу. Вспомните лиценциата Видриеру. Он безумен так же, как и Дон Кихот. Безумие обоих героев защищает их от несовершенного мира, позволяет сохранить свои идеалы, веру в доброту и совершенство других людей. Они не замечают злобных насмешек и издевательств, они всегда готовы помочь униженным и оскорбленным.
Сопоставьте этих героев и отметьте общее для них и различия в их характерах.
Открытый Сервантесом характер чудака оказал очень сильное влияние на дальнейшее развитие литературы. Многие писатели воспользовались находкой великого испанского гуманиста. Не прошла мимо этого открытия и русская литература. Когда в будущем вы станете читать роман Ф. М. Достоевского «Идиот», вспомните об испанском гуманисте и его произведениях!
Построив повествование вокруг образов чудака и плута, соединенных в неразлучную пару, Сервантес создал новый тип романа, существенно отличающийся от рыцарского.
«Дон Кихот» обладает уже всеми основными признаками романа нового времени. В нем писатель изобразил всю полноту человеческой жизни в ее многообразии и незавершенности. Повествование начинается с момента возникновения «мании рыцарства» и почти не затрагивает предшествующего периода жизни Дон Кихота. Концовка романа хотя и связана со смертью Рыцаря Печального Образа, но также сохраняет элемент «недосказанности»: остается неведомой дальнейшая судьба Санчо Пансы, Дульсинеи и многих других персонажей, без которых художественный мир романа был бы просто невозможен.
В связи со сказанным задумайтесь, какой конфликт в романе является основным и как он организует повествование. Подумайте и над образом повествователя. Что характерно для его голоса? Как он комментирует похождения своих героев?
Вопросы и задания
1. Какие черты характера Дон Кихота сделали этот персонаж одним из «вечных образов»?
2. Какие гуманистические идеалы утверждает Дон Кихот в своих наставлениях Санчо Пансе?
3. Какие изменения происходят в характерах Дон Кихота и Санчо Пансы в результате их постоянного общения?
4. Какую роль играет в романе образ Дульсинеи?
5. Для чего Сервантес делает героем своего романа «безумца»?
6. Определите творческий метод романа и назовите его черты, получившие отражение в романе.
7. Для чего вводятся в роман вставные новеллы? Перескажите одну из них.
8. Составьте таблицу сопоставительных характеристик Гамлета и Дон Кихота: что общего у этих героев, чем они различаются.
9. Напишите сочинение на тему «Губернаторство Санчо Пансы».
Западноевропейская литература XVII века
XVII век – это особая эпоха в эстетической жизни европейского общества. По-своему он противоречив: неся на себе ярко выраженный отпечаток кризиса гуманистических идеалов эпохи Возрождения, он в то же время мучительно ищет способы сохранения наиболее важных достижений Ренессанса. И главное, что определяет верность XVII столетия предшествующей эпохе, – это рационалистичность. Отчетливо прослеживается мысль о невозможности отказа от крупнейшего завоевания Возрождения – веры в непобедимую силу человеческого разума.
Основной чертой этого столетия было разочарование в идеалах гуманизма. Идеи Возрождения не выдержали проверки временем. Кризис гуманистической философии был определен двумя основными процессами в развитии общества: с одной стороны, усилением королевской власти в крупнейших европейских странах (Англия, Испания, Франция), сопровождавшимся укреплением внутреннего рынка и ростом буржуазных отношений (политика Ришелье во Франции), а с другой стороны, постепенным распадом абсолютизма, становящегося тормозом для развития капитализма (буржуазная революция в Англии).
В то же время искусство XVII столетия бережно относится к эстетическому наследию эпохи Возрождения.
Обращение к античности и принцип «природ осообразности», на которых строили свои эстетические теории первые итальянские гуманисты, уже подготавливали почву для построения эстетических теорий классицизма XVII века. Трагические конфликты в драмах Шекспира и страсти, бушевавшие в сердцах героев Сервантеса, готовили утверждение иного героизма. Но главное, что унаследовало искусство XVII столетия у европейских гуманистов, – это культ человека. Человек находится в центре произведений классицистов XVII века, он испытывает мучительный конфликт между долгом и чувством, ищет свое место во враждебном и необъяснимом мире. Литература XVII века не идеализирует человека, не признает его равным Богу, как это было в эпоху Возрождения, она знает его слабости и внимательно изучает их, чтобы помочь человеку стать сильнее.
Своеобразие данного периода развития литературы определяют два новых литературных направления, каждое из которых по-своему продолжало тенденции эпохи Возрождения, отразило кризис гуманизма и попыталось разрешить те противоречия, которые не смогло разрешить ренессансное искусство. Этими ведущими литературными направлениями столетия были классицизм и барокко. Несмотря на то что оба эти направления были противопоставлены друг другу, в них было нечто общее. Оба они, утратив широту и гуманистический оптимизм Ренессанса, в то же время являлись шагом вперед в развитии литературы.
Направления эти развивались неравномерно в различных европейских странах, что было связано с социально-экономическими особенностями различных европейских государств и со своеобразием национальных литературных традиций. Так, для Испании XVII века характерно господство барокко. Принципы барокко были положены в основу творчества испанских драматургов Лопе де Вега, П. Кальдерона де ла Барка, авторов «плутовских романов» Ф. де Кеведо, Матео Алемана и др. Тенденции классицизма в этой стране были весьма незначительными и проявлялись в основном в творчестве второстепенных писателей. А во Франции классицизм был господствующим литературным направлением, именно с ним связаны самые значительные достижения французской литературы XVII века. Это прежде всего великие трагедии П. Корнеля и Ж. Расина, роман М. де Лафайет «Принцесса Клевская». В Англии же в этот период наблюдается не только весьма интенсивное развитие классицизма и барокко, но и явное усиление демократических тенденций в литературе, чему, конечно, способствовали буржуазная революция и связанная с ней политическая борьба.
Классицизм XVII века
Я уже говорил вам, что классицизм был продуктивным методом, образовавшим целую художественную систему. Кризис гуманизма заставил сторонников этого метода пересмотреть некоторые взгляды, но не отказаться от самого метода. Метод продолжал существовать, хотя ренессансный классицизм как литературное направление и прекратил свое существование с творчеством последних гуманистов.
Классицисты XVII века продолжали верить в возможность разумного постижения вечных законов природы и применения этих законов к общественной жизни. Ошибку гуманистов они видели в недостаточной последовательности применения рационалистических принципов постижения действительности. Отсюда большая нормативность классицизма XVII века: искусство должно подвергнуть природу тщательному анализу, чтобы выяснить причины и сущность вещей и явлений. И здесь нет места фантазии или художественному произволу. Писатель все должен подвергать суду разума.
Любите мысль в стихах, пусть будут ей одной Они обязаны и блеском, и ценой —так заявлял Никола Буало, один из самых авторитетных теоретиков нового направления, считавший, что даже лирическая поэзия не может быть свободной от господства мысли.
Первой, если не основной, задачей искусства классицисты XVII века считали воспитание человека в духе благородства и добродетели. Французский драматург Ж. Расин (автор трагедий «Федра», «Андромаха») говорил: «Страсти изображаются с единственной целью показать, какой они порождают хаос, а порок рисуется красками, которые позволяют тотчас распознать и возненавидеть его уродство. Собственно, это и есть та цель, которую должен перед собою ставить каждый, кто творит для театра».
Те же дидактические цели определяли и стремление авторов изгнать из произведения искусства все, что могло показаться безобразным или вульгарным. Дурные примеры, по их мнению, наиболее опасны, если их преподает искусство. Вот почему Буало предупреждал:
Чуждайтесь низкого: оно всегда уродство, В простейшем стиле все должно быть благородство.Но это не означает, что художник или поэт должен изображать только возвышенные предметы. Сама поэзия не должна быть вульгарной, поэт должен ненавидеть порок и изображать его так, чтобы вызвать к нему столь же сильную ненависть у читателя. Такое изображение низменного будет вызывать восхищение. Вот почему Буало оговаривается:
В искусстве воплотясь, и чудище и гад Нам все же радуют настороженный взгляд: Нам кисть художника являет превращенье Предметов мерзостных в предметы восхищенья.Вместе с искусством классицизма в литературе зазвучали темы высокой гражданственности. Требовалось воспитать не абстрактного человека, а сознательного члена общества, разумного и непреклонного, подчиняющего свои страсти чувству долга перед своим государством и другими людьми. Для того чтобы преимущества такого «разумного человека» проявлялись нагляднее, классицисты использовали приемы идеализации и персонификации.
Показывая преимущества и недостатки человеческих качеств, писатели-классицисты стремились заставить читателя заниматься самовоспитанием, критически взглянуть на себя, чтобы быть достойным продолжателем деяний героев высоких классицистских произведений и не уподобиться тем сатирическим персонажам, которые вызывали при чтении лишь смех и презрение. Воспитательными целями объяснялось и стремление классицистов к созданию «чистых» характеров и «чистых» жанров. Одна черта должна была определять характер человека для того, чтобы отношение к нему было однозначным. Ведь если персонаж сочетает в себе низость и благородство, читатель может оправдать его дурные поступки во имя добрых дел, а под воздействием его примера позволить и себе отступить от добродетели.
Не менее важной, по мнению классицистов, была и последовательность воспитательного воздействия. Нельзя попеременно заставлять читателя или зрителя то плакать, то смеяться над одним и тем же произведением, – это мешает человеку глубоко почувствовать и проанализировать причины смеха и слез. Поэтому все жанры делились на высокие и низкие. Высокие жанры давали примеры благородства, добродетели, изображенные в них пороки вызывали не смех, а ужас или возмущение и были связаны с трагическими заблуждениями героев. Высокими жанрами считались трагедия, ода, трактат. Низкие жанры призваны были бичевать пороки, вызывать презрение и ненависть к отрицательным качествам. Низкими жанрами считались комедия, сатира, басня, эпиграмма.
Соответствовать жанру должен был и стиль произведения. Нельзя повествовать о гибели добродетельного человека, пересыпая речь площадными шутками, но нельзя и в патетическом тоне рассказывать о трусливом хвастуне. Высоким жанрам должен соответствовать высокий стиль, из которого изгонялись просторечия, шутки и грубые выражения. Низким жанрам соответствовал низкий стиль, основанный на разговорном языке.
Стремясь к разделению высоких и низких жанров, классицисты в то же время понимали, что с помощью одних только крайностей нельзя показать все многообразие жизни. Поэтому они признавали (хотя и с известными оговорками) существование средних жанров, в которых допускалось смешение трагического и комического, благородного и низкого. К таким жанрам относились трагикомедия, послание, аллегория.
Строгое разделение жанров и стилей было вызвано к жизни не только воспитательными, но и эстетическими соображениями. Классицисты, основываясь на теории подражания и требуя создания «правильных», гармонических произведений, хотели избавить искусство от ремесленников и дилетантов. Они высоко ценили подлинный талант и своеобразие творчества настоящих художников. Н. Буало подчеркивал:
Природа щедрая талантами цветет, Но каждому певцу особый дар дает.Борьбе за установление господства подлинного искусства в театре были посвящены и общеизвестные три единства, обязательные для классицистской драмы: единство места, единство времени и единство действия.
Причем все эти классицистские правила были не изобретением теоретиков, навязываемым писателям, но рождались в недрах художественного творчества наиболее крупных художников-классицистов и были направлены против дурного вкуса в искусстве, против пустой развлекательности.
Классицисты считали, что правила не могут помешать подлинно талантливому писателю создать значительное произведение. Но они станут препятствием для тех, кто с помощью внешних эффектов вызывает минутный восторг публики, развращая ее вкус и не прививая благородных качеств.
В целом классицизм был чрезвычайно важным и плодотворным литературным направлением, способствовавшим дальнейшему развитию литературы и усилению в ней мотивов гражданственности и героизма. Классицизм также в немалой степени способствовал воздействию литературы на публику, через сатиру расширяя борьбу с человеческими пороками. Не поднимаясь еще до критики социальных основ феодально-буржуазного строя, классицизм XVII века тем не менее выразил свое негативное, критическое отношение к современности, сосредоточившись в основном на этических нормах личности.
А теперь попытайтесь самостоятельно составить таблицу, в которой покажите общие черты классицизма Возрождения и классицизма XVII века, а также различия этих двух литературных направлений.
Жан Батист Мольер Мещанин во дворянстве
Вы конечно же помните этого драматурга по комедии «Брак поневоле», которую изучали в предыдущем классе. Уже тогда вам открылись некоторые характерные черты классицизма великого французского писателя.
Теперь вам предстоит прочитать еще одно произведение Ж. Б. Мольера. Это очень необычная, хотя и известная пьеса. Сразу же хочу обратить ваше внимание на ее жанр: «Мещанин во дворянстве» – комедия-балет. Необычно?
Надеюсь, вы знаете, что Мольер был придворным комедиографом французского короля Людовика XIV. В 1699 году «король-солнце» почувствовал себя оскорбленным турецкими посланниками, не оценившими устроенного в их честь приема, и заказал Мольеру комедию, которая должна была высмеять турок и их обычаи.
Придворный комедиограф принялся за дело. Он хорошо знал любовь короля к балетам, в которых сам король и его приближенные охотно принимали участие.
Балет XVII–XVIII столетий отличался от современного. Его основным элементом были антре – танцевальный выход одетых в специальные костюмы и маски фигур, изображавших аллегорические сценки, содержание которых разъясняли певцы.
Драматург заменил певцов театральным действием, сохранив антре. «Мещанин во дворянстве» был далеко не первым опытом комедиографа в созданном им оригинальном жанре. Выполняя заказ короля, он мастерски подвел зрителей к главному антре, высмеивающему турок, – к посвящению Журдена в мамамуши.
В то же время основной конфликт «Мещанина во дворянстве» имел самостоятельное значение. Вы помните, что для классицистов XVII века центральным был конфликт между долгом и чувством. Мольер ставит вопрос об общественной значимости «третьего сословия», о долге мещан перед страной, а также перед своей семьей (судьба Люсиль).
Высмеивая конкретного мещанина Журдена, драматург одновременно прославляет французское «третье сословие», показывает его значение в жизни страны.
Сопоставьте, пожалуйста, образы Журдена и Клеонта и определите, в чем писатель видит долг мещанина.
Жан Батист Мольер очень хорошо знал театральные законы и умел создавать комические ситуации. На протяжении всей пьесы он мастерски использует противоречие между видимостью (дворянин) и сущностью (мещанин) господина Журдена.
Проследите, как проявляется это несоответствие и какой комический эффект оно вызывает.
Очень интересна в «Мещанине во дворянстве» система характеров, разбивающаяся на пары: господин и госпожа Журден, Клеонт и Люсиль, Дорант и Доримена, Ковьель и Николь.
Обратите внимание, как эти пары связываются между собой и какое участие они принимают в разрешении основного драматического конфликта.
Я не случайно рассказал вам, мой друг, о роли балета в этом произведении.
Попытайтесь представить себя режиссером спектакля и опишите основные антре «Мещанина во дворянстве», не забывая и о пожеланиях короля Людовика XIV.
Вопросы и задания
1. Расскажите, какие явления действительности подвергает сатирическому осмеянию Мольер в своей пьесе.
2. Определите драматический конфликт пьесы и назовите основные этапы его развития.
3. Какова точка зрения автора на происходящее и кто эту точку зрения выражает в пьесе?
4. Как Мольер использует речь для характеристики персонажей?
5. Какими художественными средствами создается в этой пьесе образ Журдена?
6. Какую идейную и композиционную роль играет образ Доранта?
7. Какие художественные приемы использует Мольер для достижения комического эффекта в этой пьесе?
8. Назовите характерные черты классицизма в пьесе.
Барокко в западноевропейской литературе
Литературное направление барокко, возникшее на рубеже XVI и XVII столетий, – очень сложное явление. Само противопоставление барокко рационализму эпохи Возрождения и классицизму вызывало весьма настороженное отношение к этому методу. Я попросил бы вас быть очень внимательными при изучении барочной культуры.
Попробуем непредвзято рассмотреть это явление. Когда в европейских странах начали проявляться первые признаки нежизненности гуманистических идеалов, в творчестве многих писателей зазвучали тревожные ноты. Ошибочность учения гуманистов о человеке казалась очевидной. И вот, чтобы сохранить само представление о самоценности человеческой личности, некоторые мыслители взялись за пересмотр философских основ, на которых строилась ренессансная концепция человека. Если материалистическое представление о сущности человека неверно, рассуждали эти мыслители, если сопоставление с природой не объясняет законов развития человеческого общества, необходимо отказаться от такого подхода.
Гуманисты исходили из твердого убеждения, что законы природы разумны и целесообразны, что их можно познать с помощью разума. Барочные же писатели, хотя и допускали существование каких-то законов, влияющих на жизнь природы и человека, все-таки считали, что человек никогда не сможет найти им разумное истолкование. Для него мир всегда останется дисгармоничным и хаотичным, недоступным рационалистическому познанию. Эти писатели утверждали, что жизнь человека слишком коротка, чтобы на протяжении земного пути ему удалось раскрыть тайны, влияющие на существование мира природы. Если законы природы созданы Богом и он не открыл их человеку сразу, то человек никогда не сможет сам проникнуть в их смысл. Вот как писал испанский поэт Гонгора:
Стократ от человека к смерти путь Короче, чем от Бога к человеку!Следовательно, бессмысленно искать ответа на вечные вопросы, которые стоят перед человеком на всем пути его земного существования. Можно найти объяснение всему, но будет ли это объяснение правильным? Не утешает ли себя человек несбыточной надеждой? Писатели барокко предлагали взглянуть на мир трезво, ничего не придумывая, принимая его таким, каким он открывается человеческому взору.
При такой концепции мира, естественно, должна была измениться и концепция человека. Если в эпоху Возрождения человек казался подлинным властелином всего земного, то теперь он представляется песчинкой, затерянной в огромном и непонятном для него мире. Если раньше он жил в твердой уверенности, что природа – его мать, на чью помощь и поддержку он может рассчитывать, то теперь он оказывается противопоставленным природе. Немецкий поэт X. Г. Гофмансвальдау заявлял:
…Великая природа Отторгла от себя несчастного урода, Природы пасынок, он ею позабыт…Однако это вовсе не означает, что барочные писатели возвращались к средневековому отрицанию смысла земного существования для человека. Они не умаляли ни силы, ни величия человека. Гофмансвальдау призывает:
А ты, душа, за узкий круг земного Всегда стремись бестрепетно взирать.В соответствии с концепцией личности, созданной писателями барокко, человек должен воспринимать окружающий его мир как хаотичный и дисгармоничный.
Однако, обреченный на жизнь, человек обречен и на надежду. Отсюда его отчаянное стремление познать непознаваемое, то есть самого себя и свое предназначение.
На смену оптимизму приходит не просто трезвость, а страх, но страх преодолеваемый. Барочный человек должен определять свое поведение, постоянно экспериментируя, занимаясь поисками своего места в мире.
Земная жизнь для человека – это лишь краткий эпизод. Что произойдет с ним после смерти – неизвестно, и человек должен быть готов к любым неожиданностям. В земной жизни человек не может найти ответа на вопрос, для чего он создан. Но он может предложить свое решение этого вопроса, прожить жизнь так, чтобы показать свое значение, свою силу, свою веру в то, что он родился не напрасно.
Писатели барокко любят сравнивать жизнь с театром, где каждый человек может сам для себя придумать и разыграть ту роль, которую считает наиболее подходящей. Человек одновременно и актер, и режиссер, и автор пьесы, сюжет которой написан Богом, а финал человеку неизвестен.
Второе, очень популярное сравнение, к которому прибегает литература барокко, – это сравнение жизни со сном. Земная жизнь – это лишь мимолетное сновидение, в котором отражаются отблески подлинной загробной жизни, – так считали многие художники, принадлежавшие к этому направлению. Поэт Гонгора писал:
А Сон, податель пьес неутомимый В театре, возведенном в пустоте, Прекрасной плотью облачает тени: В нем, как живой, сияет лик любимый Обманом кратким в двойственной тщете, Где благо – сон и благо – сновиденье.Для барокко чрезвычайно важным является положение о том, что истинное предназначение человека известно лишь высшим силам. Поэтому человек должен прожить жизнь, постоянно помня о подстерегающей его смерти, после которой ему раскроются все тайны и воздастся по его заслугам. Земная жизнь – это испытание для человека. Он не знает, в какой момент его настигнет смерть, после которой уже нельзя будет исправить допущенные ошибки. Барокко изображает человека, требуя от него предельного напряжения всех его сил в трагической борьбе с враждебным ему миром.
Особая проблема, которую вынуждены были решать барочные писатели, связана с изображением в художественном произведении мира и человека. Сложность заключалась в том, что барочный писатель должен был изобразить непознаваемый дисгармоничный мир, не повинующийся ему и недоступный его разуму. Средства и приемы, которыми пользовались гуманисты эпохи Возрождения, были явно неуместны в искусстве барокко. Более того, они, по мнению представителей этого направления в литературе, искажали действительность, тешили человека несбыточными надеждами.
Барочные писатели разрешают это противоречие, обращаясь к метафорическому языку. Они изображали зыбкий, подвижный мир в зыбких, подвижных формах, не называя предмет или явление, а лишь указывая на него, тем самым позволяя читателю догадываться о том, что скрыто за символической оболочкой. Активно использовались гротеск и гипербола, позволявшие усилить впечатление от произведения искусства. Барочные писатели включают в свои творения хорошо известные мотивы и сюжеты, прибегая к вариациям, предлагая новые, неожиданные решения и выводы. Они стремятся доказать, что в мире нет очевидных истин, что все может превратиться в свою противоположность.
Враждебный человеку мир неизбежно представляется ему уродливым. Художник же должен изобразить этот мир прекрасным, преобразить его силой своего таланта. Наиболее простой путь для достижения этой цели – изобразить человека в совершенном с точки зрения формы произведении. Отсюда столь пристальное внимание барочных писателей к форме, отсюда же их тяга к декоративности, к украшению фона, на котором происходят события.
Барокко проявилось во всех европейских литературах. Оно способствовало проникновению трагических мотивов в изображении человека, более контрастному и противоречивому воспроизведению мира, оно помогло преодолеть односторонность человеческих представлений о природе, обогатило технику художественного творчества.
Итак, барокко – это литературный метод и направление, отразившее растерянность определенной части людей перед лицом кризиса гуманистических идеалов. Как и классицисты, писатели барокко пытаются преодолеть разразившийся кризис и сохранить веру в полезность и целесообразность земного существования человека.
Франсиско де Кеведо-и-Вильегас
Кеведо – один из самых ярких представителей испанской литературы XVII века, который по справедливости называли «золотым веком поэзии». Он родился в конце XVI столетия в знатной аристократической семье. В молодости будущий писатель и политический деятель прославился неукротимым нравом и многочисленными дуэлями, из которых всегда выходил победителем, несмотря на врожденную хромоту. Мало кто подозревал, что юноша в это время напряженно учился. Он окончил два университета, свободно владел почти всеми европейскими языками, имел едва ли не лучшую библиотеку в Европе. Все это позволило Кеведо стать одним из образованнейших людей XVII столетия.
Придворная карьера писателя изобиловала взлетами и падениями. Он достиг положения королевского секретаря, но затем был подвергнут опале, а незадолго до смерти заключен в тюрьму по обвинению в государственной измене.
Бурная жизнь Кеведо сопровождалась столь же бурным литературным творчеством. Он был убежденным приверженцем барокко. Прекрасное знание наук, искусств и большой жизненный опыт заставляли его трезво и скептически оценивать окружающую действительность. И поэзия, и памфлеты, и научные трактаты этого писателя пронизаны сатирическим пафосом.
Самое известное сочинение Кеведо – его плутовской роман «История жизни пройдохи по имени дон Паблос, пример бродяг и зеркало мошенников».
Мы уже говорили об этом жанре, когда знакомились с «Дон Кихотом» Сервантеса. Хотя плутовской роман появился еще в эпоху Возрождения, подлинного расцвета этот жанр достиг под пером барочных писателей.
Основу плутовских романов составляет история плута, человека, вынужденного бороться за место в жизни, не пренебрегая ничем, преступая и законы, и мораль общества, отвергнувшего его. Обычно плутовской роман начинается с описания так называемого малого света. Автор рассказывает о детстве своего героя, которое протекает относительно благополучно: у него есть дом, средства к существованию и вера в справедливость. Затем следует катастрофа. В силу каких-либо причин герой оказывается выброшенным на дорогу жизни без денег, без поддержки, часто даже без объяснения причин такой жестокости. Он попадает в большой свет.
Стремление сохранить себе жизнь и обеспечить будущее заставляет героя стать плутом: изучать жизнь и использовать несовершенство общественного устройства, а также слабости других людей для достижения собственного благополучия. Обратите внимание на характерную барочную черту: сила плута заключается как раз в том, что он не верит в гармоничность и разумность мира, но обладает удивительной способностью приспосабливаться к обстоятельствам. Он не стесняется лгать, красть, быть жестоким и равнодушным к другим. Весь окружающий мир он рассматривает как враждебный ему, а потому заботится только о себе.
Но когда в конце плутовского романа плут достигает так называемой тихой гавани, то есть вновь обретает дом, семью и благосостояние, он снова становится обычным и вполне добропорядочным членом общества.
Кеведо создал типичный образец плутовского романа. Его герой Паблос, выброшенный в большой свет, не только отчаянно борется за свое существование, он внимательно присматривается к жестокому миру, что позволяет писателю проявить свое недюжинное сатирическое дарование и показать наиболее характерные пороки современной ему Испании.
Попробуйте назвать главные объекты сатиры Кеведо в этом романе.
Писателю прекрасно удался образ главного героя – Паблоса. Хотя он и плут, он способен оценить внутреннее благородство своего хозяина дона Торибио, которому даже старается помочь. В то же время Паблос умеет быть жестоким, особенно когда сталкивается с жестокостью окружающего мира.
Не могу не обратить вашего внимания еще на одну примечательную барочную черту: в романе Кеведо слуга кормит своего хозяина (дона Торибио), а не наоборот. Это очень яркий образ, указывающий на непостижимость мира, по которому судьба несет героя, словно песчинку ветер.
Когда вы познакомитесь с романом, попытайтесь ответить на несколько вопросов. Что общего и в чем различия образов Санчо Пансы Сервантеса и Паблоса Кеведо? Почему повествование ведется в романе от первого лица? Как проявляется в этом романе барочная идея о том, что жизнь – это театр?
История жизни пройдохи по имени Дон Паблос. Главы из романа Перевод К. Державина
Глава I В которой повествуется о том, кто такой пройдоха и откуда он родом
Я, сеньор, родом из Сеговии. Отца моего – да хранит его Господь Бог на небесах! – звали Клементе Пабло, и был он из того же города. Занимался он, как это обычно говорится, ремеслом брадобрея, но, питая весьма возвышенные мысли, обижался, когда его так называли, и сам себя именовал подстригателем щек и закройщиком бород. Говорили, что происходил он из весьма знатной ветви, и, судя по тому, как он знатно пил, этому было можно поверить.
Был он женат на Альдонсе де Сан Педро, дочери Дьего де Сан Хуана и внучке Андреса де Сан Кристобаля. В городе подозревали, что матушка моя была не старой христианкой; сама же она, однако, перечисляя имена и прозвища своих предков, всячески старалась доказать свое святое происхождение. Она была когда-то очень xopoша собою и столь знаменита, что в свое время все виршеплеты в Испании изощряли на ней свое искусство. Вскоре после замужества, да и позже, претерпела она великие бедствия, ибо злые языки не переставали болтать о том, что батюшка мой предпочитал вместо трефовой двойки вытаскивать из колоды бубнового туза. Дознались как-то, что у всех, кому он брил бороду, пока он смачивал им щеки, а они сидели с задранной головой, мой семилетний братец с полнейшей безмятежностью очищал внутренности их карманов. Ангелочек этот помер от плетей, которых отведал в тюрьме. Отец мой (мир праху его) весьма жалел его, ибо мальчишка был таков, что умел пользоваться всеобщим расположением.
За подобные и всякие другие безделицы отец мой был схвачен, но, как мне рассказывали потом, вышел из тюрьмы с таким почетом, что его сопровождало сотни две кардиналов, из которых ни одного, впрочем, не величали вашим высокопреосвященством. Говорят, что дамы, лишь бы взглянуть на него, толпились у окон, ибо отец мой и пешком, и на коне всегда выглядел в равной степени хорошо. Рассказываю я об этом не из тщеславия, ибо всякому хорошо известно, насколько я от него далек.
Мать моя, однако, не пострадала. Как-то я слышал в похвалу ей от старухи, которая меня воспитала, что своими прелестями она околдовывала всех, кто имел с ней дело. Старуха, правда, добавляла, что при упоминании о ней поговаривали о каком-то козле и полетах по воздуху, за что ее чуть было не украсили перьями, дабы она явила свое искусство при всем честном народе. О ней ходили слухи, что она умела восстанавливать девственность, возрождала волосы и возвращала им изначальную их окраску; кто называл ее штопальщицей вожделений, кто костоправом расстроившихся склонностей, а иные попросту худыми прозвищами сводницы и пиявки чужих денежек. Надо было видеть, впрочем, ее улыбающееся лицо, когда она слушала все это, чтобы еще больше почувствовать к ней расположение. Не могу не рассказать коротко о ее покаяниях. Была у нее особая комната, в которую она входила всегда одна и только иной раз вместе со мною, на что я имел право, как ребенок. Комната эта была уставлена черепами, которые, по ее словам, должны были напоминать о смерти, а по словам других – ее клеветников, – возбуждать желание жизни. Постель ее была укреплена на веревках висельников, и она мне это объясняла следующим образом:
– Ты что думаешь? Они у меня заместо реликвий, ибо большинство повешенных спасается.
Родители мои вели большие споры о том, кому из них должен я наследовать в ремесле, но сам я уже с малых лет лелеял благородные замыслы и не склонялся ни к тому, ни к другому. Отец говорил мне:
– Воровство, сынок, это не простое ремесло, а изящное искусство. – И, сложив руки, со вздохом добавлял: – Кто на этом свете не крадет, тот и не живет. Как ты думаешь, почему нас так преследуют альгуасилы[154] и алькальды[155]? Почему они нас то ссылают, то избивают плетьми, то готовы преподнести нам петлю, хотя еще не наступил день нашего ангела и никто о подарках не думает? Не могу я говорить об этом без слез! – И добрый старик ревел, как малое дитя, вспоминая о том, как его дубасили. – Ибо не хотят они, чтобы там, где воруют они сами, воровали бы и другие, кроме них и их прихвостней. От всего, однако, спасет нас драгоценное хитроумие. В юности моей меня часто можно было увидеть в церкви, но, конечно, не потому, что я так уж ревностно прилежал религии. Сколько раз могли бы посадить меня на осла, если б я запел на кобыле! Каялся я в своих грехах только по повелению святой матери нашей церкви и вот этим путем да моим ремеслом вполне прилично содержал твою матушку.
– Как это вы меня содержали? – в великом гневе отвечала на это моя мать, опасаясь, как бы я не отвратился от колдовства. – Это я содержала вас, вытаскивала из тюрем благодаря моему хитроумию и помогала вам моими деньгами. Если вы не каялись в своих грехах, так что было тому причиной: ваша ли твердость или те снадобья, которыми я вас поила? Да что тут толковать – вся сила была в моих банках. И не бойся я, что меня услышат на улице, я бы рассказала, как мне пришлось спуститься к вам в тюрьму по дымовой трубе и вытащить вас через крышу.
Она наговорила бы еще всякой всячины – так все это ее разволновало, – не рассыпься у нее, так она размахивала руками, четки из зубов покойников. Я помирил родителей, заявив, что непременно хочу учиться добродетели и шествовать по пути благих намерений, для чего они должны определить меня в школу, ибо, не умея ни читать, ни писать, нельзя ничего достигнуть. Слова мои показались им разумными, хотя они и поворчали между собой по этому поводу. Мать моя принялась нанизывать свои зубные четки, а отец отправился срезать у кого-то уж не знаю что – то ли бороду, то ли кошелек. Я остался один и вознес благодарение Господу Богу за то, что сотворил он меня сыном столь склонных и ревностных к моему благу родителей.
Глава II О том, как я поступил в школу и что там со мной произошло
На другой день уже был куплен букварь и сговорено с учителем. Я отправился в школу. Учитель принял меня с большой радостью, заметив, что я кажусь смышленым и сообразительным. На это я в тот же день, чтобы оправдать его надежды, хорошо выполнил свой урок. Он отвел мне место поблизости от себя, и я почти каждый раз получал отличия за то, что приходил в школу раньше всех, а покидал ее последним, ибо оказывал разные услуги хозяйке – так называли мы супругу учителя. Их обоих я привязал к себе многими любезностями. Они, в свою очередь, мне всячески покровительствовали, что усиливало зависть ко мне у остальных ребят. Я старался подружиться с дворянскими детьми, и особенно с сыном дона Алонсо Коронеля де Суньиги – мы вместе завтракали, я ходил к нему играть по праздникам и каждый день провожал его из школы домой. Остальные мальчишки – то ли потому, что я не водился с ними, то ли потому, что казался им слишком надменным, – принялись наделять меня разными прозвищами, намекавшими на ремесло моего отца. Одни звали меня доном Бритвой, другие доном Кровососной Банкой; кто говорил, оправдывая свою зависть, что ненавидит меня за то, что мать моя выпила ночью кровь у его двух малолетних сестренок, кто уверял, что моего отца приводили в его дом для травли мышей, потому что он – кот; одни, когда я проходил мимо них, кричали мне «брысь!», а другие звали «кис-кис!». Кто-то похвастал:
– А я запустил в его мать парочкой баклажанов, когда на нее напялили митру.
Всячески, коротко говоря, порочили они мое доброе имя, но присутствия духа я, слава Богу, не терял. Я обижался, но скрывал свои чувства и терпел.
Но вот в один прекрасный день какой-то мальчишка осмелился громко назвать меня сыном колдуньи, да еще и шлюхи. За то, что это было сказано во всеуслышание, – скажи он тихонько, я бы не расстроился, – я схватил камень и прошиб ему башку, а потом со всех ног бросился к матери, прося ее меня укрыть, и обо всем ей рассказал. Она ответила:
– Правильно поступил ты и хорошо себя показал. Зря только не спросил ты его, кто ему все это наговорил.
Услышав это и, как всегда, держась возвышенного образа мыслей, я заметил:
– Ах, матушка, меня огорчает только то, что все это больше пахнет мессой, нежели оскорблением.
Матушка, удивившись, спросила меня, что я этим хочу сказать, на что я ответил, что весьма боюсь, как бы парень этот не выложил мне о ней евангельскую истину, и попросил ее сказать мне честно, могу ли я, по совести, изобличить мальчишку во лжи и являюсь ли действительно сыном своего отца или же был зачат вскладчину многими. Мать моя засмеялась и сказала:
– Ах ты паршивец! Вот до чего додумался! Простака из тебя, пожалуй, не выйдет. Молодец. Хороню ты сделал, что прошиб ему голову, ибо о подобных вещах, будь хоть это сущая правда, говорить не полагается.
Я был совершенно убит всем этим и решил в кратчайший срок забрать все, что возможно, из дому и покинуть родительский кров, – так стало мне стыдно. Однако я все утаил. Отец мой отправился к раненому мальчишке, помог ему своими снадобьями и утихомирил, а я вернулся в школу, где учитель сердито встретил меня, но, узнав о причине драки, смягчился, ибо понял, что обижен я был жестоко.
Все это время меня постоянно навещал сын дона Алонсо Коронеля де Суньиги, которого звали доном Дьего. Он очень полюбил меня, ибо я всегда уступал ему мои волчки, если они были лучше, угощал его своим завтраком и не просил у него ничего из того, чем лакомился он сам. Я покупал ему картинки, учил его драться, играл с ним в бой быков и всячески его развлекал. В конце концов родители этого дворянчика, заметив, как увеселяло его мое общество, почти всегда просили моих родителей, чтобы они разрешали мне оставаться у них обедать, ужинать и даже ночевать.
Случилось как-то раз, в один из первых учебных дней после Рождества, что, увидав на улице человека по имени Понсио де Агирре – был он, кажется, обращенным евреем, – дон Дьегито сказал мне:
– Слушай, назови его Понтием Пилатом и удирай. Чтобы доставить удовольствие моему другу, я назвал этого человека Понтием Пилатом. Тот так разозлился на это, что с обнаженным кинжалом бросился за мной вдогонку, намереваясь меня убить. Я был вынужден со всех ног с криком устремиться в дом моего учителя. Понтий Пилат проник туда вслед за мною, но учитель загородил ему путь, дабы тот не прикончил меня, и уверил его, что я тотчас же получу должное наказание; несмотря на просьбы своей ценившей мою услужливость супруги, он велел мне спустить штаны и всыпал двадцать розог, приговаривая при каждом ударе:
– Будешь еще говорить про Понтия Пилата?
Я отвечал «нет, сеньор» на каждый удар, которым он меня награждал. Урок, полученный за Понтия Пилата, нагнал на меня такой страх, что когда на другой день мне было велено читать молитвы перед остальными учениками и я добрался до «Верую» – обратите внимание, ваша милость, как, сам того не чая, я расположил к себе учителя, – то, когда следовало сказать «распятого же за ны при Понтийстем Пилате», я вспомнил, что не должен больше поминать имени Пилата, и сказал: «Распятого же за ны при Понтийстем Агирре». Простодушие мое и мой страх так рассмешили учителя, что он меня обнял и выдал мне бумагу, где обязался простить мне две ближайшие порки, буде мне случится их заслужить. Этим я остался весьма доволен.
Наступили – дабы не наскучить вам рассказом – карнавальные дни, и учитель, заботясь об увеселении своих воспитанников, велел нам выбрать петушиного короля. Жребий был брошен между двенадцатью учениками, коих назначил учитель, и выпал он на мою долю. Я попросил родителей раздобыть мне праздничный наряд. Наступил день торжества, и я появился на улице, восседая верхом на тощей и унылой кляче, которая не столько от благовоспитанности, сколько от слабости все время припадала на ноги в реверансах. Круп у нее облез, как у обезьяны, хвоста не было вовсе, шея казалась длиннее, чем у верблюда, на морде красовался только один глаз, да и тот с бельмом. Что касается возраста, то ей ничего другого не оставалось, как сомкнуть навсегда свои вежды, – смахивала она более всего на смерть в конском обличье; вид ее красноречиво говорил о воздержании и свидетельствовал о постах и всяческом умерщвлении плоти; не оставалось сомнения, что она давно раззнакомилась с ячменем и соломой; но то, что казалось в ней особливо смехотворным, было множество проплешин, испещрявших ее шкуру; если бы только к ней приделать замок, она бы выглядела точь-в-точь как оживший сундук. И вот, качаясь из стороны в сторону, как чучело фарисея во время процессии, и сопровождаемый другими разряженными ребятами (я один красовался на коне, между тем как прочие следовали пешком), добрался я – при одном воспоминании об этом меня охватывает страх – до базарной площади и, приблизившись к лоткам зеленщиц (упаси нас от них Всевышний!), увидел, что лошадь моя схватила с одного из них кочан капусты и в мгновение ока отправила его себе в утробу, куда тот сразу же и покатился по ее длинному пищеводу. Торговка – а все они народ бесстыжий – подняла крик. Сбежались другие зеленщицы, а вместе с ними всякий сброд и принялись забрасывать бедного петушиного короля валявшейся на земле огромной морковью, брюквой, баклажанами и прочими овощами. Видя, что началась настоящая битва при Лепанто, которую никак нельзя было вести верхом на коне, я решил спешиться, но скотине моей в это время так дали по морде, что, взвившись на дыбы, она повалилась вместе со мною – стыдно сказать! – прямо на кучу дерьма. Можете себе представить, что тут сталось! Товарищи мои, однако, успели запастись камнями и, начав запускать ими в зеленщиц, ранили двух из них в голову. Я же после своего падения в нужник стал самой что ни на есть нужной персоной в этой драке. Явились слуги правосудия и забрали зеленщиц и мальчишек, прежде всего тех, у кого нашлось оружие, ибо кое-кто повытаскивал висевшие у пояса для пущей важности кинжалы, а кое-кто – и маленькие шпаги. Все это, разумеется, отобрали. Дошла очередь и до меня. Увидев, что при мне нет никакого оружия, ибо я успел спрятать его в соседнем доме, один из стражников спросил, нет ли у меня чего-либо опасного, на что я ответил, что нет ничего, кроме того, что может быть опасно для их носов. Должен признаться, ваша милость, что, когда в меня стали бросать баклажанами и брюквой, я решил, что по перьям на шляпе меня приняли за мою матушку, которую так же в свое время забрасывали овощами. Вот почему по своей ребячьей глупости я и взмолился:
– Тетеньки, хоть на мне и перья, но я не Альдонса де Сан Педро, моя мамаша!
Как будто бы они не видели этого по моему обличью и по моей роже! Страх и внезапность несчастья оправдывают, впрочем, мою растерянность. Что же касается до альгуасила, то он возымел намерение отправить меня в тюрьму, но не сумел этого осуществить, так как меня нельзя было удержать в руках, настолько я был вымазан всякой гнусью. В конце концов одни отправились в одну сторону, другие – в другую, а я добрался до дому, измучив все встречавшиеся мне по пути носы. Дома я рассказал обо всем случившемся своим родителям, и они пришли в такую ярость, что решили меня наказать. Я взвалил всю вину на того несуразного коня, что они сами мне дали, пробовал всячески их ублажить, но видя, что из всего этого ничего не выходит, удрал из дому и отправился к моему другу дону Дьего. Его я нашел с пробитою головою, а его родителей – исполненных решимости не отпускать больше своего сына в школу. Там я узнал также, что мой конь, очутившись в затруднительном положении, пробовал было разок-другой дрыгнуть ногами, но свернул себе хребет и при последнем издыхании остался лежать на куче навоза.
Видя, что праздник наш пошел кувырком, весь город взбудоражен, родители мои обозлены, друг мой – с пробитой головой, а лошадь издохла, решил я не возвращаться ни в школу, ни в отчий дом, а остаться в услужении у дона Дьего, или, вернее сказать, составить ему компанию, что и было осуществлено, к великому удовольствию его родителей, любовавшихся на нашу детскую дружбу. Я отписал домой, что мне нет больше нужды ходить в школу, ибо, хотя я и не научился хорошо писать, но для моего намерения стать кабальеро требуется именно умение писать плохо, что с этого же дня я отрекаюсь от ученья, дабы не вводить их в лишний расход, и от их дома, дабы избавить их наперед от всяческих огорчений. Сообщил им я также, где и в качестве кого я нахожусь и что не явлюсь к ним впредь до их волеизъявления.
Глава III О тот, как я отправился в пансион в качестве слуги дона Дьего Коронеля
В ту пору дон Алонсо надумал определить своего сына в пансион, отчасти – чтобы отдалить его от праздной жизни, отчасти – чтобы свалить с себя всяческие заботы. Разузнал он, что в Сеговии проживает некий лисенсиат Кабра, занимающийся воспитанием дворянских детей, и направил к нему своего сынка вместе со мною в качестве провожатого и слуги. В первое же воскресенье после поста мы оказались во власти воплощенного голода, ибо нельзя было назвать иначе представшие перед нами живые мощи. Это был похожий на стеклодувную трубку ученый муж, щедрый только в своем росте, с маленькой головкой и рыжими волосами. Глаза его были вдавлены чуть не до затылка, так что смотрел он на вас как будто из бочки; столь глубоко упрятаны и так темны были они, что годились быть лавками в торговых рядах. Нос его навевал воспоминания отчасти о Риме, отчасти о Франции, был он весь изъеден нарывами – скорее от простуды, нежели от пороков, ибо последние требуют затрат. Щеки его были украшены бородою, выцветшей от страха перед находившимся по соседству ртом, который, казалось, грозился ее съесть от великого голода. Не знаю, сколько зубов у него не хватало, но думаю, что они были изгнаны из его рта за безделье и тунеядство. Шея у него была длинная, как у страуса, кадык выдавался так, точно готов был броситься на еду, руки его болтались как плети, а пальцы походили на корявые виноградные лозы. Если смотреть на него от пояса к низу, он казался вилкой или циркулем на двух длинных и тонких ножках. Походка его была очень медлительной, а если он начинал спешить, то кости его стучали подобно трещеткам, что бывают у прокаженных, просящих милостыню на больницу святого Лазаря. Говорил он умирающим голосом, бороду носил длинную, так как по скупости никогда ее не подстригал, заявляя, однако, что ему внушают такое отвращение руки цирюльника, прикасающиеся к его лицу, что он готов скорее дать себя зарезать, нежели побрить. Волосы ему подстригал один из услужливых мальчишек. В солнечные дни он носил на голове какой-то колпак, точно изгрызенный крысами и весь в жирных пятнах. Сутана его являла собою нечто изумительное, ибо неизвестно было, какого она цвета. Одни, не видя в ней ни шерстинки, принимали ее за лягушечью кожу, другие говорили, что это не сутана, а обман зрения, вблизи она казалась черной, а издали вроде как бы синей; носил он ее без пояса. Не было у него ни воротничка, ни манжет. С длинными волосами, в рваной короткой сутане, он был похож на прислужника в похоронной процессии. Каждый из его башмаков мог служить могилой для филистимлянина. Что сказать про обиталище его? В нем не было даже пауков; он заговаривал мышей, боясь, что они сгрызут сохранившиеся про запас куски черствого хлеба; постель у него была на полу, и спал он всегда на самом краешке, чтобы не снашивать простыней. Одним словом, он являлся олицетворением сугубой скаредности и сверхнищенства.
Во власть этого самого Кабры попали мы с доном Дьего и во власти его остались. Когда мы прибыли, он показал нам нашу комнату и обратился с внушением, которое, во избежание траты времени, длилось недолго. Он объяснил нам, что мы должны делать. Все это заняло у нас время до обеденного часа. Потом мы отправились вкушать пищу. Сначала обедали хозяева, а мы им прислуживали. Трапезная занимала помещение в полселемина вместимостью. За каждый стол садилось по пять кавалеров. Я осмотрелся, нет ли где кошек, и, не увидав ни одной, спросил у какого-то старого слуги, худоба которого свидетельствовала о его принадлежности к пансиону, почему их не видно. Он самым жалобным тоном ответил:
– Какие кошки? Кто же вам сказал, что кошки дружат с постами и воздержанием? По вашей дородности видно, что вы еще здесь новичок.
Услыхав это, я пригорюнился и еще больше испугался, когда заметил, что все обитатели пансиона походили на шила, а лица у них точно испытали действие сушащего пластыря. Лисенсиат Кабра уселся и благословил трапезу. Это был обед вечный, ибо он не имел ни начала, ни конца. В деревянных мисках притащили столь прозрачный суп, что, вкушая его, Нарцисс, наверное, рисковал бы жизнью больше, нежели склонившись над чистою водой. Я с тревогой заметил, что тощие пальцы обедающих бросились вплавь за единственной горошиной, сиротливо лежавшей на дне миски. Кабра приговаривал при каждом глотке:
– Ясно, что нет ничего лучше ольи, что бы там ни говорили. Все остальное – порок и чревоугодие.
Окончив эти присловья, он опрокинул посудину себе в глотку и сказал:
– Все это на здоровье телу и на пользу духу! «Прикончил бы тебя злой дух», – подумал я про себя и вдруг увидел полудуха в образе юноши столь тощего, что, казалось, на блюде с жарким, которое он держал в руках, лежал кусок его тела. Среди кусочков мяса оказалась одна бесприютная брюква.
– Сегодня у нас брюква! – воскликнул лисенсиат. – По мне, ни одна куропатка с нею не сравнится. Кушайте, кушайте, мне приятно смотреть, как вы насыщаетесь!
Он уделил всем по такому ничтожному кусочку баранины, что, сверх оставшегося под ногтями и завязшего в зубах, на долю отлученных от пищи желудков уже ничего не пришлось. Кабра глядел на своих воспитанников и приговаривал:
– Ешьте, ведь вы молодежь! Мне приятно любоваться на вашу охоту к еде.
Посудите, ваша милость, какой приправой были подобные речи для тех, кто корчился от голода!
Обед был окончен. На столе осталось несколько сухих корок, а на блюде – какие-то кусочки шкурки и кости. Тогда наставник сказал:
– Пусть это останется слугам. Им ведь тоже следует пообедать, а нам этого не нужно.
«Разрази тебя Господь со всем, что ты съел, несчастный, за эту угрозу моим кишкам!» – сказал я себе. Лисенсиат благословил обедающих и сказал:
– Ну, дадим теперь место слугам, а вам теперь до двух часов надлежит немножко поразмяться, дабы все съеденное вами не попело вам во вред.
Тут я не выдержал и захохотал во всю глотку. Лисенсиат весьма разгневался, велел мне поучиться скромности, произнес по этому случаю две-три древние сентенции и удалился.
Мы уселись, и я, видя, что дела идут не блестяще и что нутро мое взывает к справедливости, как наиболее здоровый и сильный из всех, набросился на блюдо и сразу же запихал себе в рот две корки хлеба из трех, лежавших на столе, и кусочек какой-то кожицы. Сотрапезники мои зарычали, и на шум появился Кабра со словами:
– Делите трапезу как братья, ибо Господь Бог дал вам эту возможность; не ссорьтесь, ведь хватит на всех.
Затем он пошел погреться на солнышке и оставил нас одних. Смею уверить вашу милость, что там был один бискаец по имени Хурре, который так основательно позабыл, каким образом и чем едят пищу, что, заполучив кусочек, два раза подносил его к глазам и лишь за три приема смог переправить его из рук в рот. Я попросил пить, в чем другие, столь долго постничая, уже не нуждались, и мне дали сосуд с водой. Однако не успел я поднести его ко рту, как у меня выхватил его, точно это была чаша для омовения при причастии, тот самый одухотворенный юноша, о котором я уже говорил. Я встал из-за стола с великим удручением, ибо понял, что нахожусь в доме, где, если уста пьют за здоровье кишок, последние не в силах выпить ответную здравицу, ибо пить им нечего. Тут пришла мне охота очистить утробу, или, как говорят, облегчиться, хотя я почти ничего не ел, и спросил я у одного давнего обитателя сих мест, где находится отхожее место. Он ответил:
– Не знаю; в этом доме его нет. Облегчиться же тот единственный раз, пока вы будете здесь в учении, можете где угодно, ибо я нахожусь тут вот уже два месяца, а занимался этим только в тот день, когда сюда вступил, вот как вы сегодня, да и то потому, что накануне успел поужинать у себя дома.
Как передать вам мою скорбь и муку? Были они таковы, что, приняв в соображение, сколь малое количество пищи проникло в мое тело, я не осмелился, хотя и имел к тому большую охоту, что-либо из себя извергнуть.
Мы проговорили до вечера. Дон Дьего спрашивал меня, как ему надлежит убедить свой желудок, что он насытился, если тот не хочет этому верить. В доме этом столь же часто страдали от головокружений, сколько в других от несварения желудка. Наступил час ужина, ибо полдник миновал нас. Ужин был еще более скудным, и не с бараниной, а с ничтожным количеством того, что было одного имени с нашим учителем, – с жаренной на вертеле козлятиной. И черт не измыслил бы такой муки.
– Весьма целебно и полезно для здоровья, – убеждал Кабра, – ужинать умеренно, дабы не обременять желудок.
И по этому поводу цитировал целую вереницу чертовых докторов. Он восхвалял воздержание, ибо оно избавляет от тяжелых снов, зная, конечно, что под крышей его дома ничто иное, чем жратва, не могло и присниться. Подали ужин, мы отужинали, но никто из нас не поужинал.
Отправились спать. Всю ночь, однако, ни я, ни дон Дьего не могли заснуть. Он строил планы, как бы пожаловаться отцу и попросить вызволить его отсюда, я же всячески советовал ему эти планы осуществить, хотя под конец и сказал:
– Сеньор, а уверены ли вы, что мы живы? Мне вот сдается, что в побоище с зеленщиками нас прикончили и теперь мы души, пребывающие в чистилище. Имеет ли смысл просить вашего батюшку спасать нас отсюда, если кто-нибудь не вымолит нас молитвами и не вызволит за обедней у какого-нибудь особо почитаемого алтаря?
В таких разговорах и в кратком сне минула ночь, и пришло время вставать. Пробило шесть часов, и Кабра призвал нас к уроку. Мы попели и приступили к ученью. Зубы мои покрывал налет, цвет его был желтый, ибо он выражал мое отчаяние. Велено было мне громко читать начатки грамматики, а я был столь голоден, что закусил половиною слов, проглотив их. Чтобы поверить всему этому, надо было послушать, что рассказывал мне слуга Кабры. Говорил он, что как-то на его глазах в дом этот привели двух фрисландских битюгов, а через два дня они уже стали так легки на бегу, что летали по воздуху. Привели столь же здоровых сторожевых псов, а через три часа из них получились борзые собаки. Как-то раз, по его словам, на Страстной неделе у дома Кабры сошлась и долго толкалась куча народа, из которой одни пытались просунуть в двери свои руки, другие – ноги, а третьи старались и сами пролезть внутрь. Кабра очень злился, когда его спрашивали, что это означает, а означало это, что из собравшихся одни страдали коростой, другие зудом в отмороженных местах и надеялись, что в этом доме болезни перестанут их разъедать, так как излечатся голодом, ибо им нечего будет грызть. Уверял он меня, что все это истинная правда, а я, узнав порядки в этом доме, охотно всему поверил и передаю вам, дабы вы не усомнились в правдивости моего рассказа. Но вернемся к уроку. Кабра читал его, а мы повторяли его за ним хором. Все шло дальше тем же порядком, который я вам описал, только к обеду в похлебку добавили сала, потому что кто-то когда-то намекнул ему, что таким способом он докажет, что он из благородных.
А добавка эта делалась таким образом: была у Кабры железная коробочка, вся в дырках, вроде перечницы. Он ее открывал, запихивал туда кусочек сала, снова закрывал, а потом подвешивал на веревочке в варившейся похлебке, дабы через дырки просочилось туда немного жиру, а сало осталось до другого раза. Все же это показалось ему в конце концов расточительным, он стал опускать сало в похлебку лишь на один миг…
Глава VII Об отъезде дона Дьего, об известиях о смерти моих родителей и о решениях, которые я принял на будущее
В это время дон Дьего получил от своего отца письмо, в которое было вложено послание ко мне моего дяди Алонсо Рамплона, человека, украшенного всеми добродетелями и весьма известного в Сеговии своею близостью к делам правосудия, ибо все приговоры суда за последние четыре года исполнялись его руками. Попросту говоря, был он палачом и настоящим орлом в своем ремесле. Глядя, как он работает, хотелось невольно, чтобы и тебя самого повесили. Этот самый дядя и написал мне из Сеговии в Алькала нижеследующее письмо.
Письмо
«Сынок мой Паблос! (Он очень меня любил и так меня называл.) Превеликая занятость моя в должности, препорученной мне его величеством, не дала мне времени написать раньше это письмо, ибо если и есть что плохое на коронной службе, то разве только обилие работы, вознаграждаемой, однако, печальной честью быть одним из королевских слуг. Грустно мне сообщать малоприятные вести. Батюшка твой скончался неделю тому назад, обнаружив величайшее мужество. Я свидетельствую это как человек, самолично ему в этом помогавший. На осла он вскочил, даже не вложив ногу в стремя. Камзол шел ему, точно был сшит на него, и никто, видя его выправку и распятие впереди него, не усомнился бы, что это приговоренный к повешению. Ехал он с превеликой непринужденностью, разглядывая окна и вежливо приветствуя тех, кто побросал свои занятия, чтобы на него поглазеть. Раза два он даже покручивал свои усы. Исповедников своих он просил не утомляться и восхвалял те благие напутствия, коими они его провожали. Приблизившись к виселице, он поставил ногу на лестницу и взошел не столь быстро, как кошка, но нельзя сказать, чтобы медленно, а заметив, что одна ступенька поломана, обратился к слугам правосудия с просьбой велеть ее починить для того, кто не обладает его бесстрашием. Могу сказать без преувеличения, что всем он пришелся по душе. Он уселся наверху, откинул складки своего одеяния, взял веревку и набросил ее себе на кадык. Увидев же, что его собирается исповедовать некий театинец, он обернулся к нему и сказал: «Я уже считаю себя отпетым, отче, а потому скорехонько прочтите «Верую» и покончим со всем этим», – видно, ему не хотелось показаться многоречивым. Так оно и было сделано. Он попросил меня сдвинуть ему набок капюшон и отереть слюни, что я и исполнил. Вниз он соскочил, не подгибая ног и не делая никаких лишних движений. Висел же он столь степенно, что лучшего нельзя было и требовать. Я четвертовал его и разбросал останки по большим дорогам. Один Господь Бог знает, как тяжело мне было видеть, что он стал даровой пищей для ворон, но думаю, что пирожники утешат нас, пустив его останки в свои изделия ценою в четыре мараведи. О матушке твоей, хоть она пока и жива, могу сообщить примерно то же самое, ибо взята она толедской инквизицией за то, что откапывала мертвецов, не будучи злоречивой. Говорят также, что каждую ночь она прикладывалась нечестивым лобызаньем к сатане в образе козла. В доме у нее нашли ног, рук и черепов больше, чем в какой-нибудь чудотворной часовне; наименее же тяжкое из предъявляемых ей обвинений – это обвинение в подделывании девственниц. Говорят, что она должна выступить в ауто в Троицын день и получить четыреста смертоносных плетей. Весьма печально, что она срамит всех нас, а в особенности меня, ибо в конце концов я слуга короля и с такими родичами мне не по пути. Тебе, сынок, осталось кое-какое наследство, припрятанное твоими родителями, всего около четырехсот дукатов. Я твой дядя, и все, что я имею, должно принадлежать тебе. Ввиду этого можешь сюда приехать, и с твоим знанием латыни и риторики ты будешь неподражаемым в искусстве палача. Отвечай мне тотчас же, а пока да хранит тебя Господь и т. д.».
Не могу отрицать, что весьма опечалился я нанесенным мне новым бесчестием, но отчасти оно меня и обрадовало. Ведь родительские грехи, сколь велики бы они ни были, утешают детей в их несчастьях.
Я поспешил к дону Дьего, занятому чтением письма своего отца, в котором тот приказал ему вернуться домой и, наслышавшись о моих проделках, велел не брать меня с собою. Дон Дьего сообщил, что собирается в путь-дорогу, рассказал об отцовском повелении и признался, что ему жаль покидать меня. Я жалел еще больше. Предложил он устроить меня на службу к другому кабальеро, своему другу, а я на это только рассмеялся и сказал:
– Другим я стал, сеньор, и другие у меня мысли. Целю я повыше, и иное мне нужно звание, ибо если батюшка мой попал на лобное место, то я хочу попытаться выше лба прыгнуть.
Я рассказал ему, сколь благородным образом помер мой родитель, как его разрубили и пустили в оборот и что написал мне обо всем этом мой дядя-палач, а также и о делах моей матушки, ибо ему, поскольку он знал, кто я такой, можно было открыться без всякого стыда. Дон Дьего весьма опечалился и спросил, что я намерен предпринять. Я поделился с ним своими замыслами, и после всего этого на другой день он в глубокой скорби отправился в Сеговию, а я остался дома, всячески скрывая мое несчастье. Я сжег письмо, дабы оно не попало кому-либо в руки, если потеряется, и стал готовиться к отъезду с таким расчетом, чтобы, вступив во владение своим имуществом и познакомившись с родственниками, тотчас же удрать от них подальше.
Глава VIII О путешествии из Алькала в Сеговию и о том, что случилось со мною в пути до Рехаса, где я заночевал
Пришел день моего расставания с наилучшей жизнью, которую я когда-либо вел. Одному Богу ведомо, что перечувствовал я, покидая моих приятелей и преданных друзей, число коих было бесконечно. Я распродал для дорожных расходов все свои припрятанные пожитки и с помощью разных обманов собрал около шестисот реалов. Нанял я мула и выехал из дому, откуда мне оставалось только забрать свою тень.
Кто поведает мне печаль сапожника, поверившего мне в долг, вопли ключницы из-за наших расчетов и ругань хозяина, не получившего квартирной платы? Один сокрушался, говоря: «Всегда я это предчувствовал», другой: «Не зря твердили мне, что он мошенник». Словом, я уехал, столь удачно рассчитавшись со всем населением города, что одна половина его по моем отъезде осталась в слезах, а другая смеялась над ее плачем.
Дорогой я развлекал себя мыслями обо всем этом, как вдруг, миновав Тороте, нагнал какого-то человека, ехавшего верхом на муле. Человек этот с великим жаром что-то доказывал сам себе и был так погружен в свои мысли, что не заметил меня даже тогда, когда я с ним поравнялся. Я обратился к нему с приветствием, он ответил; тогда я спросил его, куда он едет, о том же спросил и он меня, и, обменявшись ответами, мы принялись рассуждать, затеют ли турки войну и каковы силы нашего государя. Спутник мой начал объяснять мне, каким способом можно завоевать Святую землю и завладеть Алжиром. Из этих объяснений я понял, что он помешан на делах государственных и правительственных. Мы продолжали беседовать о том о сем, как это полагается у бродячих людей, и наконец добрались до Фландрии. Тут спутник мой стал вздыхать.
– Это государство стоит мне больших расходов, чем королю, – промолвил он, – ибо вот уже четырнадцать лет, как вожусь я с одним проектом, который хоть и неисполним, но привел бы все в порядок, если бы его можно было осуществить.
– Какой же это проект, – полюбопытствовал я, – и почему он неосуществим, несмотря на столь великие его выгоды?
– А кто сказал вам, ваша милость, – возразил мой собеседник, – что он неосуществим? Он осуществим, но не исполняется, а это совсем не одно и то же, и если это вам не будет в тягость, я бы поведал, в чем тут секрет. В свое время, впрочем, вы это узнаете, ибо я собираюсь теперь напечатать его вместе с другими моими сочинениями, в коих я, между прочим, указываю королю два способа завоевать Остенде.
Я попросил его изложить мне эти два способа, и он, вытащив из кармана и показав мне большой план неприятельских и наших укреплений, сказал:
– Вы видите ясно, ваша милость, что вся трудность заключается в этом кусочке моря. Ну вот, я и велел бы высосать его при помощи губок и убрать прочь.
На эту глупость я разразился хохотом, а он, взглянув на меня, заметил:
– Все, кому я это рассказывал, приходили в такой же восторг, как и вы.
– Ваша идея, – ответил я, – столь нова и столь тщательно обдумана, что в этом я нимало не сомневаюсь. Примите только во внимание, ваша милость, что чем больше вы будете высасывать воду, тем больше нагонит ее с моря.
– Море этого не сделает, – возразил он, – ибо я его считаю весьма истощившимся, и остается лишь приступить к делу, а кроме того, я придумал способ углубить его поодаль на двенадцать человеческих ростов.
Я не осмелился возражать ему из страха, чтобы он не принялся излагать мне способ спустить небо на землю. Никогда еще в жизни не доводилось мне видеть такого чудака. Он сообщил мне, что изобретения Хуанело ничего не стоят и что сейчас он сам разрабатывает проект, как поднимать воду из Тахо в Толедо более легким способом, и на мой вопрос, как именно, сказал, что способ этот заключается в заклинании. Слыхана ли была на свете такая чушь, ваша милость?
Наконец он объявил мне:
– Я и не думаю привести все это в исполнение до тех пор, пока король не пожалует мне командорства, которое мне вполне подойдет, ибо я происхожу из достаточно знатного рода.
В таких беседах прошел путь до Торехона, где он покинул меня, ибо ехал туда навестить какую-то свою родственницу.
Помирая со смеху от тех проектов, которыми занимал свое время мой спутник, я направился далее, как вдруг еще издали увидел посланных мне Богом и счастливым случаем мула без седока и спешившегося около него всадника, который, уставившись в книгу, чертил на земле какие-то линии и измерял их циркулем. Он перескакивал и перепрыгивал с одной стороны дороги на другую и время от времени, скрестив пальцы, проделывал какие-то танцевальные движения. Признаюсь, за дальностью расстояния я сначала принял его за чернокнижника и даже не осмеливался к нему подъехать. Наконец я решился. Он заметил меня, когда я уже был близко от него, захлопнул книгу и, пытаясь вдеть ногу в стремя, поскользнулся и упал. Я помог ему подняться, а он объяснил мне:
– Я плохо рассчитал центр соотношения сил, чтобы сделать правильную описывающую дугу при восхождении.
Уразумев его речь, я пришел в смущение, тем более законное, что он действительно оказался самым сумасбродным человеком из всех, когда-либо рожденных женщиной. Он спросил, направляюсь ли я в Мадрид по прямой или по окружно-изогнутой линии, и я, хоть и не понял этого вопроса, поспешил ответить, что по окружно-изогнутой. Тогда он поинтересовался, чья рапира висит у меня на боку. Я ответил, что моя собственная. Он посмотрел на нее и сказал:
– У таких рапир поперечина у рукояти должна была бы быть гораздо больше, чтобы легче было отражать режущие удары, приходящиеся на центр клинка, – и завел тут такую длинную речь, что в конце концов заставил меня спросить, чем он занимается. Он пояснил, что является великим мастером фехтования и может доказать это в любых обстоятельствах.
Еле сдерживая смех, я сказал ему:
– А я, признаться, увидав вас издали, по первости решил, что вы колдун, чертящий магические круги.
– А это, – объяснил он мне, – я исследовал обман с большим переходом на четверть окружности так, чтобы одним выпадом уложить противника, не оставив ему ни единого мига для покаяния, дабы он не донес, кто это сделал. Прием этот я хотел обосновать математическим путем.
– Неужели для этого нужна математика? – спросил я его.
– И не только математика, – ответил он, – но и богословие, философия, музыка и медицина.
– Что касается медицины, я нисколько не сомневаюсь в этом, раз дело идет о человекоубийстве.
– Не шутите, – возразил он мне, – я сейчас изучаю парад при помощи широкого режущего удара, заключающего спиральное мулине.
– Из того, что вы мне говорите, я все равно ни слова не понимаю.
– Все это разъяснит вам, – успокоил он меня, – вот эта книга, именуемая «Величие шпаги», книга весьма хорошая и содержащая в себе истинные чудеса. А чтобы вы всему этому поверили, в Рехасе, где мы сегодня с вами остановимся на ночлег, я покажу вам чудеса при помощи двух вертелов. Можете не сомневаться, что всякий, кто изучит эту книгу, убьет, кого ему будет угодно.
Ее написал, само собой разумеется, человек великой учености, чтобы не сказать больше.
В подобных разговорах добрались мы до Рехаса и спешились у дверей какой-то гостиницы. Он, видя, как я схожу с мула, поспешил громко крикнуть, чтобы я расставил ноги сначала под тупым углом, а затем свел их к параллелям, дабы опуститься перпендикулярно к земле. Заметив, что я смеюсь, хозяин гостиницы также расхохотался и спросил, не индеец ли, часом, этот кабальеро, что столь чудно выражается. Я думал, что сойду с ума от смеха, а фехтовальщик подошел к хозяину и обратился к нему с просьбой:
– Дайте мне, сеньор, два вертела для двух-трех геометрических фигур, я их вам незамедлительно возвращу.
– Господи Иисусе! – воскликнул хозяин. – Давайте, ваша милость, эти фигуры сюда, и жена моя вам их зажарит, хоть я и не слыхал никогда про таких птиц.
– Это не птицы! – Тут спутник мой обратился ко мне: – Что вы скажете, ваша милость, о таком невежестве! Давайте сюда ваши вертела. Они нужны мне только для фехтования. Быть может, то, что я проделаю у вас на глазах, принесет вам больше пользы, чем все деньги, что заработали вы за всю жизнь.
Вертела, однако, были заняты, и нам пришлось удовольствоваться двумя огромными поварешками. Никогда еще не было видно ничего, столь достойного смеха. Фехтовальщик подпрыгивал и объяснял:
– Меняя место, я сильно выигрываю, ибо под этим углом могу атаковать противника в профиль. Чтобы парировать его удар в среднем темпе, мне достаточно замедленного движения. Таков должен быть колющий удар, а такой вот режущий.
Он и на милю не приближался ко мне, а вертелся вокруг со своей ложкой, а так как я спокойно оставался на месте, то все его выпады походили на возню кухарки около горшка с убегающим на огне супом.
– Вот это настоящее фехтование, – заметил он, – а не те пьяные выкрутасы, которые выписывают и коим учат всякие жулики под видом мастеров шпаги, ибо они умеют только пить горькую.
Не успел он договорить эти слова, как из соседней комнаты вышел здоровенный мулат с оскаленными зубами в широченной, точно привитой к зонтику шляпе, в колете из буйволовой кожи под расстегнутой куцей курткой, увешанной лентами, кривоногий, точно орел на императорском гербе, с физиономией, отмеченной per signum crucis de inimicis suis[156], острой бородкой, усами, торчащими, как перекладина на рукояти меча, и со шпагой, украшенной более частой решеткой, нежели решетки в приемных женских монастырей. Мрачно уставя глаза в пол, он сказал:
– Я дипломированный маэстро фехтования и клянусь солнцем, согревающим хлеба, что изрежу на куски каждого, кто плохо отзывается о людях моей профессии.
Видя, какой оборот принимает дело, я встал между ними и принялся уверять маэстро, что разговор наш его не касался и что ему нечего обижаться.
– Так пусть берет шпагу, если она у него имеется, бросит ложки, и мы посмотрим, кто владеет настоящим искусством!
Тут мой незадачливый спутник открыл книгу и громко заявил:
– Про это написано в данной книге, а напечатана она с дозволения короля, и я буду доказывать, что все в ней истинная правда, и с ложкой и без ложки, и здесь и в любом ином месте. Если же нет, – давайте измерим. – Тут он достал циркуль и начал: – Этот угол – тупой…
Тогда новоприбывший маэстро, вытаскивая шпагу, сказал:
– Я не знаю ни Угла, ни Тупого и в жизни своей не слыхивал таких прозвищ, но вот этой шпагой я разрежу вас на кусочки.
Тут он набросился на моего беднягу и начал наносить ему удары, а тот пустился в бегство, прыгая по всему дому и крича:
– Он не сможет меня ранить, ибо я могу разить его в профиль!
Я, хозяин и все присутствующие утихомирили их, хотя я едва мог пошевелиться от смеха.
Несчастного отвели в его комнату, где поместился и я. Все обитатели гостиницы отужинали и легли спать, а он в два часа ночи поднялся с кровати и в одной рубашке стал бродить в потемках по комнате, время от времени вытворяя какие-то прыжки и бормоча на своем геометрическом языке всякую ерунду. Не удовольствовавшись тем, что это меня разбудило, он спустился к хозяину, чтобы забрать у него свечку, ибо, по его словам, нашел верную точку для нанесения колющего удара через радиус в хорду. Хозяин послал его ко всем чертям за то, что тот потревожил его сон, и обозвал сумасшедшим. Тогда фехтовальщик поднялся ко мне и предложил, если я захочу встать с кровати, показать мне изумительный прием, который он придумал против турок с их ятаганами, присовокупив, что в ближайшее время отправится обучать короля, дабы прием этот послужил на пользу католикам. Тем временем наступило утро; мы все оделись, заплатили за постой, помирили нашего сумасброда с мулатом, и тот, прощаясь с ним, заметил, что книга моего спутника, конечно, хороша, но что по ней мастерству не научишься, а скорее сойдешь с ума, ибо большинство ни аза в ней не поймет.
Глава XII О моем бегстве и о тот, что случилось со мною по дороге в Мадрид
В то же утро с постоялого двора выезжал с грузом в столицу один погонщик мулов. Я нанял у него осла и стал ждать его у городских ворот. Погонщик подъехал, и началось мое путешествие. Я мысленно восклицал дорогою по адресу моего дядюшки: «Оставайся здесь, подлец, посрамитель добрых людей и всадник на чужих шеях!»
Я утешал себя мыслью, что еду в столицу, где никто меня не знает, и это-то больше всего придавало мне бодрость духа. Я знал, что смогу там прожить благодаря моей ловкости и изворотливости. Решил я, между прочим, дать отдых моему студенческому одеянию и обзавестись коротким платьем по моде. Обратимся, однако, к тому, что поделывал мой вышеупомянутый дядюшка, обиженный письмом, которое гласило:
«Сеньор Алонсо Рамплон! После того как Господь оказал мне столь великие милости, а именно лишил меня моего доброго батюшки, а матушку мою запрятал в тюрьму в Толедо, где, надо полагать, без дыма дело не обойдется, мне оставалось только увидеть, как с вами проделают то самое, что вы проделываете с другими. Я претендую на то, чтобы быть единственным представителем моего рода – а двум таковым места на земле нет, – если только мне не случится попасть в ваши руки и вы не четвертуете меня, как вы делаете это с другими. Не спрашивайте, что я и где я, ибо мне важно отказаться от моего родства. Служите и дальше королю и Господу Богу».
Не стоит перечислять те проклятия и оскорбительные выражения, которые он, надо думать, отпускал на мой счет. Вернемся к тому, что случилось со мною по пути. Я ехал верхом на ламанчском сером ослике, мечтая ни с кем не сходиться по дороге, как вдруг увидел издали быстро шагавшего в плаще, при шпаге, в штанах со шнуровкою и в высоких сапогах некоего идальго, на вид хорошо одетого и украшенного большим кружевным воротником и шляпой, один край которой был заломлен. Я подумал, что это какой-нибудь дворянин, оставивший позади свой экипаж, и, поравнявшись с ним, поклонился ему. Он взглянул на меня и сказал:
– Должно быть, господин лисенсиат, ваша милость едет на этом ослике с большим удобством, чем я шествую со всем моим багажом.
Я, думая, что он говорит о своем экипаже и о слугах, которых он опередил, ответил:
– По правде говоря, сеньор, я полагаю, что гораздо покойнее идти пешком, нежели ехать в карете, затем, что хотя бы вы и ехали с большей опрятностью в карете, что осталась позади вас, однако тряска и опасность перевернуться всегда вызывают беспокойство.
– Какая такая карета позади меня? – спросил он весьма тревожно, и в тот момент, когда он обернулся, чтобы посмотреть на дорогу, от быстроты его движения у него свалились штаны, ибо лопнул поддерживающий их ремешок. Надо думать, что только на нем они и держались, ибо, видя, что я прыснул со смеху, кавалер обратился ко мне с просьбой одолжить мой ремешок; я же, заметив, что от рубашки его осталась только узкая полоска и седалище прикрыто лишь наполовину, сказал:
– Бога ради, сеньор, обождите здесь своих слуг, ибо я никак не смогу вам помочь – у меня у самого тоже всего лишь один ремень.
– Если вы, ваша милость, шутите со мной, – сказал он, поддерживая одной рукой свои портки, – то бросьте это, ибо я совсем не понимаю, о каких слугах вы говорите.
Тут стало мне ясно, что человек он очень бедный, так как не успели мы пройти и с полмили, как он признался, что если я не разрешу ему хоть немного проехаться на моем ослике, то у него не хватит сил добраться до Мадрида: настолько утомило его пешее хождение в штанах, которые все время надо было поддерживать руками. Движимый состраданием, я спешился, и так как он не мог отпустить их, боясь, как бы они снова не упали, я подхватил его, чтобы помочь ему сесть верхом, и ужаснулся, ибо, прикоснувшись к нему, обнаружил, что то место, прикрытое плащом, которое находится у людей на оборотной стороне их персоны, было у него все в прорезях, подкладкой коим служил голый зад. Огорчившись, что я все это увидел, он почел, однако, благоразумным совладать с собою и сказал:
– Господин лисенсиат, не все то золото, что блестит. Должно быть, вашей милости при виде моего гофрированного воротника и всего моего обличья показалось, что я какой-нибудь герцог де Аркос или граф де Бенавенте, а между тем сколько мишуры на свете прикрывает то, что и вашей милости пришлось отведать.
Я ответил ему, что действительно уверился в вещах, противоположных тому, что видел.
– Ну, так вы еще ничего не видали, ваша милость, – возразил он, – так как во мне и на мне решительно все достойно обозрения, ибо я ничего не скрываю и ничего не прикрываю. Перед вами, ваша милость, находится самый подлинный, самый настоящий идальго, с домом и родовым поместьем в горных краях, и если бы дворянское звание поддерживало меня столь же твердо, как я его, мне нечего было бы жалеть. Но дело в том, сеньор лисенсиат, что, к сожалению, без хлеба и мяса в жилах добрая кровь не течет, а ведь по милости Божьей у всех она красного цвета, и не может быть сыном дворянина тот, у кого ничего нет за душою. Разочаровался я в дворянских грамотах с тех пор, как в одном трактире, когда мне нечего было есть, мне не дали за счет моего дворянства и двух кусочков съестного. Говорите после этого, что золотые буквы моей дворянской грамоты чего-нибудь да стоят! Куда ценнее позолоченные пилюли, чем позолота этих литер, ибо проку от пилюль больше. А золотых букв, однако, теперь не так уж много! Я продал все, вплоть до моего места на кладбище, так что теперь мне и мертвому негде приклонить голову, так как все движимое и недвижимое имущество моего отца Торибио Родригеса Вальехо Гомеса де Ампуэро – вот сколько у него было имен – пропало из-за того, что не было выкуплено в срок. Мне осталось только продать мой титул дона, но такой уж я несчастный, что никак не могу найти на него покупателя, ибо тот, у кого он не стоит перед именем, употребляет его бесплатно в конце, как ремендон, асадон, бландон, бордон и т. д.
Сознаюсь, что, хотя рассказ о несчастьях этого идальго был перемешан с шутками и смехом, меня он тронул до глубины души. Я полюбопытствовал, как зовут его и куда он шествует. Он ответил, что носит все имена своего отца и зовется дон Торибио Родригес Вальехо Гомес де Ампуэро-и-Хордан. Никогда я не слыхивал имени более звонкого, ибо кончалось оно на «дан», а начиналось на «дон», как перезвон колоколов в праздничный день. После этого он объявил, что идет в столицу, ибо в маленьком городке столь ободранный наследник знатного рода, как он, виден за версту, и поддерживать свое существование в таких условиях невозможно. Поэтому-то он и шел туда, где была родина для всех, где всем находилось место и где всегда найдется бесплатный стол для искателя житейской удачи. «Когда я бываю там, кошелек у меня никогда не остается без сотенки реалов и никогда не испытываю я недостатка в постели, еде и запретных удовольствиях, ибо ловкость и изворотливость в Мадриде – философский камень, который обращает в золото все, что к нему прикасается».
Передо мной словно небо раскрылось, и, чтобы не скучать по дороге, я упросил его рассказать, как, с кем и чем живут в столице те, кто, подобно ему, ничего не имеет за душой, ибо жить там казалось мне делом трудным в наше время, которое не довольствуется своим добром, а старается воспользоваться еще и чужим.
– Есть много и таких, и других людей, – ответил он. – Ведь лесть – это отмычка, которая в таких больших городах открывает каждому любые двери, и, дабы тебе не показалось невероятным то, что я говорю, послушай, что было со мной, и узнай мои планы на будущее, и тогда все твои сомнения рассеются.
Глава XIV О тот, что случилось со мною в столице после того, как я туда прибыл, и вплоть до наступления ночи
В десять часов утра мы вступили в столицу и, как было условлено, направились к обиталищу друзей дона Торибио. Добрались мы до его дверей, и дон Торибио постучал; двери открыла нам какая-то весьма бедно одетая дряхлая старушенция. Дон Торибио спросил ее о своих друзьях, и она ответила, что все они отправились на промысел. Мы провели время одни, пока не пробило двенадцать часов: он – наставляя меня ремеслу дешевой жизни, а я – внимательно его слушая. В половине первого в дверях появилось нечто вроде привидения, с головы до ног закутанного в балахон, еще более потрепанный, чем его совесть. Они поговорили с доном Торибио на воровском языке, после чего привидение обняло меня и предложило себя в полное мое распоряжение. Мы немножко побеседовали, и мой новый знакомый вытащил перчатку, в которой находилось шестнадцать реалов, и какую-то бумагу, которая, по его словам, представляла собой разрешение нищему просить милостыню и принесла ему эти деньги. Опорожнив перчатку, он достал другую и сложил их, как это делают доктора. Я спросил его, почему он не надевает их, и он объяснил, что обе они с одной руки и этой хитростью он пользуется, когда ему нужно добыть себе перчатки. Усмотрев тем временем, что он не снимает своего балахона, я (как новичок) полюбопытствовал узнать причину, которая заставляет его все время ходить закутанным, на что он ответствовал:
– На спине у меня, сын мой, находится дыра, суконная заплатка и пятно от оливкового масла. Этот кусок плаща прикрывает их, и я могу с ними выходить на улицу.
Он освободился от своего огрызка плаща, и я увидел, что балахон его странно пузырится. Я подумал, что это от штанов, ибо выпуклость имела их очертания, как вдруг он, готовясь давить вшей, подобрал нижнюю часть своей одежды, и под ней оказались два привязанных к поясу и приложенных к бедрам круга из картона, скрывавших его наготу, ибо ни штанов, ни сорочки на нем на самом деле не было и искать какую-либо живность в швах и складках ему почти не представлялось возможности. Он вошел в вошебойку, предварительно перевернув на двери табличку вроде тех, которые бывают на ризницах, дабы открылась надпись «занято» и никто больше туда не вошел. Великую благодарность следует воздать Господу Богу за то, что он людям небогатым дарует столь великое хитроумие!
– Я, – сказал в это время мой добрый друг, – вернулся из путешествия с больными штанами, и мне нужно найти, чем бы их исцелить.
Он спросил у старухи, нет ли у нее каких-нибудь лоскутьев. Старуха (она занималась тем, что дважды в неделю собирала на улице разное тряпье – так же, как собирают его на бумагу, – дабы врачевать этим тряпьем негодные вещи своих кабальеро) сказала, что у нее ничего нет и что из-за отсутствия тряпок вот уже две недели как валяется в постели дон Ларенсо Иньигес дель Педросо, у которого захворало его платье.
В это время появился еще кто-то в дорожных сапогах, в бурой одежде и в шляпе с загнутыми полями. Он узнал от остальных о моем приезде и вступил со мною в весьма сердечную беседу. Когда он скинул свой плащ, то обнаружилось – кто бы мог это подумать, ваша милость! – что одежда его была сделана из бурого сукна только спереди, сзади же она была из белого полотна, потемневшего от пота. При этом зрелище я не мог сдержать смеха, но он с великим спокойствием заметил:
– Будете обстрелянной птицей, так перестанете смеяться. Бьюсь об заклад, что вам и в голову не приходит, почему я ношу эту шляпу с загнутыми полями.
Я ответил, что, вероятно, из франтовства и дабы не мешать глазам смотреть.
– Наоборот, – возразил он, – именно для того, чтобы мешать им видеть. Знайте же, что у моей шляпы нет ленты вокруг тульи, а так этого никто не замечает.
Сказав это, он вытащил больше двадцати писем и столько же реалов и объяснил, что не имел возможности вручить всю корреспонденцию по принадлежности. На каждом было помечено, что почтовый сбор составляет один реал. Все это изготовлялось им самим. Подписывал он их любым именем, которое ему приходило в голову, писал всякие небылицы, разносил их в лучшие дома и взимал минимальный сбор за пересылку. Этим он занимался каждый месяц. Я весьма удивился столь новому для меня способу наживы.
Вскоре вошли еще двое, один в суконной куртке длиною до колен и в таком же плаще с поднятым воротом, дабы не было видно его рваного воротника. Его широченные валлонские шаровары, насколько их было видно из-под плаща, были сшиты из камлота, верх же надставлен цветной байкой. Он вошел, споря со своим спутником, у которого был не гофрированный, а отложной воротник, а рукава бутылками возмещали отсутствие плаща. Он опирался на костыль, и за неимением одного чулка одна его нога была обернута в какие-то тряпки. Выдавал он себя за солдата и в самом деле был таковым, но только плохим и в боях не участвовал. Он рассказывал о своих необыкновенных заслугах и на правах военного умел пролезать всюду.
Тот, кто был в куртке и, как казалось, в штанах, требовал:
– Вы должны мне отдать по крайней мере половину, если не большую часть, а если не отдадите, то клянусь Господом Богом…
– Не клянитесь именем Господним, – сказал другой, – ибо дома я перестаю быть хромым и могу здорово отколотить вас этим костылем.
С криками «Отдайте!», «Не отдам!» и с обычными упреками во вранье они накинулись друг на друга, и при первой же схватке лохмотья их одеяний остались у них в руках. Мы помирили их и стали расспрашивать о причине ссоры.
– Вы что, шутите со мною? – заорал солдат. – Не достанется вам ни полушки! Надо вам знать, ваши милости, что, когда мы стояли на площади Спасителя, к этому несчастному подошел какой-то малец и спросил, не я ли прапорщик Хуан до Лоренсана. Тот, видя, что мальчишка держит что-то в руках, подтвердил это, подвел его ко мне и, назвав меня прапорщиком, сказал: «Вот, ваша милость, вас спрашивает этот мальчик». Смекнув, в чем дело, я подтвердил, что меня действительно так зовут. Тогда мальчишка вручил мне сверток с дюжиной носовых платков, которые его мать велела отнести какому-то Лоренсане. Теперь он требует у меня половину, но я скорее позволю разорвать себя на куски, нежели соглашусь на это. Все их должен до дыр сносить мой нос.
Дело было решено в его пользу, но без права сморкаться, платки велено было передать старухе в общий котел, дабы она понаделала из них воротников и манжет, вид которых должен был обозначать у нас наличие отсутствующих рубашек. Сморкаться по уставу здесь было запрещено, разве что пальцами, впрочем, здесь чаще шмыгали носом, дабы ничто ценное не расточалось. Так и порешили.
Наступила ночь. Мы улеглись в две постели, прижавшись один к другому, как зубцы в гребешке. Ужин был отложен на утро. Большинство легло не раздеваясь, а в том платье, в каком ходили они весь день, следуя тем самым правилу спать нагишом.
Глава последняя О тот, что случилось со мною в Севилье до отплытия в Индию
Совершил я путь из Толедо в Севилью вполне благополучно, тем более что деньги у меня не переводились. Дело в том, что я уже овладел основами шулерской игры, и у меня были кости, начиненные грузом так, что я мог по желанию выбросить большее или меньшее количество очков, да к тому же правая рука моя занималась укрывательством одной кости, поскольку, беременная четырьмя, она рожала их только три. Кроме этого, у меня был изрядный запас шаблонов разнообразной формы, дабы по ним подрезать карты для разных шулерских приемов.
Не буду рассказывать вам и о всяких иных благоухавших хитростью штуках, ибо, услышав о них, вы бы приняли меня за букет цветов, а не за человека. К тому же лучше предлагать людям какой-нибудь положительный пример для подражанья, чем соблазнять их пороками, от коих они должны бежать. Тем не менее, если я изложу кое-какие приемы и принятые среди шулеров выражения, я смогу просветить несведущих и оградить их от обмана, а если кто окажется облапошенным и после этого, пусть уж пеняет на себя.
Прежде всего, не думай, что, если ты сдаешь карты, ты уже застрахован от шулера, – тебе их могут подменить, пока будут снимать нагар со свечи. Далее, не давай ни ощупывать, ни царапать, ни проглаживать карты, ибо таким образом обозначают плохую карту. Если же ты, читатель, принадлежишь к разряду слуг, то имей в виду, что на кухнях и на конюшнях дурные карты отмечаются или при помощи прокалывания булавкой, или при помощи загибания уголка, чтобы узнавать их на ощупь. Если ты вращаешься среди людей почтенных, то берегись тех карт, которые зачаты были во грехе еще в печатне, так как по их рубашке опытный глаз умеет различить, какая карта на обороте. Не доверяйся и совсем чистым картам, ибо для того, кто глядит в оба и запоминает, самая чистая карта оказывается грязной. Смотри, чтобы при игре сдающий не слишком сгибал фигуры (за исключением королей) по сравнению с остальными картами, ибо это верный гроб для твоих денег. За игрой в примеру следи, чтобы при сдаче тебе не подсовывали карт, отброшенных сдающим, и старайся подметить, не переговариваются ли твои противники какими-нибудь условными жестами или произнося слова, начинающиеся с той же буквы, с которой начинается нужная им карта. Больше я не стану тебя просвещать; сказанного достаточно, чтобы ты понял, что жить нужно с великой осторожностью, ибо нет сомнения в том, насколько бесконечны всякого рода надувательства, о которых мне приходится умалчивать. «Угробить» означает на языке подобных игроков – и означает справедливо – вытянуть из вас все деньги; «играть наизнанку» – это значит обжуливать своего ничего не подозревающего приятеля; «пристяжным» именуется тот, кто заманивает в игру простаков, чтобы их общипали настоящие удильщики кошельков; «белыми» зовут простодушных и чистых, как белый хлеб, людей, а «арапами» – ловкачей, которых ничем не проведешь.
Подобный язык и подобные штуки довели меня до Севильи; деньгами своих встречных знакомых я оплатил наемных мулов, а хозяев постоялых дворов я обыгрывал на еду и постой. Достигнув своей цели, я остановился в гостинице «Мавр» и повстречал здесь одного из своих сотоварищей по Алькала; звали его Мата – имя, которое, за недостатком звучности, он переменил на Маторраль. Он торговал людскими жизнями и был продавцом ножевых ударов. Дело у него шло неплохо. Образцы своего ремесла он носил на собственном лице, и по этим образцам он договаривался с заказчиком о глубине и размере тех ударов, которые он должен был нанести. Он любил говорить: «Нет лучшего мастера в этом деле, чем тот, кто сам здорово исполосован», – и был совершенно прав, так как лицо у него было что решето и кожа казалась дубленой. Он-то и пригласил меня поужинать с ним и его товарищами, обещав, что они проводят меня потом до гостиницы. Мы отправились, и, войдя в свое обиталище, он сказал: – Эй, скинь-ка плащ, встряхнись и будь мужчиной, нынче ночью увидишь всех славных сынов Севильи. А чтобы они не приняли тебя за мокрую курицу, растрепли-ка свои волосы, опусти свой воротник, согнись в плечах, волочи свой плащ по земле, ибо всегда мы ходим с плащом, волочащимся по земле, рожу криви то в одну сторону, то в другую и говори вместо «р» – «г» и вместо «л» – «в»: гана, гемень, гука, вюбовь, кговь, агта, бутывка. Изволь это запомнить.
Тут он дал мне кинжал, широкий, как ятаган, который по длине своей вполне заслуживал название меча и только из скромности так не назывался.
– А теперь, – сказал он, – выпей пол-асумбре этого вина, иначе, если ты от него не взопреешь, за молодца ты не сойдешь.
Пока мы занимались всем этим и я пил вино, от которого у меня помутилось в голове, явились четверо его друзей с физиономиями, изрезанными как башмак подагрика. Шли они вразвалку, ловко обернув плащи свои вокруг пояса. Шляпы с широченными полями были лихо заломлены спереди, что придавало им вид диадем. Не одна кузница истратила все свое железо на рукояти их кинжалов и шпаг, концы которых находились в непосредственном общении с правыми их каблуками, глаза их таращились, усы топорщились, словно рога, а бороды были на турецкий лад, как удила у лошади. Сначала, скривив рот, они приветствовали нас обоих, а затем обратились к моему приятелю и каким-то особенно мрачным тоном, проглатывая слова, сказали:
– 'аш с'уга!
– 'аш кум, – отвечал мой наставник.
Они уселись и не проронили ни одного звука, дабы узнать у Маторраля, кто я такой; только один из них взглянул на него и, выпятив нижнюю губу, указал ею на меня. Вместо ответа мой покровитель собрал в кулак свою бороду и уставил глаза в пол. Тогда они с превеликой радостью повскакали со своих мест, обняли меня и принялись чествовать. Я отвечал им тем же, причем мне показалось, что я отведал вина разного сорта из четырех отдельных бочек.
Настал час ужина. Прислуживать явились какие-то проходимцы. Все мы уселись за стол. Тотчас же появилась закуска в виде каперсов, и тут принялись пить здравицы в мою честь, да в таком количестве, что я никак не мог думать, что в столь великой степени обладаю ею. Подали рыбу и мясо, и то и другое с приправами, возбуждавшими жажду. На полу стояла бадья, доверху полная вина, и тот, кто хотел пить, прямо припадал к ней ртом. Я, впрочем, довольствовался малым. После двух заправок вином все уже перестали узнавать друг друга. Разговоры стали воинственными, посыпались проклятья, от тоста к тосту успевало погибнуть без покаяния чуть ли не тридцать человек. Севильскому коррехидору досталась едва ли не тысяча ударов кинжалом, добрым словом помянули Доминиго Тиснадо, обильно было выпито за упокой души Эскамильи, а те, кто был склонен к нежным чувствам, горько оплакали Алонсо Альвареса. Со всем этим у моего приятеля, видно, выскочил какой-то винтик из головы, и, взяв в обе руки хлеб и смотря на свечу, он сказал хриплым голосом:
– Поклянемся этим Господним ликом, а также светом, что изошел из уст архангела, что, если сие будет сочтено благоугодным, нынешней ночью мы рассчитаемся с тем корчете, что забрал нашего бедного Кривого.
Тут все подняли невообразимый гвалт и, повытаскав кинжалы, поклялись, возложив руки на края бадьи с вином и тыкаясь в нее ртами:
– Так же, как пьем мы это вино, мы выпьем кровь у каждой ищейки!
– Кто такой этот Алонсо Альварес, чья смерть так всех опечалила? – спросил я.
– Молодой парень, – ответил один из них, – неустрашимый вояка, щедрый и хороший товарищ! Идем, меня уже тянут черти!
После этого мы вышли из дому на охоту за корчете. Отдавшись вину и вручив ему власть над собою, я не соображал, какой опасности себя подвергаю. Мы дошли до Морской улицы, где лицом к лицу с нами столкнулся ночной дозор. Едва только наши храбрецы его завидели, как, обнажив шпаги, бросились в атаку. Я последовал их примеру, и мы живо очистили тела двух ищеек от их поганых душ. При первых же ударах шпаг альгуасил доверился быстроте своих ног и помчался вверх по улице, призывая на помощь. Мы не могли броситься за ним вдогонку, так как весьма нетвердо держались на ногах, и предпочли найти себе прибежище в соборе, где и укрылись от сурового правосудия и выспались настолько, что из наших голов выветрились бродившие там винные пары. Уже придя в себя, я не мог надивиться тому, как легко правосудие согласилось потерять двух ищеек и с какою резвостью бежал альгуасил от той виноградной грозди, какую мы собой представляли.
В соборе мы знатно провели время, ибо, учуяв запах таких отшельников, как мы, явилось туда несколько шлюх, которые охотно разделись, чтобы одеть нас. Больше всех полюбился я одной из них, по имени Грахаль, которая нарядила меня в свои цвета. Жизнь мне эта пришлась весьма по вкусу, больше, чем какая-либо другая, и я порешил до самой смерти претерпевать с моей подругой все муки любви и тяготы сожительства. Я изучил воровские науки и в короткий срок стал самым ученым среди всех других мошенников. Правосудие неутомимо искало нас, и, хотя дозоры бродили вокруг храма, это не мешало нам выбираться после полуночи из нашего укрытия и, переодевшись так, что нас невозможно было узнать, продолжать свои набеги.
Когда я убедился, что эта канитель будет еще долго тянуться, а судьба еще больше будет упорствовать в преследовании меня, то не из предосторожности – ибо я не столь умен, – но просто устав от грехов, я посоветовался первым долгом с Грахаль и решил вместе с ней перебраться в Вест-Индию, дабы попробовать, не улучшится ли с переменой места и земли мой жребий. Обернулось, однако, все это к худшему, ибо никогда не исправит своей участи тот, кто меняет место и не меняет своего образа жизни и своих привычек.
Вопросы и задания
1. Какие черты характера Паблоса одобряются автором, а какие вызывают его осуждение?
2. В чем видит Кеведо причины несчастий Паблоса?
3. Что делает Паблоса плутом и как оценивается в романе «плутовство»?
4. Какую роль играет в романе тема «образования»?
5. Как проявляется в романе авторская позиция?
6. Охарактеризуйте творческий метод романа, укажите его признаки, нашедшие отражение в этом произведении.
7. Подготовьте сообщение на тему: «XVII век в комедии Мольера и романе Кеведо: два взгляда на один мир».
Русские театральные интермедии[157]
В XVII веке в духовных учебных заведениях стали создаваться школьные театры, в которых давались первые театральные представления на Руси. Здесь ставились пьесы на духовные сюжеты, например «Жалобная комедия об Адаме и Еве». Для школьных театров писали такие известные писатели, как Симеон Полоцкий[158]. Но кроме пьес на сюжеты из Священного писания в школьных театрах игрались и веселые сатирические пьесы, интермедии, маленькие драматические сочинения, сюжеты которых часто заимствовались из народных ярмарочных представлений. В них высмеивались обычные человеческие пороки.
Две из приведенных в нашей книге интермедий посвящены проблеме учения. Их комизм очевиден: учителем здесь выступает Малец, а учеником – Старик.
Подумайте, какой здесь используется художественный прием и в чем его смысл, какое назидание содержат эти интермедии.
Третья интермедия ставит очень серьезный вопрос о жизни и смерти, но и она построена на комических эффектах.
Поразмыслите над художественными средствами, призванными вызвать смех у зрителей.
1
Изыдет старик, иский мудрости;
приидет малец школны научити его.
СТАРИК
Бог в помощь, государи! Все здравы будите, Крутчины[159]на беднаго мене не кладите, Что вышел дерзновенно между милость вашу: Ума хощу сыскать на потребу нашу. Кто ведает, где разум в лавках продается? Аршин с десят купити старик волочется[160]. Уже мне докучно без ума жити. Аще[161]бы возможно паки[162]младым быти, Принях бы ся за книгу руки и зубами, Дабы ума набити в главу кулаками; А ныне готов есм добраго стяжати, Токмо бы кто изволил разума продати.(Выходит малец учителей с свитком и с плетью.)
МАЛЕЦ
Бог ти в помощь, старче! О чем ти крутчина, Повеждь: аз[163]тя утешю, искусны детина.СТАРИК
Ума хощу купити, да не обретаю; Ходя, у добрых людей давно вопрошаю.МАЛЕЦ
Не кручинся, о старче! Аз много имею Ума и старых людей учити умею, Точию есть потребно, что велю, творити И ни в едином слове упорчивым быти.СТАРИК
Вся готов есм творити, учителю честны! Во мздовоздаянии[164]тебе не буду лестны.МАЛЕЦ (показует свиток и глаголет[165])
В сей хартии[166]есть разум. Потребно ю съясти[167], Изрядно разрезавши на мелкия части.СТАРИК
То готов есм сотворити, Точию бы мудрым быти.
(Тогда малец разрежет, а старик яст и глаголет.)
СТАРИК
О! вкус жесток есть; хочется блевати.МАЛЕЦ
Терпи, аще тя хощет и прервати Горек труд ныне, но сладки плод будет, Егда в главе ти ума прибудет.(Егда съяст старец, тогда малец на бумаге напишет азбуку и учит старика.)
МАЛЕЦ
Глаголи со мною. Аз[168].СТАРИК
Увяз.МАЛЕЦ
Буки.СТАРИК
Учителя прибрат в руки[169].МАЛЕЦ
Глагол.СТАРИК
Учителя за хохол!МАЛЕЦ
Мало памяти во главе, по телу разплыся; Хощу во главу вогнати, токмо положися.(Старик ляжет, а малец от ног плетию во главу память вгоняет и глаголет трижды.)
Иди во главу, память! Ты, старче, учися! Но за соху паки приимися.СТАРИК
О! Есть память! есть! Уже добре знаю, Изрядно писмо то прочитаю.МАЛЕЦ
Чти гласно[170].СТАРИК (читает)
Аз, буки, веди, глагол.МАЛЕЦ
Се память в главу вся добре собрася. Се уже писмо добре прочитася. Но днес[171]доволно, да ты не стужиши; Приходи рано, да ся болши учиши.СТАРИК
Кто ся не хощет и в юности труждати, Должно тому есть в старости страдати.2
Изыдет старик той же и глаголет.
СТАРИК
Знаете ли мене, государи? Аз был вчера без разума стары, А днес умудрен есм, грамоты доволен; Токмо главою чрез всю нощ бех[172] болен; Чрево, ум снедше, много говорило, Таже самому зело[173] тошно было. Грамоты столко глава моя знает, Яко[174]и вес мозг ея не вмещает. В пазухе, в зепях[175] грамоты доволно, По сих бумашках ума зело полно. Аще же ныне еще поучюся, Скоро философ велий[176]нарекуся, Жду учителя: обещался быти Скоро и добре хощет научити.УЧИТЕЛ
Добре, что пришел, учениче милы! Хощу тя учити от всея ми[177] силы. Прочти стих вчерашны, потом же поступим Дале в премудрость, без денег ю купим.СТАРИК
Учителю мой драгий! добре памятую Аз, буки, веди, глагол и толк ея знаю: Аз – ты увяз; Буки – учителя прибрат в руки; Веди – у меня уже сут дети; Глагол – учителя за хохол! А правда, яко добре сия аз толкую? Уже философии учится хотую.УЧИТЕЛ
Аще хощеши, старче, еще мудрее быти, Тупы ум твой треба изострити.СТАРИК
Пожалуй, государь мой, о том ты потщися; Дам плату великую, токмо потрудися. Се ти злата доволство, извол изострити Тупость ума моего, чтоб мудру быти.УЧИТЕЛ
Сяди и терпи; полезно ти будет: Ума остроты во главе прибудет.(Тут учител возмет брус и начнет главу острити и глаголет трижды.)
Главо дурная! брусом сим острися. Старче безумны! к сохе возвратися.СТАРИК (крикнет)
Бережи власов! Увы! болит глава. Ох! тежце придет премудрости слава!УЧИТЕЛ
Сут буйство власы: нужда изривати[178]; Ради мудрости извол пострадати.(Тут рвет власы, а старик кричит.)
СТАРИК
Доволно уже, лютый учителю! Изострил еси ум мой, мучителю!УЧИТЕЛ
Краткая болезн вечную утеху Тебе раждает, достойную смеху. Смотри в грамоту и читай смело, Уже познаеши всякое дело.(Тут возмет писмо и читает; возрадовавжеся, глаголет старик.)
СТАРИК
Ей, воистинну ум мой изощренный! В писаниих зело умудренны! Токмо несладко, мнити ми ся, читаю, Яко аз словес лекарства не знаю.УЧИТЕЛ
Не вдруг все благо можещи прияти; Будет слад ост. Извол мзду[179]воздати.СТАРИК
Все, еже имам[180], буди пред тобою, Токмо сотвори милость ты днес со мною.УЧИТЕЛ
Отверзи уста, приими сию сладость, Сладкоглаголив буди людем в радость.(И мажет медом уста и лице и дает ясти.)
СТАРИК
Паче медовова усладихся сота; Сладкая будут словеса из рота.УЧИТЕЛ
Се сам знаеши, яко умудрися И гортань твоя много усладися: Паши хлеб, токмо при сей мудрости, Не познаеши от глада трудности. Иди ж ты с умом до твоего дому; Како умудрися, не сказуй никому.СТАРИК
Иду радостне, тя имам хвалити, Аще мя люди будут мудрым чтити.(И идет старик за завесу; а учител глаголет.)
УЧИТЕЛ
Глуп состареся. Кто его научит, Аще и на смерт кто кнутом замучит? Соха, борона – то то дело его. И где ему знать силу учения моего?(И выходит той же старики начнет шумети с учителем и подерется; выбегает цыган и прогоняет старика.)
3
Исходит старик и глаголет.
СТАРИК
Увы мне бедну! Весь изнемогаю, Частее стеню[181], неже отдыхаю: Старость глубока зело ми стужает, Недугом тяшким велми[182]озлобляет. Ноги не крепки, не служат и руце; В новой на всяк ден есм недугов муце. Глава ми болит, стомах зазнобися, Серце печално, все тело растлися: Уши не слышат, очи видят мало; Бодрость и действо всех удов престало; Язык не хощет усты разверзати, И зубы хлеба не могут сожевати. Живы хожду труп, веема неключимы, А от скудости зело есм мучимы: Хлеба не имам, риза вся раздранна. Не вем над мене в мире окаянна. Зима лютая велми досаждает, Мертвеца суща в дрова изгоняет; Сещи не могу, обаче искати, Не возмогу ли готовых собрати?(Пойдет за завесу и абие з дровами изшед, глаголя.)
Бог ми пособил: найдох дрова сия, От них же болит зело моя выя. Ох! утрудихся! Не могу носити. Лутше умрети, неже в нужде жити. Бог ми оставил за преступления, Не посылает мне умерщвления. Юный мнози везде умирают, Старика тленна жити оставляют. Ей, смерть ест слепа, не видит, что взяти; Мало в ней ума, не вест разеуждати; Юным ест горка, а тех похищает; Мне бы была сладка, но мя оставляет. О смерте! где ты? камо заблудила? Векую беднаго старика забыла? Потщися ко мне, возми мя до себе: О кол аз давно ожидаю тебе!СМЕРТ (изыдет и глаголет)
Что, старче древни, слезно вопиеши? Чесо мя ради до себе зовеши? Имя ми ест Смерт. Аз мир умерщвляю, Души от телес людских разлучаю.СТАРИК
Честная Смерт! ничто мне с тобою; Живи в дружестве добром ты со мною. Иннии люди семо прихождаху, Тии до себе тебе призываху.СМЕРТ
Не лети мя, старче! По гласе тя знаю. Чего хощеши, повежд, вопрошаю.СТАРИК
Прости мя, Смерте! Се правду вещаю: На помощ милость твою призываю, Пособи дрова на плеща возложити. Твоим пособством престану тужити.СМЕРТ
Старче лукавы! что се ты твориши? Непрелстимую богатырку лстиши. Не мое дело в дровах ти пособляти; Аз вем телеса ваша в гроб хищати. Обаче[183] тебе имам пособити, Да скорее в гроб можеш почити. Се коса моя дровам ся касает, Гроб тя древяны в дому твоем чает: Прощайся с людми и Богу молися, Утро в могилу ко мне ты лажися.СТАРИК
Увы мне! увы! Что имам творити? Векую аз дерзнух Смерт к себе гласити? Сам ю возбудих, яже тверде спаше, Мене мертвити не у помышляше. Прелстихся бедный. Лучше бе молчати. Воли Божия в готовости ждати. Уже днес время приде умирати. Изволте вы мне прощение дати, Бога за душу мою помолити, В последней нужде любовь мне явити; Сами здравствуйте на лета премнога! Званием Смерти не гневайте Бога.(Смерт косою косит, старик упадает.)
Западноевропейская литература эпохи Просвещения. Просветительский классицизм
XVIII век в истории литературы часто называют «эпохой Просвещения». Хотя в конце столетия проявились новые, довольно сложные литературные тенденции, именно Просвещение как наиболее влиятельное идеологическое движение этого периода определило лицо века. Просвещение было универсальной формой борьбы «третьего сословия» с отживающим феодализмом. Термин «Просвещение» обозначает широкое общественное движение XVIII века.
Хотя Просвещение было последней стадией развития буржуазной идеологии перед тем, как этот класс получил власть в большинстве стран Европы, деятелями Просвещения были наиболее передовые и образованные представители аристократии. Вы, надеюсь, помните, что подобное было и в эпоху Возрождения.
Просветители опирались на материалистические учения крупных философов XVII века, требования научного рационалистического познания мира.
В своих взглядах на искусство просветители во многом продолжают традиции классицизма XVII века. Просветительское искусство дидактично, и этот дидактизм является сознательной установкой. Они развивают идею воспитательного значения искусства, считая, что искусство призвано просвещать людей. Для просветителей продолжает оставаться актуальным конфликт между долгом и чувством, но этот конфликт толкуется ими более широко: вместо долга перед государством появляется сознательное отношение к своим обязанностям – разумное поведение (сама идея государственности видоизменяется в идею просвещенного абсолютизма). Так же как и классицисты XVII века, просветители ориентируются на античное искусство. В то же время многое в искусстве Средневековья и эпохи Возрождения просветители отвергают, считая, что в эти периоды «невежества» создавались только «варварские» произведения.
Культ разума унаследован эстетикой просветителей от классицизма XVII века, однако нельзя говорить о простом перенесении этого принципа из одного века в другой. Просветительский культ разума характеризуется в первую очередь критическим отношением к действительности. Они все подвергают сомнению, суду разума. Отсюда – большая реалистичность и жизненность их искусства.
Исходя из того же культа разума, расширяются и задачи искусства. Наряду с дидактическими (воспитательными) задачами перед искусством ставятся и задачи гносеологические (познавательные). В философии и литературе получает распространение жанр эссе (опыт). Искусство совершает художественный эксперимент, изучая поведение человека или общества в тех или иных ситуациях. Таким образом, искусство сближается с наукой, в первую очередь с философией.
Вторым важнейшим принципом, также унаследованным просветителями от искусства XVII века, является принцип «подражания природе». Но просветители ищут в природе не абсолютный идеал, проявляющийся в совершенных и гармоничных образцах, а те закономерности, которые лежат в основах гармонии и совершенства. «Подражание природе» для просветителей означает изучение природы, поиски путей к царству свободы, счастья, гармонии и справедливости.
В отличие от искусства XVII века искусство Просвещения демократично. Это связано с двумя причинами. Во-первых, Просвещение – это идеология буржуазии в период борьбы с феодализмом. В этой борьбе буржуазия опирается на широкие народные слои, и это находит отражение в искусстве. Во-вторых, культ разума требует преодоления сословной ограниченности, создания реальных условий для проведения художественного эксперимента. Стремясь понять законы общества, художники-просветители пытаются создавать правдивые картины жизни, верно изображать и само общество, и условия, в которых оно существует.
Просветители разрушают нормативные рамки классицизма XVII века. В эпоху Просвещения уже не существует деления на высокие и низкие жанры. В литературе бурно развивается жанр романа, который классицисты XVII века воспринимали как развлекательный. Именно в романах XVIII века нашли отражение наиболее правдивые картины жизни общества (вам уже известно произведение Д. Дефо «Робинзон Крузо»).
Популярность жанра романа и разрушение жанровой системы классицизма XVII века были связаны с преодолением сословной ограниченности литературы. Просвещение уничтожило границы между «благородными» и «неблагородными» героями. Теперь демократический герой мог не только вступать в конфликт с аристократом, но и выходить из этого столкновения победителем. Если раньше, в XVII веке, герои – представители «третьего сословия» были в основном комическими персонажами (Журден из «Мещанина во дворянстве» Ж. Б. Мольера) или плутами (Паблос из плутовского романа Кеведо), то в просветительской литературе они героизируются («Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Женитьба Фигаро» П.-О.-К. Бомарше).
Одновременно происходит дегероизация аристократии. Просветители резко критикуют сословную ограниченность, отсутствие деловых способностей у представителей аристократии и духовенства (двух привилегированных сословий феодального общества) и требуют оценивать человека не по его происхождению, а в зависимости от его личных качеств («Чистокровный англичанин» Д. Дефо, «Севильский цирюльник» П.-О.-К. Бомарше). Просветители последовательно разоблачают аморальность аристократов, в их произведениях часто сравниваются представители буржуазии и аристократии, и, как правило, это сравнение показывает моральное превосходство представителей «третьего сословия».
В эпоху Просвещения из всех видов искусства наиболее интенсивно развивалась именно литература. Художественным методом литературы этого периода продолжал оставаться классицизм, но новая идеология, новый взгляд на мир и на человека воплотились в новом литературном направлении – просветительском классицизме, развивавшем эстетические принципы классицизма XVII века. Оно характеризовалось критическим изображением действительности, стремлением к научному эксперименту в искусстве. Предметом эксперимента в литературе стал человек, предметом критического изображения – среда, в которой этот человек действовал. Исходной предпосылкой соотношения человека и среды была предпосылка о «разумности» законов природы. Эти законы применялись к отдельному человеку и к обществу, в котором этот человек жил.
Поскольку просветители считали, что «разумный человек» всегда сможет найти свое место в жизни, то и художественное изображение конфликтов было связано с такой установкой. Просветители намеренно создавали сложные ситуации, в которых герой мог бы проявить всю силу своего разума. Они помещали его на необитаемый остров, где человеку грозила если не смерть, то потеря человеческого облика («Робинзон Крузо» Д. Дефо); заставляли его исповедовать заведомо неверную философскую концепцию («Кандид» Вольтера). Из всех этих сложных ситуаций герой выходил победителем и получал заслуженную награду, если он руководствовался разумом, смело боролся за свое счастье. По существу, просветители утверждали активную позицию человека по отношению к окружающему его миру. Их взгляды на человеческое общество защищали принцип свободной конкуренции между людьми.
Существенным отличием классицизма эпохи Просвещения было стремление писателей отразить жизнь в правдоподобных формах. Несмотря на сложность ситуаций, в которые попадают герои, это вполне реальные, возможные ситуации. Сложность положения героев заключается в том, что общество, окружающее их, живет не по «разумным» законам природы, а по законам надуманным, ложным. Стремясь показать идеального героя, чей разум разрушает все преграды, просветители критически изображали современную им действительность. Писатели-просветители искренне верили в торжество разума, в то, что буржуазия, чью идеологию они выражали, сумеет изменить общество и создать государство, основанное на принципах свободы, равенства и братства. Это определило оптимистичность идейного звучания просветительской литературы и некоторую искусственность в разрешении социальных конфликтов.
Джозеф Аддисон и Ричард Стиль
Публицистика
Сегодня трудно представить себе общественную жизнь без журналистики. Журналистов называют «четвертой властью», к их суждениям прислушиваются ученые, политики, деятели искусства. Нелегко поверить, что журналистика возникла всего триста лет назад. В самом начале XVIII века два друга, познакомившиеся еще в колледже, придумали и стали издавать в Англии первый «журнал» – «Болтун». Звали этих друзей Джозеф Аддисон и Ричард Стиль.
Вы заметили, что слово «журнал» мы взяли в кавычки? Дело в том, что «Болтун», издававшийся в 1709–1711 годах, и последовавшие за ним «Зритель», «Опекун», «Англичанин» и др. очень мало походили на современные журналы. Скорее они напоминали газеты, состоявшие часто из одной-единственной статьи или «письма». Но это были прообразы именно журналов. Дж. Аддисон и Р. Стиль отказались в своих изданиях от сообщения читателям свежих новостей, а вместо этого предложили свободное рассуждение на волнующие их темы. Они создали жанр сатирико-нравоучительного эссе (очерка). Обратите внимание на название их первого журнала. Есть свежая новость, волнующая англичан проблема или нет ничего очень важного, но каждое утро журнал приходит «поболтать» с читателем.
«Я буду публиковать каждое утро листок с размышлениями на благо современников, и если я могу сколько-нибудь способствовать развлечению или преуспеванию страны, в которой живу, то я оставлю ее, когда буду призван из нее, с тайным чувством удовлетворения, что жил недаром», – писал в первом номере «Болтуна» Дж. Аддисон. Заметьте, автор ставит рядом слова «развлечение» и «преуспевание страны». В этом и был секрет сатирико-нравоучительного эссе. О самых серьезных проблемах журналисты рассуждали весело и занимательно, а легкая беседа «ни о чем» всегда содержала в себе просветительское поучение. Так был найден ключ к формированию общественного мнения, так родилась журналистика.
Дж. Аддисон и Р. Стиль очень напоминают современных журналистов. Они не чуждались мистификации: большинство якобы полученных ими «писем» выпели из-под пера создателей журнала. Они неутомимо искали сенсационные материалы: так, Р. Стиль опубликовал эссе об оставленном на необитаемом острове моряке Александре Селькирке, и эта история вдохновила Д. Дефо на создание его знаменитого романа о Робинзоне. Иногда журналисты вступали в полемику с правительством и даже поучали министров.
Эпоха Просвещения с ее рационализмом и дидактичностью остро нуждалась в журналистике, поэтому художественные открытия Дж. Аддисона и Р. Стиля нашли горячий отклик не только в Англии, но и в других странах, где стали издаваться сатирико-нравоучительные журналы.
В России последователями английских журналистов стали выдающиеся писатели-просветители Н. И. Новиков, Д. И. Фонвизин и даже императрица Екатерина Великая.
Вам предстоит сейчас прочитать сатирико-нравоучительное эссе из журнала «Зритель», написанное в форме «письма в редакцию». Авторы используют прием аллегории для того, чтобы объяснить читателю свой взгляд на культурные традиции разных народов, отражающиеся в национальных языках. Они высмеивают увлечение схоластикой (обратите внимание на образ «старых чудаков-ботаников») и невежество тех, кто замыкается в рамках одной национальной культуры (создатели гербария). В то же время они отстаивают истинно просветительский взгляд на образование и культуру, предлагая читателю удивительно понятный и смелый аллегорический образ апельсинового дерева. Попробуйте сами сформулировать выводы из прочитанного эссе.
Зритель Перевод В. Папсуева
Вторник, 2 августа, 1712 год
№ 455
Господин Зритель,
прогуливаясь на днях в одном прекрасном саду, я обратил внимание на то, насколько ухоженными и приятными на вид стали некогда дикие цветы и растения. И я – что вполне естественно – не мог не задуматься о пользе, которую приносит людям образование, и о том благе, которое несет с собой современная культура. Как много хороших своих качеств теряет разум человека без надлежащего ухода за ним и умелого его использования. Как много добродетельных порывов заглушаются сорняками, в окружении которых они вынуждены жить и страдать. Как печально, что нежные побеги умирают и не приносят никакой пользы лишь оттого, что произрастали они не на благоприятной почве. Как редко зерна нравственности дают благородные плоды, которые мы вправе от них ожидать, из-за отсутствия надлежащего сдабривания удобрениями, необходимых прививок и чуткого присмотра за первыми проявлениями жизни и нежными ростками наших наклонностей.
Подобные размышления привели меня к выводу, что после того, как человек появляется на свет, разум его как бы проходит стадии развития, свойственные растениям. У грудных младенцев разум еще спит крепким сном, и зерна его скрыты глубоко-глубоко. Лишь через некоторое время эти зерна начнут произрастать в виде первых листочков, иначе говоря, в виде разумных слов. И наступит время, когда появятся цветочки во всем многокрасочном великолепии юных фантазий, юного воображения. И, наконец, рождается плод: он еще зелен и, вполне возможно, неприятен на вкус. Срывать его еще не время; когда он полностью созреет благодаря соответствующему уходу и заботливому отношению к нему, он сам проявит себя во всех благородных начинаниях, относящихся к философии, математике, логическому мышлению и искусству спора. Подобные плоды, когда они достигают поры зрелости и становятся совсем спелыми, – прекрасная пища для человеческого ума.
Я продолжил размышлять о вышеупомянутых листочках разума и обнаружил, что среди них, равно как и в мире растений, существует огромное разнообразие. Я лицезрел гладкие, сочные итальянские листья, осиновые французские листья, находящиеся вечно в движении, греческие и латинские вечнозеленые листья, испанские листья мирта[184], английские дубовые листья, шотландские листочки чертополоха[185], немецкие и голландские колючие листья остролиста[186], польские и русские листья крапивы, не говоря уж об огромном количестве экзотических листьев из Азии, Африки и Америки. Увидел я и несколько растений, на которых росли листья, но им не дано было цвести и плодоносить: некоторые листья были прозрачные и хрупкие, хоть и правильной формы, другие – с дурным запахом и уродливые. Я подивился тем старым чудакам-ботаникам, кто провел почти всю свою жизнь, изучая увядшие египетские, коптские[187], армянские или китайские растения, а также тем, кто посвятил свою жизнь составлению гербария из листьев только одного дерева. Цветы этих растений одно время поражали разнообразием своих красок, запахов и форм, но большинство из них увяло с течением времени или же они превратились в однолетники[188]. Некоторые ученые-цветоводы сделали из них вечный объект для изучения, а торговцы цветами – средство для существования. И те, и другие совершенно равнодушны к плодам.
Время от времени какой-нибудь человек с богатой фантазией увлечется культивированием одного лишь тюльпана или же гвоздики. Но самым лучшим и восхитительным занятием мне представляется искусный отбор, подбор и соединение этих цветов в один пестрый букет, благоухающий подарок для леди. Ведь отдельно запах итальянских цветов, как и всех итальянских духов, чрезвычайно резкий и может привести к обмороку, запах французских цветов, хоть они и яркие, и пестрые, все-таки слишком слабый и томный, немецкие и северные[189] цветы почти не имеют или совсем не имеют никакого запаха, а иногда запах у них крайне неприятный.
У древних, видно, был секрет, как придать некоторым избранным цветам вечную красоту, цвет и прелестный запах. Такие избранники цветут и по сей день, и редко какие из современных цветов могут соперничать с ними. Цветы эти хороши в пору расцвета и радуют глаз, однако слишком явное обожание и преклонение перед ними можно рассматривать не иначе как болезнь. И действительно, редко сейчас можно встретить растение, у которого были бы, как у апельсинового дерева, одновременно и прекрасная яркая листва, благоухающие цветы и душистые живительные плоды.
Искренне Ваш…Вопросы и задания
1. Попробуйте подобрать к образам очерка цветовые характеристики.
2. Как используются в произведении образы листьев и цветов? Охарактеризуйте этот художественный прием.
Джонатан Свифт
Памфлеты
Создатель всемирно известных «Путешествий Гулливера» был удивительным человеком. Он занимал пост министра в английском правительстве, а потом оказался высланным в Ирландию, самую близкую и самую неспокойную английскую колонию. Священник англиканской церкви, назначенный настоятелем главного собора (Св. Патрика) в столице католической Ирландии, Свифт становится самым последовательным защитником ирландского народа, платившего ему огромной любовью и оберегавшего писателя от преследований Лондона.
Один из самых образованных людей своего времени (напоминаю, он жил и творил в первой половине XVIII века), истинный просветитель, Дж. Свифт очень любил жанр памфлета: сатирико-публицистического обличения общественных явлений и известных деятелей. Причем он одинаково свободно создавал свои памфлеты и в прозаической, и в стихотворной форме. Образность, точность и яркость выбранных слов и едкая ирония превратили памфлеты Дж. Свифта в грозное оружие, с помощью которого писатель повергал своих многочисленных врагов.
В памфлетах «Палка от метлы» Дж. Свифт использует аллегорию, чтобы обосновать любимую просветителями мысль о «естественном человеке». Внешне памфлет писателя очень похож на эссе из «Зрителя», с которым вы только что познакомились. Но, сравнив эти два произведения, вы легко увидите, что памфлет содержит гневную, безжалостную насмешку в отличие от доброжелательного, снисходительного юмора нравоучительного эссе. Свифт прибегает к злым, обидным сравнениям: парик – метла, поклон – постановка естества с ног на голову и пр. Более того, по мнению Свифта, если метла выметает грязь, то человек лишь вбирает ее в себя, ничуть не очищая мир от скверны.
Резкость суждений писателя вызвана беспокойством за будущее человечества, в своей гордыне возомнившего себя богом и посягнувшего на «исправление» созданной истинным Богом природы.
Стихотворный памфлет «Путь поэзии» содержит не только насмешку над продажными литераторами, но и пародирует популярные в начале века нормативные поэтики. Свифт считает, что научиться быть талантливым нельзя. Он также очень хорошо знает, что «творчество по заказу» убивает талант. Лишь внутренняя свобода, по мнению Свифта, рождает подлинное искусство, и она же делает ненужными любые теоретические наставления.
Обратите внимание на название памфлета и задумайтесь, какой «путь» имеет в виду автор. Заметьте и характерную для Свифта ловушку, которую он готовит своим читателям: если памфлет отрицает смысл «поэтических наставлений», то как следует относиться к наставлению, содержащемуся в самом памфлете?
Главное достоинство любого произведения Дж. Свифта заключается в том, что он, не навязывая своего мнения читателю, порой опровергая самого себя, заставляет задуматься над прочитанным и найти свое решение поставленной писателем проблемы.
Размышления о палке от метлы Перевод М. Шершневской
Эту одинокую палку, что ныне видите вы бесславно лежащей в забытом углу, я некогда знавал цветущим деревом в лесу. Была она полной соков, убрана листьями и украшена ветвями. А ныне тщетно хлопотливое искусство человека пытается соперничать с природой, привязывая пучок увядших прутьев к высохшему обломку. В лучшем случае она являет собою лишь полную противоположность тому, чем была прежде: выкорчеванное дерево – ветви на земле, корни в воздухе.
Ныне пользуется ею каждая замызганная девка для своей черной работы; и по капризу судьбы она обречена содержать в чистоте другие вещи, сама оставаясь в грязи. А затем, изношенную дотла на службе у горничных, выбрасывают ее вон либо употребляют ее в последний раз на растопку. И когда я смотрел на нее, то вздохнул и промолвил: истинно, и человек – это палка от метлы. Природа послала его в мир крепким и сильным, был он цветущим, и голова его была покрыта густыми волосами (сей прирожденной порослью этого мыслящего растения). И вот топор излишеств отсек его зеленые ветви, и стал он поблекшим обломком. Тогда он прибегает к искусству и надевает парик, тщеславясь противоестественной копной густо напудренных волос, которые никогда не росли на его голове. Но, право, если бы наша метла возымела желание выступить перед нами, гордясь похищенным у березы убором, который никогда не украшал ее прежде, вся в пыли, даже если то сор из покоев прелестнейшей дамы, как бы смеялись мы над ней и презирали ее тщеславие, мы – пристрастные судьи собственных достоинств и чужих недостатков!
Но, пожалуй, скажете вы, палка метлы лишь символ дерева, перевернутого вниз головою. Подождите, что же такое человек, как не существо, стоящее на голове? Его животные наклонности постоянно одерживают верх над разумными, а голова его пресмыкается во прахе – там, где надлежит быть его каблукам. И все же, при всех своих недостатках, он провозглашает себя великим преобразователем мира и исправителем зла, устранителем всех обид; он копается в каждой грязной дыре естества, извлекая на свет открытые им пороки, и вздымает облака пыли там, где ее прежде не было, вбирая в себя те самые скверны, от которых он мнит очистить мир.
Свои последние дни растрачивает он в рабстве у женщин, и притом наименее достойных. И когда износит себя дотла, то, подобно брату своему, венику, выбрасывается вон либо употребляется на то, чтобы разжечь пламя, у которого могли бы погреться другие.
Путь поэзии Перевод Ю. Левина
Крестьянский гусь, кормами сытый, От непогод в хлеву укрытый, Изрядный накопив жирок, С трудом влезает на порог; Не торопясь, бредет напиться Воды из ближнего корытца; Сидит спокойно, не кричит, Затем, что зоб его набит. Но если гусь убогой пищи На опустелом поле ищет, Где воет ветер, хлещет дождь, Становится он худ и тощ; И, тело легкое подъемля На крыльях, презирая землю, Летит он с криком, и вокруг Несется мелодичный звук. Так и поэт, когда в уплату За рифмы получил он злато, Проводит ночи на пиру Среди собратьев по перу. Набив утробу пищей тучной, Раскормленный, ленивый, скучный, Средь сытости и изобилья Какой поэт расправит крылья? Какой поэт сумеет петь, Пока во рту вино и снедь? Да и Пегас[190] теперь на небо Не унесет питомца Феба[191]: Узнав, что ноша нелегка, Конь наземь сбросит седока. Но ждут поэта перемены. Он пьет лишь воды Иппокрены[192], Растратил деньги, и кредит На сыр и эль ему закрыт. До дырок износилось платье, Кафтан – заплата на заплате, И пустота на пустоте В мошне, в кармане, в животе, А тело, точно у жокея, Что день – то легче и худее. Но гордый дух, отвергнув тлен, Еды и платья грубый плен, Стремится ввысь, как пар от влаги, На легких крыльях из бумаги, Пари́т-поет, поет-пари́т он, И звон несется над Граб-стритом[193].Вопросы и задания
1. Какие человеческие пороки осуждает писатель?
2. Как в памфлетах Свифта используются ирония и сарказм?
3. Почему автор считает, что поэт должен быть бедным?
4. Почему оба памфлета Свифт строит на основе сравнения?
5. Охарактеризуйте жанр памфлета.
Вольтер
Вольтер – это псевдоним Мари Франсуа Аруэ, признанного лидера европейского Просвещения, крупного ученого и общественного деятеля, философа, театрального режиссера, драматурга, поэта. Вот видите, сколько талантов было у этого человека! Не случайно его имя гремело по всей Европе. Прусский король Фридрих Великий называл себя его учеником, русская императрица Екатерина II вела с ним переписку, а Александр Сергеевич Пушкин с детства зачитывался его произведениями.
Вольтер был одним из авторов «Энциклопедии», многотомного издания, включавшего в себя все наиболее передовые идеи и научные сведения, известные в XVIII веке. Драмы Вольтера с успехом шли во французских театрах, а его стихотворения и знаменитая поэма «Орлеанская девственница» снискали ему славу крупного поэта.
Но в творческом наследии писателя есть еще и небольшой томик совершенно особых произведений. Называется эта книга «Философские повести». Определить их жанр довольно трудно. Сам Вольтер, когда его упрекали в отступлении от законов классицизма, говорил, что это философские сочинения. Но в ответ на замечания о легковесности философских доказательств возражал, утверждая, что это – литература. Впрочем, Вольтер довольно часто такими противоречивыми суждениями стремился обезопасить себя от критики, поэтому не все его слова нужно принимать всерьез. Он слишком часто посмеивался над своими читателями.
Что же такое «Философские повести», с одной из которых вам предстоит сейчас познакомиться? Правильнее всего будет определить жанр этих произведений как философскую параболу.
Парабола – достаточно редкий в литературе жанр, получивший развитие лишь в XX веке. Это иносказательное повествование, родственное басне и притче, но отличающееся от них многозначностью истолкования заключенных в нем образов.
Вот, например, «Кандид» Вольтера. Писатель создал его как продолжение начатой ранее полемики с философом Лейбницем. Лейбниц был создателем философии оптимизма, и в образе Панглоса Вольтер последовательно высмеивает мысль о том, что «все творится к лучшему в этом лучшем из миров». Казалось бы, все ясно. Но Вольтер столь же последовательно развенчивает в «Кандиде» и философа Мартена, выразителя философии пессимизма. Может быть, у Вольтера есть свое компромиссное решение? «Кандид» завершается загадочной фразой: «Но надо возделывать наш сад». Это типичная для параболы концовка. Многие поколения людей искали истолкования этой фразы. Давайте и мы с вами не останемся в стороне!
Попробуйте-ка объяснить значение этой концовки.
Есть в «Кандиде» еще один очень важный эпизод, связанный с описанием фантастической страны Эльдорадо. На первый взгляд это еще один вариант литературной утопии, художественного воплощения идеальной страны и идеальных человеческих отношений. Но и здесь слишком доверчивого читателя подстерегает опасность: не просто так герои, покинув Эльдорадо, теряют вывезенные оттуда богатства. Это еще одно иносказание, допускающее неоднозначное истолкование.
Произведение Вольтера названо именем главного героя.
Подумайте, какова роль Кандида в этом произведении и почему писатель наделяет своего героя столь явным простодушием.
Кандид, или оптимизм. Главы из романа Перевод Ф. Сологуба
Перевод с немецкого доктора Ральфа с добавлениями, которые были найдены в кармане у доктора, когда он скончался в Миндене в лето благодати Господней 1759.
Глава первая Как был воспитан в прекрасном замке Кандид и как он был оттуда изгнан
В Вестфалии, в замке барона Тундертен-Тронка, жил юноша, которого природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он – сын сестры барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной силой времени.
Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи становились егерями; деревенский священник был его великим милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньером и смеялись, когда он рассказывал о своих приключениях.
Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос[194] был оракулом дома, и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста и характера.
Панглос преподавал метафизико-теолого-космолого-нигологию. Он замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс.
– Доказано, – говорил он, – что все таково, каким должно быть; так как все создано сообразно цели, то все необходимо и создано для наилучшей цели. Вот, заметьте, носы созданы для очков, потому мы и носим очки. Ноги, очевидно, назначены для того, чтобы их обувать, вот мы их и обуваем. Камни были сотворены для того, чтобы их тесать и строить из них замки, и вот монсеньер владеет прекраснейшим замком; у знатнейшего барона всего края должно быть наилучшее жилище. Свиньи созданы, чтобы их ели, – мы едим свинину круглый год. Следовательно, те, которые утверждают, что все хорошо, говорят глупость, – нужно говорить, что все к лучшему.
Кандид слушал внимательно и верил простодушно: он находил Кунигунду необычайно прекрасной, хотя никогда и не осмеливался сказать ей об этом. Он полагал, что, после счастья родиться бароном Тундертен-Тронком, вторая степень счастья – это быть Кунигундой, третья – видеть ее каждый день и четвертая – слушать учителя Панглоса, величайшего философа того края и, значит, всей земли…
Глава вторая Что произошло с Кандидом у болгар
Кандид, изгнанный из земного рая, долгое время шел, сам не зная куда, плача, возводя глаза к небу и часто их обращая к прекраснейшему из замков, где жила прекраснейшая из юных баронесс. Он лег спать без ужина посреди полей, между двумя бороздами; снег падал большими хлопьями. На другой день Кандид, весь иззябший, без денег, умирая от голода и усталости, дотащился до соседнего города, который назывался Вальдбергхоф-Трарбкдикдорф. Он печально остановился у двери кабачка. Его заметили двое в голубых мундирах.
– Приятель, – сказал одни, – вот статный молодой человек, да и рост у него подходящий.
Они подошли к Кандиду и очень вежливо пригласили его пообедать.
– Господа, – сказал им Кандид с милой скромностью, – вы оказываете мне большую честь, но мне нечем расплатиться.
– Ну, – сказал ему один из голубых, – такой человек, как вы, не должен платить; ведь ростом-то вы будете пять футов и пять дюймов?
– Да, господа, мой рост действительно таков, – сказал Кандид с поклоном.
– Садитесь же за стол. Мы не только заплатим за вас, но еще и позаботимся, чтобы вы впредь не нуждались в деньгах. Люди на то и созданы, чтобы помогать друг другу.
– Верно, – сказал Кандид, – это мне и Панглос всегда говорил, и я сам вижу, что все к лучшему.
Ему предложили несколько экю. Он их взял и хотел внести свою долю, ему не позволили и усадили за стол.
– Вы, конечно, горячо любите?..
– О да, – отвечал он, – я горячо люблю Кунигунду.
– Нет, – сказал один из этих господ, – мы вас спрашиваем, горячо ли вы любите болгарского короля?
– Вовсе его не люблю, – сказал Кандид. – Я же его никогда не видел.
– Как! Он – милейший из королей, и за его здоровье необходимо выпить.
– С большим удовольствием, господа! И он выпил.
– Довольно, – сказали ему, – вот теперь вы опора, защита, заступник, герой болгар. Ваша судьба решена и слава обеспечена.
Тотчас ему надели на ноги кандалы и угнали в полк. Там его заставили поворачиваться направо, налево, заряжать, прицеливаться, стрелять, маршировать и дали ему тридцать палочных ударов. На другой день он проделал упражнения немного лучше и получил всего двадцать ударов. На следующий день ему дали только десять, и товарищи смотрели на него как на чудо.
Кандид, совершенно ошеломленный, не мог взять в толк, как это он сделался героем. В один прекрасный весенний день он вздумал прогуляться и пошел куда глаза глядят, полагая, что пользоваться ногами в свое удовольствие – неотъемлемое право людей, так же как и животных. Но не прошел он и двух миль, как четыре других героя, по шести футов ростом, настигли его, связали и отвели в тюрьму. Его спросили, строго следуя судебной процедуре, что он предпочитает: быть ли прогнанным сквозь строй тридцать шесть раз или получить сразу двенадцать свинцовых пуль в лоб. Как он ни уверял, что его воля свободна и что он не желает ни того, ни другого, – пришлось сделать выбор. Он решился, в силу Божьего дара, который назывался свободой, пройти тридцать шесть раз сквозь строй; вытерпел две прогулки. Полк состоял из двух тысяч солдат, что составило для него четыре тысячи палочных ударов, которые от шеи до ног обнажили его мышцы и нервы. Когда хотели приступить к третьему прогону, Кандид, обессилев, попросил, чтобы уж лучше ему раздробили голову; он добился этого снисхождения. Ему завязали глаза, его поставили на колени. В это время мимо проезжал болгарский король; он спросил, в чем вина осужденного на смерть; так как этот король был великий гений, он понял из всего доложенного ему о Кандиде, что это молодой метафизик, не сведущий в делах света, и даровал ему жизнь, проявив милосердие, которое будет прославляемо во всех газетах до скончания века. Искусный костоправ вылечил Кандида в три недели смягчающими средствами, указанными Диоскоридом[195]. У него уже стала нарастать новая кожа и он уже мог ходить, когда болгарский король объявил войну королю аваров[196].
Глава третья Как спасся Кандид от болгар и что вследствие этого произошло
Что может быть прекраснее, подвижнее, великолепнее и слаженнее, чем две армии! Трубы, дудки, гобои, барабаны, пушки создавали музыку столь гармоничную, какой не бывает и в аду. Пушки уложили сначала около шести тысяч человек с каждой стороны; потом ружейная перестрелка избавила лучший из миров не то от девяти, не то от десяти тысяч бездельников, осквернявших его поверхность. Штык также был достаточной причиной смерти нескольких тысяч человек. Общее число достигало тридцати тысяч душ. Кандид, дрожа от страха, как истый философ, усердно прятался во время этой героической бойни…
Все время шагая среди корчащихся тел или пробираясь по развалинам, Кандид оставил наконец театр войны, сохранив немного провианта в своей сумке и непрестанно вспоминая Кунигунду.
Когда он пришел в Голландию, запасы его иссякли, но он слышал, будто в этой стране все богаты и благочестивы, и не сомневался, что с ним будут обращаться не хуже, чем в замке барона, прежде чем он был оттуда изгнан из-за прекрасных глаз Кунигунды.
Он попросил милостыни у нескольких почтенных особ, и все они ответили ему, что если он будет и впредь заниматься этим ремеслом, то его запрут в исправительный дом и уж там научат жить.
Потом он обратился к человеку, который только что битый час говорил в большом собрании о милосердии. Этот проповедник, косо посмотрев на него, сказал:
– Зачем вы сюда пришли? Есть ли у вас на это уважительная причина?
– Нет следствия без причины, – скромно ответил Кандид. – Все связано цепью необходимости и устроено к лучшему. Надо было, чтобы я был разлучен с Кунигундой и изгнан, чтобы я прошел сквозь строй и чтобы сейчас выпрашивал на хлеб в ожидании, пока не смогу его заработать; все это не могло быть иначе.
– Мой друг, – сказал ему проповедник, – верите ли вы, что папа – антихрист?
– Об этом я ничего не слышал, – ответил Кандид, – но антихрист он или нет, у меня нет хлеба.
– Ты не достоин есть его! – сказал проповедник. – Убирайся, бездельник, убирайся, проклятый, и больше не приставай ко мне.
Жена проповедника, высунув голову из окна и обнаружив человека, который сомневался в том, что папа – антихрист, вылила ему на голову полный… О, небо! До каких крайностей доводит женщин религиозное рвение!
Человек, который не был крещен, добросердечный анабаптист[197] по имени Яков, видел, как жестоко и постыдно обошлись с одним из его братьев, двуногим существом без перьев, имеющим душу; он привел его к себе, пообчистил, накормил хлебом, напоил пивом, подарил два флорина и хотел даже пристроить на свою фабрику персидских тканей, которые выделываются в Голландии.
Кандид, низко кланяясь ему, воскликнул:
– Учитель Панглос верно говорил, что все к лучшему в этом мире, потому что я неизмеримо более тронут вашим чрезвычайным великодушием, чем грубостью господина в черной мантии и его супруги.
На следующий день, гуляя, он встретил нищего, покрытого гнойными язвами, с потускневшими глазами, искривленным ртом, провалившимся носом, гнилыми зубами, глухим голосом, измученного жестокими приступами кашля, во время которых он каждый раз выплевывал по зубу.
Глава четвертая Как встретил Кандид своего прежнего учителя философии, доктора Панглоса, и что из этого вышло
Кандид, чувствуя больше сострадания, чем ужаса, дал этому похожему на привидение страшному нищему те два флорина, которые получил от честного анабаптиста Якова. Нищий пристально посмотрел на него, залился слезами и бросился к нему на шею. Кандид в испуге отступил.
– Увы! – сказал несчастливец другому несчастливцу, – вы уже не узнаете вашего дорогого Панглоса?
– Что я слышу? Вы, мой дорогой учитель, вы в таком ужасном состоянии! Какое же несчастье вас постигло? Почему вы не в прекраснейшем из замков? Что сделалось с Кунигундой, жемчужиной среди девушек, лучшим творением природы?
– У меня нет больше сил, – сказал Панглос.
Тотчас же Кандид отвел его в хлев анабаптиста, накормил хлебом и, когда Панглос подкрепился, снова спросил:
– Что же с Кунигундой?
– Она умерла, – ответил тот.
Кандид упал в обморок от этих слов; друг привел его в чувство с помощью нескольких капель уксуса, который случайно отыскался в хлеву. Кандид открыл глаза.
– Кунигунда умерла! Ах, лучший из миров, где ты? Но от какой болезни она умерла? Не оттого ли, что видела, как я был изгнан из прекрасного замка ее отца здоровым пинком?
– Нет, – сказал Панглос, – она была замучена болгарскими солдатами…
Глава пятая Буря, кораблекрушение, землетрясение и что случилось с доктором Панглосом, Кандидом и анабаптистом Яковом
Половина пассажиров, ослабевших, задыхающихся в той невыразимой тоске, которая приводит в беспорядок нервы и все телесное устройство людей, бросаемых качкою корабля во все стороны, не имела даже силы тревожиться за свою судьбу. Другие пассажиры кричали и молились. Паруса были изорваны, мачты сломаны, корабль дал течь. Кто мог, работал, никто никому не повиновался, никто не отдавал приказов. Анабаптист пытался помочь в работе: он был на палубе; какой-то разъяренный матрос сильно толкнул его и сшиб с ног, но при этом сам потерял равновесие, упал за борт вниз головою и повис, зацепившись за обломок мачты. Добрый Яков бросается ему на помощь, помогает взобраться на палубу, но, не удержавшись, сам низвергается в море на глазах у матроса, который оставляет его погибать, не удостоив даже взглядом. Кандид подходит ближе, видит, что его благодетель на одно мгновение показывается на поверхности и затем навеки погружается в волны. Кандид хочет броситься в море, философ Панглос его останавливает, доказывая ему, что Лиссабонский рейд на то и был создан, чтобы этот анабаптист здесь утонул. Пока он это доказывал a priori[198], корабль затонул, все погибли, кроме Панглоса, Кандида и того грубого матроса, который утопил благодетельного анабаптиста. Негодяй счастливо доплыл до берега, куда Панглос и Кандид были выброшены на доске.
Немного придя в себя, они направились к Лиссабону; у них остались еще деньги, с помощью которых они надеялись спастись от голода, после того как избавились от бури.
Едва успели они войти в город, оплакивая смерть своего благодетеля, как вдруг почувствовали, что земля дрожит под их ногами. Море в порту, кипя, поднимается и разбивает корабли, стоящие на якоре: вихри огня и пепла бушуют на улицах и площадях; дома рушатся; крыши падают наземь, стены рассыпаются в прах. Тридцать тысяч жителей обоего пола и всех возрастов погибли под развалинами. Матрос говорил, посвистывая и ругаясь:
– Здесь будет чем поживиться.
– Хотел бы я знать достаточную причину этого явления, – говорил Панглос.
– Наступил конец света! – восклицал Кандид. Матрос немедля бежит к развалинам, бросая вызов смерти, чтобы раздобыть денег, находит их, завладевает ими, напивается пьяным и, проспавшись, покупает благосклонность первой попавшейся девицы, встретившейся ему между разрушенных домов, среди умирающих и мертвых. Тут Панглос потянул его за рукав.
– Друг мой, – сказал он ему, – это нехорошо, вы пренебрегаете всемирным разумом, вы дурно проводите ваше время.
– Кровь и смерть! – отвечал тот. – Я матрос и родился в Батавии; я четыре раза топтал распятие в четырех японских деревнях, так мне ли слушать о твоем всемирном разуме!
Несколько осколков камня ранили Кандида; он упал посреди улицы, и его засыпало обломками. Он говорил Панглосу:
– Вот беда! Дайте мне немного вина и оливкового масла, я умираю.
– Хорошо, но землетрясение совсем не новость, – отвечал Панглос. – Город Лима в Америке испытал такое же в прошлом году; те же причины, те же следствия; несомненно, под землею от Лимы до Лиссабона существует серная залежь.
– Весьма вероятно, – сказал Кандид, – но, ради Бога, дайте мне немного оливкового масла и вина.
– Как «вероятно»? Я утверждаю, что это вполне доказано.
Кандид потерял сознание, и Панглос принес ему немного воды из соседнего фонтана.
На следующий день, бродя среди развалин, они нашли кое-какую еду и подкрепили свои силы. Потом они работали вместе с другими, помогая жителям, избежавшим смерти. Несколько горожан, спасенных ими, угостили их обедом, настолько хорошим, насколько это было возможно среди такого разгрома. Конечно, трапеза была невеселая, гости орошали хлеб слезами, но Панглос утешал гостей, уверяя, что иначе и быть не могло.
– Потому что, – говорил он, – если вулкан находится в Лиссабоне, то он и не может быть в другом месте; невозможно, чтобы что-то было не там, где должно быть, ибо все хорошо.
Маленький чернявый человечек, свой среди инквизиторов, сидевший рядом с Панглосом, вежливо сказал:
– По-видимому, вы, сударь, не верите в первородный грех, ибо, если все к лучшему, не было бы тогда ни грехопадения, ни наказания.
– Я усерднейше прошу прощения у вашей милости, – отвечал Панглос еще более вежливо, – но без радения человека и проклятия не мог бы существовать этот лучший из возможных миров.
– Вы, следовательно, не верите в свободу? – спросил чернявый.
– Ваша милость, извините меня, – сказал Панглос, – но свобода может сосуществовать с абсолютной необходимостью, ибо необходимо, чтобы мы были свободны, так как, в конце концов, обусловленная причинностью воля…
Панглос не успел договорить, как чернявый уже сделал знак головою своему слуге, который наливал ему вина, называемого «оппорто» или «порто».
Глава шестая Как было устроено прекрасное аутодафе[199], чтобы избавиться от землетрясений, и как был высечен Кандид
После землетрясения, которое разрушило три четверти Лиссабона, мудрецы страны не нашли способа более верного для спасения от окончательной гибели, чем устройство для народа прекрасного зрелища аутодафе. Университет в Коимбре постановил, что сожжение нескольких человек на малом огне, но с большой церемонией есть, несомненно, верное средство остановить содрогание земли.
Вследствие этого схватили одного бискайца, уличенного в том, что он женился на собственной куме, и двух португальцев, которые срезали сало с цыпленка, прежде чем его съесть. Были схвачены сразу после обеда доктор Панглос и его ученик Кандид, один за то, что говорил, другой за то, что слушал с одобрительным видом. Обоих порознь отвели в чрезвычайно прохладные помещения, обитателей которых никогда не беспокоило солнце. Через неделю того и другого одели в санбенито[200] и увенчали бумажными митрами. Митра и санбенито Кандида были расписаны опрокинутыми огненными языками и дьяволами, у которых, однако, не было ни хвостов, ни когтей; дьяволы же Панглоса были хвостатые и когтистые, и огненные языки стояли прямо. В таком одеянии они прошествовали к месту казни и выслушали очень возвышенную проповедь под прекрасные звуки заунывных песнопений. Кандид был высечен в такт пению, бискаец и те двое, которые не хотели есть сало, были сожжены, а Панглос был повешен, хотя это и шло наперекор обычаю. В тот же день земля с ужасающим грохотом затряслась снова.
Кандид, испуганный, ошеломленный, изумленный, весь окровавленный, весь дрожащий, спрашивал себя: «Если это лучший из возможных миров, то каковы же другие? Ну хорошо, пусть меня высекли, это уже случилось со мной у болгар; но, мой дорогой Панглос, величайший из философов, почему было нужно, чтобы вас при мне вздернули на виселицу неведомо за какую вину? О мой дорогой анабаптист, лучший из людей, почему было нужно вам утонуть в этой гавани? О Кунигунда, жемчужина среди девушек, почему было нужно, чтобы вам распороли живот?»
Покаявшийся, высеченный розгами, получивший отпущение грехов и благословение, он шел, еле держась на ногах, когда к нему подошла старуха и сказала ему:
– Сын мой, ободритесь, идите за мной.
Глава седьмая Как старуха заботилась о Кандиде и как он нашел то, что любил
Кандид не ободрился, но пошел за старухой в какой-то ветхий домишко. Она дала ему горшок мази, чтобы натираться, принесла есть и пить и уложила его на маленькую, довольно чистую кровать. Подле кровати лежало новое платье.
– Ешьте, пейте, спите, – сказала она ему, – да сохранит вас Аточская Божья Матерь, святой Антоний Падуанский и святой Иаков Компостельский. Я вернусь завтра.
Кандид, весьма удивленный всем, что он видел, всем, что он выстрадал, и еще более милосердием старухи, хотел поцеловать ей руку.
– Не мою руку надо целовать, – сказала старуха. – Завтра я опять приду. Натритесь хорошенько мазью, ешьте и спите.
Кандид, несмотря на все свои несчастья, поел и уснул. На следующий день старуха приносит завтрак, осматривает ему спину, натирает ее сама другой мазью, потом приносит обед; снова приходит вечером и приносит ужин. На третий день она проделывает то же самое.
– Кто вы? – непрестанно спрашивал ее Кандид. – Почему вы так добры? Чем я могу вас отблагодарить?
Старуха ничего ему не отвечала. Но вот она возвращается однажды вечером и не приносит ужина.
– Идите за мной, – говорит она, – и не произносите ни слова.
Она берет его под руку и идет с ним в деревню за четверть мили от города. Они приходят в уединенный дом, окруженный садом и каналами. Старуха стучит в маленькую дверь. Ей открывают; она ведет Кандида потайною лестницей в раззолоченный кабинет, оставляет его на парчовом диване, закрывает дверь и уходит. Кандиду казалось, что он грезит; вся его жизнь казалась ему страшным сном, а эта минута – сном приятным.
Старуха скоро возвратилась. Она вела, с трудом поддерживая, трепещущую женщину могучего сложения, блистающую драгоценными камнями, покрытую вуалью.
– Сними с нее покрывало, – сказала старуха Кандиду. Молодой человек приближается; робкою рукою он снимает покрывало. Какая минута! Какая неожиданность! Ему кажется, будто он видит Кунигунду. Он видит ее на самом деле, это она. Силы оставляют его, он не может произнести ни слова, он падает к ее ногам. Кунигунда падает на диван. Старуха спрыскивает их водой со спиртом. Они приходят в чувство, они начинают говорить друг с другом. Сперва это отрывочные слова, вопросы и ответы, которые перекрещиваются, вздохи, слезы, восклицания. Старуха просит их поменьше шуметь и оставляет одних.
– Как, это вы? – говорил ей Кандид. – Вы живы! Я обрел вас в Португалии! Значит, вы не были обесчещены? Вам не вспороли живот, как уверял меня философ Панглос?
– Все так и было, – сказала прекрасная Кунигунда. – Но не всегда эти несчастные происшествия приводят к смерти.
– Но ваш отец и ваша мать убиты?
– Увы, это верно, – сказала Кунигунда, плача.
– А ваш брат?
– Мой брат тоже убит.
– Но почему вы в Португалии? Как узнали, что я здесь? И по какой странной случайности меня привезли в этот дом?
– Я вам все расскажу, – сказала она, – но сначала расскажите мне вы все, что случилось с вами после невинного поцелуя, который вы мне дали, и пинков, которые получили.
Кандид почтительно исполнил ее желание; и хотя он был смущен, хотя голос у него был слабый и дрожащий, хотя спину у него ломило, но он рассказал простосердечнейшим образом все, что испытал с мгновения их разлуки. Кунигунда возводила глаза к небу и проливала слезы о смерти доброго анабаптиста и Панглоса. Потом вот что она рассказала Кандиду, который глотал каждое ее слово и пожирал ее глазами…
Глава десятая Как несчастливо Кандид, Кунигунда и старуха прибыли в Кадикс и как они сели на корабль
…Кандид, Кунигунда и старуха поехали через Лусену, Хилью, Лебриху и добрались наконец до Кадикса. Там снаряжали в это время флот и собирали войско, чтобы проучить преподобных отцов иезуитов в Парагвае, которых обвиняли в том, что они подняли одну из своих орд близ города Сан-Сакраменто против испанского и португальского королей.
Кандид недаром служил у болгар, – он показал генералу маленькой армии все болгарские воинские приемы с таким изяществом, ловкостью, проворством, живостью, легкостью, что ему сразу дали командовать ротой пехоты.
И вот он – капитан; он садится на корабль вместе с Кунигундою, старухою, двумя слугами и двумя андалузскими лошадьми, которые принадлежали великому инквизитору Португалии.
Во время этого переезда они много рассуждали о философии бедного Панглоса.
– Мы едем в Новый Свет, – говорил Кандид, – и в нем-то, без сомнения, все хорошо; ведь невозможно не посетовать на телесные и душевные страдания, которые приходится претерпевать в нашей части света.
– Я люблю вас всем сердцем, – сказала Кунигунда, – но моя душа истомлена тем, что я видела, тем, что испытала.
– Все будет хорошо, – возразил Кандид. – Уже и море этого нового мира лучше морей нашей Европы: оно спокойнее, и ветры постояннее. Конечно, Новый Свет – самый лучший из возможных миров.
– Дай-то Бог, – сказала Кунигунда, – но я была так несчастна в нашем прежнем мире, что мое сердце почти закрылось для надежды…
Глава тринадцатая Как Кандид был принужден разлучиться с Кунигундой и со старухой
– Очень жаль, – говорил Кандид, – что мудрый Панглос, вопреки обычаю, был повешен во время аутодафе; он изрек бы нам удивительные слова о физическом и нравственном зле, которые царят на земле и на море, и у меня хватило бы смелости почтительно сделать ему несколько возражений.
А пока каждый рассказывал свою историю, корабль плыл все дальше, и вот они уже в Буэнос-Айресе. Кунигунда, капитан Кандид и старуха пошли к губернатору дону Фернандо д'Ибараа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос-и-Суса. Этот вельможа отличался необыкновенной надменностью, как и подобает человеку, носящему столько имен. Он говорил с людьми так высокомерно, так задирал нос, так безжалостно повышал голос, что у всякого, кто имел с ним дело, возникало сильнейшее искушение поколотить его. Женщин он любил неистово. Кунигунда ему показалась прекраснее всех, когда-либо им виденных. Первым делом он спросил, не жена ли она капитана. Тон, которым был задан этот вопрос, встревожил Кандида. Он не осмелился сказать, что она его жена, потому что Кунигунда ею не была, но и назвать ее сестрой он тем более не смел; хотя эта невинная ложь некогда была очень в ходу у древних, да и в наше время может быть полезною, но его душа была слишком чиста, чтобы изменить истине.
– Девица Кунигунда, – сказал он, – согласилась оказать мне честь выйти за меня, и мы умоляем ваше превосходительство дать нам на это ваше благосклонное разрешение.
Дон Фернандо д'Ибараа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос-и-Суса горько улыбнулся, шевельнув усами, и приказал капитану Кандиду произвести смотр своей роте. Кандид повиновался; губернатор остался с Кунигундою… Он открыл ей свою страсть и объявил, что завтра женится на ней в церкви или как-нибудь иначе, до того он очарован ее прелестями.
Кунигунда попросила у него четверть часа, чтобы подумать, посоветоваться со старухою и на что-то решиться.
Старуха сказала Кунигунде:
– Барышня, у вас семьдесят два поколения предков и ни гроша за душой. Ничто не препятствует вам стать женою самого влиятельного человека во всей Южной Америке, у которого к тому же такие великолепные усы… Признаюсь, будь я на вашем месте, я не задумалась бы выйти за губернатора и помогла бы капитану Кандиду сделать карьеру.
Пока старуха говорила, выказывая благоразумие, даруемое годами и опытом, в гавань вошел маленький корабль; на нем были алькальд и альгуасилы, и вот что случилось дальше.
Старуха верно угадала, что это нечистый на руку кордельер украл деньги и драгоценности Кунигунды в городе Бадахосе, куда она поспешно бежала с Кандидом. Этот монах захотел продать несколько камней ювелиру. Купец признал в них собственность великого инквизитора. Кордельер, перед тем как его повесили, признался, что он их украл, описал тех, кого обворовал, и указал, куда они поехали. О бегстве Кунигунды и Кандида было уже известно. Их проследили до Кадикса; затем послали, не теряя времени, корабль в погоню за ними. И вот корабль был уже в гавани Буэнос-Айреса. Распространился слух, что алькальд скоро сойдет на берег и что он ищет убийц великого инквизитора. Благоразумная старуха вмиг смекнула, что делать.
– Вы не сможете бежать, – сказала она Кунигунде, – да вам и нечего бояться: не вы убили его преосвященство; кроме того, губернатор вас любит и не позволит, чтобы с вами дурно обошлись. Оставайтесь.
Она поспешно идет к Кандиду.
– Бегите, – говорит она ему, – или через час вы будете сожжены.
Нельзя было терять ни минуты, но как расстаться с Кунигундою и куда укрыться?
Глава четырнадцатая Как были приняты Кандид и Какамбо парагвайскими иезуитами
Кандид вывез из Кадикса одного из тех слуг, каких множество в Испании и ее колониях. В жилах его была едва четверть испанской крови; его отец был метис из Тукумана; сам он побывал и певчим в церковном хоре, и лакеем. Его звали Какамбо, и он очень любил своего хозяина, потому что его хозяин был очень добрый человек. Он проворно оседлал двух андалузских коней.
– Едемте, господин, последуем совету старухи, бежим без оглядки.
Кандид залился слезами.
– О моя дорогая Кунигунда! Приходится покинуть вас как раз в ту минуту, когда губернатор собирается устроить нашу свадьбу. Кунигунда, заброшенная так далеко от родины, что с вами станется?
– Как-нибудь да устроится, – ответил Какамбо. – Женщина нигде не пропадет. Господь о ней заботится. Бежим.
– Куда ты поведешь меня? Куда мы направимся? Как обойдемся без Кунигунды? – говорил Кандид.
– Клянусь святым Иаковом Компостельским, – сказал Какамбо, – вы собирались воевать против иезуитов, а теперь будете воевать вместе с ними; я неплохо знаю дорогу и проведу вас в их государство; они будут рады заполучить капитана, который прошел военную выучку у болгар; вы сделаете блестящую карьеру. Не нашли счастья в одном месте, ищите в другом. К тому же что может быть приятнее, чем видеть и делать что-то новое!
– Ты, значит, уже бывал в Парагвае? – спросил Кандид.
– А как же! – сказал Какамбо. – Я был сторожем в Асунсионской коллегии и знаю государство de los padres[201], как улицы Кадикса. Удивительное у них государство! Оно более трехсот миль в диаметре; разделено на тридцать провинций. Los padres владеют там всем, а народ ничем; не государство, а образец разума и справедливости. Что касается меня, то я в восторге от los padres: они здесь ведут войну против испанского и португальского королей, а в Европе их же исповедуют; здесь убивают испанцев, а в Мадриде им же даруют место в раю. Как тут не восхищаться! Вот увидите, вы будете там счастливейшим из людей. Как обрадуются los padres, когда у них появится капитан, знающий болгарскую службу!
Когда они подъехали к первой заставе, Какамбо сказал подошедшему часовому, что капитан желает переговорить с комендантом. Попели известить караульного начальника. Парагвайский офицер проворно побежал к коменданту и доложил о вновь прибывших. Сначала Кандида и Какамбо обезоружили, потом отобрали у них андалузских коней. Двух иностранцев провели между двумя шеренгами солдат; комендант ждал их; на нем была трехрогая шляпа, подвязанная ряса, шпага на боку, в руке эспонтон. Он подал знак; тотчас же двадцать пять солдат окружают наших путешественников. Сержант говорит им, что надо подождать, что комендант не может вести с ними переговоры, что преподобный отец провинциал запрещает говорить с испанцами иначе, как только в его присутствии, и не позволяет им оставаться более трех часов в стране.
– А где же преподобный отец провинциал? – спросил Какамбо.
– Он принимает парад после обедни, – ответил сержант, – и вы сможете поцеловать его шпоры только через три часа.
– Но господин капитан умирает от голода, да и я тоже, – сказал Какамбо. – Он вовсе не испанец, он немец: нельзя ли нам позавтракать до прибытия его преподобия?
Сержант тотчас же передал эти слова коменданту.
– Слава Богу! – воскликнул этот сеньор. – Если он немец, я имею право беседовать с ним; пусть его отведут в мой шалаш.
Кандида немедленно отвели в беседку из зелени, украшенную красивыми колоннами золотисто-зеленого мрамора и вольерами, в которых летали попугаи, колибри и самые редкостные птицы. В золотых чашах был приготовлен превосходный завтрак; когда парагвайцы сели посреди поля, на солнцепеке, есть маис из деревянных чашек, преподобный отец комендант вошел в беседку.
Он был молод и очень красив – полный, белолицый, румяный, с высоко поднятыми бровями, с быстрым взглядом, с розовыми ушами, с алыми губами, с гордым видом, – но гордость эта была не испанского или иезуитского образца. Кандиду и Какамбо вернули отобранное у них оружие, так же как и андалузских коней; Какамбо задал им овса у беседки и не спускал с них глаз, опасаясь неожиданностей.
Кандид сначала поцеловал край одежды коменданта, потом они сели за стол.
– Итак, вы – немец? – спросил иезуит по-немецки.
– Да, преподобный отец, – сказал Кандид.
Оба, произнося эти слова, смотрели друг на друга с чрезвычайным удивлением и волнением, которого не могли скрыть.
– Вы из какой части Германии? – спросил иезуит.
– Из грязной Вестфалии, – сказал Кандид. – Я родился в замке Тундертен-Тронк.
– О, небо! Возможно ли? – воскликнул комендант.
– Какое чудо! – воскликнул Кандид.
– Это вы? – спросил комендант.
– Это невероятно! – сказал Кандид.
Они бросаются один к другому, обнимаются, проливая ручьи слез.
– Как! Это вы, преподобный отец? Вы, брат Кунигунды! Вы, убитый болгарами! Вы, сын господина барона! Вы, парагвайский иезуит! Надо признать, что этот мир удивительно устроен. О Панглос, Панглос! Как бы вы были рады, если бы не были повешены.
Комендант велел уйти неграм-невольникам и парагвайцам, которые подавали питье в кубках из горного хрусталя. Он тысячу раз возблагодарил Бога и святого Игнатия; он сжимал Кандида в объятиях; их лица были орошены слезами.
– Вы будете еще более удивлены и растроганы, – сказал Кандид, – когда услышите, что ваша сестра, которая, как вы думаете, зарезана, госпожа Кунигунда, благополучно здравствует.
– Где?
– Неподалеку от вас, у губернатора в Буэнос-Айресе; а я прибыл в Новый Свет, чтобы воевать с вами.
Все, что они рассказывали друг другу в течение этой долгой беседы, несказанно дивило их. Их души говорили их устами, внимали их ушами, светились у них в глазах. Так как они были немцы, то, в ожидании преподобного отца провинциала, они не спешили выйти из-за стола; и вот что рассказал комендант своему дорогому Кандиду.
Глава пятнадцатая Как Кандид убил брата своей дорогой Кунигунды
– Всю жизнь я буду помнить ужасный день, когда при мне убили моих отца и мать и обесчестили сестру. После ухода болгар мою обожаемую сестру так нигде и не нашли; мать, отца, меня, двух служанок и трех маленьких зарезанных мальчиков положили на тележку и отправили для погребения в иезуитскую часовню, в двух милях от замка моих предков. Иезуит окропил нас святой водою; она была страшно солона; несколько капель попало мне в глаза; патер заметил, что веки мои дрогнули; он положил руку на мое сердце и почувствовал, что оно бьется; меня привели в сознание, и через три недели я выздоровел. Вы знаете, мой дорогой Кандид, как я был красив: я сделался еще красивее; поэтому преподобный отец Круст, тамошний настоятель, воспылал ко мне самой нежной дружбой; он сделал меня послушником, и немного спустя я был послан в Рим. Отцу генералу нужен был новый набор молодых иезуитов-немцев. Правители Парагвая не желали испанских иезуитов, они предпочитали иностранных, надеясь, что те будут покладистее. Преподобный отец генерал рассудил, что я подхожу для работы на этом винограднике. Нас отправилось трое: поляк, тиролец и я. По приезде я был удостоен сана иподьякона и чина лейтенанта; теперь я полковник и священник. Мы мужественно встретим войско испанского короля. Ручаюсь, что они будут разбиты и отлучены. Провидение посылает вас сюда, чтобы нам помочь. Но правда ли это, что моя дорогая сестра Кунигунда находится по соседству, у губернатора Буэнос-Айреса?
Кандид клятвенно заверил его, что так оно и есть. Они оба опять расплакались. Барон без конца обнимал Кандида; он называл его своим братом, своим спасителем.
– Ах, может быть, – сказал он ему, – мы вместе с вами, мой дорогой Кандид, войдем победителями в город и освободим мою сестру Кунигунду.
– Это предел моих желаний, – сказал Кандид, – потому что я надеялся и надеюсь жениться на ней.
– Вы нахал! – отвечал барон. – Как у вас хватает бесстыдства мечтать о браке с моей сестрой, которая насчитывает семьдесят два поколения предков? И вы еще имеете наглость рассказывать мне о столь дерзком плане!
Кандид, ошеломленный этой речью, отвечал ему:
– Преподобный отец, все поколения в мире ничего тут поделать не смогут; я вырвал вашу сестру из рук еврея и инквизитора, она многим мне обязана и хочет вступить со мною в брак. Учитель Панглос всегда говорил мне, что люди равны, и, конечно, я женюсь на ней.
– Это мы посмотрим, негодяй! – сказал иезуит барон Тундертен-Тронк и ударил Кандида шпагою плашмя по лицу. Кандид мигом выхватывает свою шпагу и погружает ее до рукоятки в живот барона-иезуита; но, вытащив ее оттуда, всю покрытую кровью, он принялся плакать.
– О Боже мой! – сказал он. – Я убил моего прежнего господина, моего друга, моего брата. Я добрейший человек на свете и тем не менее убил уже троих; из этих троих – двое священники.
Тут прибежал Какамбо, стоявший на страже у дверей беседки.
– Нам остается дорого продать свою жизнь, – сказал ему его господин. – Конечно, в беседку сейчас войдут. Надо умереть с оружием в руках.
Какамбо, который побывал в разных переделках, нисколько не растерялся; он схватил иезуитскую рясу барона, надел ее на Кандида, дал ему шляпу умершего и подсадил на лошадь. Все это было сделано в мгновение ока.
– Живее, сударь, все примут вас за иезуита, который едет с приказами, и мы переправимся через границу прежде, чем за нами погонятся.
С этими словами он помчался, крича по-испански:
– Дорогу, дорогу преподобному отцу полковнику!
Глава семнадцатая Прибытие Кандида и его слуги в страну Эльдорадо и что они там увидели
Когда они были уже за пределами земли орельонов, Какамбо сказал Кандиду:
– Видите, это полушарие ничуть не лучше нашего; послушайтесь меня, вернемся поскорее в Европу.
– Как нам вернуться туда, – сказал Кандид, – и куда? На моей родине болгары и авары режут всех подряд, в Португалии меня сожрут, а здесь мы ежеминутно рискуем попасть на вертел. Но как решиться оставить края, где живет Кунигунда?
– Поедемте через Кайенну, – сказал Какамбо, – там мы найдем французов, которые бродят по всему свету; быть может, они нам помогут. Должен же Господь сжалиться над нами.
Нелегко было добраться до Кайенны. Положим, они понимали, в каком направлении надо ехать; но горы, реки, пропасти, разбойники, дикари – повсюду их ждали устрашающие препятствия. Лошади пали от усталости; провизия была съедена; целый месяц они питались дикими плодами. Наконец они достигли маленькой речки, окаймленной кокосовыми пальмами, которые поддержали их жизнь и надежды.
Какамбо, который всегда давал такие же хорошие советы, как и старуха, сказал Кандиду:
– Мы не в силах больше идти, мы довольно отшагали; я вижу пустой челнок на реке, наполним его кокосовыми орехами, сядем в него и поплывем по течению. Река всегда ведет к какому-нибудь обитаемому месту. Если мы не найдем ничего приятного, то, по крайней мере, отыщем что-нибудь новое.
– Едем, – сказал Кандид, – и вручим себя провидению.
Они проплыли несколько миль меж берегов, то пологих, то крутых. Река становилась все шире; наконец она потерялась под сводом страшных скал, вздымавшихся до самого неба. Наши путешественники решились, вверив себя волнам, пуститься под скалистый свод. Река, стесненная в этом месте, понесла их с ужасающим шумом и быстротой. Через сутки они вновь увидели дневной свет, но их лодка разбилась о подводные камни; целую милю пришлось им перебираться со скалы на скалу; наконец перед ними открылась огромная равнина, окруженная неприступными горами. Земля была возделана так, чтобы радовать глаз и вместе с тем приносить плоды; все полезное сочеталось с приятным; дороги были заполнены, вернее, украшены изящными экипажами из какого-то блестящего материала; в них сидели мужчины и женщины редкостной красоты; большие красные бараны влекли эти экипажи с такой резвостью, которая превосходила прыть лучших коней Андалузии, Тетуана и Мекнеса.
– Вот, – сказал Кандид, – страна получше Вестфалии.
Они с Какамбо остановились у первой попавшейся им на пути деревни. Деревенские детишки в лохмотьях из золотой парчи играли у околицы в шары. Пришельцы из другой части света с любопытством глядели на них; игральными шарами детям служили крупные, округлой формы камешки, желтые, красные, зеленые, излучавшие странный блеск. Путешественникам пришло в голову поднять с земли несколько таких кругляшей; это были самородки золота, изумруды, рубины, из которых меньший был бы драгоценнейшим украшением трона Могола.
– Без сомнения, – сказал Какамбо, – это дети здешнего короля.
В эту минуту появился сельский учитель и позвал детей в школу.
– Вот, – сказал Кандид, – наставник королевской семьи.
Маленькие шалуны тотчас прервали игру, оставив на земле шарики и другие свои игрушки. Кандид поднимает их, бежит за наставником и почтительно протягивает ему, объясняя знаками, что их королевские высочества забыли свои драгоценные камни и золото. Сельский учитель, улыбаясь, бросил камни на землю, с большим удивлением взглянул на Кандида и продолжил свой путь.
Путешественники подобрали золото, рубины и изумруды.
– Где мы? – вскричал Кандид. – Должно быть, королевским детям дали в этой стране на диво хорошее воспитание, потому что они приучены презирать золото и драгоценные камни.
Какамбо был удивлен не менее чем Кандид. Наконец они подошли к первому деревенскому дому; он напоминал европейский дворец. Толпа людей суетилась в дверях и особенно в доме; слышалась приятная музыка, из кухни доносились нежные запахи. Какамбо подошел к дверям и услышал, что говорят по-перуански; это был его родной язык, ибо, как известно, Какамбо родился в Тукумане, в деревне, где другого языка не знали.
– Я буду вашим переводчиком, – сказал он Кандиду, – войдем, здесь кабачок.
Тотчас же двое юношей и две девушки, служившие при гостинице, одетые в золотые платья, с золотыми лентами в волосах, пригласили их сесть за общий стол. На обед подали четыре супа, из них каждый был приготовлен из двух попугаев, вареного кондора, весившего двести фунтов, двух жареных обезьян, превосходных на вкус; триста колибри покрупнее на одном блюде и шестьсот помельче на другом; восхитительные рагу, воздушные пирожные, – все на блюдах из горного хрусталя. Слуги и служанки наливали гостям различные ликеры из сахарного тростника.
Посетители большею частью были купцы и возчики – все чрезвычайно учтивые; они с утонченной скромностью задали Какамбо несколько вопросов и очень охотно удовлетворяли любопытство гостей.
Когда обед был закончен, Какамбо и Кандид решили, что щедро заплатят, бросив хозяину на стол два крупных кусочка золота, подобранных на земле; хозяин и хозяйка расхохотались и долго держались за бока. Наконец они успокоились.
– Господа, – сказал хозяин гостиницы, – конечно, вы иностранцы, а мы к иностранцам не привыкли. Простите, что мы так смеялись, когда вы нам предложили в уплату камни с большой дороги. У вас, без сомнения, нет местных денег, но этого и не надобно, чтобы пообедать здесь. Все гостиницы, устроенные для проезжих купцов, содержатся за счет государства. Вы здесь неважно пообедали, потому что это бедная деревня, но в других местах вас примут как подобает.
Какамбо перевел Кандиду слова хозяина гостиницы. Кандид слушал их с тем же удивлением и недоумением, с каким его друг Какамбо переводил.
– Что же, однако, это за край, – говорили они один другому, – неизвестный всему остальному миру и природой столь не похожий на Европу? Вероятно, это та самая страна, где все обстоит хорошо, ибо должна же такая страна хоть где-нибудь да существовать. А что бы ни говорил учитель Панглос, мне часто бросалось в глаза, что в Вестфалии все обстоит довольно плохо.
Глава восемнадцатая Что они видели в стране Эльдорадо
Какамбо засыпал вопросами хозяина гостиницы; тот ему сказал:
– Я человек неученый и тем доволен; но есть у нас здесь старец, бывший придворный, – он самый образованный человек в государстве и очень разговорчивый.
Тотчас он проводил Какамбо к старцу. Кандид же оказался теперь на вторых ролях и молча сопровождал своего слугу. Они вошли в дом, очень простой, так как дверь была всего-навсего из серебра, а обшивка комнат всего-навсего из золота; но все было сработано с таким вкусом, что не проиграло бы и при сравнении с самыми богатыми дверями и обшивкой. Приемная, правда, была украшена только рубинами и изумрудами, но порядок, в котором все содержалось, искупал с избытком эту чрезвычайную простоту.
Старец принял двух иностранцев, сидя на софе, набитой пухом колибри, угостил их ликерами в алмазных чашах, потом в следующих словах удовлетворил их любопытство:
– Мне сто семьдесят два года, и я узнал от моего покойного отца, королевского конюшего, об удивительных переворотах в Перу, свидетелем которых он был. Наше государство – это древнее отечество инков, которые поступили очень неблагоразумно, когда отправились завоевывать другие земли: в конце концов они сами были уничтожены испанцами.
Те государи из этой династии, которые остались на родине, были куда благоразумнее; с народного согласия они издали закон, следуя которому ни один житель не имел права покинуть пределы своей маленькой страны; этим мы сберегли нашу простоту и наше благоденствие.
У испанцев было лишь смутное представление о нашем государстве; они назвали его Эльдорадо, а один англичанин, некий кавалер Ролей, даже приблизился к нашим границам около ста лет назад, но так как мы окружены неприступными скалами и пропастями, то вплоть до настоящего времени нам нечего было бояться посягательств европейских народов, которыми владеет страсть к грязи и камням нашей земли и которые, дабы завладеть ими, готовы были бы перебить нас всех до единого.
Разговор длился долго: говорили о государственном устройстве, о нравах, о женщинах, о зрелищах, об искусствах. Наконец Кандид, у которого всегда была склонность к метафизике, велел Какамбо спросить, есть ли в этой стране религия.
Старец слегка покраснел.
– Как вы можете в этом сомневаться? – сказал он. – Неужели вы считаете нас такими неблагодарными людьми?
Какамбо почтительно спросил, какая религия в Эльдорадо. Старец опять покраснел.
– Разве могут существовать на свете две религии? – сказал он. – У нас, я думаю, та же религия, что и у вас; мы неустанно поклоняемся Богу.
– Только одному Богу? – спросил Какамбо, который все время переводил вопросы Кандида.
– Конечно, – сказал старец, – их не два, не три, не четыре. Признаться, люди из вашего мира задают очень странные вопросы.
Кандид продолжал расспрашивать этого доброго старика; он хотел знать, как молятся Богу в Эльдорадо.
– Мы ничего не просим у него, – сказал добрый и почтенный мудрец, – нам нечего просить: он дал нам все, что нам нужно; мы непрестанно его благодарим.
Кандиду было любопытно увидеть священнослужителей, он велел спросить, где они. Добрый старец засмеялся.
– Друзья мои, – сказал он, – мы все священнослужители; и наш государь, и все отцы семейств каждое утро торжественно поют благодарственные гимны; им аккомпанируют пять-шесть тысяч музыкантов.
– Как! У вас нет монахов, которые всех поучают, ссорятся друг с другом, управляют, строят козни и сжигают инакомыслящих?
– Смею надеяться, мы здесь не сумасшедшие, – сказал старец, – все мы придерживаемся одинаковых взглядов и не понимаем, что такое ваши монахи.
При этих словах Кандид пришел в восторг. Он говорил себе: «Это совсем не то, что в Вестфалии и в замке господина барона; если бы наш друг Панглос побывал в Эльдорадо, он не утверждал бы более, что замок Тундертен-Тронк – лучшее место на земле. Вот как полезно путешествовать!»
После этой длинной беседы добрый старец велел запрячь в карету шесть баранов и приказал двенадцати слугам проводить путешественников ко двору.
– Простите меня, – сказал он им, – за то, что мой возраст лишает меня счастья сопровождать вас. Государь примет вас так, что вы не останетесь недовольны и, без сомнения, отнесетесь снисходительно к тем обычаям страны, которые вам, возможно, не понравятся.
Кандид и Какамбо садятся в карету; шесть баранов летят во всю прыть, и менее чем в четыре часа они приезжают в королевский дворец, расположенный на окраине столицы. Портал дворца был двухсот двадцати пяти футов высотой и ста – шириной; невозможно было определить, из чего он сделан, но бросалось в глаза, что дивный материал этого здания не идет и в сравнение с теми булыжниками и песком, которые мы именуем золотом и драгоценными камнями.
Двадцать прекрасных девушек из охраны встретили Кандида и Какамбо, когда те вышли из кареты, проводили их в баню, надели на них одежды из пуха колибри; после этого придворные кавалеры и дамы, согласно принятому обычаю, ввели их в покои его величества, причем им пришлось идти между двумя рядами музыкантов, число которых достигало двух тысяч. Когда они под опели к тронному залу, Какамбо спросил у камергера, как здесь полагается приветствовать его величество. Встать ли на колени или распластаться на полу? Положить ли руки на голову или скрестить за спиной? Лизать пыль с пола? Одним словом, какова церемония?
– Обычай таков, – сказал камергер, – что каждый обнимает короля и целует в обе щеки.
Кандид и Какамбо бросаются на шею его величеству, который принимает их столь милостиво, что это не поддается описанию, и любезно приглашает на ужин.
В ожидании ужина им показали город, общественные здания, вздымающиеся до облаков, рынки, украшенные тысячью колонн, фонтаны чистой воды, фонтаны розовой воды, фонтаны ликеров из сахарного тростника, которые неустанно текли в большие водоемы, выложенные каким-то драгоценным камнем, издававшим запах, подобный запаху гвоздики и корицы. Кандид попросил показать ему, где у них заседает суд; ему ответили, что этого учреждения у них нет, что в Эльдорадо никого не судят. Он осведомился, есть ли у них тюрьмы, и ему сказали, что и тюрем у них нет. Более всего удивил и порадовал Кандида дворец науки с галереей в две тысячи шагов, уставленной математическими и физическими инструментами.
Они успели осмотреть лишь тысячную часть города, как уже пришло время ехать к королю. Кандида посадили за стол вместе с его величеством, слугою Какамбо и несколькими дамами. Никогда он не ужинал вкуснее и не бывал в обществе столь остроумного собеседника, каким оказался его величество. Какамбо переводил Кандиду остроты короля, и даже в переводе они сохраняли свою соль. Это удивляло Кандида не меньше, чем все остальное.
Они провели месяц в этой гостеприимной стране. Кандид без устали повторял Какамбо:
– Воистину, мой друг, замок, где я родился, хуже страны, где мы теперь находимся. А все-таки здесь нет Кунигунды, да и у вас, без сомнения, осталась любовница в Европе. Если мы поселимся здесь, мы ничем не будем отличаться от местных жителей. А вот если вернемся в наш мир и привезем с собой только двенадцать баранов, нагруженных эльдорадскими камнями, мы будем богаче, чем все короли, вместе взятые. Мы больше не будем бояться инквизиторов и без труда освободим Кунигунду.
Эти рассуждения были по душе Какамбо; люди так любят блуждать по свету, чваниться перед соотечественниками и похваляться увиденным во время странствий, что двое счастливцев решили отказаться от своего счастья и попросить у его величества, чтобы он позволил им уехать.
– Вы делаете глупость, – сказал им король. – Я знаю, страна моя не Бог весть что; но где можно прожить недурно, там и надо оставаться. Я, разумеется, не имею права удерживать иностранцев; это тирания, которая противна и нашим обычаям, и нашим законам; все люди свободны; вы уедете, когда захотите, но помните, что выбраться отсюда очень трудно. Невозможно подняться по быстрой реке, по которой вы каким-то чудом спустились и которая течет под сводом скал. Горы, окружающие мое государство, достигают десяти тысяч футов в вышину и отвесны, как стены; в ширину они достигают более десяти миль и обрываются в бездонные пропасти. Впрочем, если вы непременно хотите уехать, я прикажу механикам построить машину, чтобы вас удобно переправить через горы. Но уж дальше на провожатых не рассчитывайте, ибо мои подданные дали клятву никогда не переступать границ королевства и не нарушат ее – они достаточно разумные люди. Не считая этого, просите у меня все, что вам заблагорассудится.
– Мы просим у вашего величества, – сказал Какамбо, – только нескольких баранов, нагруженных съестными припасами, камнями и грязью вашей страны.
Король засмеялся.
– Не понимаю, – сказал он, – что хорошего находят жители Европы в нашей желтой грязи, но берите ее, сколько хотите, и пусть она пойдет вам на пользу.
Он немедленно отдал приказ механикам соорудить машину, чтобы переправить этих странных людей за пределы королевства. Три тысячи ученых физиков работали над нею; через две недели она была готова и стоила всего двадцать миллионов стерлингов в ходячей монете той страны. Кандид и Какамбо сели в машину; с собой у них были два больших красных барана, оседланных и взнузданных, чтобы ехать на них, когда путники уже преодолеют горы; двадцать вьючных баранов, нагруженных съестными припасами; тридцать – с образцами того, что было в стране наиболее любопытного; пятьдесят – груженных золотом, самоцветными камнями и алмазами. Король нежно обнял залетных гостей.
Прекрасное зрелище представлял их отъезд, занятно было смотреть, с каким искусством были подняты они со своими баранами на вершину гор. Физики доставили их в безопасное место и вернулись. У Кандида теперь не было иного желания и иной мысли, как подарить этих баранов Кунигунде.
– У нас есть, – говорил он, – чем заплатить губернатору Буэнос-Айреса, если только Кунигунду вообще можно оценить в деньгах. Едем в Кайенну, сядем на судно, а потом посмотрим, какое королевство нам купить.
Глава девятнадцатая Что произошло в Суринаме и как Кандид познакомился с Мартеном
Первый день прошел для наших путешественников довольно приятно. Их ободряла мысль, что они обладают сокровищами, превосходящими богатства Азии, Европы и Африки. Кандид в восторге писал имя Кунигунды на каждом дереве. На другой день два барана увязли в болоте и погибли со всем грузом; два других околели от усталости несколько дней спустя; семь или восемь подохли от голода в пустыне; несколько баранов сорвались в пропасть. Прошло сто дней пути – и вот у них осталось только два барана. Кандид сказал Какамбо:
– Мой друг, ты видишь, как преходящи богатства мира сего; нет на свете ничего прочного, кроме добродетели и счастья новой встречи с Кунигундой.
– Согласен, – сказал Какамбо, – но у нас осталось еще два барана с сокровищами, каких не было и не будет даже у короля Испании. Вот я вижу вдали город, – думаю, что это Суринам, принадлежащий голландцам. Наши беды приходят к концу, скоро начнется благоденствие.
По дороге к городу они увидели негра, распростертого на земле, полуголого, – на нем были только синие полотняные панталоны; у бедняги не хватало левой ноги и правой руки.
– О Боже мой! – воскликнул Кандид и обратился к негру по-голландски: – Что с тобою, мой друг, и почему ты в таком ужасном состоянии?
– Я жду моего хозяина господина Вандердендура, известного купца, – отвечал негр.
– Так это господин Вандердендур так обошелся с тобою? – спросил Кандид.
– Да, господин, – сказал негр, – таков обычай. Два раза в год нам дают только вот такие полотняные панталоны, и это вся наша одежда. Если на сахароварне у негра попадает палец в жернов, ему отрезают всю руку; если он вздумает убежать, ему отрубают ногу. Со мной случилось и то и другое. Вот цена, которую мы платим за то, чтобы у вас в Европе был сахар. А между тем, когда моя мать продала меня на Гвинейском берегу за десять патагонских монет, она мне сказала: «Дорогое мое дитя, благословляй наши фетиши, почитай их всегда, они принесут тебе счастье; ты удостоился чести стать рабом наших белых господ и вместе с тем одарил богатством своих родителей». Увы! Я не знаю, одарил ли я их богатством, но сам-то я счастья не нажил. Собаки, обезьяны, попугаи в тысячу раз счастливее, чем мы; голландские жрецы, которые обратили меня в свою веру, твердят мне каждое воскресенье, что все мы – потомки Адама, белые и черные. Я не силен в генеалогии, но если проповедники говорят правду, мы и впрямь все сродни друг другу. Но, подумайте сами, можно ли так ужасно обращаться с родственниками?
– О Панглос! – воскликнул Кандид. – Ты не предвидел этих гнусностей. Нет, отныне я навсегда отказываюсь от твоего оптимизма.
– Что такое оптимизм? – спросил Какамбо.
– Увы, – сказал Кандид, – это страсть утверждать, что все хорошо, когда в действительности все плохо.
И он залился слезами, глядя на негра; плача о нем, он вошел в Суринам.
Первым делом они справились, нет ли в порту какого-нибудь корабля, отплывающего в Буэнос-Айрес. Тот, к кому они обратились, оказался испанским судохозяином и согласился заключить с ними честную сделку. Он назначил им свидание в кабачке, Кандид и верный Какамбо отправились туда вместе со своими двумя баранами и стали его ждать.
У Кандида всегда было что на душе, то и на языке; он рассказал испанцу все свои приключения и признался, что хочет похитить Кунигунду.
– Нет, я поостерегусь везти вас в Буэнос-Айрес, – меня там повесят, да и вас тоже: прекрасная Кунигунда – любимая наложница губернатора.
Эти слова поразили Кандида как удар грома. Он долго плакал; наконец он обратился к Какамбо:
– Вот, мой друг, – сказал он ему, – что ты должен сделать: у каждого из нас брильянтов в карманах напять-шесть миллионов. Ты хитрее меня; поезжай в Буэнос-Айрес и освободи Кунигунду. Если губернатор откажет, дай ему миллион; если и тут заупрямится – дай два. Ты не убивал инквизитора, тебе бояться нечего. Я снаряжу другой корабль и буду тебя ждать в Венеции. Это свободная страна, где можно не страшиться ни болгар, ни аваров, ни евреев, ни инквизиторов.
Какамбо одобрил это благоразумное решение. Он был в отчаянии, что надо разлучаться с добрым господином, который сделался его задушевным другом; но радостное сознание, что он будет полезен Кандиду, превозмогло скорбь. Они обнялись, обливаясь слезами; Кандид наказал ему не забывать доброй старухи. В тот же день Какамбо отправился в путь; очень добрый человек был Какамбо.
– Ну, хорошо! Вы получите двадцать тысяч, – сказал Кандид.
«Ба! – сказал себе купец. – Этот человек дает двадцать тысяч пиастров с такой же легкостью, как и десять».
Он снова приходит и говорит, что меньше, чем за тридцать тысяч пиастров, он не согласится.
– Что ж, заплачу вам и тридцать тысяч, – отвечал Кандид.
«Ну и ну! – опять подумал голландский купец. – Тридцать тысяч пиастров ничего не значат для этого человека; без сомнения, его бараны навьючены несметными сокровищами; не будем более настаивать, возьмем пока тридцать тысяч, а там увидим».
Кандид продал два некрупных алмаза, из которых меньший стоил столько, сколько требовал судохозяин. Он заплатил деньги вперед. Бараны были переправлены на судно. Кандид отправился вслед за ними в маленькой лодке, чтобы на рейде сесть на корабль. Купец немедля поднимает паруса и выходит из гавани, пользуясь попутным ветром. Кандид, растерянный и изумленный, вскоре теряет его из виду.
– Увы! – воскликнул он. – Вот поступок, достойный обитателя Старого Света!
Кандид вернулся на берег, погруженный в горестные думы, – он потерял то, что могло бы обогатить двадцать монархов.
Он отправился к голландскому судье. Так как он был несколько взволнован, то сильно постучал в дверь, а войдя, рассказал о происшествии немного громче, чем следовало бы. Судья начал с того, что оштрафовал его на десять тысяч пиастров за произведенный шум, потом терпеливо выслушал Кандида, обещал заняться его делом тотчас же, как возвратится купец, и заставил заплатить еще десять тысяч пиастров судебных издержек.
Этот порядок судопроизводства окончательно привел Кандида в отчаяние; ему пришлось испытать, правда, несчастья, в тысячу раз более тяжелые, но хладнокровие судьи и наглое воровство судохозяина воспламенили его желчь и повергли его в черную меланхолию. Людская злоба предстала перед ним во всем своем безобразии; в голову ему приходили только мрачные мысли. Наконец, когда стало известно, что в Бордо отплывает французский корабль, Кандид, у которого уже не было баранов, нагруженных брильянтами, нанял каюту по справедливой цене и объявил в городе, что заплатит за проезд, пропитание и даст сверх того еще две тысячи пиастров честному человеку, который захочет совершить с ним путешествие, но с тем условием, что этот человек будет самым разочарованным и самым несчастным во всей этой провинции.
К нему явилась толпа претендентов, которую едва ли вместил бы и целый флот. Кандид по внешнему виду отобрал человек двадцать, показавшихся ему довольно обходительными; все они утверждали, что вполне отвечают его требованиям. Он собрал их в кабачке и накормил ужином, потребовав, чтобы каждый поклялся правдиво рассказать свою историю; он обещал им выбрать того, кто покажется ему наиболее правым в своем недовольстве судьбою; остальным пообещал небольшое вознаграждение.
Беседа затянулась до четырех утра. Кандид, слушая рассказы собравшихся, вспоминал слова, сказанные ему старухой на пути в Буэнос-Айрес, и ее предложение побиться об заклад насчет того, что нет человека на корабле, который не перенес бы величайших несчастий. При каждом новом рассказе он возвращался мыслью к Панглосу.
«Панглосу, – думал он, – трудно было бы теперь отстаивать свою систему. Хотел бы я, чтобы он был здесь. Все идет хорошо, это правда, но только в одной-единственной из всех земных стран – в Эльдорадо».
Наконец он остановил свой выбор на бедном ученом, который десять лет гнул спину на амстердамских книгопродавцев. Кандид решил, что нет в мире ремесла, которое могло бы внушить большее отвращение к жизни.
Этого ученого, который сверх того был добрый человек, обокрала жена, избил сын и покинула дочь, бежавшая с каким-то португальцем. Он лишился скромной должности, которая давала ему средства к жизни, и суринамские проповедники преследовали его за социнианство[202]. Говоря по правде, другие были не менее несчастны, чем он, но Кандид надеялся, что ученый разгонит его тоску во время путешествия. Все прочие претенденты нашли, что Кандид был к ним глубоко несправедлив, но он утешил их, подарив каждому по сто пиастров.
Глава двадцатая Что было с Кандидом и Мартеном на море
Итак, с Кандидом в Бордо отправился старый ученый по имени Мартен. Они оба многое повидали и многое испытали и, пока корабль плыл от Суринама до Японии, мимо мыса Доброй Надежды, успели всласть наговориться о зле нравственном и зле физическом.
У Кандида было большое преимущество перед Мартеном: он надеялся снова увидеть Кунигунду, а Мартену надеяться было не на что. Кроме того, у Кандида было золото и брильянты, и, хотя он потерял сто больших красных баранов, нагруженных величайшими в мире сокровищами, хотя не мог забыть о мошенничестве голландского купца, однако, вспоминая о том, что у него осталось, и рассказывая о Кунигунде, особенно к концу обеда, он опять склонялся к системе Панглоса.
– А вы, господин Мартен, – спрашивал он ученого, – что думаете обо всем этом вы? Какого мнения придерживаетесь о зле нравственном и физическом?
– Меня обвинили в том, – отвечал Мартен, – что я социнианин, но, сказать по правде, я манихей[203].
– Вы смеетесь надо мной, – сказал Кандид, – манихеев больше не осталось на свете.
– Остался я, – сказал Мартен. – Не знаю, как тут быть, но по-другому думать я не могу.
– Значит, в вас сидит дьявол? – спросил Кандид.
– Дьявол вмешивается во все дела этого мира, – сказал Мартен, – так что, может быть, он сидит и во мне, и повсюду; признаюсь вам, бросив взгляд на этот земной шар, или, вернее, на этот шарик, я пришел к выводу, что Господь уступил его какому-то зловредному существу: впрочем, я исключаю Эльдорадо. Мне ни разу не привелось видеть города, который не желал бы погибели соседнему городу, не привелось увидеть семьи, которая не хотела бы уничтожить другую семью. Везде слабые ненавидят сильных, перед которыми они пресмыкаются, а сильные обходятся с ними как со стадом, шерсть и мясо которого продают. Миллион головорезов, разбитых на полки, носится по всей Европе, убивая и разбойничая, и зарабатывают себе этим на хлеб насущный, потому что более честному ремеслу эти люди не обучены. В городах, которые как будто наслаждаются благами и где цветут искусства, пожалуй, не меньше людей погибает от зависти, забот и треволнений, чем в осажденных городах от голода. Тайные печали еще более жестоки, чем общественные бедствия. Одним словом, я так много видел и так много испытал, что я манихей.
– Однако на свете существует добро, – возразил Кандид.
– Может быть, – сказал Мартен, – но я с ним не знаком.
Они еще продолжали спорить, когда раздались пушечные выстрелы. Грохот разрастался с каждой минутой. Кандид и Мартен схватили подзорные трубы. На расстоянии около трех миль от них шел бой между двумя кораблями. Ветер подогнал их так близко к французскому кораблю, что наблюдать за боем было очень удобно. Наконец один из этих кораблей дал по другому столь удачный залп, что потопил его. Кандид и Мартен ясно видели сотню человек на палубе корабля, погружавшегося в воду; они все поднимали руки к небу, испуская страшные вопли; через минуту все исчезло в волнах.
– Ну что? – сказал Мартен. – Вот видите, как люди обращаются друг с другом.
– Верно, – сказал Кандид. – В этом сражении есть нечто дьявольское.
Говоря так, он заметил какой-то ярко-красный блестящий предмет, плавающий неподалеку от корабля. Спустили шлюпку, чтобы рассмотреть, что это такое. Оказалось, это один из украденных баранов. Радость, испытанная Кандидом, когда этого барана выловили, во много раз превзошла горе, пережитое им при потере ста баранов, груженных эльдорадскими брильянтами.
Французский капитан вскоре узнал, что капитан, потопивший корабль, был испанец, а капитан потопленного корабля – голландский пират; это был тот самый купец, который обокрал Кандида. Неисчислимые богатства, украденные этим негодяем, вместе с ним попели на дно морское, и спасся только один-единственный баран. «Вот видите, – сказал Кандид Мартену, – что преступление иногда бывает наказано; этот мерзавец, голландский купец, понес заслуженную кару». «Да, – сказал Мартен, – но разве было так уж необходимо, чтобы погибли и пассажиры его корабля? Бог наказал плута, дьявол потопил всех остальных».
Между тем корабли французский и испанский продолжали свой путь, а Кандид продолжал беседовать с Мартеном. Они спорили пятнадцать дней кряду и на пятнадцатый день рассуждали точно так же, как в первый. Но что из того! Они говорили, обменивались мыслями, утешали друг друга. Кандид ласкал своего барана.
– Раз я снова обрел тебя, – сказал он, – значит, обрету, конечно, и Кунигунду.
Глава двадцать шестая О том, как Кандид и Мартен ужинали с шестью иностранцами и кем оказались эти иностранцы
Однажды вечером, когда Кандид и Мартен собирались сесть за стол вместе с иностранцами, которые жили в той же гостинице, человек с лицом, темным, как сажа, подошел сзади к Кандиду и, взяв его за руку, сказал:
– Будьте готовы отправиться с нами, не замешкайтесь.
Кандид оборачивается и видит Какамбо. Сильнее удивиться и обрадоваться он мог лишь при виде Кунигунды. От радости Кандид чуть не сошел с ума. Он обнимает своего дорогого друга.
– Кунигунда, конечно, тоже здесь? Где она? Веди меня к ней, чтобы я умер от радости возле нее.
– Кунигунды здесь нет, – сказал Какамбо, – она в Константинополе.
– О небо! В Константинополе! Но будь она даже в Китае, все равно я полечу к ней. Едем!
– Мы поедем после ужина, – возразил Какамбо. – Больше я ничего не могу вам сказать, я невольник, мой хозяин меня ждет; я должен прислуживать за столом; не говорите ни слова, ужинайте и будьте готовы.
Кандид, колеблясь между радостью и печалью, довольный тем, что снова видит своего верного слугу, удивленный, что видит его невольником, исполненный надежды вновь обрести свою возлюбленную, чувствуя, что сердце его трепещет, а разум мутится, сел за стол с Мартеном, который хладнокровно взирал на все, и с шестью иностранцами, которые приехали в Венецию на карнавал.
Какамбо, наливавший вино одному из этих иностранцев, наклонился к нему в конце трапезы и сказал:
– Ваше величество, вы можете отплыть в любую минуту, – корабль под парусами.
Сказав это, он вышел. Удивленные гости молча переглянулись; в это время другой слуга, приблизившись к своему хозяину, сказал ему:
– Государь, карета вашего величества ожидает в Падуе, а лодка готова.
Господин сделал знак, и слуга вышел. Гости снова переглянулись, всеобщее удивление удвоилось. Третий слуга подошел к третьему иностранцу и сказал ему:
– Государь, заверяю вас, вашему величеству не придется здесь долго ждать, я все приготовил.
И тотчас же исчез.
Кандид и Мартен уже не сомневались, что это карнавальный маскарад. Четвертый слуга сказал четвертому хозяину:
– Ваше величество, если угодно, вы можете ехать. И вышел, как другие.
Пятый слуга сказал то же пятому господину. Но зато шестой слуга сказал совсем иное шестому господину, сидевшему подле Кандида. Он заявил:
– Ей-богу, государь, ни вашему величеству, ни мне не хотят более оказывать кредит. Нас обоих могут упрятать в тюрьму нынче же ночью. Пойду и постараюсь как-нибудь выкрутиться из этой истории. Прощайте.
Когда слуги ушли, шестеро иностранцев, Кандид и Мартен погрузились в глубокое молчание, прерванное наконец Кандидом.
– Господа, – сказал он, – что за странная шутка! Почему вы все короли? Что касается меня, то, признаюсь вам, ни я, ни Мартен этим похвалиться не можем.
Тот из гостей, которому служил Какамбо, важно сказал по-итальянски:
– Это вовсе не шутка. Я – Ахмет III. Несколько лет я был султаном; я сверг с престола моего брата; мой племянник сверг меня; всех моих визирей зарезали; я кончаю свой век в старом серале. Мой племянник, султан Махмуд, позволяет мне иногда путешествовать для поправки здоровья; сейчас я приехал на венецианский карнавал.
Молодой человек, сидевший возле Ахмета, сказал:
– Меня зовут Иван, я был императором российским; еще в колыбели меня лишили престола, а моего отца и мою мать заточили; я был воспитан в тюрьме; иногда меня отпускают путешествовать под присмотром стражи; сейчас я приехал на венецианский карнавал.
Третий сказал:
– Я – Карл-Эдуард, английский король; мой отец уступил мне права на престол; я сражался, защищая их; восьмистам моим приверженцам вырвали сердца и этими сердцами били их по щекам. Я сидел в тюрьме; теперь направляюсь в Рим – хочу навестить короля, моего отца, точно так же лишенного престола, как я и мой дед. Сейчас я приехал на венецианский карнавал.
Четвертый сказал:
– Я король польский; превратности войны лишили меня наследственных владений; моего отца постигла та же участь; я безропотно покоряюсь провидению, как султан Ахмет, император Иван и король Карл-Эдуард, которым Господь да ниспошлет долгую жизнь. Сейчас я приехал на венецианский карнавал.
Пятый сказал:
– Я тоже польский король и терял свое королевство дважды, но провидение дало мне еще одно государство, где я делаю больше добра, чем все короли сарматов сделали когда-либо на берегах Вислы. Я тоже покоряюсь воле провидения; сейчас я приехал на венецианский карнавал.
Слово было за шестым монархом.
– Господа, – сказал он, – я не столь знатен, как вы;но я был королем точно так же, как и прочие. Я Теодор, меня избрали королем Корсики, называли «ваше величество», а теперь в лучшем случае именуют «милостивый государь». У меня был свой монетный двор, а теперь нет ни гроша за душой, было два статс-секретаря, а теперь лишь один лакей. Сперва я восседал на троне, а потом долгое время валялся в лондонской тюрьме на соломе. Я очень боюсь, что то же постигнет меня и здесь, как и ваши величества, я приехал на венецианский карнавал.
Пять других королей выслушали эту речь с благородным состраданием. Каждый из них дал по двадцать цехинов королю Теодору на платье и белье; Кандид преподнес ему алмаз в две тысячи цехинов.
– Кто же он такой, – воскликнули пять королей, – этот человек, который может подарить – и не только может, но и дарит! – в сто раз больше, чем каждый из нас? Скажите, сударь, вы тоже король?
– Нет, господа, и не стремлюсь к этой чести.
Когда они кончали трапезу, в ту же гостиницу прибыли четверо светлейших принцев, которые тоже потеряли свои государства из-за превратностей войны и приехали на венецианский карнавал. Но Кандид даже не обратил внимания на вновь прибывших. Он был занят только тем, как ему найти в Константинополе обожаемую Кунигунду.
Глава двадцать седьмая Путешествие Кандида в Константинополь
Верный Какамбо упросил турка-судовладельца, который должен был отвезти султана Ахмета в Константинополь, принять на борт и Кандида с Мартеном. За это наши путешественники низко поклонились его злосчастному величеству. Поспешая на корабль, Кандид говорил Мартену:
– Вот мы ужинали с шестью свергнутыми королями, и вдобавок одному из них я подал милостыню. Быть может, на свете немало властителей, еще более несчастных. А я потерял всего лишь сто баранов и сейчас лечу в объятия Кунигунды. Мой дорогой Мартен, я опять убеждаюсь, что Панглос прав, все к лучшему.
– От всей души желаю, чтобы вы не ошиблись, – сказал Мартен.
– Но то, что случилось с нами в Венеции, – сказал Кандид, – кажется просто неправдоподобным. Где это видано и где слыхано, чтобы шесть свергнутых с престола королей собрались вместе в кабачке?
– Это ничуть не более странно, – сказал Мартен, – чем большая часть того, что с нами случилось. Короли часто лишаются престола, а что касается чести, которую они нам оказали, отужинав с нами, – это вообще мелочь, не заслуживающая внимания. Важно не то, с кем ешь, а то, что ешь.
Взойдя на корабль, Кандид немедленно бросился на шею своему старому слуге, своему другу Какамбо.
– Говори же, – теребил он его, – как поживает Кунигунда? По-прежнему ли она – чудо красоты? Все ли еще любит меня? Как ее здоровье? Ты, наверно, купил ей дворец в Константинополе?
– Мой дорогой господин, – сказал Какамбо, – Кунигунда моет плошки на берегу Пропонтиды для властительного князя, у которого плошек – раз-два и обчелся. Она невольница в доме одного бывшего правителя по имени Рагоцци, которому султан дает по три экю в день пенсиона. Печальнее всего то, что Кунигунда утратила красоту и стала очень уродливая.
– Хороша она или дурна, – сказал Кандид, – я человек порядочный, и мой долг – любить ее по гроб жизни. Но как могла она дойти до столь жалкого положения, когда у нас в запасе пять-шесть миллионов, которые ты ей отвез?
– Посудите сами, – сказал Какамбо, – разве мне не пришлось уплатить два миллиона синьору дону Фернандо д'Ибараа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос-и-Суса, губернатору Буэнос-Айреса за разрешение увезти Кунигунду? А пират разве не обчистил нас до последнего гроша? Этот пират провез нас мимо мыса Матапан, через Милос, Икарию, Самос, Петру, Дарданеллы, Мраморное море, в Скутари. Кунигунда и старуха служат у князя, о котором я вам говорил, я – невольник султана, лишенного престола.
– Что за ужасное сцепление несчастий! – сказал Кандид. – Но все-таки у меня еще осталось несколько брильянтов. Я без труда освобожу Кунигунду. Как жаль, что она подурнела! – Потом, обратясь к Мартену, он спросил: – Как по вашему мнению, кого следует больше жалеть – императора Ахмета, императора Ивана, короля Эдуарда или меня?
– Не знаю, – сказал Мартен. – Чтобы это узнать, надо проникнуть в глубины сердца всех четверых.
– Ах, – сказал Кандид, – будь здесь Панглос, он знал бы и все разъяснил бы нам.
– Мне непонятно, – заметил Мартен, – на каких весах ваш Панглос стал бы взвешивать несчастья людей и какой мерой он оценивал бы их страдания. Но полагаю, что миллионы людей на земле в сто раз более достойны сожаления, чем король Карл-Эдуард, император Иван и султан Ахмет.
– Это вполне возможно, – сказал Кандид.
Через несколько дней они достигли пролива, ведущего в Черное море. Кандид начал с того, что за очень дорогую цену выкупил Какамбо; затем, не теряя времени, он сел на галеру со своими спутниками и поплыл к берегам Пропонтиды на поиски Кунигунды, какой бы уродливой она ни стала.
Среди гребцов галеры были два каторжника, которые гребли очень плохо; шкипер-левантинец время от времени хлестал их кожаным ремнем по голым плечам. Кандид, движимый естественным состраданием, взглянул на них внимательнее, чем на других каторжников, а потом и подошел к ним. В их искаженных чертах он нашел некоторое сходство с чертами Панглоса и несчастного иезуита, барона, брата Кунигунды. Сходство это тронуло и опечалило его. Он посмотрел на них еще внимательнее.
– Послушай, – сказал он Какамбо, – если бы я не видел, как повесили учителя Панглоса, и не имел бы несчастья самолично убить барона, я подумал бы, что это они там гребут на галере.
Услышав слова Кандида, оба каторжника громко вскрикнули, замерли на скамье и уронили весла. Левантинец подбежал к ним и принялся стегать их с еще большей яростью.
– Не трогайте их, не трогайте! – воскликнул Кандид. – Я заплачу вам, сколько вы захотите.
– Как! Это Кандид? – произнес один из каторжников.
– Как! Это Кандид? – повторил другой.
– Не сон ли это? – сказал Кандид. – Наяву ли я на этой галере? Неужели передо мною барон, которого я убил, и учитель Панглос, которого при мне повесили?
– Это мы, это мы, – отвечали они.
– Значит, это и есть твой великий философ? – спросил Мартен.
– Послушайте, господин шкипер, – сказал Кандид, – какой вы хотите выкуп за господина Тундертен-Тронка, одного из первых баронов империи, и за господина Панглоса, величайшего метафизика Германии?
– Христианская собака, – отвечал левантинец, – так как эти две христианские собаки, эти каторжники – барон и метафизик, и, значит, большие люди в своей стране, ты должен дать мне за них пятьдесят тысяч цехинов.
– Вы их получите, господин шкипер: везите меня с быстротою молнии в Константинополь, и вам будет уплачено все сполна. Нет, сперва везите меня к Кунигунде.
Но левантинец уже направил галеру к городу и велел грести быстрее, чем летит птица.
Кандид то и дело обнимал барона и Панглоса.
– Как это я не убил вас, мой дорогой барон? А вы, мой дорогой Панглос, каким образом вы остались живы после того, как вас повесили? И почему вы оба на турецких галерах?
– Правда ли, что моя дорогая сестра находится в этой стране? – спросил барон.
– Да, – ответил Какамбо.
– Итак, я снова вижу моего дорогого Кандида! – воскликнул Панглос.
Кандид представил им Мартена и Какамбо. Они обнимались и говорили все сразу. Галера летела, и вот они уже в порту. Позвали еврея, и Кандид продал ему за пятьдесят тысяч цехинов брильянт стоимостью в сто тысяч: еврей поклялся Авраамом, что больше дать не может. Кандид тут же выкупил барона и Панглоса. Панглос бросился к ногам своего освободителя и омыл их слезами; барон поблагодарил его легким кивком и обещал возвратить эти деньги при первом же случае.
– Но возможно ли, однако, что моя сестра в Турции? – спросил он.
– Вполне возможно и даже более того, – ответил Какамбо, – поскольку она судомойка у трансильванского князя.
Тотчас позвали двух евреев, Кандид продал еще несколько брильянтов, и все отправились на другой галере освобождать Кунигунду.
Глава двадцать восьмая Что случилось с Кандидом, Кунигундой, Панглосом, Мартеном и другими
– Еще раз, преподобный отец, – говорил Кандид барону, – прошу прощения за то, что проткнул вас шпагой.
– Не будем говорить об этом, – сказал барон. – Должен сознаться, я немного погорячился. Если вы желаете знать, по какой случайности я оказался на галерах, извольте, я вам все расскажу. После того как мою рану вылечил брат аптекарь коллегии, я был атакован и взят в плен испанским отрядом. Меня посадили в тюрьму в Буэнос-Айресе сразу после того, как моя сестра уехала из этого города. Я потребовал, чтобы меня отправили в Рим к отцу генералу. Он назначил меня капелланом при французском посланнике в Константинополе. Не прошло и недели со дня моего вступления в должность, как однажды вечером я встретил весьма стройного ичоглана. Было очень жарко. Молодой человек вздумал искупаться, я решил последовать его примеру. Я не знал, что если христианина застают голым в обществе молодого мусульманина, его наказывают, как за тяжкое преступление. Кади повелел дать мне сто ударов палкой по пяткам и сослал меня на галеры. Нельзя себе представить более вопиющей несправедливости. Но хотел бы я знать, как моя сестра оказалась судомойкой трансильванского князя, укрывающегося у турок?
– А вы, мой дорогой Панглос, – спросил Кандид, – каким образом оказалась возможной эта наша встреча?
– Действительно, вы присутствовали при том, как меня повесили, – сказал Панглос. – Разумеется, меня собирались сжечь, но помните, когда настало время превратить мою персону в жаркое, хлынул дождь. Ливень был так силен, что не смогли раздуть огонь, и тогда, потеряв надежду сжечь, меня повесили. Хирург купил мое тело, принес к себе и начал меня резать. Сначала он сделал крестообразный надрез от пупка до ключицы. Я был повешен так скверно, что хуже не бывает. Палач святой инквизиции в сане иподьякона сжигал людей великолепно, надо отдать ему должное, но вешать он не умел. Веревка была мокрая, узловатая, плохо скользила, поэтому я еще дышал. Крестообразный надрез заставил меня так громко вскрикнуть, что мой хирург упал навзничь, решив, что он разрезал дьявола. Затем вскочил и бросился бежать, но на лестнице упал. На шум прибежала из соседней комнаты его жена. Она увидела меня, растянутого на столе, с моим крестообразным надрезом, испугалась еще больше, чем ее муж, тоже бросилась бежать и упала на него. Когда они немного пришли в себя, я услышал, как супруга сказала супругу:
– Дорогой мой, как это ты решился резать еретика! Ты разве не знаешь, что в этих людях всегда сидит дьявол. Пойду-ка я скорее за священником, пусть он изгонит беса.
Услышав это, я затрепетал и, собрав остаток сил, крикнул:
– Сжальтесь надо мной!
Наконец португальский костоправ расхрабрился и зашил рану; его жена сама ухаживала за мною; через две недели я встал на ноги. Костоправ нашел мне место, я поступил лакеем к мальтийскому рыцарю, который отправлялся в Венецию; но у моего господина не было средств, чтобы платить мне, и я перешел в услужение к венецианскому купцу; с ним-то я и приехал в Константинополь.
Однажды мне пришла в голову фантазия зайти в мечеть; там был только старый имам и молодая богомолка, очень хорошенькая, которая шептала молитвы. Шея у нее была совершенно открыта, между грудей красовался роскошный букет из тюльпанов, роз, анемон, лютиков, гиацинтов и медвежьих ушек; она уронила букет, я его поднял и водворил на место очень почтительно, но делал я это так старательно и медленно, что имам разгневался и, обнаружив, что я христианин, позвал стражу. Меня повели к кади, который приказал дать мне сто ударов тростью по пяткам и сослал меня на галеры. Я попал на ту же галеру и ту же скамью, что и барон. На этой галере было четверо молодых марсельцев, пять неаполитанских священников и два монаха с Корфу; они объяснили нам, что подобные приключения случаются ежедневно. Барон утверждал, что куда приличнее положить букет на женскую грудь, чем оказаться нагишом в обществе ичоглана. Мы спорили беспрерывно и получали по двадцать ударов ремнем в день, пока сцепление событий в этой вселенной не привело вас на нашу галеру, и вот вы нас выкупили.
– Ну, хорошо, мой дорогой Панглос, – сказал ему Кандид, – когда вас вешали, резали, нещадно били, когда вы гребли на галерах, неужели вы продолжали считать, что все в мире к лучшему?
– Я всегда был верен своему прежнему убеждению, – отвечал Панглос. – В конце концов, я ведь философ, и мне не пристало отрекаться от своих взглядов; Лейбниц не мог ошибаться, и предустановленная гармония всего прекраснее в мире, так же, как полнота вселенной и невесомая материя.
Глава двадцать девятая Как Кандид нашел Кунигунду и старуху
Пока Кандид, барон, Панглос, Мартен и Какамбо рассказывали друг другу о своих приключениях, обсуждали происшествия случайные и неслучайные в этом мире, спорили о следствиях и причинах, о зле нравственном и зле физическом, о свободе и необходимости, об утешении, которое можно найти и на турецких галерах, – они приплыли к берегу Пропонтиды, к дому трансильванского князя. Первые, кого они увидели, были Кунигунда со старухою, развешивавшие на веревках мокрые кухонные полотенца.
Барон побледнел при этом зрелище. Нежно любящий Кандид, увидев, как почернела прекрасная Кунигунда, какие у нее воспаленные глаза, иссохшая шея, морщинистые щеки, красные, потрескавшиеся руки, в ужасе отступил на три шага, но потом, движимый учтивостью, снова приблизился к ней. Она обняла Кандида и своего брата, они обняли старуху. Кандид выкупил обеих.
По соседству находилась маленькая ферма. Старуха предложила Кандиду поселиться на ней, пока вся компания не подыщет себе лучшего приюта. Кунигунда не знала, что она подурнела, – никто ей этого не говорил; она напомнила Кандиду о его обещании столь решительным тоном, что добряк не осмелился ей отказать. Он сообщил барону, что намерен жениться на его сестре.
– Я не потерплю, – сказал барон, – такой низости с ее стороны и такой наглости с вашей. Этого позора я низа что не допущу – ведь детей моей сестры нельзя будет записать в немецкие родословные книги. Нет, никогда моя сестра не выйдет замуж ни за кого, кроме как за имперского барона.
Кунигунда бросилась к его ногам и оросила их слезами, но он был неумолим.
– Сумасшедший барон, – сказал ему Кандид, – я избавил тебя от галер, заплатил за тебя выкуп, выкупил и твою сестру. Она мыла здесь посуду, она уродлива – я, по своей доброте, готов жениться на ней, а ты еще противишься. Я снова убил бы тебя, если бы поддался своему гневу.
– Ты можешь снова убить меня, – сказал барон, – но, пока я жив, ты не женишься на моей сестре.
Глава тридцатая Заключение
В глубине сердца Кандид не испытывал ни малейшей охоты жениться на Кунигунде, но чрезвычайная наглость барона подстрекала его вступить с нею в брак, а Кунигунда торопила его так настойчиво, что он не мог ей отказать. Он посоветовался с Панглосом, Мартеном и верным Какамбо. Панглос написал прекрасное сочинение, в котором доказывал, что барон не имеет никаких прав на свою сестру и что, согласно всем законам империи, она может вступить в морганатический брак с Кандидом. Мартен склонялся к тому, чтобы бросить барона в море; Какамбо считал, что нужно возвратить его левантийскому шкиперу на галеры, а потом, с первым же кораблем, отправить в Рим к отцу генералу. Совет признали вполне разумным; старуха его одобрила; сестре барона ничего не сказали. План был приведен в исполнение, – разумеется, за некоторую мзду, и все радовались тому, что провели иезуита и наказали спесивого немецкого барона.
Естественно было ожидать, что после стольких бедствий Кандид, женившись на своей возлюбленной и живя с философом Панглосом, философом Мартеном, благоразумным Какамбо и со старухой, имея сверх того так много брильянтов, вывезенных из отечества древних инков, должен был бы вести приятнейшее в мире существование. Но он столько раз был обманут евреями, что у него осталась только маленькая ферма; его жена, делаясь с каждым днем все более уродливой, стала сварливой и несносной; старуха одряхлела, и характер у нее был еще хуже, чем у Кунигунды. Какамбо, который работал в саду и ходил продавать овощи в Константинополь, изнемогал под бременем работ и проклинал судьбу. Панглос был в отчаянии, что не блещет в каком-нибудь немецком университете. Что касается Мартена, он был твердо убежден, что везде одинаково плохо, и терпеливо переносил тяготы жизни. Кандид, Мартен и Панглос спорили иногда о метафизике и нравственности. Они частенько видели проплывавшие мимо их фермы корабли, набитые пашами, эфенди и кадиями, которых ссылали на Лемнос, на Митилену, в Эрзерум; другие кади, другие паши, другие эфенди занимали места изгнанных и в свой черед отправлялись в изгнание; видели они иногда и аккуратно набитые соломой человеческие головы, – их везли в подарок могучему султану.
По соседству жил очень известный дервиш, который считался лучшим философом в Турции. Они попели посоветоваться с ним. Панглос сказал так:
– Учитель, мы пришли спросить у вас, для чего создано столь странное животное, как человек?
– А тебе-то что до этого? – сказал дервиш. – Твое ли это дело?
– Но, преподобный отец, – сказал Кандид, – на земле ужасно много зла.
– Ну и что же? – сказал дервиш. – Какое имеет значение, царит на земле зло или добро? Когда султан посылает корабль в Египет, разве он заботится о том, хорошо или худо корабельным крысам?
– Что же нам делать? – спросил Панглос.
– Молчать, – ответил дервиш.
– Я льстил себя надеждой, – сказал Панглос, – что смогу побеседовать с вами о следствиях и причинах, о лучшем из возможных миров, о происхождении зла, о природе души и о предустановленной гармонии.
В ответ на эти слова дервиш захлопнул дверь у них перед носом.
Во время этой беседы распространилась весть, что в Константинополе удавили двух визирей и муфтия и посадили на кол несколько их друзей. Это событие наделало много глуму на несколько часов. Панглос, Кандид и Мартен, возвращаясь к себе на ферму, увидели почтенного старика, который наслаждался прохладой у порога своей двери под тенью апельсинного дерева. Панглос, который был не только любитель рассуждать, но и человек любопытный, спросил у старца, как звали муфтия, которого удавили.
– Вот уж не знаю, – отвечал тот, – да и, признаться, никогда не знал имен никаких визирей и муфтиев. И о происшествии, о котором вы мне говорите, не имею понятия. Я полагаю, что вообще люди, которые вмешиваются в общественные дела, погибают иной раз самым жалким образом и что они этого заслуживают. Но я-то нисколько не интересуюсь тем, что делается в Константинополе; хватит с меня и того, что я посылаю туда на продажу плоды из сада, который возделываю.
Сказав это, он предложил чужеземцам войти в его дом; две его дочери и два сына поднесли им несколько сортов домашнего щербета, каймак, приправленный лимонной коркой, варенной в сахаре, апельсины, лимоны, ананасы, финики, фисташки, моккский кофе, который не был смешан с плохим кофе из Батавии и с Американских островов. Потом дочери этого доброго мусульманина надушили Кандиду, Панглосу и Мартену бороды.
– Должно быть, у вас обширное и великолепное поместье? – спросил Кандид у турка.
– У меня всего только двадцать арпанов, – отвечал турок. – Я их возделываю сам с моими детьми; работа отгоняет от нас три великих зла: скуку, порок и нужду.
Кандид, возвращаясь на ферму, глубокомысленно рассуждал по поводу речей этого турка. Он сказал Панглосу и Мартену:
– Судьба доброго старика, на мой взгляд, завиднее судьбы шести королей, с которыми мы имели честь ужинать.
– Высокий сан, – сказал Панглос, – связан с большими опасностями; об этом свидетельствуют все философы…
– Я знаю также, – сказал Кандид, – что надо возделывать наш сад.
– Вы правы, – сказал Панглос. – Когда человек был поселен в саду Эдема, это было ut operaretur eum, – дабы и он работал. Вот вам доказательство того, что человек родился не для покоя.
– Будем работать без рассуждений, – сказал Мартен, – это единственное средство сделать жизнь сносною.
Все маленькое общество прониклось этим похвальным намерением; каждый начал изощрять свои способности. Небольшой участок земли приносил много плодов. Кунигунда, правда, была очень некрасива, но зато превосходно пекла пироги; Пакета вышивала; старуха заботилась о белье. Даже брат Жирофле пригодился: он стал очень недурным столяром, более того – честным человеком, и Панглос иногда говорил Кандиду:
– Все события неразрывно связаны в лучшем из возможных миров. Если бы вы не были изгнаны из прекрасного замка здоровым пинком в зад за любовь к Кунигунде, если бы не были взяты инквизицией, если бы не обошли пешком всю Америку, если бы не проткнули шпагой барона, если бы не потеряли всех ваших баранов из славной страны Эльдорадо, – не есть бы вам сейчас ни лимонной корки в сахаре, ни фисташек.
– Это вы хорошо сказали, – отвечал Кандид, – но надо возделывать наш сад.
Вопросы и задания
1. Назовите просветительские идеи, которые утверждает Вольтер в этом произведении.
2. Что является предметом сатирического осмеяния Вольтером?
3. Опишите характер Кандида; какие художественные приемы используются для его создания?
4. Дайте сопоставительную характеристику образам Панглоса и Мартена.
5. Как Вольтер понимает смысл свободы и человеческого равенства?
6. Какой идеал воплощается в образе Эльдорадо?
7. Как Вольтер рассматривает проблемы судьбы и воспитания?
8. Проследите «географию» этого произведения.
9. Охарактеризуйте метод и жанр «Кандида».
10. Составьте план сочинения на тему «Каждый должен возделывать свой сад».
Генри Филдинг
Этот английский писатель-просветитель жил в середине XVIII века. Крупный юрист, долгое время работавший судьей, он был непримиримым врагом всесильного премьер-министра Роберта Уолпола, на протяжении двадцати лет правившего Англией.
Всю свою жизнь Г. Филдинг боролся за претворение в жизнь идеалов Просвещения. Он был честным судьей и пытался искоренить взяточничество, создал театр для простых лондонцев Хаймаркет, в котором с успехом пели его сатирические пьесы, издавал сатирико-нравоучительные журналы, приводившие в бешенство английское правительство. Этот человек был крупнейшим английским теоретиком романа и романистом. Его «История Джозефа Эндрюса», «История Тома Джонса – найденыша» до сих пор с увлечением читаются по всей Европе.
Благодаря Г. Филдингу, страстному поклоннику творчества М. Сервантеса, в английскую литературу прочно вошли образы героев-чудаков, в одиночку бросавшихся на борьбу с несправедливостями, царившими в обществе. Как журналист, Г. Филдинг продолжил традиции Дж. Аддисона и Р. Стиля, но в его журналах вместо сатирико-нравоучительных эссе печатались в основном памфлеты, по своей резкости и бескомпромиссности не уступавшие памфлетам Дж. Свифта, которого Г. Филдинг считал своим учителем. «Письмо из Бедлама» – яркий образец сатирического мастерства Филдинга. Этот памфлет был напечатан в 35-м номере «Конвентгарденского журнала» Г. Филдинга в 1762 г. В нем писатель использует изобретенный Дж. Аддисоном и Р. Стилем прием публикации «письма читателя». Разумеется, письмо написано самим Филдингом, но, создавая памфлет, он надевает маску «чудака», больного человека, заключенного в психиатрическую лечебницу (Бедлам – знаменитый сумасшедший дом в Англии). Однако болезнь Мизаргуруса сродни болезни Дон Кихота. Помешательство обоих вызвано неприятием жестокости и несправедливости окружающего их мира. Дон Кихот воображает себя странствующим рыцарем, защищающим справедливость, а Мизаргурус претендует на роль ученого, открывшего истинную причину всех зол (обратите внимание, для эпохи Возрождения еще характерен идеал человека деятельного, а для Просвещения на первый план выходит умение думать, использовать Разум).
Г. Филдинг сам был очень образованным человеком и знал экономическую роль денег в обществе, поэтому суждения действительно больного Мизаргуруса нельзя отождествлять со взглядами самого писателя, использующего в памфлете приемы Дж. Свифта, доводя до абсурда наиболее несомненные для общественного мнения ценности (право частной собственности, процветание государства, избирательное право и пр.). В то же время, посягая в своем безумии на общепринятое мнение, Мизаргурус показывает истинное положение дел в «разумном обществе», где желание избавиться от богатства без всякого диагноза врачей сразу же квалифицируется как безумие. При этом Мизаргуруса отправляют в Бедлам не за его идеи, а лишь тогда, когда он начинает претворять их в жизнь. Это уже выпад против рационализма Просвещения, породившего немало превосходных идей, которые так и остались на бумаге.
Поразмыслите над характером Мизаргуруса и попытайтесь сопоставить его с характером Дон Кихота.
Письмо из Бедлама Перевод Ю. Кагарлицкого
Сэру Дрокансеру[204]
Бедлам, 1 апреля 1752 года. Анакреон[205]Не сомневаюсь, сэр, что, не дойдя и до середины моего письма, Вы уже станете недоумевать, почему оно помечено Бедламом, и, может быть, согласитесь с давним моим мнением, что это место в Англии отведено специально для тех, кто оказался разумнее своих соотечественников.
Но, как бы там ни было, скажу вам без обиняков, что, если Вы и впрямь собираетесь исправлять нравы нашего королевства, то не преуспеете в этом, ибо средства у Вас негодные.
Медики утверждают, что, прежде чем бороться с расстройствами человеческого организма, надо обнаружить и устранить их причину. Так и в политике. Поступая иначе, Вы и в том и в другом случае принесете, быть может, больному временное облегчение, но не в состоянии будете его излечить.
С Вашего позволения, сэр, Вы, на мой взгляд, весьма далеки от того, чтобы познать подлинный источник наших политических зол, и едва ли можно рассчитывать, что Вам когда-либо удастся составить хотя бы самое слабое представление о нем. Стоит ли после этого удивляться, что Вы не только не предлагаете правильного способа лечения, но, предаваясь своим умствованиям, нередко роняете намеки, способные на практике привести лишь к обострению болезни.
Знайте же, сэр, только я постиг источник всех зол. Ценою изнурительного труда и упорных изысканий я открыл причину коррупции, расточительной роскоши, разврата, позорящих наши нравы, а посему я один способен исправить их. Но пусть не будут слова мои истолкованы ложно. Если я притязаю на честь быть первым, сделавшим подобное открытие, то лишь среди новых авторов. Древним философам и некоторым из древних поэтов этот бесценный секрет был хорошо известен; я имею тому обширные доказательства и могу подтвердить свою правоту многочисленными цитатами. Он упоминается в их сочинениях так часто, что достойно немалого удивления, как могло подобное обстоятельство ускользнуть от внимания джентльмена, столь хорошо, по всей видимости, знакомого с этими яркими светочами истинного знания и образованности.
Но перейдем к сути дела. Что, как не деньги, является источником наших политических зол, которые все умножаются и усугубляются? Деньги! Это о них греческий поэт, чьи слова приведены мною в качестве эпиграфа, сказал: «Да погибнет тот, кто их придумал. Они убивают любовь брата к брату и отца к сыну, они несут с собой войны и кровопролития».
Если согласиться с этими словами, – ас ними нельзя не согласиться, – в чем же тогда спасение? Разве не в том, чтобы устранить первопричину, извергнув из нашего общества этот вредоносный металл, этот ящик Пандоры[206]?
Но, хотя преимущества предложенной меры, по-моему, на редкость очевидны, никому еще на моей памяти не приходила в голову и тень подобного проекта; он, видимо, не открылся с такой ясностью умам других людей. Поэтому я коснусь важнейших достоинств этой идеи и, дабы не повторять общие места из авторов, упомянутых выше, внимание свое сосредоточу на вопросах, затрагивающих непосредственные интересы нашей страны.
Во-первых, подобная мера решительно положит конец лихоимству, которое почти каждый осуждает, хотя чуть ли не все к нему причастны; исчезнут раздоры, породившие коррупцию и неизменно ее питающие. Люди перестанут добиваться высоких и обременительных должностей, они будут всячески избегать их. А народ, предоставленный самому себе, непременно остановит свой выбор на самых способных и заставит их именем конституции служить обществу. Таким образом, возродится к жизни процедура, известная под названием выборов и благотворная для свободной нации; в противном случае она легко может стать пустым звуком.
Я допускаю, правда, что иной человек, подстрекаемый лишь честолюбием, будет стремиться к должностям, исполнять которые не способен. Но мздоимство при этом не укоренится или окажется столь явным, что закону нетрудно будет пресечь его: в самом деле, как распорядиться стадом коров или овец так, чтобы никто не заметил?
Во-вторых, эта мера навсегда положит конец роскоши; во всяком случае, она сведет ее к простому излишку, который позволял нашим предкам держать двери своего дома открытыми для гостей.
В-третьих, она принесет неисчислимые выгоды торговле, ибо мы не сможем более вести дела с нациями-кровопийцами, не желающими взамен своих брать наши товары. Я, конечно, мог бы отнестись к такого рода торговле и более благожелательно, поскольку она мало-помалу избавляет нас от зла, против которого направлено мое негодование, и со временем, полагаю, целиком достигнет этой благородной цели. Но я должен заметить, что, как ни похвальна цель, не все средства можно порой счесть желательными. Стоит лишь примириться с наличием у нас денег, как тотчас сыщется достаточно резонов накопить их побольше. Опасно иной раз прибегать к полумерам там, где надо действовать решительно. И уже совсем не вызывает сомнений, что, поскольку деньги принято теперь считать выражением всех вещей, только нация идиотов способна постоянно отдавать их в руки своих врагов.
В-четвертых, возродятся добродетель, образованность, добросердечие, честь и многие другие высокие качества, погубленные деньгами либо извращенные ими до такой степени, что невозможно отличить истинные от ложных. Богатство почитается ныне достойным их всех воплощеньем. Примеры этому, впрочем, нетрудно сыскать уже у древних философов и поэтов, которых я упоминал.
А с каким рвением старались бы адвокаты быстрее закончить процесс или медики вылечить больного, осуществись мой замысел! Могут, правда, возразить, что тогда они унесут у людей все пожитки, как и теперь уносят у иного бедняка; но я отвечу, что ими здесь руководит желание обратить потом эти вещи в деньги: не станут же они набивать свои дома вшивым тряпьем, содранным с постели какого-нибудь горемыки.
По той же причине мой проект положит конец грабежам, с которыми никак не справится наше правосудие; правда, добро крадут у нас наравне с деньгами, но лишь для того, чтобы обратить его в монету. В вашей табакерке, часах или кольце похититель видит не предметы, коими сам желал бы воспользоваться, а ценности; он рассуждает, подобно Гудибрасу[207]:
Какой же в этой вещи прок, Коль ты продать ее не смог?Остается только добавить, что в моем плане заключен верный и, пожалуй, единственный способ помочь бедным – сделать невозможным существование богатых.
Где нет богатых, нет и бедных, ибо провидение в мудрости своей обеспечило полный достаток жителям каждой страны; где никто не владеет слишком многим, там никто не живет в нужде.
Я долго обдумывал этот превосходный проект, – так долго, что, если поверить иным, помешался в уме, – и наконец, твердо решил исполнить свой долг, доказав путем примера, насколько я убежден в правильности своих идей. Я обратил в наличные имение, приносившее триста фунтов годового дохода, набил полные карманы денег и, прихватив с собой своего прямого наследника, отправился на Темзу, где принялся выгружать содержимое карманов в воду. Но не успел я избавиться и от трех пригоршен, как наследник схватил меня и с помощью лодочника уволок от берега. День я просидел взаперти в одной из комнат собственного дома, а наутро родственники, сговорившись, водворили меня сюда. Здесь я, по всей вероятности, и буду пребывать до тех пор, пока человечество не образумится.
Остаюсь, сэр, Ваш покорнейший слуга
Мизаргурус[208].Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте главного героя памфлета Г. Филдинга.
2. Как Филдинг объясняет причины коррупции?
3. Как в этом произведении утверждается идея равенства людей?
4. Как создается комический эффект в письме?
5. Назовите риторические приемы, которые использует Филдинг. Для чего они нужны автору?
6. Что, по мнению Г. Филдинга, а не Мизаргуруса, является истинным источником зла?
7. Напишите ответ автору письма.
8. Подготовьте сообщение на тему «Сатира в творчестве Свифта и Филдинга».
Поэзия западноевропейского Просвещения
Европейскую поэзию Просвещения часто называют «рассудочной». Действительно, в век разума мысль стремилась контролировать чувство, но она не отменяла чувств, не подчиняла их себе. Поэты Просвещения стремились разобраться в том, что представляет собой человеческая душа. Они видели недостатки людей, из которых едва ли не самым страшным им казалось невежество. Но если человек неразумен и невежествен, нельзя обращаться к его разуму, но нельзя и оставлять его во мраке невежества. И вот тут на помощь просветителям приходила поэзия, особенно поэзия сатирическая. Просветители высмеивали невежество, стремясь задеть человеческие чувства, воздействовать на самолюбие и тем самым пробудить дремлющий разум. Именно блистательные сатирические стихотворения принесли поэтическую славу Г. Филдингу, Дж. Свифту, Вольтеру и многим другим поэтам восемнадцатого столетия.
Поэты-просветители пытались постигнуть и суть самой поэзии. Они создавали удивительные произведения, в которых поэзия была и целью, и средством художественного изображения. Поэты восхваляли поэзию, изучали поэзию, одновременно создавая поэтическое произведение. Таковы «Храм вкуса» Вольтера и «Опыт о критике» Александра Поупа.
Поэты обращались к властителям, создавая «похвальные оды», в которых не столько прославляли, сколько поучали их, не стесняясь задеть самолюбие королей и высших государственных сановников.
Но конечно же основным для просветительской поэзии оставалось выражение лирического чувства. Такова природа поэзии, и в век разума она помогала людям делиться своими чувствами. Убедиться в этом можно, прочитав элегию французского поэта Андре Шенье, чье творчество очень любил и ценил А. С. Пушкин. Именно он и перевел со свойственным ему блеском стихотворение, предлагаемое вам.
Обратите внимание, как передает поэт любовное чувство и какое место занимает в элегии рациональная оценка чувства.
Андре Шенье
«Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает…» Перевод А. Пушкина
Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает; На девственных устах улыбка замирает. Давно твоей иглой узоры и цветы Не оживлялися. Безмолвно любишь ты Грустить. О, я знаток в девической печали; Давно глаза мои в душе твоей читали. Любви не утаишь: мы любим, и как нас, Девицы нежные, любовь волнует вас. Счастливы юноши! Но кто, скажи, меж ими Красавец молодой с очами голубыми, С кудрями черными?.. Краснеешь? Я молчу, Но знаю, знаю все; и если захочу, То назову его. Не он ли вечно бродит Вкруг дома твоего и взор к окну возводит? Ты втайне ждешь его. Идет, и ты бежишь, И долго вслед за ним незримая глядишь. Никто на празднике блистательного мая, Меж колесницами роскошными летая, Никто из юношей свободней и смелей Не властвует конем по прихоти своей.Вопросы и задания
1. Почему лирический герой в стихотворении А. Шенье – сторонний наблюдатель?
2. Какое чувство вызывает у лирического героя облик влюбленной девушки?
3. Охарактеризуйте лирического героя.
Четвертый урок мастерства
О том, что такое пафос литературного произведения
Читая различные произведения, вы, вероятно, уже обратили внимание на то, что одни из них возбуждают в вас радостное чувство, от других вы грустите, третьи вызывают негодование, четвертые – смех и т. д. Почему так происходит? Дело здесь в таком важном свойстве художественного произведения, как пафос. Пафос – это основной эмоциональный настрой произведения, его эмоциональная насыщенность. В зависимости от типа пафоса, присущего произведению, мы и испытываем определенные эмоции.
Понятие пафоса употребляется в литературоведении для характеристики идейного мира произведения и своеобразия художественных идей. Великий русский критик В. Г. Белинский писал: «Каждое поэтическое произведение есть плод могучей мысли, овладевшей поэтом. Если бы мы допустили, что эта мысль есть только результат деятельности его рассудка, мы убили бы этим не только искусство, но и самую возможность искусства… Искусство не допускает в себе отвлеченных философских, а тем менее рассудочных идей: оно допускает только идеи поэтические; а поэтическая идея – это не силлогизм, не догмат, не правило, это – живая страсть, это – пафос».
В пафосе, таким образом, органически слито рациональное и эмоциональное, мысль писателя и его переживание. Именно воплощаясь в пафосе, идея становится личностной, глубоко прочувствованной писателем. Только пафос, а не отвлеченные идеи обладает способностью вызывать ответное переживание читателя, заставляет его живо воспринимать и эмоционально-идейный заряд всего произведения, и судьбы отдельных героев, и лирические высказывания автора.
Пафос – один из главных критериев художественного совершенства произведения. Все великие произведения прошлого и настоящего неизменно отличаются глубиной пафоса. Именно благодаря пафосу произведение оказывается способным к долгой исторической жизни. Пафос, например, героики, трагизма или драматизма понятен человеку любой эпохи, какими бы конкретными обстоятельствами он в свое время ни был вызван. Вот уже целый век читатели смеются над рассказом А. П. Чехова «Смерть чиновника», хотя изображенные в нем типы уже давно ушли из нашей жизни.
Заметьте, что термин «пафос» зачастую связывается у нас с особым строем художественной речи – с ее торжественностью, возвышенностью, ориентацией на ораторские интонации. Отсюда выражение «говорить с пафосом», которое иногда принимает иронический оттенок – в тех случаях, когда театральность и риторичность в выражении чувств кажутся нам неуместными. Дело в том, что пафос, то есть эмоционально пережитая художником идея, далеко не всегда и не обязательно должен воплощаться в формах риторической, возвышенной, «украшенной» речи. В истории развития литературы мы наблюдаем, что выражение пафоса становится все более простым и естественным. Принципы скрытого, неявного выражения пафоса достигли высшей точки на рубеже XIX–XX веков, особенно в творчестве А. П. Чехова, которому принадлежит следующее высказывание: «Когда изображаете горемык и бесталанных и хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее – это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисуется рельефнее… Над рассказами можно и плакать, и стонать, можно страдать заодно со своими героями, но, полагаю, это нужно делать так, чтобы читатель не заметил. Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление».
По пути, проложенному А. П. Чеховым, в дальнейшем шли многие мастера художественного слова, с творчеством которых вы познакомитесь позже. Сейчас на примере какого-нибудь известного произведения попытайтесь посмотреть, как принципы создания пафоса отразились в художественной практике.
И в XX веке торжественно-приподнятой, возвышенной речи не закрыт доступ в литературу. Посмотрите, например, как сочетаются способы выражения пафоса в поэме А. Т. Твардовского «Василий Теркин», с которой вам еще предстоит познакомиться. Когда в этом чувствовалась необходимость, автор не стеснялся выражать высокий пафос высокими словами:
Он идет, святой и грешный, Русский чудо-человек…Или:
Смертный бой не ради славы, Ради жизни на земле…Сравните эти отрывки с другим примером из того же произведения:
До чего ж земля большая, Величайшая земля. И была б она чужая. Чья-нибудь, а то – своя. Спит герой, храпит – и точка. Принимает все как есть. Ну, своя – так это ж точно, Ну, война – так я же здесь.Неизменен героический пафос – речь идет о том же самом защитнике «жизни на земле», – но выражен он иными лексическими средствами: просторечием, иногда даже грубоватым.
Пафос художественных произведений чрезвычайно разнообразен в своих проявлениях. С некоторыми вы уже знакомы. Так, в русских народных былинах встречаемся с героическим пафосом, в балладах – с романтическим или трагическим. В дальнейшем вы обогатите свои представления об известных видах пафоса и познакомитесь с другими – сентиментальностью, драматизмом, юмором, сатирой и др. Обратите внимание на то, что деление пафоса на виды основывается на том, что в пафосе выражается личностное, пристрастно-заинтересованное отношение писателя к тому, о чем он пишет. Следовательно, пафос произведения всегда носит оценочный характер, выражает одобрение или неодобрение, восхищение, восторг, презрение, насмешку и т. д. Поэтому понять пафос произведения – это значит во многом понять авторскую концепцию мира и человека, авторскую систему ценностей, то есть самое важное, что заключено в содержании художественного произведения.
Сентиментализм в западноевропейской литературе
Оптимизм просветителей основывался на вере в то, что буржуазия, придя к власти, построит «разумное» и гармоническое общество. Но к середине XVIII столетия все очевиднее становилась несбыточность этих идей. Кризис просветительства породил новые эстетические идеалы, выразившиеся в первую очередь в английском искусстве – сентиментализме и предромантизме.
Сентиментализм – непродуктивный творческий метод, вызванный к жизни ощущением ограниченности просветительского классицизма с его жестоким рационализмом. Сентименталисты исходили из положения об изначальной доброте человека и призывали развивать эту доброту с помощью обращения к природе и гуманного воспитания. Вместо классицистского культа Разума сентименталисты выдвинули культ чувства. Как и барокко, сентиментализм восполняет недостаточность классицизма, но уже на новом этапе исторического развития человечества.
Крушение просветительских идеалов и отсутствие в настоящем сколько-нибудь обнадеживающих перспектив заставляют обратиться к прошлому и к внутреннему миру человека.
В Англии сентиментализм возникает в 30-е годы XVIII века в поэзии. Появление сентиментализма в Англии было реакцией демократических кругов общества на установление в стране власти крупной буржуазии, вступившей в тесный союз с аристократией. Расцвет сентиментализма и его проникновение из Англии в другие европейские страны относятся к 60-м годам XVIII века. Как литературное направление сентиментализм продолжает существовать до конца века, а остатки его влияния чувствуются и в первом десятилетии XIX века.
Сентиментализм по своим социальным корням и идейному звучанию тесно связан с просветительским классицизмом. Это типично просветительское литературное явление. Перенос акцента с культа разума на культ чувства не меняет общей идейно-эстетической установки, апеллирующей к изначальному человеческому совершенству, базирующейся на безусловной вере в возможности человека изменить к лучшему окружающую его действительность. Меняется философская основа, вместо изначально разумного человека появляется изначально добрый (чувствующий) человек, но его функции в мире остаются прежними, просветительскими: он должен придать миру гармонию и цельность.
Сентименталисты пытались найти основную ошибку в теории просветителей и объяснить по-своему закономерность развития общества. Результатом их поисков становится перенос акцентов с человеческого разума на человеческое чувство. Но исследование чувства в их творчестве происходило в основном на уровне нравственности и не затрагивало основ общества. Отсюда вывод сентименталистов о том, что главное – познать не разум, а чувства человека, воспитать его не столько мыслящим, сколько добрым, чувствующим.
Писатели-сентименталисты уделяли особое внимание изображению природы («Времена года» Дж. Томсона), но их интерес был направлен не на законы, регулирующие ее жизнь, а на воздействие природы на человеческую душу, на ее красоту. Сентименталистов волнует проблема соотношения материального и идеального в человеческой жизни, но решают они ее, явно отдавая предпочтение идеальному.
Достаточно часто в литературе сентименталистов возникает тема смерти. Человеческая жизнь скоротечна, плоды человеческого труда подвержены разрушению – так стоит ли уделять им столько внимания? Было бы прекрасно построить человеческое общество по законам природы, но для этого необходимо изучать не природу, а душу человека, воспитывать в нем доброту, чуткость, любовь к прекрасному. Добрые люди сами создадут условия для гармонического существования.
Писатели этого литературного направления считали, что основным объектом изображения в искусстве должен быть внутренний мир человека. Внутренний мир развивается при созерцании природы, при появлении каких-либо сильных чувств: любви, ненависти, страдания. Сентименталисты не избегали изображения социальных конфликтов, но придавали им субъективное истолкование. В самих этих конфликтах их интересовало поведение человека, движение его души («Векфильдский священник» О. Голдсмита). Сентименталисты также полагали, что искусство должно преследовать дидактические цели. В каждом человеке от рождения заложены добрые качества, и задача искусства – пробудить их в человеке, открыть ему мир прекрасного и гармонического. Познавательные задачи искусства тоже находились в сфере внутреннего мира человека.
Внимание сентименталистов было приковано не к самому миру в его объективной реальности, а к отражению этого мира в человеческом восприятии. Писатели изображают лишь то, что производит наиболее сильное впечатление на человеческие чувства. Материальный мир отражается как временный, преходящий, а человеческие чувства как вечные и самоценные.
Значение сентиментализма в том, что он открыл внутренний мир человека, смог передать тонкие оттенки человеческих чувств, показал сложность отражения реального мира в человеческих ощущениях. Однако сентименталисты изображали человеческие чувства не в развитии, часто вырывая человека из окружающей его среды, игнорируя саму эту среду.
Обстоятельствам сентименталисты придают второстепенное значение. Для них главное – душа человека. Человек же в литературе сентименталистов отличается известной заданностью. В нем заложены изначально добрые чувства, которые развиваются не в силу обстоятельств, социальных условий, а в силу случайных воздействий на душу героя.
Томас Грей
Творческое наследие этого английского поэта, писавшего в середине XVIII века, невелико, но очень интересно. Чрезвычайно образованный человек, увлекавшийся изучением культуры далекого прошлого своей родины, Т. Грей создавал произведения, стилизовавшие старинные кельтские песни. В его стихотворениях звучали также и античные мотивы, но европейскую известность принесла ему «Элегия, написанная на сельском кладбище».
Мы уже отмечали, что сентименталистов привлекала тема смерти. Это породило так называемую кладбищенскую поэзию, одним из родоначальников которой был Т. Грей. Кладбищенский пейзаж дает возможность поэту, во-первых, показать неразрывную связь человека с природой, во-вторых, поразмышлять о тщетности и непрочности земной жизни. Мысль о неизбежной смерти заставляет читателя пересмотреть свое отношение к целям земного бытия.
Прочитайте внимательно элегию и скажите, в чем Т. Грей видит подлинную ценность человеческой жизни.
Не случайно поэт изображает именно сельское кладбище, а не какой-нибудь городской некрополь. В элегии звучат отчетливые демократические мотивы. Перед лицом вечности могилы простых селян не менее значимы, чем богатые надгробия над склепами богачей.
Проследите, как поэт развивает в элегии это противопоставление.
Широкая известность и популярность «Элегии, написанной на сельском кладбище» в России во многом была связана с блистательным переводом В. А. Жуковского, сумевшего очень тонко передать чувство щемящей грусти и спокойствие философского осмысления смерти.
Постарайтесь выяснить, какие поэтические приемы и средства использует для этого переводчик.
Элегия Грея – это еще и прекрасный образец пейзажной лирики. Для сентименталистов умение почувствовать красоту и величие природы всегда было одним из самых надежных критериев богатства человеческой души. В. А. Жуковский и в описании кладбищенской природы продемонстрировал свой талант, точно связав пейзаж с эмоциональным настроем всего стихотворения.
Попытайтесь и вы установить связь между описаниями природы и лирическим настроением повествователя.
Сельское кладбище. Элегия Перевод В. Жуковского
Уже бледнеет день, скрываясь за горою; Шумящие стада толпятся над рекой; Усталый селянин медлительной стопою Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой. В туманном сумраке окрестность исчезает… Повсюду тишина; повсюду мертвый сон; Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает, Лишь слышится вдали рогов унылый звон. Лишь дикая сова, таясь под древним сводом Той башни, сетует, внимаема луной, На возмутившего полуночным приходом Ее безмолвного владычества покой. Под кровом черных сосн и вязов наклоненных, Которые окрест, развесившись, стоят, Здесь праотцы села, в гробах уединенных Навеки затворясь, сном непробудным спят. Денницы тихий глас, дня юного дыханье, Ни крики петуха, ни звучный гул рогов, Ни ранней ласточки на кровле щебетанье — Ничто не вызовет почивших из гробов. На дымном очаге трескучий огнь, сверкая, Их в зимни вечера не будет веселить, И дети резвые, встречать их выбегая, Не будут с жадностью лобзаний их ловить. Как часто их серпы златую ниву жали, И плуг их побеждал упорные поля! Как часто их секир дубравы трепетали, И потом их лица кропилася земля! Пускай рабы сует их жребий унижают, Смеяся в слепоте полезным их трудам, Пускай с холодностью презрения внимают Таящимся во тьме убогого делам; На всех ярится смерть – царя, любимца славы, Всех ищет грозная… и некогда найдет; Всемощныя судьбы незыблемы уставы: И путь величия ко гробу нас ведет! А вы, наперсники фортуны ослепленны, Напрасно спящих здесь спешите презирать За то, что гробы их непышны и забвенны, Что лесть им алтарей не мыслит воздвигать. Вотще над мертвыми, истлевшими костями Трофеи зиждутся, надгробия блестят, Вотще глас почестей гремит перед гробами — Угасший пепел наш они не воспалят. Ужель смягчится смерть сплетаемой хвалою И невозвратную добычу возвратит? Не слаще мертвых сон под мраморной доскою; Надменный мавзолей лишь персть их бременит. Ах! может быть, под сей могилою таится Прах сердца нежного, умевшего любить, И гробожитель-червь в сухой главе гнездится, Рожденной быть в венце иль мыслями парить! Но просвещенья храм, воздвигнутый веками, Угрюмою судьбой для них был затворен, Их рок обременил убожества цепями, Их гений строгою нуждою умерщвлен. Как часто редкий перл, волнами сокровенный, В бездонной пропасти сияет красотой; Как часто лилия цветет уединенно, Пустынном воздухе теряя запах свой. Быть может, пылью сей покрыт Гампде́н[209] надменный, Защитник сограждан, тиранства смелый враг; Иль кровию граждан Кромвель[210] необагренный, Или Мильтон[211] немой, без славы скрытый в прах. Отечество хранить державною рукою, Сражаться с бурей бед, фортуну презирать, Дары обилия на смертных лить рекою, В слезах признательных дела свои читать — Того им не дал рок; но вместе преступленьям Он с доблестями их круг тесный положил; Бежать стезей убийств ко славе, наслажденьям И быть жестокими к страдальцам запретил; Таить в душе своей глас совести и чести, Румянец робкия стыдливости терять И, раболепствуя, на жертвенниках лести Дары небесных муз гордыне посвящать. Скрываясь от мирских погибельных смятений, Без страха и надежд, в долине жизни сей, Не зная горести, не зная наслаждений, Они беспечно пели тропинкою своей. И здесь спокойно спят под сенью гробовою — И скромный памятник, в приюте сосн густых, С непышной надписью и резьбою простою, Прохожего зовет вздохнуть над прахом их. Любовь на камне сем их память сохранила, Их лета, имена потщившись начертать; Окрест библейскую мораль изобразила, По коей мы должны учиться умирать. И кто с сей жизнию без горя расставался? Кто прах свой по себе забвенью предавал? Кто в час последний свой сим миром не пленялся И взора томного назад не обращал? Ах! нежная душа, природу покидая, Надеется друзьям оставить пламень свой; И взоры тусклые, навеки угасая, Еще стремятся к ним с последнею слезой; Их сердца милый глас в могиле нашей слышит; Наш камень гробовой для них одушевлен; Для них наш мертвый прах в холодной урне дышит, Еще огнем любви для них воспламенен. А ты, почивших друг, певец уединенный, И твой ударит час, последний, роковой; И к гробу твоему, мечтой сопровожденный, Чувствительный придет услышать жребий твой. Быть может, селянин с почтенной сединою Так будет о тебе пришельцу говорить: «Он часто по утрам встречался здесь со мною, Когда спешил на холм зарю предупредить. Там в полдень он сидел под дремлющею ивой, Поднявшей из земли косматый корень свой; Там часто, в горести беспечной, молчаливой, Лежал, задумавшись, над светлою рекой; Нередко ввечеру, скитаясь меж кустами, — Когда мы с поля пели и в роще соловей Свистал вечерню песнь, – он томными очами Уныло следовал за тихою зарей. Прискорбный, сумрачный, с главою наклоненной, Он часто уходил в дубраву слезы лить, Как странник, родины, друзей, всего лишенный, Которому ничем души не усладить. Взошла заря – но он с зарею не являлся, Ни к иве, ни на холм, ни в лес не приходил; Опять заря взошла – нигде он не встречался; Мой взор его искал – искал – не находил. Наутро пение мы слышим гробовое… Несчастного несут в могилу положить. Приблизься, прочитай надгробие простое, Чтоб память доброго слезой благословить». Здесь пепел юноши безвременно сокрыли, Что слава, счастие, не знал он в мире сем. Но музы от него лица не отвратили, И меланхолии печать была на нем. Он кроток сердцем был, чувствителен душою — Чувствительным Творец награду положил. Дарил несчастных он – чем только мог – слезою; В награду от Творца он друга получил. Прохожий, помолись над этою могилой; Он в ней нашел приют от всех земных тревог; Здесь все оставил он, что в нем греховно было, С надеждою, что жив его спаситель – Бог.Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте пафос этой элегии.
2. Как в элегии утверждается мысль о равенстве людей?
3. Какие идеалы Просвещения отразились в этой элегии?
4. Каким видится автору облик поэта?
5. Охарактеризуйте тропы в этой элегии и их значение для создания лирического чувства.
6. Определите стихотворный метр элегии.
7. Почему элегия заканчивается эпитафией? Что добавляет произведению соединение двух жанров?
Предромантизм в западноевропейской литературе
Предромантизм появляется в английской литературе в 60-е годы XVIII века. Он занимает как бы пограничную зону между произведениями XVIII и XIX веков. Не являясь собственно творческим методом, он представляет собой своеобразное направление, с одной стороны, еще сохраняющее в себе некоторые черты просветительского классицизма, а с другой – выдвигающее принципы, предвосхищающие романтизм XIX века.
Предромантизм был вызван к жизни разочарованием в идеалах Просвещения, он отразил глубокое недовольство господством буржуазии, был первым антибуржуазным направлением в литературе. Но появляется предромантизм в то время, когда буржуазия в Англии уже прочно захватила власть, а до Французской буржуазной революции было еще далеко. Поэтому для него характерно полное разочарование в возможности человека как-либо повлиять на окружающий его мир. Предромантики отказываются признать истинность и рационалистичность просветительской картины мира. Они просто считают, что мир развивается абсурдно, хаотично, что в природе нет никаких объективных законов, а если они и есть, то человек не способен познать их.
Философской основой предромантизма является агностицизм, учение о непознаваемости мира и человека. Именно с произведений предромантиков появляется в литературе тема непознаваемости мира, тщетности попыток как разума, так и чувства раскрыть тайны бытия. Предромантиков интересует проблема взаимоотношения личности с миром, в котором безраздельно властвует зло. Если у просветительских классицистов на первый план выступал разум, а у сентименталистов – чувство, то для предромантиков главное – это пассивность или активность человека в непознаваемом и враждебном ему мире. Они акцентируют внимание на действиях человека, хотя постоянно подчеркивают, что от этих действий ничто в реальном мире измениться не может.
Предромантизм выдвинул и особый способ типизации, во многом предвосхищающей типизацию романтическую, изображая сильную, активную личность в необычных обстоятельствах. Философская основа этого течения диктовала необходимость изображения действительности как недоступной ни чувственному, ни рациональному восприятию человека, противостоящей человеку. Поведение человека объяснялось его субъективным отношением к событиям, зависело от эгоистических устремлений, характер героя проявлялся в действии, в столкновении с окружающим его враждебным миром. Такое изображение требовало динамического повествования, отсюда – свойственная предромантикам авантюрность сюжетов.
Возникновение предромантизма было связано с антипросветительскими настроениями. Предромантики пытались отвергнуть художественное наследие просветителей и искали в предшествующей литературе иные авторитеты. Естественно, в первую очередь они обратились к тому материалу, которым пренебрегли просветители. Именно предромантики заново «открыли» Шекспира, пытались эстетически освоить культуру Средневековья, или «готики», как они ее называли, и экзотических стран, обратились к фольклору.
Предромантизм в Англии выдвинул новую поэтику, основанную на обращении к памятникам средневековой культуры, на изучении и воспроизведении национального народного творчества. Именно предромантикам мы обязаны появлением первых сборников произведений устного народного поэтического творчества: они с увлечением собирали и публиковали старинные народные песни, баллады, предания.
Предромантики открыли читателям столь модную сейчас литературу ужасов. Во второй половине XVIII века начали публиковаться и сразу же стали очень популярны «готические», или «черные», романы. На театральных сценах появились произведения в жанре «драмы судьбы», в которых герой оказывался жертвой обстоятельств, не зависящих от него.
Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер Разбойники
Немецкий писатель Ф. Шиллер прожил сложную и богатую событиями жизнь. Получив прекрасное образование и начав службу полкового лекаря в княжестве Вюртемберг, он пишет драму «Разбойники». Блестящая премьера спектакля по этой пьесе состоялась в соседнем княжестве Мангейм. Однако «высочайшая» цензура герцога Карла Евгения лишает Шиллера душевного покоя, и молодому драматургу приходится сделать нелегкий выбор: либо навсегда отказаться от литературного творчества, либо бежать из родного княжества. Он избирает побег, и начинается период скитаний. Лишь сближение с И. В. Гёте, переросшее затем в дружбу, помогло Ф. Шиллеру обрести независимость и полностью посвятить себя творчеству.
Литературное наследие писателя весьма разнообразно. Вам уже знакома баллада «Перчатка» в переводе М. Ю. Лермонтова. Ф. Шиллер оставил немало произведений, написанных в этом жанре. Он автор многочисленных критических работ, прекрасных стихов. Драматургия же оставалась его глубокой привязанностью на протяжении всей жизни.
Заметим, что характер творчества Ф. Шиллера со временем менялся: начинал он как писатель-предромантик, а закончил свой творческий путь убежденным сторонником и теоретиком просветительского классицизма.
Сейчас вам предстоит познакомиться с драмой «Разбойники». Это произведение было хорошо известно и почитаемо в России. Его упоминает в своем романе «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевский.
В этой пьесе отразились характерные черты немецкого предромантизма. Весьма показателен эпиграф драмы «Против тиранов». Причем автор понимает тиранию не только как политическое явление, но в первую очередь как всесилие зла на земле, что очень характерно для предромантизма.
Произведение Шиллера поднимает тему благородного разбойника, возникшую у предромантиков (помните имя Ринальдо, которым называет Дубровского князь Верейский?), но получившую широкое распространение уже в романтизме. Эта тема позволяет автору установить связь с европейским фольклором (что тоже свойственно пред-романтизму): Карл Моор не случайно упоминает имя Робин Гуда. Однако разбойнику очень трудно сохранить благородство, и в трактовке этой проблемы тоже звучит характерная для предромантизма безысходность.
Подумайте, что заставляет Карла Моора стать атаманом, как он проявляет себя на этом поприще и почему выбирает добровольную смерть.
Очень любопытно используется в пьесе прием антитезы.
Вы, я надеюсь, и сами можете вычленить контрастные пары и объяснить их назначение в произведении. Обратите внимание на то, что оба брата – Карл и Франц – выбирают в конце пьесы добровольную смерть. Как вы полагаете, почему драматург, постоянно противопоставлявший братьев друг другу, приводит их к сходному финалу?
Вам уже приходилось встречаться в литературе с образами благородных разбойников. Вы конечно же помните замечательный образ Владимира Дубровского, созданный гением А. С. Пушкина. Сопоставьте его с характером Карла Моора, чтобы выяснить отличительные черты предромантического героя.
Вопросы и задания
1. Определите основной конфликт пьесы и покажите, как он развивает сценическое действие.
2. Охарактеризуйте развязку пьесы и сформулируйте ее идею.
3. Как в драме проявляется авторская позиция? Какие идеалы утверждает автор?
4. Какова художественная мотивировка поступков Франца Моора?
5. Какие художественные средства использует Шиллер для создания характера Карла Моора?
6. Кого из персонажей пьесы можно отнести к «тиранам», в чем их сила?
7. Определите жанр этого драматического произведения, указав его признаки.
8. Дайте сопоставительную характеристику Францу и Карлу Моорам (письменно).
9. Подготовьте вместе с одноклассниками инсценировку понравившейся сцены из пьесы.
Роберт Бернс
Замечательный шотландский поэт Р. Бернс жил во второй половине XVIII века. Это был очень талантливый человек. Сын простого крестьянина, он всю жизнь занимался фермерским трудом, и хотя его образование ограничивалось уроками сельского священника, снискал себе всемирную поэтическую славу.
Бернс с детства любил народные шотландские песни и баллады, на них воспитывался его поэтический вкус. Чуткое сердце и зоркий глаз открывали ему красоту родной природы. Свою первую песню – отклик на юношеское чувство влюбленности – поэт написал в пятнадцать лет. Вначале произведения молодого поэта распространялись в устной форме, чему способствовала привычка юноши сочинять тексты на известные и популярные мелодии. Выход в свет двух первых томов стихотворений не принес поэту состояния, но обратил на него внимание ведущих шотландских и английских литераторов.
Успех поэзии Р. Бернса связан с тем, что в период увлечения фольклором появилось блестящее доказательство взаимовлияния устной традиции и литературы. Баллады Бернса, сохраняющие в себе лучшие традиции народных баллад, не стали частью фольклора, а вошли в золотой фонд шотландской и английской литературы.
Довольно рано поэзию Роберта Бернса узнали и в России. Томик его стихотворений был в библиотеке А. С. Пушкина, а переводили его такие известные мастера, как М. Л. Михайлов, В. С. Курочкин, С. Я. Маршак. Предлагаю вам одну из известнейших баллад шотландского поэта.
Подумайте, что роднит ее с народной балладой, а что отличает от фольклорных произведений. Попытайтесь ответить и на вопрос, почему творчество Р. Бернса относится к предромантизму.
Джон ячменное зерно Перевод М. Михайлова
Когда-то сильных три царя Царили заодно — И порешили: сгинь ты, Джон Ячменное Зерно! Могилу вырыли сохой — И был засыпан он Сырой землею, и цари Решили: сгинул Джон! Пришла весна, тепла, ясна, Снега с полей сопели. Вдруг Джон Ячменное Зерно Выходит из земли. И стал он полон, бодр и свеж С приходом летних дней: Вся в острых иглах голова — И тронуть не посмей! Но осень томная идет… И начал Джон хиреть, И головой поник – совсем Собрался умереть. Слабей, желтее с каждым днем, Все ниже гнется он… И поднялись его враги: Теперь-то наш ты, Джон! Они пришли к нему с косой — Снесли беднягу с ног, И привязали на возу, Чтоб двинуться не мог. На землю бросивши потом, Жестоко стали бить; Взметнули кверху высоко — Хотели закружить. Тут в яму он попал с водой И угодил на дно… «Попробуй, выплыви-ка, Джон Ячменное Зерно!» Нет, мало! взяли из воды И, на пол положа, Возили так, что в нем едва Держалася душа. В жестоком пламени сожгли И мозг его костей; А сердце мельник раздавил Меж двух своих камней. Кровь сердца Джонова враги, Пируя, стали пить, И с кружки начало в сердцах Ключом веселье бить. Ах, Джон Ячменное Зерно! Ты чудо-молодец! Погиб ты сам, но кровь твоя Услада для сердец. Как раз заснет змея-печаль, Все будет трын-трава… Отрет слезу свою бедняк, Пойдет плясать вдова. Гласите ж хором: «Пусть вовек Не сохнет в кружках дно, И век поит нас кровью Джон Ячменное Зерно!»Вопросы и задания
1. Какой художественный прием лежит в основе стихотворения?
2. Какой идейный смысл заключает в себе образ Джона Ячменное Зерно?
3. Нарисуйте ритмическую схему первой строфы стихотворения.
4. Охарактеризуйте жанр стихотворения.
Иоганн Вольфганг Гёте Фауст
Гёте был одним из самых выдающихся просветителей. Тонкий лирический поэт, драматург, романист, мыслитель, ученый-естествоиспытатель и государственный деятель, занимавший пост министра, – так щедро одарила природа И. В. Гёте. Он вступил в литературу как предромантик, увлеченный произведениями немецкого фольклора. Вы, я надеюсь, помните его балладу «Лесной царь»? Затем писатель создает «Страдания молодого Вертера» – одно из самых главных произведений европейского сентиментализма, а в последний период творческой деятельности он пишет чеканные стихотворения, утверждая поэтику классицизма. Дружба с Ф. Шиллером помогла писателю в поисках новых форм творческой выразительности.
В наследии великого немецкого писателя есть одно произведение, занимающее особое место. Это трагедия «Фауст», произведение необычное и чрезвычайно сложное. Должен сразу же вас предупредить, что это драматическое произведение никогда не предназначалось для сцены. В самом начале работы над «Фаустом» (а писатель создавал это произведение тридцать лет!) Гёте видел именно театральный сюжет. Постоянно возвращаясь к своему любимому творению, автор постепенно превратил его в грандиозное философское сочинение, в котором отразил свои взгляды на сущность человека.
Источником сюжета «Фауста» послужила народная книга XV века, в которой были собраны легенды об ученом-чернокнижнике, продавшем душу дьяволу. К этому образу еще до Гёте обращались английский драматург К. Марло и немецкие писатели из литературного кружка «Буря и натиск». Но их всех интересовал вопрос контакта человека с силами ада, его наказание за стремление проникнуть в тайны ирреального мира. Гёте принципиально меняет трактовку характера главного героя.
Фауст Гёте – это типический просветительский образ. Его главные качества – острый ум и стремление к познанию мира. Он воплощает идею человеческого прогресса, преобразования мира, его постоянного улучшения с помощью человеческой деятельности.
Фаусту противопоставлен Мефистофель. Этот посланник ада не верит в человеческие силы, сомневается в возможности улучшить мир. На борьбе этих двух персонажей и строится основной конфликт трагедии. Мефистофель должен заставить Фауста «остановить мгновение», то есть добровольно отказаться от дальнейшего познания, движения вперед.
Для писателя очень важно сопоставление характеров двух ученых: Фауста и Вагнера. Не следует думать, что Вагнер – бесталанная личность. Во второй части трагедии ему даже удается создать искусственного человека Гомункула. Это ли не достижение? И тем не менее Гёте не признает пути, избранного Вагнером.
Ответьте почему. А для ответа сопоставьте характеры Фауста и Вагнера.
Очень важен в трагедии образ Мефистофеля. Это безусловная удача писателя. У демона живой характер, зоркий глаз и острый язык. Он по-своему сочувствует людям и сожалеет об их земной участи. Но он и безжалостный боец. В своем споре с Фаустом Мефистофель проявляет поистине дьявольскую мудрость и неразборчивость в средствах.
Тема «искушения Фауста» является центральной в трагедии. Внимательно проследите, как заманивает черт ученого в ловушку, возложив на него ответственность за преступление Гретхен и заставив выбирать между осуждением женщины на смерть и произнесением роковых слов.
Для понимания образа Мефистофеля весьма значима сцена «Вальпургиева ночь». Внимательно прочтите ее и ответьте, каким представляет себе проявление зла И. В. Гёте.
Мы с вами много говорили о характере этого произведения. Но хотя оно и предназначено для чтения – это все-таки трагедия, и для нее очень важны речевые характеристики персонажей.
Как с помощью реплик писатель показывает особенности своих героев, как в речи отражаются черты их характеров? И еще вопрос: какую роль автор отводит в трагедии образу Бога?
Вопросы и задания
1. Назовите основной конфликт произведения и проследите этапы его развития.
2. Почему Мефистофелю не удается победить Фауста? В чем сила Фауста?
3. В чем смысл противопоставления Фауста и Вагнера?
4. Для чего в произведение вводится образ студента и разговор с ним Мефистофеля?
5. Как в «Фаусте» проявляется дьявольская мудрость Мефистофеля?
6. Назовите основные этапы искушения Фауста Мефистофелем и объясните их смысл.
7. Почему, совершив детоубийство, Маргарита все-таки оказывается «спасена»?
8. Какую идейную и композиционную роль выполняет в произведении «Пролог на небесах»?
9. Охарактеризуйте просветительские идеалы, воплощенные в «Фаусте».
10. Напишите сочинение на тему «Какие черты Фауста позволяют отнести его к «вечным образам»?».
11. Подготовьте с одноклассниками инсценировку понравившейся сцены из первой части.
Шарль Юбер Мильвуа
Этот французский писатель жил на рубеже XVIII и XIX веков. За свою недолгую жизнь он написал несколько трагедий, поэмы, теоретические статьи и ряд элегий. Большинство произведений Ш. Ю. Мильвуа давно забыто, но элегии принесли ему мировую известность. Дело в том, что в них поэт сумел передать состояние внутренней неуверенности человека, свойственное литературе предромантизма.
Свой творческий путь Ш. Ю. Мильвуа начинал как просветительский классицист. Утверждая культ разума, писатель говорил о том, что уже было хорошо известно его читателям. Но постепенно в его творчестве настойчиво начинает звучать тема краткотечности жизни, непостижимости мира и необъяснимости человеческих чувств.
Не случайно поэт обращается к жанру элегии – поэтического размышления о сменах человеческого настроения, о мимолетности человеческих чувств.
Элегия «Падение листьев», пожалуй, самая популярная из элегий Ш. Ю. Мильвуа, достаточно сказать, что в России ее переводили К. Н. Батюшков, М. В. Милонов, В. И. Туманский, И. И. Козлов и др. Мы предлагаем ее вам в прекрасном переводе Е. А. Баратынского.
Прочитав ее, скажите, как поэт передает лирическое чувство, охарактеризуйте значение последних строк, укажите характерные признаки жанра элегии.
Падение листьев Перевод Е. Баратынского
Желтел печально злак полей, Брега взрывал источник мутный, И голосистый соловей Умолкнул в роще бесприютной. На преждевременный конец Суровым роком обреченный, Прощался так младой певец С дубравой, сердцу драгоценной: «Судьба исполнилась моя, Прости, убежище драгое! О прорицанье роковое! Твой страшный голос помню я: «Готовься, юноша несчастный! Во мраке осени ненастной Глубокий мрак тебе грозит, Уж он зияет из Эрева[212], Последний лист падет со древа, — Твой час последний прозвучит!» И вяну я: лучи дневные Вседневно тягче для очей; Вы улетели, сны златые Минутной юности моей! Покину все, что сердцу мило. Уж мглою небо обложило, Уж поздних ветров слышен свист! Что медлить? Время наступило: Вались, вались, поблеклый лист! Судьбе противиться бессильный, Я жажду ночи гробовой. Вались, вались! Мой холм могильный От грустной матери сокрой! Когда ж вечернею порою К нему пустынною тропою, Вдоль незабвенного ручья, Придет поплакать надо мною Подруга нежная моя, Твой легкий шорох в чуткой сени, На берегах Стигийских вод[213], Моей обрадованной тени Да возвестит ее приход!» Сбылось! Увы! судьбины гнева Покорством бедный не смягчил, Последний лист упал со древа, — Последний час его пробил. Близ рощи той его могила! С кручиной тяжкою своей К ней часто матерь приходила… Не приходила дева к ней!Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте творческий метод элегии и покажите его признаки.
2. Определите пафос стихотворения.
3. Опишите лирического героя элегии.
4. Назовите изобразительно-выразительные средства, используемые в элегии, и объясните их художественное значение.
Сокровища книжных полок
В мире существует огромное число литературных шедевров, принадлежащих перу великих зарубежных мастеров слова. И вот я предлагаю вам несколько произведений, выбранных мною.
Первое из них – это новелла с приключениями, похищениями, пиратами и счастливым концом, произведение о всепобеждающей силе любви Рикаредо и Исабелы, самой прекрасной девушки Испании и Англии, сумевшей своими добродетелями покорить сердца не только высокопоставленных особ, но даже злых и завистливых людей. Обо всем этом вы узнаете, если продолжите знакомство с творчеством М. де Сервантеса Сааведра и прочитаете новеллу «Английская испанка».
Другое произведение эпохи Возрождения создано У. Шекспиром и поставлено им в собственном театре. Пьеса «Буря» является, пожалуй, единственной из его произведений, где почти полностью соблюдены классицистские три единства: единство места, времени и действия (события разворачиваются в течение нескольких часов на заброшенном в океане острове). «Буря» стала не только итогом сделанного драматургом, но и явилась удачной попыткой создать новый жанр – трагикомедию.
Расцвет национальной драмы в Испании связан с именем новеллиста и драматурга Лопе де Вега, пробовавшего свои силы во всех стихотворных и прозаических жанpax. Я остановил свой выбор на драме «Фуэнте Овехуна, или Овечий источник». В этом историческом произведении Лопе де Вега ставит вопрос о понятии чести. Именно вокруг него разворачиваются основные события. А вот какова судьба жителей селения Фуэнте Овехуна, простых крестьян Фрондосо, Лауренсии, ее отца, не пожелавших мириться с унижением и призванных королем к ответу за смерть командора Фернана Гомеса, о любви и смелости людей, не обремененных властью, вы узнаете со страниц знаменитой пьесы.
Читателями книги о Гулливере известного во всем мире английского писателя эпохи Просвещения Дж. Свифта должны были стать отнюдь не дети. Роман появился семь лет спустя после «Робинзона Крузо» Д. Дефо: с одной стороны, форма «путешествия» навеяна романом Дефо, но с другой – весь сатирико-фантастический роман Свифта – это страстная полемика со своим предшественником. Если ваша встреча с «Путешествиями Гулливера…» состоится, то, я думаю, вы поймете смысл эпитафии, составленной Свифтом самому себе: «Здесь покоится тело Джонатана Свифта, настоятеля этого собора, и жестокое негодование больше уже не сможет терзать его сердца. Иди, путник, и подражай, если можешь, ревностному защитнику дела доблестной свободы!»
Если кому-то из вас захочется узнать о леденящих душу событиях времен рыцарства, о призраках и гибели старинного рода, прочитайте произведение X. Уолпола «Замок Отранто», которое явилось первым образцом жанра «романа ужасов».
Русская литература XVIII – начала XIX века
Итак, вы теперь знаете уже очень многое о развитии западноевропейской литературы, о таких явлениях в ней, как Возрождение, классицизм, барокко, сентиментализм… А что же происходило в это время в литературе русской? В ней происходили важные процессы и изменения. Особенно существенным для становления и развития русской литературы стал XVIII век. К началу этого столетия русская литература серьезно отставала от литературы Западной Европы. Но за несколько десятилетий этот разрыв свелся практически к нулю, и в XIX век русская литература вступила уже как равная в семье европейских литератур. Объяснение этому явлению следует, конечно, искать в интенсивном развитии всей русской истории XVIII века, начатом петровскими реформами (вспомните, пожалуйста, что вы о них знаете). В XVIII столетии нашему народу, а вместе с ним и литературе удалось, по выражению А. С. Пушкина, «в просвещении стать с веком наравне».
В это время складывается так называемая новая русская литература. Вы, естественно, пожелаете узнать, почему она новая и чем отличается от старой. Вообще-то отличий много, но мы остановимся на одном, самом главном. До XVIII века литература так или иначе «обслуживала» какие-то насущные потребности общества – гражданские, религиозные, бытовые. В XVIII же веке литература впервые проявила себя как особая, самостоятельная форма общественного сознания, и на первый план выдвинулось эстетическое значение литературных произведений. Соответственно появляются первые профессиональные писатели и поэты, для которых литература становится если не самым главным, то одним из основных занятий.
Русская литература этого периода обогащается развитой системой художественных средств и приемов, постепенно создается литературный язык, формируется разветвленная система литературных жанров (вспомните, что такое жанр и какие жанры вы знаете): ода, элегия, трагедия, слезная драма, высокая комедия, поэма. Многое из того, чем прославилась на весь мир русская классическая литература XIX столетия, зародилось именно в XVIII веке – идеи гуманизма, просвещения, патриотизма, художественный психологизм, высокая стихотворная культура.
В XVIII веке в русской литературе сложилась такая художественная система, как классицизм. Вы уже знакомы с произведениями писателей-классицистов в зарубежной литературе, поэтому вам будет легче справиться с изучением классицизма русского. Дело в том, что русский и европейский классицизм имели много общего. Общей была ориентация на культ разума, на подражание античным образцам и облагороженной природе, строгость в соблюдении поэтических правил и законов, нормативность поэтики, устойчивая жанровая структура. Но у русского классицизма были и свои оригинальные черты. Важнейшие из них – внимание к конкретной российской действительности и остросатирическая направленность. В отличие от своих западных коллег литература русского классицизма предпочитала брать сюжеты не из античной мифологии, а из реальной действительности своего времени или из русской истории, что особенно сказалось в творчестве А. Д. Кантемира, М. В. Ломоносова, Д. И. Фонвизина, Г. Р. Державина, И. А. Крылова. Соответственно в русском классицизме большое место заняло обличение пороков, которые наблюдали писатели и поэты в современной им действительности, и меньшее – проповедь морально-нравственных идеалов.
Через школу классицизма прошли практически все выдающиеся писатели и поэты XVIII века. К тем, кого я уже назвал, можно добавить имена В. К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова, В. П. Петрова, И. И. Дмитриева.
Философской и идеологической основой классицизма служили идеи Просвещения (с общими чертами этой философии вы уже знакомы по западноевропейской литературе). Но и здесь национальное своеобразие русской литературы проявилось достаточно ярко. Просветители считали коренным пороком общества невежество и горячо выступали в защиту идей образования, правильного воспитания, полагая, что разумный и просвещенный человек составляет основу гармонического общества, лишенного внутренних противоречий. Кроме того, просветители полагали, что просвещенная личность не способна приносить зло обществу и другому человеку, то есть в просвещении и воспитании они видели средство исправления общественных нравов. Но если европейские просветители ориентировались в основном на «третье сословие», то есть главным образом на буржуазию, то Просвещение русское выдвинуло на первый план образ просвещенного дворянина-патриота, особенно настаивая на идее просвещенной монархии (оды М. В. Ломоносова, комедии Д. И. Фонвизина).
Другой отличительной чертой русского национального Просвещения стало обращение к жизни крестьян, к проблеме крепостного права, которое, с точки зрения большинства русских просветителей, было несовместимо ни с просвещенностью, ни с гуманностью, ни с разумом (эта черта ярко отразилась в произведениях Н. И. Новикова, А. Н. Радищева). К национальному своеобразию русского Просвещения надо отнести еще и его патриотическое звучание, стремление не отстать от Европы в деле цивилизации, культуры, демократии. И это понятно, так как именно в XVIII веке Россия из державы преимущественно азиатской превращается в великое европейское государство.
Новое содержание требовало для себя и новых форм воплощения. До середины XVIII века русская литература переживала достаточно серьезные проблемы, которые выражались в неразработанности национального литературного языка, в недостатках силлабической системы стихосложения. Требовались коренные реформы, и начал их выдающийся литератор XVIII века В. К. Тредиаковский. Начал он с реформы литературного языка. До Тредиаковского литература в основном создавалась на церковнославянском языке. Тредиаковский коренным образом изменил это положение, стараясь создавать свои произведения на чисто русском языке, без примеси «словенщины».
Почему Тредиаковский предпочитал исконно русский язык церковнославянскому? По трем причинам. Первая состояла в том, что церковнославянский язык был, с точки зрения Тредиаковского, не пригоден для выражения светского, мирского содержания. «Язык словенский у нас есть язык церковный», – писал Тредиаковский. Вторая причина – непонятность «словенского» языка для широкого круга читателей, для которого и писал Тредиаковский. Наконец, третья причина – чисто эстетическая: Тредиаковский считал «словенский язык» слишком жестким и художественно невыразительным. В то же время он решительно восставал против использования в художественных произведениях низкой, простонародной лексики, в чем отличался от Ломоносова, шедшего в реформе языка дальше своего предшественника.
Другим важнейшим достижением Тредиаковского стала реформа русского стихосложения, хотя и не доведенная им до конца. До Тредиаковского в русском стихосложении господствовала так называемая силлабическая система. В этой системе важно было одинаковое количество слогов во всех строчках, а ударения в них располагались как попало. Эта система была заимствована русскими стихотворцами А. Кантемиром, С. Медведевым из польского языка, но для языка русского она оказалась непригодной, поскольку не давала стиху четкого ритма: ударения в строке, располагавшиеся хаотично, не создавали определенного ритмического рисунка.
Проще говоря, стих выглядел немузыкальным, мало чем отличался от прозы. В силлабо-тонической системе принцип организации стиха несколько другой: в ней ударение падает либо на каждый второй (хорей, ямб), либо на каждый третий (дактиль, амфибрахий, анапест) слог.
Вспомните, пожалуйста, что вам известно о перечисленных стихотворных размерах и об основах стихосложения.
Пытался Тредиаковский реформировать и русскую прозу, однако не добился здесь значительных успехов. Вообще надо сказать, что многое из того, что было начато Тредиаковским, получило законченное воплощение в теории и практике более поздних литераторов – М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, H. М. Карамзина и особенно А. С. Пушкина.
Михаил Васильевич Ломоносов
Интереснейший человек своего времени, уникальное явление в культуре не только России, но и всего мира, Михаил Васильевич Ломоносов был сыном простого крестьянина из далекого северного села Холмогоры, он окончил в Москве лучшее по тем временам высшее учебное заведение, побывал за границей, отлично знал немецкий, французский, итальянский и английский языки, был первооткрывателем во многих областях знаний.
Поражает многосторонность интересов М. В. Ломоносова. Для химика, например, имя Ломоносова ассоциируется с законом сохранения вещества, для математика – с интересными геометрическими построениями, для физика – с исследованием атмосферного электричества и т. п. Кроме того, Ломоносов оставил ощутимый след в таких областях науки и техники, как астрономия, техника горного дела, изготовление стекла, мозаичное производство, металлургия, география, философия и многих других. Но для нас с вами прежде всего он поэт, реформатор русского языка и поэтического стиля, один из основоположников классицизма.
М. В. Ломоносов стал ближайшим последователем В. К. Тредиаковского в деле реформы русской литературы. Он довел до конца стиховедческую систему Тредиаковского, сосредоточив свои мысли в «Письме о правилах российского стихотворства».
Основательно реформировал Ломоносов систему русской художественной речи. Его знаменитое «учение о трех штилях» (стилях) вносило упорядоченность в русскую литературную речь. Ломоносов полагал, что в языке следует различать три «штиля»: «высокий», «средний» и «низкий». «Средний штиль» пригоден в любых произведениях, независимо от их жанра. «Высокий штиль» следует употреблять в трагедии, оде, героической поэме. «Низкий штиль» возможен в комедии, эпиграмме, песне.
В своих теоретических исследованиях, а еще больше в самом творчестве Ломоносов – типичный поэт-классицист. Ломоносов жил во время просвещенной монархии – в царствование императрицы Елизаветы. Идея просвещенной монархии и ее благодетельного влияния на русскую жизнь – центральная в творчестве Ломоносова. В своих стихах он выступает поборником просвещения, свободы, разума. Этому последнему обстоятельству Ломоносов уделяет особое внимание («Ода на день восшествия на всероссийский престол Ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». «Ода на взятие Хотина»).
Многие его произведения написаны в связи с теми или иными научными открытиями и изысканиями. Прославление науки, уверенность в том, что человеческий разум способен на все, – важнейшая отличительная черта миросозерцания Ломоносова. (Обратите внимание, что научный трактат «Письмо о пользе стекла» написан в стихах.)
Важное место в лирике М. В. Ломоносова занимают вопросы гражданской позиции поэта; в этом смысле показательно его стихотворение «Разговор с Анакреоном». В нем противопоставлены два античных образа: поэта «сладостной любви» Анакреона (Анакреонта), стоявшего далеко от политических и общественных проблем своего времени и обратившегося к чисто любовной лирике, и общественного деятеля Катона, который «старался ввесть в республику порядок» и посвятил жизнь общественному служению. Несмотря на то что в конце Ломоносов оговаривается, что не знает, кто прожил свою жизнь умнее, мы ясно видим, что симпатия автора на стороне Катона.
Одной из важнейших сторон творчества М. В. Ломоносова как поэта-классициста является патриотизм. В своих одах и трагедиях Ломоносов постоянно воспевает силу и мощь русского государства, славит его героев. Особое значение приобретает образ Петра I, который появляется едва ли не в каждой оде поэта; он создал даже героическую поэму «Петр Великий».
Предметом изображения в поэзии Ломоносова становятся важнейшие события русской истории и современности. Но не только славу русского оружия воспевает поэт. В его стихотворных посланиях мы находим строчки, исполненные гордостью за Россию, способную «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов» рождать во славу и на благо всему миру. Вообще идея России как европейского государства, достойного занять почетное место в системе европейской цивилизиции и культуры, очень настойчиво звучит в творчестве Ломоносова.
Чрезвычайно важной и актуальной для нашего времени является тема войны и мира в творчестве М. В. Ломоносова. Прославляя подвиги русских героев на поле брани, поэт одновременно подчеркивает, что Россия – миролюбивая держава: «Воюет воинство твое против войны; оружие твое Европе мир приводит».
Свои политические симпатии Ломоносов отдавал монархии, но как поэт-классицист и просветитель выступал лишь за просвещенную монархию, которая обеспечивает, с его точки зрения, социальный мир и политическое благоденствие в стране, обеспечивает справедливость, способствует развитию науки и культуры. В этой связи, помимо образа Петра I, в одах и посланиях Ломоносова очень важен и образ современной ему правительницы – императрицы Елизаветы Петровны. С первого же взгляда ясно, что поэт явно идеализирует этот образ. Зачем? Не для того, чтобы льстить царице, а для того, чтобы показать ей, какой она может и должна быть. В этом тоже примечательная черта литературы классицизма: искусство должно воспитывать человека, а в особенности такого, от которого зависит очень многое в государстве.
Михаил Васильевич Ломоносов, будучи чрезвычайно одаренным человеком, сделал, как мы видим, очень многое для развития новой русской литературы. Его теоретические трактаты и в особенности само художественное творчество резко продвинули отечественную литературу вперед.
Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны 1747 года
Царей и царств земных отрада, Возлюбленная тишина[214], Блаженство сел, градов ограда, Коль ты полезна и красна! Вокруг тебя цветы пестреют И класы[215] на полях желтеют; Сокровищ полны корабли Дерзают в море за тобою; Ты сыплешь щедрою рукою Свое богатство по земли. Великое светило миру, Листая с вечной высоты, На бисер, злато и порфиру, На все земные красоты, Во все страны свой взор возводит, — Но краше в свете не находит Елисаветы и тебя. Ты, кроме той, всего превыше; Но дух ее зефира тише И зрак приятнее рая[216]. Когда на трон она вступила, Как вышний подал ей венец, Тебя в Россию возвратила, Войне поставила конец; Тебя, прияв, облобызала: «Мне полно тех побед, – сказала, - Для коих крови льется ток. Я россов счастьем услаждаюсь, Я их спокойством не меняюсь На целый запад и восток». Божественным устам приличен, Монархиня, сей кроткий глас. О, коль достойно возвеличен Сей день и тот блаженный час, Когда от радостной премены Петровы возвышали стены До звезд плескание и клик! Когда ты крест несла рукою И на престол взвела с собою Доброт твоих прекрасный лик[217]! Чтоб слову с оными сравняться, Достаток силы нашей мал; Но мы не можем удержаться От пения твоих похвал: Твои щедроты ободряют Наш дух и к бегу устремляют, Как в понт[218] пловца способный ветр Чрез яры волны порывает; Он брег с весельем оставляет, Летит корма меж водных недр. Молчите, пламенные звуки, И колебать престаньте свет: Здесь в мире расширять науки Изволила Елисавет. Вы, наглы вихри, не дерзайте Реветь, но кротко разглашайте Прекрасны наши времена. В безмолвии внимай, вселенна: Се хощет лира восхищенна Гласить велики имена. Ужасный чудными делами Зиждитель мира искони Своими положил судьбами Себя прославить в наши дни: Послал в Россию человека, Каков неслыхан был от века. Сквозь все препятства он вознес Главу, победами венчанну, Россию, грубостью попранну, С собой возвысил до небес. В полях кровавых Марс страшился, Свой меч в Петровых зря руках, И с трепетом Нептун чудился, Взирая на российский флаг. В стенах внезапно укрепленна И зданиями окруженна, Сомненная Нева рекла: «Или я ныне позабылась И с оного пути склонилась, Которым прежде я текла?» Тогда божественны науки, Чрез горы, реки и моря, В Россию простирали руки, К сему монарху говоря: «Мы с крайним тщанием готовы Подать в российском роде новы Чистейшего ума плоды». Монарх к себе их призывает; Уже Россия ожидает Полезны видеть их труды. Но ах! жестокая судьбина! Бессмертия достойный муж, Блаженства нашего причина, К несносной скорби наших душ, Завистливым отторжен роком, Нас в плаче погрузил глубоком! Внушив рыданий наших слух, Верьхи Парнасски[219] восстенали, И музы воплем провождали В небесну дверь пресветлый дух. В толикой праведной печали Сомненный их смущался путь, И токмо шествуя желали На гроб и на дела взглянуть. Но кроткая Екатерина, Отрада по Петре едина, Приемлет щедрой их рукой. Ах, если б жизнь ея продлилась, Давно б Секвана[220] постыдилась С своим искусством пред Невой. Какая светлость окружает В толикой горести Парнас? О, коль согласно там бряцает Приятных струн сладчайший глас! Все холмы покрывают лики, В долинах раздаются клики: «Великая Петрова дщерь Щедроты отчи превышает, Довольство муз усугубляет И к счастью отверзает дверь». Великой похвалы достоин, Когда число своих побед Сравнить сраженьем может воин И в поле весь свой век живет; Но ратники, ему подвластны, Всегда хвалы его причастны, И шум в полках со всех сторон Звучащу славу заглушает, И грому труб ее мешает Плачевный побежденных стон. Сия тебе единой слава, Монархиня, принадлежит, Пространная твоя держава О как тебе благодарит! Воззри на горы превысоки, Воззри в поля свои широки, Где Волга, Днепр, где Обь течет; Богатство, в оных потаенно, Наукой будет откровенно, Что щедростью твоей цветет. Толикое земель пространство Когда всевышний поручил Тебе в счастливое подданство, Тогда сокровища открыл, Какими хвалится Индия; Но требует к тому Россия Искусством утвержденных рук. Сие злату очистит жилу, Почувствуют и камни силу Тобой восставленных наук. Хотя всегдашними снегами Покрыта северна страна, Где мерзлыми Борей крилами Твои взвевает знамена, Но Бог меж льдистыми горами Велик своими чудесами: Там Лена чистой быстриной, Как Нил, народы напояет И бреги наконец теряет, Сравнившись морю шириной. Коль многи смертным неизвестны Творит наутро чудеса, Где густостью животным тесны Стоят глубокие леса! Где в роскоши прохладных теней На пастве скачущих еленей Ловящих крик не разгонял; Охотник где не метил луком; Секирным земледелец стуком Поющих птиц не устрашал, Широкое открыто поле, Где музам путь свой простирать! Твоей великодушной воле Что можем за сие воздать? Мы дар твой до небес прославим И знак щедрот твоих поставим, Где солнца всход и где Амур В зеленых берегах крутится, Желая паки возвратиться В твою державу от манжур. Се мрачной вечности запону Надежда отверзает нам! Где нет ни правил, ни закону, Премудрость тамо зиждет храм! Невежество пред ней бледнеет. Там влажный флота путь белеет И море тщится уступить: Колумб российский через воды Спешит в неведомы народы Твои щедроты возвестить; Там, тьмою островов посеян, Реке подобен Океан; Небесной синевой одеян, Павлина посрамляет вран. Там тучи разных птиц летают, Что пестротою превышают Одежду нежныя весны, Питаясь в рощах ароматных И плавая в струях приятных, Не знают строгия зимы. И се Минерва ударяет В верьхи Рифейски[221] копием, Сребро и злато истекает Во всем наследии твоем. Плутон в расселинах мятется, Что россам в руки предается Драгой его металл из гор, Которой там натура скрыла; От блеску дневного светила Он мрачный отвращает взор. О вы, которых ожидает Отечество от недр своих И видеть таковых желает, Каких зовет от стран чужих, О ваши дни благословенны! Дерзайте ныне ободренны Раченьем вашим показать, Что может собственных Платонов[222] И быстрых разумом Невтонов[223] Российская земля рождать. Науки юношей питают, Отраду старым подают, В счастливой жизни украшают, В несчастный случай берегут; В домашних трудностях утеха И в дальних странствах не помеха. Науки пользуют везде: Среди народов и в пустыне, В градском глуму и наедине, В покое сладки и в труде. Тебе, о милости источник, О ангел мирных наших лет! Всевышний на того помощник, Кто гордостью своей дерзнет, Завидя нашему покою, Против тебя восстать войною; Тебя зиждитель сохранит Во всех путях беспреткновенну И жизнь твою благословенну С числом щедрот твоих сравнит.Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте образ лирического героя оды.
2. Каким видится автору облик идеального монарха?
3. Как проявляется в произведении патриотизм автора?
4. Охарактеризуйте творческий метод и жанр стихотворения и назовите их признаки.
5. Составьте ритмическую схему и обозначьте систему рифмовки одной из строф поэтического текста.
Александр Петрович Сумароков
А. П. Сумароков – выдающийся деятель русской культуры XVIII века. Именно он был основателем и директором первого русского государственного театра. Его пьесы стали основой национального репертуара русских театров, а в стихотворстве он успешно соперничал с такими блистательными поэтами, как М. В. Ломоносов и В. К. Тредиаковский. Не чуждался А. П. Сумароков и журналистики, издавая журнал «Трудолюбивая пчела». В этом издании он публиковал свои сатирико-нравоучительные очерки, один из которых и предлагается вашему вниманию. Писатель в нем не только нападает на взяточничество и засилье чиновников, уже в XVIII веке ставшими бедствием для России, но и создает удивительно яркую и живую зарисовку быта и нравов русского общества восемнадцатого столетия.
Обратите внимание на образ слуги повествователя, подумайте, какие просветительские идеи утверждает в своем очерке автор и какова в этом произведении роль сатиры.
Второе произведение А. П. Сумарокова, включенное в нашу книгу, – это сатирический диалог «Господин и слуга». В XVIII веке русские классицисты охотно использовали жанр, ставший популярным благодаря античному писателю Лукиану. Он написал «Разговоры мертвых», книгу, в которой умершие пересматривали свою земную жизнь. «Разговоры мертвых» позволяли сатирически изобразить пороки людей, захваченных суетой земной жизни и забывших о духовных ценностях.
Подумайте, какие пороки высмеивает писатель, как в жанре диалога проявляются черты просветительского классицизма.
А. П. Сумароков был прекрасным поэтом, умевшим передать самые тонкие человеческие чувства. С его лирикой вы познакомитесь, когда приступите к изучению раздела «Поэтическое мастерство русских стихотворцев XVIII века».
О думном дьяке, который с меня взял пятьдесят рублев
Известно, что в древние времена обер-секретарей[224] еще не было, а вместо их были думные дьяки[225], из которых некто с меня счистил[226] пятьдесят рублев, а я в том извиняюся следующими причинами. Я был в двенадцати лет тогда, и что за взятки приказано вешать, я етова еще не знал. Вторая причина было мое любопытство узнать, каким образом акциденция[227] берется. Третья причина, что ежели бы я не дал ему денег, так бы дело то не было сделано.
Вот как берутся взятки. Приехал я ко двору его высокородия думного дьяка зимою в санях и, подъехав ко двору, радовался, что я скоро буду в тепле, а етова я не знал, что челобитчики[228] к думным дьякам на двор не въезжают, и выходят у ворот. Ворота у дьяков всегда запираются замками изнутри, понеже[229]-де то от воров имеет быть безопаснее. Больше получаса стучался я у ворот: отперли калитку, выглянул приворотник и спрашивал, как ему назвать мое здоровье[230]. Я не знал, как ему отвечать, и промолчал, ибо такой вопрос и не ребенку странен покажется. Он спрашивал, как назвать вашу милость; ето я знал, потому что оно несколько употребительно, а по-нашему: «Как тебя зовут?» Я ему сказался, а он калиткой хлопнул и ее запер. Слуга мой был поискуснее меня и говорил: «Надобно дать деньги». Я опять постучался; он опять выглянул; я давал деньги, чтоб он отнес их к думному дьяку, а меня бы впустил. Однако он их не взял, извинялся, что господин его может подумать, будто он не все сполна ему отдаст, а мне чаялося, что везде деньги берутся в тех местах, куда безденежно не впускают у дверей, ибо я бывал на комедиях[231], смотрел Александра и Лодвика, Париж и Вену и другие комедии, на что я и ссылался, а он отвечал, то-де враки, а здесь дела. Очень досадно мне ето стало, что дьяков он писателям драм предпочитает, как будто сердце слышало, что я по времени буду иметь нещастие быть драматическим стихотворцем. Однако служителю знатного человека должен я был уступить, а мой слуга сунул ему в руку пять копеек, которые он с меньшею принял учтивостью, нежели подлекарь и дьячок. «Дома ли, – спрашивал я, – ево благоутробие?» – «Етова я еще не знаю, – отвечал он, – я пойду о том, дома ли он или нет, доложу ево милосердию и вашей чести донесу». Еще с полчаса прошло того времени, в которое мне зябнуть предписано было. Возвратился дворник и объявил, что боярин его дома: не дьяком назвал он его, боярином; а в этом было древности различие.
На дворах приказных служителей стоят на часах собаки; и кто из них больше чином, у того больше собака и толще лает. Подворотни у дьяков превысокие и для челобитчиков из-под калитки не вынимаются, а ворота и не отворяются. Калитка была очень узка, и человек мой пролез боком на двор, а я, будучи мал, через подворотню насилу перелез. Как только собака нас увидела, преужасно залаяла. Цербер[232] не испугал Геркулеса во аде, я меня дьячий Цербер гораздо испугал, потому что я ребенок был, да я ж и не Геркулес, хотя и в ад вошел. Слуга мне говорил, чтоб я поклонился Церберу. «Как, – спрашивал я, – чтобы я собаке поклонился?» – «Хотя это и собака, однако дьячья», – говорил он. Но когда я уже дошел до такой подлости, чтобы кланяться дьяку, великое ли ето уже унижение, чтобы и собаке не поклониться. Поклонился. Да еще и пристойнее было, чтоб я собаке поклонился, нежели ее помещику; она денег не возьмет у меня, а бессовестный ея помещик с меня счистит.
Я редко вспоминаю, что я дворянин, а в то время вспомнил я это и размышлял, идучи по двору: дьяк богатее меня, а я несу ему деньги; дьяк хуже меня, а я иду ему кланяться. И ежели бы я философ был, конечно бы закричал: «О времена! О нравы!»[233]
Вошел я в боярские покои, подошла ко мне боярская боярыня. Не чудно ли ето, дьячью служанку называли боярынею? Сия боярыня была охвата в два, в подкапке[234], в телогреи и босиком. «Боярин, – говорила она, – в мыльне[235] и уж выпарился, скоро изволит выйти». Подьяческое племя с самого младенчества привыкает, и терпят они легко, как их по спине секут, а намерение то, чтобы не тако трудно было телесное наказание, ежели по силе уложения и указов нужда того потребует; и заставляют подьячие холопьям своим сечь себя в бане и велят себя до тех сечь пор, покаместь побагровеет спина. И как они под патогами[236] ни кричат, однако, когда то окончится, так они становятся еще бодрее того, нежели были, и ради того патоги – их обыкновенная забава. И чтобы воскресенье как праздничный день проводить им повеселее, так они по всякую субботу себя сечь приказывают, хотя иные говорят, будто они терпят это добровольно за соделанные во всю неделю плутни и что перед праздником полагают на себя сию епитимию[237] подобием христиан Западной церкви[238], и что подьячие, не дав себя ввечеру в субботу высечь, не ходят к обедни в воскресенье, а когда и придут, так стоят только в трапезе, будучи осквернены. Я бы к нему в субботу ввечеру конечно не поехал, ведая, что все приказные служители секутся в ето время в банях патожьями; да что делать? Я был кадет[239]. В протчии дни надлежало учиться и быть у себя, а в воскресенье для кадетов день отдохновения, а для подьячих день пьянства. Итак один только вечер субботы мне к тому остался.
Вышел боярин из застенка, я ему подал письмо, а того, что я с деньгами пришел, он не ведал и принял меня спесиво. Я ему подал грамотку, он надел очки, грамотку распечатал и почал читать. Суровый его вид переменился, когда он дочел до того места, где о пятидесяти рублях помянуто было. Прочел письмо, обозрел меня очень жадно, со мною ли те деньги. И когда я ему стал их подавать, говорил он: «На что это? Это, право, напрасно». О приказная душа! На что было такое лицемерие? Говорит: «На что это?», и берет. А что ето напрасно, ето подлинно; я ето знал, хотя бы ты и не сказал. Взял пятьдесят Рублев и поднес мне стакан меда, и как я больше половины стакана выпить не хотел, так он меня гораздо подчивал и уверял меня, что это мед ставленой и хмелю в нем нет. «Я этому верю, – отвечал я, – да я и без меду иззяб». «Нет, ничего, выкушай, – говорил он, – это питье хорошо». А я думал то, что в тепле быть и брать за ничто чужие деньги – ето хорошо, а в холоде быть и отдавать за ничто свои деньги, это не гораздо хорошо.
Отдал ему свои деньги и поехал домой, всем тем, которые, нарушая честность и присягу, корыстуются взятками, желая виселицы.
Вопросы и задания
1. Какие пороки подвергаются обличению в этом произведении?
2. Как характеризует думного дьяка его дом и его окружение?
3. Приведите примеры наиболее ярких художественных деталей, создающих характер дьяка. Объясните их художественное значение.
4. Охарактеризуйте язык этого произведения.
5. Определите творческий метод произведения и назовите его признаки.
Разговоры мертвых
Разговор III
Господин и слуга
Господин: Гей!.. Гей!
Слуга: Кого вам надобно?
Госп: Разве ты позабыл, что мне надобно принять лекарство? Или ты не помнишь того, что я болен и что мне приказал доктор всякие три часа принимать по чашке лекарства?
Сл: Вы, сударь, позабыли, что вы уж умерли и погребены и что докторские напитки только то сделали, что и я, не дожив века, в третий день после вас сюда ж переселился для того, что я, подчивая вас докторским полпивом, недели с три не спал, а оттого одурел, и ходя по тому свету в твоей спальне до смерти еще едва дышал, а потом так же, как и ты, умер и также погребен: сиречь, положен во гроб, опущен в землю и закопан; только не с такою большою церемониею.
Госп: Так мы уже не на том свете?
Сл: Мы на том свете, где все равно, что господин, что слуга.
Госп: Однако ты человек благодарный и, что я тебя кормил и поил, не забудешь, и хотя не так, как на том свете, однако небольшие услуги мне станешь делать?
Сл: Я человек благодарный, а служить тебе не стану.
Госп: Для чего ж не станешь, когда ты благодарный человек?
Сл: Для того, что ты неблагодарный человек; я тебе служил с крайнею верностью, а ты меня так кормил, как немилостивые люди кормят водовозных лошадей: сиречь, так худо, чтоб она только жива была и смогла воду возить, а когда с голоду у нее не достает силы, так вместо сена и овса употребляется плеть и палка.
Госп: До чего я дошел! Слуга мой мне упрекает!
Сл: Тем-то только здешняя жизнь и хороша, что все можно выговорить, чего у нас на том свете делать не позволяется. Здесь истина беззаконием не почитается, и маскарадов здесь нет, все в своих лицах: добрый человек называется добрым, а худой – худым. Там ты назывался честным, хотя ты честен и никогда не бывал; а здесь честным человеком называют меня, хотя на том свете ты меня и плутом называл. Я плутом не бывал никогда, а ты совершенный плут был.
Госп: Я любопытствую еще больше, нежели сержусь, почему ты меня таким называешь именем.
Сл: Потому, что ты после отца наследства получил мало, быв судьею, жалованье брал умеренное, а жил очень богато; да и я тому свидетель, сколько к тебе подарков нашивали, а взятки брать запрещено, и правосудия продавать не позволено.
Госп: Взять не бесчестно, только чтобы дело по правам решено было.
Сл: Да за что же брать? За то платится, что продается, а что не продается, то дается даром.
Госп: Когда я дело вершу и доставлю человека десятьми тысячами рублев, так убыточно ли ему, когда он десятою частью за то меня подарит, да двадцатую часть за труды даст подьячим?
Сл: Да когда истцу десять тысяч по правам принадлежали, так он удовольствован правосудием, а не тобою, а ты за то, что вершишь дела, имеешь чин и жалованье.
Госп: Это правда, и когда прямо рассмотришь, так брать взятки и грабить – это все равно; да еще взятки и хуже для того, что грабительство не присвояет себе почтеннейшего имени правосудия, а взятки присвояют; итак, когда судья взятки берет, согрешает сугубо: первое, что грабит, а другое, что правосудие всуе употребляет; однако это ввелося, да оно ж и нажиточно.
Сл: Нажиточно или нет, только это плутовство, да и великое: а ежели судья возьмет да еще и неправду сделает, так то плутовство превеликое и которого больше нет. А ты это делал: я, тебе служа, все твои плутни ведаю.
Госп: А я ведаю, что тебя за наглые слова надобно сечь.
Сл: Сечь меня не за что, а ты столько ж меня можешь высечь теперь, сколько я тебя.
Госп: Сносно ли это, что собственный мой слуга мне ругается и меня бранит?
Сл: Сносно ли и мне это было, что ты мне ругался, и не только меня бранил, да еще и бил? А я вел себя честно и не так, как ты.
Госп: Горестно мое на сем свете состояние.
Сл: А мое на том свете состояние еще и горестней было.
Вопросы и задания
1. Какая социальная проблема поднимается в этом диалоге?
2. Дайте сопоставительную характеристику персонажам диалога.
3. Как в диалоге проявляется авторская позиция?
Николай Иванович Новиков
Н. И. Новиков, русский писатель-просветитель, был одним из самых образованных людей века Екатерины Великой и убежденным сторонником просветительских идей. Своей задачей он поставил распространение учений рационализма в русском обществе, стремясь воздействовать не только на образованных читателей, но и на саму императрицу.
Восхищенный публицистической силой английских сатирико-нравоучительных очерков Дж. Аддисона и Р. Стиля, он решил перенести этот жанр на русскую почву и занялся изданием русских журналов. В Петербурге начали выходить журналы «Трутень», «Живописец», а в Москве – газета «Московские ведомости». Основным автором этих изданий был сам Н. И. Новиков. В своих очерках писатель поднимал наиболее злободневные проблемы: воспитание молодого поколения, значение образования, преклонение перед Западом, жестокость русских помещиков-самодуров, разлагающее воздействие пороков на человеческую личность и др.
Н. И. Новиков очень хорошо чувствовал слово. Он умел быть резким и язвительным, умел убеждать своих читателей и точно использовал художественную силу емких поэтических образов. Он был мастером речевых характеристик, что проявилось в его «Разговорах». Обратившись к жанру диалога, писатель сумел передать характерные черты представителей разных сословий и разных национальных культур.
Прочитав один из его «Разговоров», объясните, в чем проявляется патриотизм автора.
Разговоры
Некогда случилось мне быть свидетелем весьма странных и любопытства достойных разговоров, которые я тогда же, пришел домой, написал, а теперь оные сообщаю читателю моему, желая сердечно, чтобы оные в нем подобное моему произвели впечатление.
Разговор I
Между россиянином и французом
Француз: Так, государь мой, я уверяю вас, что подобного несчастия не случалось еще во всю мою жизнь. Сакрдье[240]! Проиграть с ряда двенадцать робертов[241]! После такого несчастья жить более невозможно. Не правда ли, сударь?
Россиянин: Это правда, что проигрыш всякому человеку чувствителен, но одному более, другому менее; вы в сей раз играли несчастливо, но сие и со многими другими игроками нередко случается; счастие и несчастие в игре попеременно бывает: сегодня вы проиграли, завтра можете выиграть. Однако ж, видя вас так чувствительна к проигрышу, играть вам не советую, ибо хотя и всякий человек подвержен житейским претыканиям, но тот почитается благоразумнейшим, который больше другого управляет страстями своими. Благоразумный человек приуготовляет себя к проигрышу прежде, пока не начнет играть: сим средством во все время игры сохраняет он равнодушие, не разгорячается и никогда того не проигрывает, чего не хотел бы проигрывать или чего заплатить не может. Что ж касается до отчаяния вашего, то позвольте мне сказать искренно, оно вселяет в меня противные принятым мною о благоразумии вашем мнения. Я не имел еще времени коротко вызнать свойства сердца вашего; приятель мой, с коим познакомились вы в Париже, писал ко мне об вас много доброго и просил, чтобы я оказывал вам услуги; и я хочу это исполнить самым делом: ваше обхождение мне понравилось, я вас полюбил, и вы найдете во мне всегда искреннего вам доброхота.
Француз: Ах, государь мой! Вы из отчаяния приводите меня во удивление. Какая добродетель! Какое человеколюбие! И какое сердце! Сердце ваше есть сердце ангельское. Если бы вся ваша земля населена была подобными сердцами, то можно бы тогда было заключить, что она обитаема высшими от человека существами…
Россиянин: Если вы побольше узнаете мое Отечество, то сему действию моему удивляться перестанете. Россияне все к добродеянию склонны. С неменышим удовольствием оказывают они всякие вспоможения, с каковыми другие приемлют оные; и это, по мнению моему, есть должность человеческая. Надлежит делать добро не по принуждению, но по склонности сердца. Предки наши во сто раз были добродетельнее нас, и земля наша не носила на себе исчадий, не имеющих склонности к добродеянию и не любящих своего Отечества.
Француз: Ах, какая блаженная страна! Вы, государь мой, в большое приводите меня удивление. С сея минуты я забываю мое Отечество; в России нашел я оное. Во Франции был я несчастлив, а здесь, по словам вашим, уповаю найти блаженство. Попечения ваши доставят мне и жене моей приличные породе нашей места. Если исполнится то, о чем вы за меня просили и в чем вас обнадежили, то я и жена моя будем благополучнейшими из смертных. Какое удовольствие научать и воспитывать детей, рожденных столь нежными и добродетельными сердцами! Но… государь мой… Нравоучения ваши меня просветили… я в игре весьма горяч… с сего времени вы не услышите более, чтобы я когда-нибудь принялся за карты… Со всем тем… я проигрался. Бедная моя жена! Увы! Какую весть услышать ты должна… Я проигрался… Увы!
Россиянин: Пожалуйте, не отчаивайтесь, этому пособить можно. Если вы проиграли сколько-нибудь в долг и не имеете чем заплатить, то на сей раз я могу ссудить вас деньгами. Скажите, сколько вам надобно, я тотчас вам дам оные…
Француз: О великодушный человек! Добродетель, редко имеющая примеры в моем Отечестве! Иностранному человеку, незнакомцу, такие благодеяния оказывать! Позвольте мне, дражайший друг, уверить вас, что благодеяния ваши всегда останутся в моем сердце; что рука, оные творящая, всегда будет мне любезна и что я в нужном случае кровь свою пролью с удовольствием, если то нужно будет для спасения моего друга…
Россиянин: Оставьте излишние уверения, малая моя услуга не стоит толикой благодарности. Я почитаю вас честным и благородным человеком, следовательно, я больше вашего должен еще радоваться, что сыскал случай обязать вас любить мое Отечество. Но скажите мне, сколько надобно вам денег?
Француз: Я стыжусь… Сто рублей… Ах! как мучительно чувствительному человеку напоминание его преступлений…
Россиянин: Вот деньги, извольте их взять. Между тем расстанусь с вами на некоторое время: подождите меня здесь, я скоро сюда возвращусь.
Француз: Вы меня оставляете!..Но я льщусь… ваши одолжения…
Вопросы и задания
1. Какие просветительские идеалы утверждаются в этом диалоге?
2. Дайте сопоставительную характеристику персонажам диалога.
3. Сопоставьте диалоги Сумарокова и Новикова: что в них общего и чем они различаются?
Денис Иванович Фонвизин Недоросль
Д. И. Фонвизин стоит в ряду образованнейших людей своего времени. Интересна судьба драматурга: с молодых лет он находился в высшем обществе, был близок ко двору и посвящен во многие государственные дела. Фонвизин окончил гимназию при Московском университете, а затем и философский факультет этого университета. В дальнейшем служил в Коллегии иностранных дел, был секретарем у нескольких министров. В 1777–1778 годах Д. И. Фонвизин отправляется во Францию и Германию с тайным правительственным поручением – в чем оно состояло, мы и сейчас доподлинно не знаем. Д. И. Фонвизин всегда оставался в дружбе с государыней, и даже его обличительные комедии не меняли этого положения. Известно, что Екатерина II называла писателя «русским Мольером».
Если Г. Р. Державин был наиболее выдающимся из поэтов-классицистов, то в драматургии классицизма первое место бесспорно принадлежит Д. И. Фонвизину. Он написал несколько пьес из русской жизни, но центральной из них стала комедия «Недоросль».
Основная проблема комедии – это проблема невежества дворянства и его воспитания. В отечественной литературе комедию долго считали сатирой на крепостное право, но это не совсем так. Не крепостное право само по себе страшно, страшно то, что власть над живыми людьми попадает к «необразованным скотам» вроде Простаковых и Скотининых. Невежество – вот социальный порок многих и многих дворян.
Вы уже знаете, что в отличие от западноевропейских классицистов (вспомните их произведения) классицисты русские предпочитали брать сюжеты не из античной мифологии, а непосредственно из российской действительности, что придавало сатире большую обличающую силу, делало произведения актуальными. Это же обстоятельство подготовило переход русской литературы к критическому реализму, элементы которого мы ощущаем в «Недоросле». Действительно, фигуры Простаковой, Скотинина, Митрофанушки – это типичные образы русской действительности конца XVIII века. А вот к разрешению проблем, поставленных комедией, Фонвизин подходит как просветитель-классицист.
Своим отрицательным персонажам он противопоставлял положительные образы Стародума, Милона, Правдина, Софьи. Это – просвещенное дворянство, а потому они честны, благородны, гуманны. По мысли Фонвизина, в борьбе против невежества лучшие представители дворянства должны опираться на просвещенную монархию; так, чиновник Правдин берет в опеку имение Простаковой, опираясь прямо на волю императрицы. Разумеется, такое решение проблемы было для того времени идеалистическим, но Фонвизин здесь и не стремился к реализму: ему было важно показать, в частности той же Екатерине II, на какие принципы и на каких людей надо опираться в управлении государством. Именно поэтому резко обличительная комедия благополучно прошла цензуру, ставилась в театрах, а ее автор до самой смерти сохранял хорошие отношения с двором.
Правда, в первой половине XIX века, до отмены крепостного права, на первый план в восприятии комедии выступала именно ее свободолюбивая направленность: так, Пушкин называл Фонвизина «другом свободы». В дальнейшем восприятии комедии, в частности в XX веке, актуальным стало ее основное содержание – сатира на невежество. Именно эта проблема звучит актуально и в наше время, ибо всегда находятся «недоросли», которые «не хотят учиться, а хотят жениться», да и вообще проблема воспитания, просвещения актуальна во все времена. Исключительным вниманием к воспитанию Д. И. Фонвизин как бы предшествовал А. С. Пушкину, у которого этот вопрос станет одним из центральных в «Евгении Онегине».
Но не только и, может быть, даже не столько проблематикой своего произведения актуален Фонвизин в наше время. Дело в том, что ему удалось написать действительно очень смешную комедию, многие образы и положения которой как бы перешли из литературы непосредственно в реальность. Нарицательным стало имя Митрофанушки, как пословицы звучат некоторые строки комедии («Повторим зады, Митрофанушка», «Не хочу учиться, хочу жениться»), при удобном случае мы вспоминаем, что дверь – прилагательное, «потому что к стене прилагается», а географию учить не надо, потому что есть извозчики, которые всюду довезут. Для создания комического эффекта (вспомните, что такое комическое) Фонвизин пользуется в основном одним приемом: он показывает в гиперболизированном виде (а что такое гипербола, вы, конечно, помните) нелепость своих героев и их крайнюю умственную ограниченность. При этом комический эффект достигается за счет того, что герои очень самоуверенно судят о том, о чем совершенно не имеют представления. Так, арифметика, по мысли Простаковой, «дурацкая наука», потому что в задаче требуется разделить найденные деньги, а по ее логике, «нашед деньги, ни с кем не делись, все себе возьми». Зато история – это хорошо, потому что Митрофанушка «сызмальства до историй охотник».
Часто Фонвизин прямо издевается над своими персонажами, например, в рассказе о том, как один из Скотининых треснулся лбом о каменные ворота и после этого только спросил, целы ли ворота. Обратите внимание на то, что герои Фонвизина смешны сами по себе, независимо от того, в какие ситуации они попадают, они как бы создают вокруг себя «смеховое поле». Уже в первой сцене, где Простакова ругает Тришку за сшитый кафтан, обнаруживается комизм персонажей: самой Простаковой, которой, собственно, не важно, как кафтан сшит, а важно поругаться; ее мужа, который уж и не знает, как угодить своей привередливой и гневливой супруге. Далее к комизму этих героев добавляется комизм Митрофанушки – великовозрастного дурня, который вообще ничего не знает и знать не хочет, который между делом может по своему невежеству ляпнуть что-нибудь очень забавное, например про дверь, а отвечая на вопрос, что ему снилось, простодушно говорит: «Да все какая-то дрянь: то вы, маменька, то вы, батюшка». Такая комедия, в которой смех вызывается не случайными обстоятельствами, в которые попадают герои, а самой их сущностью, называется комедией характеров. Она требует от писателя большого мастерства и, конечно, отличного знания тех людей, о которых он пишет.
В заключение – небольшое задание для самостоятельной работы: проанализируйте образ Тараса Скотинина и попытайтесь объяснить, чем смешон этот персонаж; найдите в тексте те эпизоды, в которых этот комизм проявляется с наибольшей силой.
Вопросы и задания
1. Назовите основные явления русской действительности XVIII века, которые подвергает сатирическому обличению Д. И. Фонвизин в «Недоросле».
2. Выявите классицистскую основу комедии «Недоросль», объясните, почему классицизм Д. И. Фонвизина является просветительским.
3. Назовите основной драматургический конфликт в «Недоросле» и покажите основные этапы его развития.
4. Как любовный конфликт используется автором для постановки социальных проблем в «Недоросле»?
5. Объясните роль резонеров в комедии.
6. Как используются в комедии речевые характеристики героев?
7. Какие художественные средства использует автор для достижения комических эффектов?
8. С помощью какого художественного приема Д. И. Фонвизин показывает связь личного и государственного интересов?
9. Сформулируйте основную идею «Недоросля», объясните, как положительный идеал автора проявляется в сатирическом произведении.
10. Охарактеризуйте жанр этого произведения и обоснуйте свой ответ.
11. Напишите сочинение на тему «Вот злонравия достойные плоды».
Иван Андреевич Крылов
Имя И. А. Крылова вам, конечно, знакомо. Но до сих пор вы знали его как баснописца, хотя литературная деятельность этого великого русского писателя и поэта гораздо шире. Крылов писал и драматические произведения, и лирические стихотворения, и прозу, и публицистику. Сейчас я попробую познакомить вас с некоторыми произведениями этого автора, написанными в разных жанрах.
В молодости Крылов писал и лирику, и трагедии, и комические оперы, но вскоре его привлекла к себе сатирическая публицистика. Писатель организует журнал-альманах под названием «Почта духов». «Почта духов» по форме представляет собой письма воздушных (сильфов), водяных (ондинов) и подземных (гномов) духов к арабскому волшебнику Маликульмульку. В этих письмах духи рассказывают о своих впечатлениях о русской жизни конца XVIII века. Зачем понадобился автору такой прием? Главным образом затем, чтобы показать русскую жизнь глазами постороннего наблюдателя, выявить в ней то, к чему притерпелись и с чем сжились его современники.
О нравах современного Крылову общества (прежде всего столичного) духи рассказывают с естественным удивлением: настолько эта жизнь отличается от законов разума и справедливости, да и просто от здравого смысла. Интересны в этом отношении те письма, в которых высмеиваются столичные моды крыловского времени: сама царица подземного царства Прозерпина оказывается к ним неравнодушна и весь ад переворачивает вверх дном, чтоб только быть одетой по моде.
В «Почте духов» сатирик открыто издевается над нравами общества, в котором он живет. В этой позиции нашла свое отражение философия писателя-демократа, далекого от господствующей верхушки общества.
Композиционно «Почту духов» можно разделить условно на две части: в письмах гномов перед нами откровенная нравоучительная сатира, в письмах сильфов сатира тоже занимает важное место, но дополняется лирико-философскими рассуждениями, в которых нашли отражение взгляды самого автора как философа-просветителя. Стоит заметить, что в «Почте духов» Крылов выступает как типичный просветитель и классицист: сатира на современное общество дается с абстрактной точки зрения разумности, добра и справедливости.
Форма переписки духов с Маликульмульком давала писателю еще одну уникальную художественную возможность: невидимые духи оказывались способными «подглядеть» в жизни общества то, что обычно оставалось скрытым. Это дает духам возможность наблюдать жизнь без всяких покровов и прикрас, такой, как она представляется на самом деле. Автор же при помощи этого приема раскрывает многие тайные пороки дворянства и аристократии.
Альманах И. А. Крылова оказался в явной и острой оппозиции к правящей верхушке, потому что выражал взгляды демократа-разночинца на пороки дворянства и аристократии, и есть веские основания предполагать, что издание это прекратилось не по воле автора, а под нажимом властей.
Художественные принципы, по которым строилась «Почта духов», во многом предвосхищают метод Крылова-баснописца. Уже здесь он развертывает аллегорические картины (вспомните, что такое аллегория) человеческого общества, сопоставляя людей со зверями (чаще всего – с обезьянами), куклами, истуканами, неодушевленными предметами. Это усиливало остроту сатиры, прибавляло комизма в изображении человеческих характеров.
Но проблематика «Почты духов» не сводилась исключительно к сатире, как нельзя свести к сатире и басенное творчество Крылова. В своих письмах духи обсуждают и философские, и морально-этические проблемы, ставя вопросы о том, в чем сущность человека, что такое подлинное благо и подлинная мудрость, кто может считаться истинно честным человеком и истинным дворянином. Все это непосредственно подготавливало появление философских басен Крылова («Два голубя», «Философ», «Свинья под Дубом»). В 1800 году, во время правления Павла I, И. А. Крылов пишет одну из своих лучших сатирических пьес «Подщипа» («Трумф».) По своей сути это была острая политическая сатира на самодержавие вообще и на режим Павла I в частности. В этой комедии автор создает яркие и запоминающиеся образы представителей верховной власти, зло и едко высмеивает высших чиновников, например, создает почти гротескный образ заседания высшего органа власти – Государственного совета. Сатира Крылова в этой пьесе была направлена не только против собственной, отечественной аристократии, но и против засилья иностранщины. Поэтому одним из главных объектов осмеяния в «Подщипе» стал наглый и высокомерно-самоуверенный немец Трумф.
Комедия интересна не только в политическом, но и в чисто художественном отношении. Так, в ней автор впервые в русской литературе смело употребляет речевую характеристику персонажей для выяснения их нравственной сущности (в этом с Крыловым мог бы сравниться, пожалуй, один Фонвизин или позднее Грибоедов). Яркое и острое комическое впечатление производит речь Трумфа, коверкающего русское произношение, сладкосюсюкающая речь князя Слюняя.
Комедия И. А. Крылова могла бы оказать еще большее влияние на развитие русской обличительно-сатирической литературы в XIX веке, если бы была своевременно опубликована или поставлена на сцене. Но сатира оказалась настолько остра, что первое издание произведения в России состоялось только в 1871 году. Впрочем, есть бесспорные свидетельства, что, распространяемая в списках, она читалась А. С. Грибоедовым, А. С. Пушкиным, Н. В. Гоголем и многими другими писателями того времени.
И все-таки при всем разнообразии творческих интересов писателя И. А. Крылова его славу в русской литературе составили басни. Вы уже знаете некоторые из них, знаете, что часто для своих произведений сатирик брал сюжеты из Эзопа или Лафонтена, перелагая их на русский строй и лад. Но есть у него и басни, написанные на чисто русские сюжеты. Одна из них, на которой мы сегодня остановимся, – «Волк на псарне» (ее вы изучали в 5 классе), была написана в связи с победой русских воинов в войне 1812 года. В образе Волка, попавшего на псарню вместо овчарни, современники без труда угадывали Наполеона, а в образе опытного седого ловчего – Кутузова. Эта басня, пожалуй, сильнее всех других выявляет национальное своеобразие творчества русского баснописца и не только самим сюжетом, но и другими чертами поэтики. Прежде всего бросается в глаза простота и незатейливость сюжета басни: ситуация, с которой начинает развертываться сюжет, предельно ясна. Далее обращает на себя внимание широкое использование Крыловым просторечной, разговорной лексики и интонаций. Одна лишь наугад выбранная фраза («Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом») показывает, что мы имеем дело не с салонной поэзией, которая никогда не позволила бы себе такого грубого выражения, а с творчеством истинно народным.
Басня И. А. Крылова народна не только по использованию языковых средств, но и по всему своему строю и духу, – недаром его басни, и в частности «Волк на псарне», так легко воспринимаются всяким русским человеком, легко заучиваются наизусть. Не случайно многие из стихотворных строк басен стали крылатыми («Ты сер, а я, приятель, сед», «Обычай мой: С волками иначе не делать мировой, Как снявши шкуру с них долой»). Обратите внимание и на распределение характеров в басне: Волк, хищник по своему существу, попав в безвыходное положение, начинает говорить льстиво и фальшиво, речь же ловчего проста, точна и ясна. Здесь баснописец мастерски пользуется приемом речевой характеристики персонажей. При всей незатейливости исходной ситуации и простоте сюжета басня обладает огромной обобщающей силой: она не просто в аллегорической форме рассказывает нам о поражении Наполеона в Отечественной войне 1812 года, но рисует образ истинно русского человека, способного дать отпор любому врагу. Знаменательны уже первые строки басни: «Волк ночью, думая залезть в овчарню (то есть рассчитывая на легкую победу), попал на псарню».
По своему творческому методу И. А. Крылов был классицистом, но классицистом уже нового поколения. Старые приемы классицистской поэзии и прозы он жестоко высмеивал, но тем не менее сам пользовался типично классицистским жанром басни. Однако сюжеты для басен писатель старался брать из области, максимально приближенной к реальности, поэтому в его творчестве, как и в творчестве Г. Р. Державина и Д. И. Фонвизина, возникают и реалистические черты, что проявляется прежде всего в том, что Крылов пишет сатиру не на нравы вообще, присущие человеческой природе, а преимущественно на те пороки, которые были свойственны именно русскому обществу («Ворона и Лисица», «Квартет», «Лебедь, Щука и Рак»).
Творчество И. А. Крылова имеет непреходящую ценность для русской культуры и литературы. Бесхитростная на первый взгляд простота его басен таит в себе глубокие философские обобщения, а главное, в них заключена такая нравственная и эстетическая ценность, как русский здравый смысл, вобравший в себя вековую мудрость народа. В этом плане лишь немногие русские писатели могут быть поставлены в один ряд с И. А. Крыловым, среди них такие славные имена, как А. С. Пушкин, А. П. Чехов, А. Т. Твардовский.
Русский национальный здравый смысл Крылов воплощал в соответствующей форме. Его басни народны как по выраженному в них мировоззрению, так и по естественности разговорной интонации, характеру образности, которая очень часто перекликается с образами народных сказок, по простоте языка. К басенному творчеству писателя можно смело приложить слова А. Т. Твардовского: «Вот стихи, а все понятно, Все на русском языке». Можно сказать, что И. А. Крылов был одним из первых выразителей русского национального самосознания, а также реформатором русского языка и стиха.
Почта духов
Письмо XIV
От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку
Получив вновь повеление от Прозерпины, чтоб при искании модных искусников постарался я как можно скорее доставить ей разных модных уборов, сколько ни было мне досадно сие подтвердительное повеление, напоминающее мне о невозможности возвратиться скоро в ад, однакож, должен непременно выполнить волю своей богини. Для сего выбору вошел я в лавку к одной француженке, торгующей модными уборами, сделавшись невидимым нарочно для того, чтоб без всякого обману узнать, которые уборы были больше в моде. В то время в лавке случилось множество щеголих, выбирающих для себя разные уборы. Сначала я очень обрадовался такому случаю, надеясь от них узнать цену и достоинства сих уборов и которые из оных были больше в моде и один перед другим предпочтительнее; однакож никак не мог удовольствовать своего любопытства, потому что все они были разных мнений: одна из них больше хвалила токи, другая чепчики, иная шляпки, иная тюрбаны, а иная каски, так что на выборы их я никак не мог положиться и криком своим чуть было они меня не оглушили. Наконец, купив каждая что ей было надобно, вышли они все из лавки; модная торговка также ушла в другую комнату, и я, оставшись один, размышлял, какой бы найти способ, чтоб, не обманувшись, узнать, которые уборы предпочтительнее других и в какое время с лучшим успехом могут быть употребляемы, как вдруг услышал, что в шкапу самые сии модные уборы начали между собою разговаривать; а тебе известно, почтенный Маликульмульк, что мы имеем способность слышать и разуметь разговоры всех, даже и неодушевленных вещей. Они спорили между собою о их друг перед другом преимуществе. Разговоры сии показались мне очень забавными; я слушал их с великим удовольствием и почитаю за долг сообщить тебе оные.
АГЛИНСКАЯ ШЛЯПКА
Может ли какой убор быть лучше меня и есть ли что-нибудь на свете прекраснее аглинских мод?
ФРАНЦУЗСКИЙ ТОК
Куда как ты забавна с твоею Англиею! Поверь мне, моя голубушка, что хотя агличане и берут в некоторых случаях преимущество перед французами, однакож то, конечно, не с стороны уборов и хитрых выдумок щегольских мод.
ПОКОЕВЫЙ ЧЕПЧИК
О чем вы, друзья мои, спорите? Поверьте мне, что между нами нет никакого различия, и мы друг перед другом не можем иметь нималого преимущества, потому что ежели какой головной убор к лицу одной женщины, то к другой он совсем не бывает приличен; все зависит от расположения лица, каким образом убор бывает надет и от глаз любовников, ибо женщины желают только нравиться своим любовникам и во всем полагаются на их вкус.
АГЛИНСКАЯ ШЛЯПКА
В этом-то ты больше всего обманываешься: любовникам не нужны излишние уборы, а им нужна горячность сердца; о уборах судит только публика, нежность же модной щеголихи не имеет в оных нималого участия, а действует одно только самолюбие и тщеславие; они-то больше всего ею обладают и располагают ее вкусом. Для нее лестнее привлекать на себя внимание многочисленного собрания, нежели нравиться одному воздыхателю; и главная цель ее нарядов состоит в том, что она желает нравиться многим, а не одному. Это только одно всех женщин побуждает к нарядам, и они очень мало заботятся о том, что скажет им любовник о их уборах; им нет никакой нужды в излишних украшениях для препровождения приятнейших минут с любимым человеком, а напротив того, в любовном свидании лучшим украшением почитаются природные прелести, без всякого искусства в уборах; тут наряды делают только излишнее беспокойство и помешательство.
ПОКОЕВЫЙ ЧЕПЧИК
Однакож со всем тем, госпожа шляпа, ты должна признаться, что некоторые женщины, надев на себя или шляпу, или другой какой головной убор, кажутся другим чрезвычайно смешными, и очень часто тот самый их убор делает их дурными, и для того-то лучше бы было, когда бы всякая женщина старалась избирать такие уборы, которые были бы ей к лицу, а не такие, которые больше в моде, в чем просила бы совета у искренней своей приятельницы или бы следовала вкусу модных торговок, доставляющих им сии уборы.
АГЛИНСКАЯ ШЛЯПКА
Можно ли положиться на вкус модной торговки! Она всегда больше выхваляет те уборы, которые хочет скорее сбыть с рук! Она, без всякого сомнения, каждой женщине будет говорить, что этот убор к ней ужасть как пристал, хотя бы в нем казалась она совершенным страшилищем.
ПОКОЕВЫЙ ЧЕПЧИК
Ну, так пусть она полагается на вкус своего хорошего друга, то есть обладателя ее сердца.
АГЛИНСКАЯ ШЛЯПКА
Вот то-то хорошо! Обладатель сердца способен ли в уборах подавать советы, когда всегда судит он о сем пристрастно, наблюдая собственную свою пользу! Ежели он к любовнице своей ревнует, то, конечно, не присоветует ей надеть такой убор, от которого бы она казалась прелестнее, боясь, чтоб она не понравилась многим мужчинам и не привлекла бы на себя их взоры.
ПОКОЕВЫЙ ЧЕПЧИК
А всего лучше, если она будет советоваться с своим зеркалом.
АГЛИНСКАЯ ШЛЯПКА
Вот другая глупость: советоваться с своим зеркалом! Как это забавно! советоваться с зеркалом! то-то изрядный советник! Есть ли хотя одна и самая гадкая женщина, которую бы зеркало не уверяло, что она довольно хороша?
ПОКОЕВЫЙ ЧЕПЧИК
О, постой! что ж бы ты сказала, когда бы она потребовала советов у своих горничных девок, непрестанно ее окружающих, так, как то делают многие здешние щеголихи?
АГЛИНСКАЯ ШЛЯПКА
Да, это прекрасная выдумка; следуя таким советам, может она надеяться хороших успехов в своих нарядах, чтоб сделаться или совсем гадкою, или не столь пригожею. Сколько раз случалось мне слыхать, что женщина говорила другой женщине: «Ах, как это к тебе пристало – ужасть, ужасть, жизнь моя! Где ты купила этот чепчик? Ах, как он прекрасен!» и проч., а в самое то время внутренне радовалась, что тот убор, в противность ее похвалам, был совсем не к лицу.
ПОКОЕВЫЙ ЧЕПЧИК
Ну, так пусть делает она то, что хочет.
ФРАНЦУЗСКИЙ ТОК
Ты очень хорошо судишь, будучи по справедливости назван покоевым чепчиком! Ну, можно ли тебе вмешиваться в наши разговоры? Как тебе с нами ровняться? Мы по крайней мере бываем на позорищах[242], являемся при дворе и торжествуем на балах. Мы можем себя почитать лучшим украшением для всех щегольских нарядов; но ты, бедняк, ни к какому платью не годишься, кроме как к утреннему дезабилье. С тобою только можно показаться при уединенном завтраке. Тебя надевают без всякой осторожности, так, как накидывают на шею платок, нимало не примечая, каким образом ты надет бываешь. Ты всегда прикрываешь волосы, совсем не причесанные, почему никак не можешь ровняться с щегольскими уборами, и не иначе можешь почитаться, как спальным чепчиком; итак, пожалуй, скажи, имеешь ли ты право вмешиваться в наши разговоры?
ПОКОЕВЫЙ ЧЕПЧИК
Я тебе прощаю, почтенный ток, в твоих грубых и язвительных против меня словах; но ежели, по-твоему, я ни в чем не могу ровняться с вашими достоинствами, то для чего же меня положили в один с вами шкап?
ФРАНЦУЗСКИЙ ТОК
Ведь надобно же тебя куда-нибудь положить; но, находясь в нашем почтенном сообществе, ты должен себя помнить и перед нами молчать.
ПОКОЕВЫЙ ЧЕПЧИК (с лукавою усмешкою)
Итак, я замолчу, ибо ежели бы я захотел сделаться нескромным, то мог бы насказать множество любопытных случаев, которым очень часто бывал я очевидным свидетелем и которыми вы никак похвалиться не можете; вы конечно бы позавидовали моему счастию. Разумеешь ли ты меня, гордый ток? дерзкий ток? грубый ток? неловкий ток?.. Да знаешь ли ты, что покоевый чепчик бывает свидетелем многих приятнейших приключений, которых тебе никогда видеть не удастся. В любовных уединенных свиданиях не почитают за нужное иметь на голове своей такой щегольской убор, каков ты, господин ток. Тогда почитают тебя самым неловким и скучным украшением и из уважения к тебе не дерзают предаваться приятным и нежным любовным восторгам, чтоб не измять твоих пышных кружев и лент, а потому ты присутствуешь только при скучных и безмолвных свиданиях, в которых соблюдается превеликая благопристойность. Такие тягостные церемонии охлаждают чувства и удаляют сладостное восхищение любви. Но покоевый чепчик! ха, ха, ха! покоевый чепчик! любезный мой ток, нарочно сделан для любовных утех и нимало не препятствует свободнейшему между любовниками обращению. Ежели когда он беспокоит, то снимают его безопасно и кладут на уборный столик; а после опять надевают на себя без всякой осторожности.
БЛОНДОВАЯ КОСЫНКА
(во время сих разговоров спит и храпит: хрр, хрр, хрр)
АГЛИНСКАЯ ШЛЯПКА
Вот как спокойно почивает наша любезная соседка; желала бы я и ее вмешать в наши разговоры… (Будит ее.)
КОСЫНКА
Ох!.. Кто это?.. Кто это мешает мне спа…а…а… (зевает) а…ать? Я так спокойно спала, а эти глупцы мне помешали; правду говорят, что…
АГЛИНСКАЯ ШЛЯПКА
Ты очень неучтива, что спишь в такое время, когда мы разговариваем о таких важных предметах!
КОСЫНКА
Ну! Что такое, о чем вы говорите? Посмотрим.
АГЛИНСКАЯ ШЛЯПКА
Мы спорим о нашем друг перед другом преимуществе… И каждый из нас доказывает свои права…
КОСЫНКА (сонным голосом) Да, это очень хорошо, например, говорить о правах и преимуществах тогда, когда я здесь… Это было еще ваше счастие, что я спала!
АГЛИНСКАЯ ШЛЯПКА, ТОК И ПОКОЕВЫЙ ЧЕПЧИК (все вдруг вскричали с сердцем) Как! Что такое она хочет сказать?
КОСЫНКА (с насмешкою) Да, это нетрудно угадать… Кто из вас может иметь право при мне превозноситься своим достоинством? Вы прикрываете только головы и волосы; но я… какие прелести собою охраняю? Разве я не бываю покровом тем прелестным грудям, которые почитаются гораздо превосходнее тех мест, которые вы собою украшаете?
ПОКОЕВЫЙ ЧЕПЧИК
О! пожалуй сколько не говори, любезная моя приятельница, и не наговори уже слишком много. Что такое прелести, о которых ты нам с таким восхищением выражаешь!.. Тебя покупают только на то, чтоб ты пышностию своею делала пустой обман, а не для прикрытия прелестных грудей… Поверь, что мне все это довольно известно…
КОСЫНКА (захохотав)
Я, сударь! о! я вам божусь, что никакого обмана не делаю, а груди, прикрываемые мною, в самом деле таковы, каковыми я их представляю…
ШЛЯПКА, ПОКОЕВЫЙ ЧЕПЧИК И ТОК (все в один голос)
О, ты совершенная обманщица, госпожа косынка, тебя по справедливости так называть должно!
КОСЫНКА (взяв на себя важный вид)
Ну, ну, перестанем горячиться; не ко всякому слову, друзья мои, надобно привязываться… Вы чувствуете сами, что… когда я говорю… что я не делаю никакого обмана… то это только так говорится… а в самом деле я хотела сказать… что не делаю почти никакого обмана… Однакож, по крайней мере, вы можете признаться, что я более вас приношу пользы. Вы все, головные уборы, ни к чему больше не служите, как только для одного украшения, и не охраняете ни от дождя… ни от ветра… ни от холодного воздуха… Но я охраняю прекрасную грудь от простуды, а что еще и того лучше, от дерзких взоров нескромного мужчины… Итак, я бываю защитницею стыда и целомудрия и орудием благопристойности.
ПОКОЕВЫЙ ЧЕПЧИК
Не верьте ей, не верьте; она лжет… Вот какой делается она набожною! Вот какая притворщица!.. А я со сто раз видал совсем тому противное, что она изволит рассказывать!
КОСЫНКА (с досадою)
Как, ты смеешь сказать?.. Ах, какое поношение!.. Как! я не бываю покровом благопристойности?
ПОКОЕВЫЙ ЧЕПЧИК (с насмешкою)
Так, моя голубушка, так; тебе, конечно, надлежало бы это делать; но сколько раз видал я, что ты совсем не исполняешь сей должности! Ведь кто имеет глаза, тот ясно видит, что ты…
КОСЫНКА Ну, посмотрим же, господин прозорливец, что такое ты видел?
ПОКОЕВЫЙ ЧЕПЧИК (унизив голос)
Не видывал ли я множество раз, что ты открывала свободный путь дерзновенной руке… которая тихо проходила промежду твоими складками, и ты-то ей позволяла… Ты, как казалось, без всякой упорности допускала откалывать булавку, которою ты была приколота… и утешалась смущением и стыдливостию той красавицы, на которой ты надета и которую при тебе так нагло оскорбляли… По сему малому твоему сопротивлению можно видеть, что ты сама соучаствовала в том малом почтении, которое тогда было ей оказываемо. Итак, скажи теперь, хитрая обманщица, когда пригожая женщина надевает тебя на свою грудь, не говорит ли она тебе: «Я надеваю тебя для того, чтоб ты охраняла меня от стужи и от дерзких покушений воздыхателя?»
КОСЫНКА
Право, ни одна женщина никогда мне этого не говаривала.
ПОКОЕВЫЙ ЧЕПЧИК
Однакож, без всякого сомнения, каждая красавица с таким намерением тебя на себя надевает.
КОСЫНКА
Пусть так, но я зато не берусь, чтоб я одна могла воспротивиться против двух рук, из которых каждая во сто раз сильнее меня. Ежели сама красавица не захочет сделать мне нималой помощи, то как можно требовать от меня, чтоб я одна устояла против сильного приступа? При таком случае сердятся, ворчат, краснеют, усмехаются, притворяются, будто досадуют, будто хотят кричать, и думают, что тем подают мне великую помощь! А я, как вы сами можете посудить, лучше соглашаюсь тогда совсем оставить мое упорство, нежели довести себя до того, чтоб меня разодрали, чтоб сорвали меня с груди и изорвали бы в клочки. Вам легко говорить, друзья мои, но если б вы были на моем месте, то поверили бы, что такое упорство могло бы стоить моей жизни, а вам известно, что всякому своя жизнь всего дороже на свете.
Сей разговор прервался наконец приездом многих щеголих, которые закупили всех спорщиков и спорщиц вместе… Графиня купила ток, княгиня аглинскую шляпку, безыменная и вертопрашная кокетка подцепила покоевый чепчик, а актриса взяла косынку, которая, по-видимому, пойдет вместе с нею на театр играть ролю. Бедные уборы, видя столь близкую разлуку и не имея надежды когда-нибудь увидеться, прощались с такой нежностию и ласкою, каких никогда не оказывают между собою те, кому они достались. По выходе из лавки приезжих щеголих с их покупкою вышел и я, надеясь впредь найтить какой-нибудь способ, узнав совершенно достоинство и преимущество уборов, сделать доставлением их угодность Прозерпине.
Желал бы я, любезный Маликульмульк, как можно скорее исполнить препорученные мне дела и, не занимаясь больше разными пустяками, возвратиться в ад, однакож видно, что мне здесь довольно еще будет дела.
Вопросы и задания
1. Какие характеры скрываются за аллегорическими образами произведения?
2. Какие просветительские идеалы утверждаются И. А. Крыловым?
3. Как проявляется в произведении патриотизм автора?
4. Какую роль играет в этом произведении комическое?
5. Охарактеризуйте язык произведения.
6. Охарактеризуйте композицию произведения.
Василий Алексеевич Лёвшин
С большим удовольствием представляю вам русского писателя XVIII столетия В. А. Лёвшина. Это был чрезвычайно образованный и одаренный человек. Сын небогатого офицера, он сам прошел нелегкую школу армейской службы, участвовал в русско-турецкой войне. Завершив карьеру военного, Лёвшин становится секретарем Вольного экономического общества. Деятельность его на новом поприще была столь успешной, что вскоре он избирается почетным членом Саксонского экономического общества и Итальянской академии наук. Его перу принадлежат «Естественная история для детей» и «Поваренный календарь», «Книга для охотников» и «Словарь коммерческий». А кроме этого он создает много литературных произведений.
В. А. Лёвшин был прекрасным переводчиком, он перевел поэму Виланда «Оберон» и «Библиотеку немецких романов» – сборники европейских рыцарских романов Европы. Работая над переводами, писатель задумался над судьбой русских эпических сказаний, которые, по его словам, «хранятся только в памяти». Опираясь на народные предания, он создает сборник «Русские сказки», состоящий из десяти томов. Здесь можно встретить известных вам русских богатырей Добрыню Никитича и Алешу Поповича, но можно найти и известных героев западноевропейских и даже восточных сказаний. Это не противоречит названию сборника: дело в том, что многие западные сюжеты проникали в Россию и служили источниками рассказов о Бове-королевиче, Еруслане Лазаревиче и других популярных персонажах.
В сборник В. А. Лёвшина включены не только героические, богатырские и волшебные повести, есть тут и произведения сатирические, продолжающие традицию русских бытовых сказок. Именно эта фольклорная традиция лежит в основе «Досадного пробуждения». Это очень лукавое произведение. Повнимательнее приглядитесь к характеру Брагина. Вроде бы именно он является предметом сатирического изображения (об этом свидетельствует, казалось бы, и «говорящая фамилия»), но именно Брагин выступает и самым последовательным обличителем пороков своего приказа.
Поразмыслите, какие параллели с уже известными вам произведениями вызывает этот персонаж.
Я не случайно попросил вас приглядеться к характеру Брагина. Дело в том, что он является предшественником образа «маленького человека», к личности которого будет приковано внимание многих великих русских писателей XIX века – А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского и других.
Со временем вы подробно рассмотрите этот литературный тип, а пока ответьте: можно ли назвать Брагина личностью? С чем связано его нежелание сделать карьеру?
Хотя язык «Досадного пробуждения» кажется в XX веке несколько устаревшим, прислушайтесь к голосу автора: в нем отчетливо слышны насмешка и горечь.
Постарайтесь выявить художественные средства, с помощью которых автор добивается комического эффекта.
Досадное пробуждение
Природа не всех равно награждает своими дарами: один получает от ней великий разум, другой – красоту, третий – способность к предприятиям и так далее; но бедный Брагин забыт был равно от природы, как и от счастия. Он происшел на свет человеком без всяких прикрас: вид его не пленял, разуму не дивились и богатству не завидовали. Он не имел еще дому, хотя прожил на свете 40 лет, и по всем обстоятельствам не было надежды, чтоб удалось ему носить кафтан без заплат. Он сидел в приказе, утро писал, день пил, а ночью просыпался. Но сие правило не было непременно: он пил, когда случались просители, и, по особливому его счастию, уже лет с пять, как и рой наш был всегда с похмелья. В старину подьячих-пьяниц в чины не производили, жалованья оным не давали: они писали за договорную цену; и так Брагин, ничего не ожидая от времени, привык к своей участи: писал, выписывал и пропивал исправно.
Казалось, что судьба никогда о нем не вспомнит, ибо Брагин не кликал ее ни жалобами, ни досадою, ни благодарностию; однако дошла очередь учиниться ему благополучным. В одну ночь после протяжного гулянья, когда уже начальник его секретарь определил отдохнуть ему в железах, досадовал он ужасно противу несправедливости, ему оказанной, понеже он не считал, чтоб надлежало его наказывать за то, что он следует тому, что его утешает. «Я пью вино, – думал он, опершись на свою руку, – я пью его для того, что вкус оного мне нравится. Многие пьют кровь своих ближних, однако ж не всегда их за сие сажают в железы. Начальник мой секретарь разоряет в год до несколька десятков целых фамилий; он подлинно высасывает все их жизненные соки; но он считает себя оправданным к тому примерами людей, употребляющих сие вместо народного права. Я также бы мог оправдать в том себя примерами; но я не хочу с ним равняться: он бесчеловечен, а я друг ближним моим… Будь проклят секретарь и здравствуй, любезное вино! Мы с тобою никогда не расстанемся». Едва кончил он свое восклицание, вдруг видит он входящую прекрасную госпожу, одетую на легкую руку.
– Милостивая государыня! – сказал, вскоча, Брагин. – Какую нужду вы имеете у нас в приказе? Без сомнения, написать челобитную. Я к вашим услугам.
– Так, мой друг, – отвечала ему госпожа, – ты не ошибся. И в такое время, когда еще все спят, прихожу я с намерением, чтоб воспользоваться твоим искусством и найти тебя не занята работою. Я давно уже тебя ищу, но всегда неудачно: время твое так хорошо разделено, что почти некогда тебе и переговорить со мною.
Брагин не дослушал ее слов; он подставил госпоже скамью, просил сесть, положил бумагу, оправил перо и, делая размахи над бумагою, спрашивал, что писать и на кого.
– Прошу внимать слова мои подробно, – говорила ему госпожа, – ибо род челобитной моей должен различествовать от обыкновенного образца, коим просит имярек на имярека.
– Как различествовать! – вскричал Брагин. – Челобитную твою не примут.
– Нет, ничего, – продолжала госпожа, – довольно, ежели оную только прочтут. Начинай, друг мой!
После чего сказывала она, и подьячий писал следующее:
– Фортуна, которую по простонаречию называют счастьем и приписывают ей раздаяние человеческих участей, по справкам своим нашла, что она не участвовала в перемене состояния некоторых людей и которые клеплют ее в полученной милости напрасно; просит особ, коим вверено попечение о правосудии, рассмотреть, изыскать и решить следующие ее вопросы:
От чего набогащаются те, коим государь ничего не жаловал, наследства не доставалось, приданого за женами не брали и промыслов не имели, а были только у порученных должностей?
Чрез что получили некоторые недвижимые и движимые имения, когда предки их и сами они хаживали в лаптях?
Бывшие у закупки съестных припасов где нашли клад?
– Но, государыня моя, – вскричал Брагин, перестав писать, – я должен с вами договориться, что пожалуете вы мне за труд, понеже вы начали такие вопросы, кои никогда не решат и коим конца не будет.
– Не заботься о награждении, – отвечала она, – счастье само тебя находит… Правда, что я хотела было присовокупить к сим вопросам кое-что, как, например: отчего приставленные к приемам и выдачам не сводят расхода с приходом? Отчего у вас в приказе лет по 50 лежат дела нерешенные и прочее? Но я избавляю тебя от труда. Я пришла не бить челом, но только узнать тебя, подлинно ли ты в таковом бедном состоянии и так равнодушно сносишь то, что счастие о тебе не вспомнит. Ведай, что я сама богиня счастия и могу переменить судьбу твою. Последуй мне.
Брагин чувствовал, что кандалы его спали; он бросил бумагу и бежал, задыхаясь, за проворно шествующею богинею, ожидая не меньше, как получить целую вина бочку, ибо желания человеческие замыкаются обыкновенно в пределах обстоятельств, в которых оные находятся. Они пришли в преогромные палаты; Брагин ломал уже с сердцов пальцы, не видя во оных никаких сосудов, способных подать ему надежду о приближении к вину. Однако богиня не хотела медлить своим награждением: она дала ему очарованную шапку.
– Надень ее на голову, – сказала она, – и желай чего хочешь: все исполнится.
В то мгновение палаты и она исчезли, а Брагин с своею шапкою очутился на городской площади.
«Ежели я не обманут счастьем, – думал он, – то подарок его стоит многого. Испытаем; я с похмелья, кабак близко; изрядно, я желаю, чтоб везде поили меня безденежно». Сказал и вшел в первый питейный дом. Он требовал вина, пива; подавали без отговорок и не требовали платы. «Прости, приказ! – кричал Брагин. – С сего времени я писать больше не намерен». Он ходил по всем таковым местам; тысяча приятелей собрались вокруг его, шли за ним и пользовались его счастием. Бочек со сто выпито. Брагин, поднося всем, не забывал себя, но, к огорчению, почувствовал, что хмель над ним не действует, хотя товарищи его все попадали. Сие привело его к рассуждениям. «Я пью для того, чтоб ошалеть, – думал он, – но, когда пил я целый день храбро и по сих пор еще не пьян, зачем же пить? Прежде век мой тек своею дорогою, мне до него дела не было, а теперь помышляю я о том, что со мною будет впредь… Да что ж со мною будет? Сего счастье мне не объявило. Оно позволило мне желать только. Пожелаем чего-нибудь!.. Но чего же мне желать? Все состояния в свете толь для меня не завидны, что я из оных не изберу, в котором можно бы жить спокойно. От вышнего чина до нижнего всякое наполнено сует, беспокойств и опасности. Вышним завидуют, нижних притесняют; а я не хочу быть ни притеснителем, ни притесненным… Однако есть одно, в котором, может быть, проживу я весело. Итак, я желаю обратиться в красавца».
В то мгновение багровый и угреватый его нос учинился наилучшим из всех бывших некогда в чести у римлян. Сывороточно-серые его глаза обратились в пару черных блистающих очей, коих взоры острее стрел проницают до сердца и располагают страстными вздохами побежденных. Синеватые и опухшие его губы уступили маленьким улыбающимся розовым устам, коим никогда не дозволяют быть в праздности. Смесь паросского мрамора, снега, лилеи и развивающейся розы вступила на смуглый и в приличных местах рдевшийся цвет лица его. Исчезли в зубах щербины, произведенные смелою рукою ражего мясника на последнем кулачном сражении; тут были уже два ряда зубов, кои не стыдно показывать с намерением и кои придают прелесть некстати начатому смеху. Чтоб не забыть и о волосах: оные сделались подобны некрашеному шелку, и зефир постарался закрутить оные в прелестнейшие локоны, чтоб удобнее мог отдыхать и играть во оных. Черные его брови из своей навислости до самых ресниц переменились в тоненькие, возвышенные и которые лучше к нему пристали, нежели к рыжей щеголихе, когда она свои лисьего цвета превращает в гебен китайскою тушью. Щедрое счастие не забыло и о его летах: сорок проведенных без внимания годов разделены пополам, и вид Брагина без подозрения мог быть принимаем за сей возраст, в чем морщины толь досадно изменяют пожилым девушкам, помышляющим еще о Гименее. Не можно истинного начертания сделать его стану, рукам, ножкам и проворности; восточный писатель нашел бы, может быть, копию с прелестного бога любви, каковым казался он нежной своей Псише. Искусная богиня, хотя изображают ее слепою, видела подробно все нужное, она пеклась и о его наряде. Замасленный синий, с зелеными заплатами его кафтан уступил место легкому шелковому одеянию, блистающему от шитья золотом; медные и разных цветов шерстяные пуговицы учинились бриллиантовыми.
Долгий и ниже колен простирающийся камзол слетел долой, чтоб увидели индийскую кисею, покрывающую галльскую тафту, распещренную дорогими камнями. Обувь его, которая могла спорить древностию с редчайшими остатками прошлых веков, которая покрыта была трехгодовалого грязью и из-под которой при каждом ступне выскакивали на свободный воздух кривые пальцы, учинилась точно таковою, на кою обращают взоры стыдливые красавицы, чтоб после, возвышая оные полегоньку, дойти до глаз и неприметно высмотреть все, что нужно высмотреть.
Таковое-то превращение воспоследовало от счастия благополучному Брагину и дозволило ему обыкновенное право, коим пользуются его любимцы, то есть желать и видеть желаемому исполнение. Но Брагин не желал еще ничего; он любовался своим перерождением, рассматривая себя в тихом токе речки, стоя на берегу оныя.
Вдруг стук кареты пресек его удовольствие: разряженная в прах девица, и притом прекрасная и молодая, вышла к берегу. Она снимала с себя бриллианты и бросала врознь с досадою. Карета ее уехала, и не осталось никого, кто б мог быть свидетелем ее жалобам, кои начала она немедленно.
– О, жестокий красавец! – сказала она, вздохнувши. – Неужели ты не нашел во мне ничего, удобного воспламенить тебя? Весь свет ищет моей благосклонности, а твое каменное сердце нечувствительно. Ни один монарх не презирал еще ласковых моих взоров, а ты равнодушен в то время, когда я теснейшим союзом хочу с тобою соединиться. О, варвар, неблагодарный к моим одолжениям! Ты гонишь меня из света, я не могу жить после такового пренебрежения. Прозрачные струи будут тебя снисходительнее, они сокроют в себе и мою слабость, и мою несчастную любовь.
Сказав сие, красавица приготовилась броситься в воду.
Брагин, которому любовь не могла еще до тех пор упрекать, что был он под ее властию, восчувствовал все действие ее при первом взгляде на несчастную красавицу. Прелести ее наполнили все его чувства, и каждое отчаянное ее воздыхание было ударом в его душу. Он бросился к ней опрометью и удержал ее за платье, готовую уже погрузиться в водах речки. Красавица упала в обморок от воображения о смерти или, может быть, только притворилась, чтоб не отстать ни в чем от своего пола, который всегда прибегает к сему средству, бывая наедине с пригожим человеком, чтоб с благопристойностию привлечь его к тем прикосновениям, коих нельзя избегнуть при подаянии помощи. Новый Адонид положил красавицу к себе на колени, ослабил ей шнуровку и, прилагая всевозможные старания к приведению ее в чувство, узнал, что он сам не будет жив, если она не опомнится.
– Ах, божественное творение! – вскричал он, осыпав поцелуями ее руку и прижав оную к груди своей. – Ах, бессмертные прелести! Кто может взирать на вас и… какой варвар, какой обитатель ледовитых гор мог привести тебя в сие состояние? О, если бы только я удостоился одного твоего нежного взора, вся жизнь моя посвящена была бы любви моей… Я не говорю: обожать тебя, ибо я женился бы на тебе.
– Женился бы на мне! – вскричала, открыв глаза, красавица. – Для чего ж ты, неблагодарный, медлил? Для чего доводил ты меня до отчаяния?
– Государыня моя! Я не видал вас никогда.
– Никогда, неблагодарный! Ты не знаешь богиню счастия, которая учинила тебя наилучшим мужчиною и требователем всех сокровищ света?
– О, богиня! Я виноват, но я исправлюсь, – вопиял Брагин и целовал ее руки; счастье ему не препятствовало. Где пылает пламень взаимной любви, там желания оживляются, там оным не препятствуют. Счастие согласилось сочетаться браком с благополучным Брагиным, и ничего не доставало больше, как торжествовать оный. Сему происходить надлежало, конечно, не у речки, хотя, впрочем, счастие ловить позволено во всяком месте. Богиня подала руку своему любовнику, вскочили и помчались резвее ветра в царство счастия.
Брагин чувствовал, что он летит, но неизвестно, каким образом; но он, занятый воображениями о своем благоденствии, не помышлял ни о чем, кроме достижения, и безопасность свою вверил счастию. Дворец, горящий потешными огнями, им представился; звук разных музыкальных орудий, тысячи певиц и танцовщиков встретили их у ворот оного. Брагин видел, что судьи приказа, в коем он некогда находился и на коих тогда не смел взирать без трепета, были тут только приворотниками и кланялись ему в землю. Двери в покоях отворяли вельможи; духи и волшебницы готовились прислуживать при столе, наполненном вместо яств блюдцами с коронами, с разными перевязками, с червонными и бумажками, на коих написаны были все употребительные в свете титлы.
Когда новобрачные сели за стол, тогда со всех четырех сторон двери растворились, и во оные вошло множество людей, кои по данному от богини знаку заняли порожние стулья. Гости сии были различного вида: одни представляли совершенных ироев, другие добродетельных и набожных, но большая часть казались быть наглыми забияками. С блюд раздавала сама богиня, зажмурясь, отчего произошло, что добродетельным достались одне только бумажки; мало ироев получили с первых блюд; забияки расхватали все, что к ним было близко, а набожные удовольствовались деньгами. Вскоре потом между гостьми сделалась драка; смелые зачали срывать друг с друга шапки и толкать с стульев; ирои их унимали. Но все бы не помогло, если б богиня не приказала подать напитка, называемого «забвение себя». Волшебницы начали подносить, и выпившие получали дремоту. Брагин считал сие действием хмеля, не сомневался о остроте пойла и не мог утерпеть, чтоб не попросить оного стакан; ему отказано.
– Не спешите, – сказала ему на ухо одна волшебница, – вам ныне не должно дремать; кажется, вы и так целый век спали.
– Как ты можешь мне отказывать? – вскричал Брагин с досадою. – Знаешь ли ты, старая ведьма, кто я?
– Очень, – отвечала волшебница, – вы супруг счастия.
– Не сердись, душенька, – сказала ему богиня, – волшебница тебя предостерегает. Если б ты выпил хотя каплю, ты бы забыл, что ныне наш брак. Теперь оставим мы гостей… ты можешь совершенно пользоваться твоим счастием, – промолвила она, застыдившись, – но сие требует старания. Я побегу, ты достигай меня, и если поймаешь, тогда…
Богиня не докончила, она вскочила из-за стола и побежала, как заяц. Брагин пустился вслед за нею, достигал и, выбившись из сил, упал, задохнувшись.
– Не убился ли ты, красавец? – кричала богиня, подходя к нему.
Брагин не мог выговорить ни слова; она бросилась к нему и начала его целовать.
– А, теперь уже ты не вырвешься, я поймал мое счастие, – сказал он, схватя ее в объятия и прижав к груди своей…
– Что за черт валяется? – кричал один из дозорных к человеку, лежащему в грязи и схватившему за ногу свинью. Это был почтенный супруг счастия, жалости достойный Брагин, который ввечеру, возвращаясь с кабака, упал в лужу и почивал бы спокойно во оной до света, если б свинья по обонянию не добралась к нему и не досталась ему в объятия, тронув губы его своим рылом.
Из сего видно, что счастие не всем дозволяет ловить себя въяве; многие видят оное только во сне, хотя, впрочем, существенность оного на свете сем зависит от воображения.
Вопросы и задания
1. Определите основной конфликт этого произведения и охарактеризуйте его композицию.
2. Определите пафос «Досадного пробуждения».
3. Охарактеризуйте образ счастья в новелле.
4. Какие пороки обличаются в этой новелле?
5. Охарактеризуйте образ Брагина.
Жанр басни в русской литературе XVIII века
Восемнадцатое столетие стало периодом расцвета жанра басни в русской литературе. Это не случайно. Басня как нельзя лучше отвечала потребностям просветительской литературы. Эпический жанр требовал разумного осмысления заключенного в нем художественного мира, а обязательное назидание полностью соответствовало дидактическим установкам Просвещения. В то же время русские писатели оценили и демократизм басни, позволявший им использовать неисчерпаемые богатства русского языка. Аллегорические персонажи русской басни говорили бытовым языком, нередко употребляя просторечие. Обычным для русских баснописцев стало использование вольного стиха, придающего жанру силу и выразительность.
В отличие от западноевропейских баснописцев, черпавших сюжеты своих произведений у античных классиков Эзопа и Федра, русские поэты проявляли недюжинную фантазию и изобретательность, находя аллегории, понятные и близкие их соотечественникам. Басня стала могучим оружием просветителей в их борьбе с пороками общества и отдельных людей.
В поэтике классицизма басня традиционно считалась низким жанром, поэтому многие поэты стеснялись обращаться к ней. В России же басня пользовалась огромным уважением, к ней обращались и тонкие лирики, такие как А. П. Сумароков, и одописцы, например Г. Р. Державин, и создатели прославляющих Россию эпопей, каким был M. M. Херасков. Но больше всего басню любили поэты-сатирики. Именно басня принесла поэтическую славу Ивану Ивановичу Хемницеру. Соперник и друг H. М. Карамзина, Иван Иванович Дмитриев не смог превзойти Карамзина в создании лирики, но его басни обеспечили ему громкое поэтическое имя. Трудно назвать поэта, который не попробовал бы своих сил в жанре басни в XVIII веке.
Прочитав предложенные вам произведения, постарайтесь ответить на ряд вопросов: какие пороки высмеивают русские баснописцы? Какие художественные приемы используют они для создания аллегорических образов? Как проявляется в их баснях русская национальная поэтическая традиция? Как поэты используют возможности вольного стиха?
Денис Иванович Фонвизин
Лисица-кознодей[243]
В Ливийской стороне правдивый слух промчался, Что Лев, звериный царь, в большом лесу скончался. Стекалися туда скоты со всех сторон Свидетелями быть огромных похорон. Лисица-кознодей, при мрачном сем обряде, С смиренной харею, в монашеском наряде, Взмостясь на кафедру, с восторгом вопиет: «О рок! лютейший рок! кого лишился свет! Кончиной кроткого владыки пораженный, Восплачь и возрыдай, зверей собор почтенный! Се царь, премудрейший из всех лесных царей, Достойный вечных слез, достойный алтарей, Своим рабам отец, своим врагам ужасен, Пред нами распростерт, бесчувствен и безгласен! Чей ум постигнуть мог число его доброт? Пучину благости, величия щедрот? В его правление невинность не страдала И правда на суде бесстрашно председала; Он скотолюбие в душе своей питал, В нем трона своего подпору почитал; Был в области своей порядка насадитель, Художеств и наук был друг и покровитель». «О, лесть подлейшая! – шепнул Собаке Крот. — Я Льва коротко знал: он был пресущий скот, И зол, и бестолков, и силой вышней власти Он только насыщал свои тирански страсти. Трон кроткого царя, достойна алтарей, Был сплочен из костей растерзанных зверей! В его правление любимцы и вельможи Сдирали без чинов с зверей невинных кожи; И словом, так была юстиция строга, Что кто кого смога, так тот того в рога. Благоразумный Слон из леса в степь сокрылся, Домостроитель Бобр от пошлин разорился, И Пифик-слабоум, списатель зверских лиц, Служивший у двора честнее всех Лисиц, Который, посвятя работе дни и ночи, Искусно кистию прельщая зверски очи, Портретов написал с царя зверей лесных Пятнадцать в целый рост и двадцать поясных; Да сверх того еще, по новому манеру, Альфреско[244] расписал монаршую пещеру, — За то, что в жизнь свою трудился, сколько мог, С тоски и с голоду третьего дни издох. Вот мудрого царя правление похвально! Возможно ль ложь сплетать столь явно и нахально!» Собака молвила: «Чему дивишься ты, Что знатному скоту льстят подлые скоты? Когда же то тебя так сильно изумляет, Что низка тварь корысть всему предпочитает И к счастию бредет презренными путьми, — Так, видно, никогда ты не жил меж людьми».Михаил Матвеевич Херасков
Мартышка во дворянах
С полфунта[245] накопя умишка, Разумной сделалась Мартышка И стала сильно врать; А этим возгордясь, и морду кверху драть. Но разве для глухого Казалась речь умна оратора такого, Оратор этот врал, А сверх того и крал. И так он сделался из зверя дворянином, Пожалован был чином. В дворяне, господа, Мартышку занесло, Так, следственно, у ней и спеси[246] приросло. Поймала счастье в руки, На что уж ей науки? Мартышка дворянин, как ты ее ни весь, Обыкновенный герб таких героев – спесь. Но, благородный став из подлости, детина Сквозь благородие всем кажется скотина. Василии Иванович МайковРоза и Змея
Как некогда Змея так Розе говорила: «Натура[247] нас с тобой подобных сотворила: Ты жалишься, как я». Тогда в ответе речь была Змее сия: «Злохитрая Змея, Напрасно ты себя ко мне приткнула боком И хочешь замарать меня своим пороком: Я жалю только тех, Которые меня с невежеством ломают, А ты, хотя тебя и вечно не замают[248], Ты жалишь всех». Читатель мой, внемли, что пела лира: Змея – преподлая, а Роза – умная сатира.Иван Иванович Хемницер
Лестница
Все надобно стараться С потребной стороны за дело приниматься; А если иначе, все будет без пути. Хозяин некакий стал лестницу мести; Да начал, не умея взяться, С ступеней нижних месть. Хоть с нижней сор сметет, А с верхней сор опять на нижнюю спадет. «Не бестолков ли ты? – ему в ответ тут говорили, Которые при этом были. — Кто снизу лестницу метет?» На что бы походило, Когда б в правлении, в каком бы то ни было, Не с высших степеней, а с нижних начинать Порядок наблюдать?Иван Иванович Дмитриев
Желания
Сердися Лафонтен иль нет, А я с ним не могу расстаться. Что делать? Виноват, свое на ум нейдет, Так за чужое приниматься. Слыхали ль вы когда от нянек об духах, Которых запросто зовем мы домовыми? Как не слыхать! детей всегда стращают ими; Они во всех странах Живут между людей, неся различны службы, — Без всякой платы, лишь из дружбы; Кто правит кухнею, кто холит лошадей; Иные берегут людей От злого глаза и уроков[249], И все имеют дар пророков. Один из тех духов Был в Индии у мещанина Хранителем его садов; Он госпожу и господина Любил не меньше, чем родных; Всегда, бывало, их Своим усердьем утешает И в упражненьи всякий час: То мирточки садит, то лучший ананас К столу хозяев выбирает. Хозяям клад был гость такой! Но доброе всегда непрочно; Не знаю точно, Что было этому виной — Политика или товарищей коварство, — Вдруг от начальника приказ ему лихой Лететь в другое государство; Куда ж? сказать ли вам, Сердца чувствительны и нежны? Из мест, где счета нет цветам, Из вечного тепла – в сугробы, в горы снежны, На край Норвегии! Вдруг из индейца будь Лапландец! Так и быть, слезами не поправить, А только лишь надсадишь грудь. «Прощайте, господа! Мне должно вас оставить! — Со вздохом добрый дух хозяйвам говорил. — Я здесь уж отслужил; Наш князь указ наслал, предписывает строго Лететь на север мне. Хоть грустно, но лететь! Недолго, милые, уже на вас глядеть: С неделю, месяц много. Что мне оставить вам за вашу хлеб и соль, В знак моего признанья? Скажите: я могу исполнить три желанья». Известен человек: просить чего? – изволь, Сейчас готовы крылья. «Ах! изобилья, изобилья!» — Вскричали в голос муж с женой. И изобилие рекой На дом их полилося: В шкатулы золотом, в амбары их пшеном, А в выходы вином; Верблюдов табуны, – откуда что взялося! Но сколько ж и забот прибавилося с тем! Легко ли усмотреть за всем, Все счесть, все записать? Минуты нет покоя: В день доброхотов[250] угощай, Тому в час добрый в долг, другому так давай, А в ночь дрожи и жди разбоя. «Нет, Дух! – они кричат, – возьми свой дар назад; С богатством не житье, а вживе[251]сущий ад! Приди, спокойствия подруга неизменна, Наставница людей, Посредственность бесценна! Приди и возврати нам счастье прежних дней!..» Она пришла, и два желания свершились, Осталось третье объявить: Подумали они и наконец решились Благоразумия просить, Которое во всяко время Нигде и никому не в бремя.Вопросы и задания
1. Назовите пороки, которые обличаются в приведенных баснях.
2. Выпишите морали приведенных басен.
3. Сопоставьте аллегорические образы, используемые в приведенных баснях.
4. Охарактеризуйте композицию басен Фонвизина и Дмитриева.
5. Подготовьте чтение понравившейся басни наизусть.
Сентиментализм в русской литературе XVIII века
Николай Михайлович Карамзин
Я уже говорил вам, что русская литература XVIII века развивалась столь стремительно, что за несколько десятилетий сократила вековой разрыв с литературой западноевропейской. Существенный вклад в такое ускоренное развитие отечественной литературы внес H. М. Карамзин, человек русский по духу, патриот, поднявшийся до высот европейской культуры. В конце XVIII – начале XIX столетия не было, вероятно, в России более прогрессивного и образованного литератора, чем Николай Михайлович. Во многих областях литературного творчества он выступал смелым новатором. Вы уже знаете, что в XVIII веке в России господствовал метод классицизма. Не исчерпал он своих возможностей и к началу XIX века, но все же общий характер русской литературы уже требовал обновления, освоения нового содержания. Эту задачу и начал выполнять в своем творчестве H. М. Карамзин. Он впервые в русской литературе овладел новым, более прогрессивным методом – сентиментализмом (вспомните, что вы знаете о сентиментализме в зарубежной литературе, каковы отличительные черты этого метода).
В русской литературе сентиментализм отличался определенным художественным своеобразием. Во-первых, он предполагал сосредоточение писателя на внутреннем мире человека, на сфере его чувств и переживаний. В центр литературы выдвигается чувствительный герой, способный остро реагировать на чужую боль, радость, печаль, на страдания, как потом скажет Ф. М. Достоевский, «униженных и оскорбленных». Русский сентиментализм предполагал очень пристальное внимание к самому угнетенному и несправедливо обиженному слою общества – крепостному крестьянству, поскольку, по словам А. Н. Радищева, «крестьянин в законе мертв». Открыть «человеческое содержание» в крепостном крестьянине, понять его не как неодушевленную вещь, товар, который можно продать, подарить, выменять, а как человека со всеми присущими ему переживаниями, – эта задача выпала именно на долю русского сентиментализма. Наконец, именно сентиментализм впервые внес в русскую литературу идею гуманизма, сострадания и сочувствия человеку. Если классицизм строго судил и обличал человека за его пороки, то сентиментализм старался прежде всего пожалеть человека, не осуждал его за его слабости, а пытался понять и простить их (это не значит, конечно, что сентиментализм оправдывал разврат, жестокость, невежество; он просто не требовал от человека непременного подвига, жертвы, признавал за личностью право на чувство, иногда даже и противоречащее долгу).
Н. М. Карамзин – ив этом его особая заслуга перед русской словесностью – существенно реформировал русскую прозу, придав ей легкость, плавность, изящество. Во многом здесь писатель ориентировался на французский язык, уже гораздо более разработанный художественно, чем русский. Вы сами убедитесь в том, что произведения Карамзина легко читать; он старался сделать язык прозы приятным для слуха, понятным и настолько приблизил к современному литературному языку, что нам даже трудно оценить его новаторство. Решительно освобождая русский литературный язык от церковнославянского влияния, устраняя из него устаревшие слова и выражения, Карамзин в то же время пытался переводить многие слова с французского языка на русский, будучи автором многочисленных неологизмов, прочно прижившихся в русском литературном языке. Такие слова, которые мы воспринимаем теперь как нейтральные, чисто русские, были в свое время изобретены писателем по аналогии с французскими: «промышленность», «влюбленность», «будущность», «общественность», «человечный».
H. М. Карамзин в области русского литературного языка активно продолжал дело, не вполне удавшееся Тредиаковскому: его задачей было сблизить письменную и устную речь, «говорить, как пишешь, и писать, как говоришь». Николаю Михайловичу это во многом удалось, но тут была одна тонкость. В поэтической речи, максимально приближенной к простому разговорному языку, Карамзин не допускал низкой лексики, и даже такое простое слово, как «парень», вызывало у него чувство эстетического протеста. Таким образом, он создавал язык во многом салонный, рассчитанный на дворянские круги. И все же его заслуга в деле становления нового русского литературного языка очень велика. Можно сказать, что без прозаических опытов Карамзина мы вряд ли бы имели язык Пушкина, который окончательно сформировал новые принципы русской литературной речи, основывающейся на речи разговорной, народной.
Одним из первых сентиментальных произведений в России стала повесть H. М. Карамзина «Бедная Лиза». Ее фабула очень проста – это любовь дворянина к крестьянке, заканчивающаяся очень печально: слабохарактерный, хотя и добрый дворянин Эраст губит бедную доверчивую девушку. Но главное здесь не в фабуле, а в тех чувствах, которые повесть должна была пробудить в читателе. Поэтому главным героем произведения становится не собственно Лиза или Эраст, а повествователь, который с грустью, печалью и сочувствием рассказывает нам о чувствах героев и их печальной судьбе. Такой образ сентиментального повествователя – находка в русской литературе, поскольку ранее повествователь был в основном нейтрален, его задача была рассказывать о событиях, а не выражать своего эмоционального отношения к ним. Для «Бедной Лизы» в высшей степени характерны короткие или развернутые лирические отступления, при каждом драматическом повороте сюжета мы слышим голос автора: «сердце мое обливается кровию в сию минуту», «слеза катится по лицу моему».
Чрезвычайно существенным, как я вам уже говорил, был для писателя-сентименталиста момент обращения к социальной проблематике. Он не обличает Эраста в гибели Лизы: дворянин Эраст так же несчастен, как крестьянка Лиза. Важно другое, что Карамзин едва ли не впервые в русской литературе открыл «живую душу» в представительнице низшего сословия. «И крестьянки любить умеют» – эта фраза из повести надолго стала крылатой в русской культуре. Автор открывает нравственные достоинства в том классе, который было принято считать за скотов (вам, конечно, известно, что крепостных крестьян в России XVIII века продавали, выменивали, разлучали семьи). Поэтому повесть Карамзина объективно носила антикрепостнический характер.
«Бедная Лиза» сразу стала чрезвычайно популярной в русском обществе. Новый взгляд на человека, идеи гуманности, сочувствия и чувствительности оказались очень созвучны веяниям времени, когда культура и литература от собственно гражданской тематики (что было характерно для Просвещения и классицизма) перешли к теме личной, интимной жизни человека, где внутренний мир личности стал главным объектом внимания в литературе и культуре.
В художественном смысле «Бедная Лиза» имела еще и другое, собственно эстетическое значение. С ней в русскую литературу вошел психологизм, то есть умение писателя живо и трогательно, эмоционально захватывая читателя, изображать внутренний мир человека, его чувства, переживания, желания и стремления. Именно с этого времени читатель стал искать в произведениях искусства слова не только сюжетной занимательности, но и изображения психологии героев. В этом смысле Карамзин подготовил почву для развития русского психологизма XIX века, для произведений М. Ю. Лермонтова, А. И. Герцена, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, А. П. Чехова и других отечественных писателей.
В истории русской культуры H. М. Карамзин занимает особое место еще и потому, что едва ли не впервые серьезно занялся нашим национальным прошлым. Он первым составил научную многотомную «Историю государства Российского», не потерявшую актуальности и в наши дни. Исторические изыскания литератора были по достоинству оценены современниками, и в первую очередь А. С. Пушкиным. Интерес к русской истории проявился и в литературном творчестве Карамзина. Достаточно назвать такие его произведения, как «Наталья, боярская дочь», «Марфа посадница, или Покорение Новагорода». Историческая тема в художественном и научном творчестве писателя была тем более актуальной, что именно на рубеже XVIII–XIX веков происходило активное становление русского национального самосознания, связанное как с последствиями петровских реформ, так и с победами «екатерининских орлов» во главе с А. В. Суворовым. Окончательную же точку в этом процессе поставила Отечественная война 1812 года, на которую многие русские поэты и писатели отозвались патриотическими произведениями.
Значение деятельности H. М. Карамзина для Отечества трудно переоценить. Среди всех писателей екатерининского века он более других сделал для развития русской литературы как в плане содержания, так и в отношении формы. Как я уже говорил, его «История государства Российского» сохраняет свое значение и сегодня, а его художественными произведениями наслаждаются современные читатели. Мы находим в них неподдельную гуманность, истинно человеческие чувства, легкость и изящество слога, образцы ума и образованности.
А теперь предлагаю вам несколько вопросов. В чем вы видите традиции западноевропейской и русской литературы в творчестве H. М. Карамзина? Какие художественные средства использует писатель при изображении крестьян? Каков взгляд Карамзина-писателя на историческое прошлое Отечества?
Бедная Лиза
Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели – куда глаза глядят – по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты.
Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Си…нова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра: великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных златых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или глумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим.
Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалины гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, – стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келий и представляю себе тех, которые в них жили, – печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего колена перед распятием и молящего о скором разрешении земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах – с бледным лицом с томным взором – смотрит в поле сквозь решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит – и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет – и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случившихся, там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами; тут образ Богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего Отечества – печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного Бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях.
Но всего чаще привлекает меня к стенам Си…нова монастыря – воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!
Саженях в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою, матерью своею.
Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обработывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю внаем, и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего – ибо и крестьянки любить умеют! – день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, – которая осталась после отца пятнадцати лет, – одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь – ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды – и продавала их в Москве. Чувствительная, добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо биющемуся сердцу, называла Божескою милостию, кормилицею, отрадою старости своей и молила Бога, чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери. «Бог дал мне руки, чтобы работать, – говорила Лиза, – ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенком; теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать: слезы наши не оживят батюшки». Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих – ах! она помнила, что у нее был отец и что его не стало, но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойною и веселою. – «На том свете, любезная Лиза, – отвечала горестная старушка, – на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть – что с тобою без меня будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай Бог прежде пристроить тебя к месту! Может быть, скоро сыщется добрый человек. Тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю».
Прошло два года после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы – и закраснелась. «Ты продаешь их, девушка?» – спросил он с улыбкою. – «Продаю», – отвечала она. – «А что тебе надобно?» – «Пять копеек». – «Это слишком дешево. Вот тебе рубль». – Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, – еще более закраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля. – «Для чего же?» – «Мне не надобно лишнего». – «Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы; хотел бы, чтоб ты рвала их только для меня». Лиза отдала цветы, взяла пять копеек, поклонилась и хотела идти, но незнакомец остановил ее за руку. – «Куда же ты пойдешь, девушка?» – «Домой». – «А где дом твой?» – Лиза сказала, где она живет, сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее, может быть, для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались.
Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что с нею случилось. «Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это был какой-нибудь дурной человек…» – «Ах нет, матушка! Я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос…» – «Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку! У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город; я всегда ставлю свечу перед образ и молю Господа Бога, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти». У Лизы навернулись на глазах слезы; она поцеловала мать свою.
На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали. Многие хотели у нее купить цветы, но она отвечала, что они не продажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер, надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку. «Никто не владей вами!» – сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердце своем. На другой день ввечеру сидела она под окном, пряла и тихим голосом пела жалобные песни, но вдруг вскочила и закричала: «Ах!..» Молодой незнакомец стоял под окном.
«Что с тобой сделалось?» – спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела. – «Ничего, матушка, – отвечала Лиза робким голосом, – я только его увидела». – «Кого?» – «Того господина, который купил у меня цветы». Старуха выглянула в окно. Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, что она не могла подумать об нем ничего, кроме хорошего.
«Здравствуй, добрая старушка! – сказал он. – Я очень устал; нет ли у тебя свежего молока?» Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей, – может быть, для того, что она его знала наперед, – побежала на погреб – принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком, – схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно, но сама смотрела в землю. Незнакомец выпил – и нектар из рук Гебы не мог бы показаться ему вкуснее. Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу и благодарил не столько словами, сколько взорами. Между тем добродушная старушка успела рассказать ему о своем горе и утешении – о смерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ее трудолюбии и нежности, и проч. и проч. Он слушал ее со вниманием, но глаза его были – нужно ли сказывать где? И Лиза, робкая Лиза посматривала изредка на молодого человека; но не так скоро молния блестит и в облаке исчезает, как быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором. – «Мне хотелось бы, – сказал он матери, – чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы. Таким образом, ей незачем будет часто ходить в город, и ты не принуждена будешь с нею расставаться. Я сам по временам могу заходить к вам». – Тут в глазах Лизиных блеснула радость, которую она тщетно сокрыть хотела; щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер; она смотрела на левый рукав свой и щипала его правой рукою. Старушка с охотою приняла сие предложение, не подозревая в нем никакого худого намерения, и уверяла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бывают отменно хороши и носятся более всяких других. – Становилось темно, и молодой человек хотел уже идти. «Да как же нам называть тебя, добрый, ласковый барин?» – спросила старуха. – «Меня зовут Эрастом», – отвечал он. – «Эрастом, – сказала тихонько Лиза, – Эрастом!» Она раз пять повторила сие имя, как будто бы стараясь затвердить его. – Эраст простился с ними до свидания и пошел. Лиза провожала его глазами, а мать сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь свою, сказала ей: «Ах, Лиза! Как он хорош и добр! Если бы жених твой был таков!» Все Лизино сердце затрепетало. «Матушка! Матушка! Как этому статься? Он барин, а между крестьянами…» – Лиза не договорила речи своей.
Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои провождали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. «Натура призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям», – думал он и решился – по крайней мере на время – оставить большой свет.
Обратимся к Лизе. Наступила ночь – мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна, но на сей раз желание ее не исполнилось: Лиза спала очень худо. Новый гость души ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове натуры. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило все творение: рощи, кусточки оживились, птички вспорхнули и запели, цветы подняли свои головки, чтобы напитаться животворными лучами света. Но Лиза все еще сидела подгорюнившись. Ах, Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной; но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу. – Между тем молодой пастух по берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала: «Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом, – и если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое: ах! я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: «Здравствуй, любезный пастушок! Куда гонишь ты стадо свое? И здесь растет зеленая трава для овец твоих, и здесь алеют цветы, из которых можно сплести венок для шляпы твоей». Он взглянул бы на меня с видом ласковым – взял бы, может быть, руку мою… Мечта!» Пастух, играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за ближним холмом.
Вдруг Лиза услышала шум весел – взглянула на реку и увидела лодку, а в лодке – Эраста.
Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти, но не могла. Эраст выскочил на берег, подошел к Лизе и – мечта ее отчасти исполнилась: ибо он взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку… А Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем – не могла отнять у него руки – не могла отворотиться, когда он приближился к ней с розовыми губами своими… Ах! Он поцеловал ее, поцеловал с таким жаром, что вся вселенная показалась ей в огне горящею! «Милая Лиза! – сказал Эраст. – Милая Лиза! Я люблю тебя», и сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная, восхитительная музыка; она едва смела верить ушам своим и… Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту восторга исчезла Лизина робость – Эраст узнал, что он любим, любим страстно новым, чистым, открытым сердцем.
Они сидели на траве, и так, что между ими оставалось не много места, – смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу: «Люби меня!», и два часа показались им мигом. Наконец Лиза вспомнила, что мать ее может об ней беспокоиться. Надлежало расстаться.
«Ах, Эраст! – сказала она. – Всегда ли ты будешь любить меня?» – «Всегда, милая Лиза, всегда!» – отвечал он. – «И ты можешь мне дать в этом клятву?» – «Могу, любезная Лиза, могу!» – «Нет! мне не надобно клятвы. Я верю тебе, Эраст, верю. Ужели ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть?» – «Нельзя, нельзя, милая Лиза!» – «Как я счастлива, и как обрадуется матушка, когда узнает, что ты меня любишь!» – «Ах нет, Лиза! Ей не надобно ничего сказывать». – «Для чего же?» – «Старые люди бывают подозрительны. Она вообразит себе что-нибудь худое». – «Нельзя статься». – «Однако ж прошу тебя не говорить ей об этом ни слова». – «Хорошо: надобно тебя послушаться, хотя мне не хотелось бы ничего таить от нее». – Они простились, поцеловались в последний раз и обещались всякий день ввечеру видеться или на берегу реки, или в березовой роще, или где-нибудь близ Лизиной хижины, только верно, непременно видеться. Лиза пошла, но глаза ее сто раз обращались на Эраста, который все еще стоял на берегу и смотрел вслед за нею.
Лиза возвратилась в хижину свою совсем не в таком расположении, в каком из нее вышла. На лице и во всех ее движениях обнаруживалась сердечная радость. «Он меня любит!» – думала она и восхищалась сею мыслию. «Ах, матушка! – сказала Лиза матери своей, которая лишь только проснулась. – Ах, матушка! Какое прекрасное утро! Как все весело в поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали, никогда солнце так светло не сияло, никогда цветы так приятно не пахли!» – Старушка, подпираясь клюкою, вышла на луг, чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестными красками описывала. Оно, в самом деле, показалось ей отменно приятным; любезная дочь весельем своим развеселяла для нее всю натуру. «Ах, Лиза! – говорила она. – Как все хорошо у Господа Бога! Шестой десяток доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела Господни, не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю, которая всякий год новою травою и новыми цветами покрывается. Надобно, чтобы царь небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет. Ах, Лиза! Кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя?.. Видно, так надобно. Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы из глаз наших никогда слезы не капали». А Лиза думала: «Ах! Я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга!»
После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова своего, всякий вечер виделись (тогда, как Лизина мать ложилась спать) или на берегу реки, или в березовой роще, но всего чаще под тению столетних дубов (саженях в осьмидесяти от хижины) – дубов, осеняющих глубокий чистый пруд, еще в древние времена ископанный. Там часто тихая луна, сквозь зеленые ветви, посребряла лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга; часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем. Они обнимались – но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако: чисты и непорочны были их объятия. «Когда ты, – говорила Лиза Эрасту, – когда ты скажешь мне «Люблю тебя, друг мой!», когда прижмешь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами, ах! тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я себя забываю, забываю все, кроме – Эраста. Чудно! Чудно, мой друг, что я, не знав тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мне это непонятно, теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок мне неприятен». – Эраст восхищался своей пастушкой – так называл Лизу – и, видя, сколь она любит его, казался сам себе любезнее. Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми страстная дружба невинной души питала сердце его. С отвращением помышлял о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства. «Я буду жить с Лизою, как брат с сестрою, – думал он, – не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив!» – Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?
Лиза требовала, чтобы Эраст часто посещал мать ее. «Я люблю ее, – говорила она, – и хочу ей добра, а мне кажется, что видеть тебя есть великое благополучие для всякого». – Старушка в самом деле всегда радовалась, когда его видела. Она любила говорить с ним о покойном муже и рассказывать ему о днях своей молодости, о том, как она в первый раз встретилась с милым своим Иваном, как он полюбил ее и в какой любви, в каком согласии жил с нею. «Ах! Мы никогда не могли друг на друга наглядеться – до самого того часа, как лютая смерть подкосила ноги его. Он умер на руках моих!» – Эраст слушал ее с непритворным удовольствием. Он покупал у нее Лизину работу и хотел всегда платить в десять раз дороже назначаемой ею цены, но старушка никогда не брала лишнего.
Таким образом прошло несколько недель. Однажды ввечеру Эраст долго ждал своей Лизы. Наконец пришла она, но так невесела, что он испугался; глаза ее от слез покраснели. «Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось?» – «Ах, Эраст! Я плакала!» – «О чем? Что такое?» – «Я должна сказать тебе все. За меня сватается жених, сын богатого крестьянина из соседней деревни; матушка хочет, чтобы я за него вышла». – «И ты соглашаешься?» – «Жестокий! Можешь ли об этом спрашивать? Да, мне жаль матушки; она плачет и говорит, что я не хочу ее спокойствия, что она будет мучиться при смерти, если не выдаст меня при себе замуж. Ах! Матушка не знает, что у меня есть такой милый друг!» – Эраст целовал Лизу, говорил, что ее счастие дороже ему всего на свете, что по смерти матери ее он возьмет ее к себе и будет жить с нею неразлучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю. – «Однако ж тебе нельзя быть моим мужем!» – сказала Лиза с тихим вздохом. – «Почему же?» – «Я крестьянка». – «Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная, невинная душа, – и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу».
Она бросилась в его объятия – ив сей час надлежало погибнуть непорочности! – Эраст чувствовал необыкновенное волнение в крови своей – никогда Лиза не казалась ему столь прелестною – никогда ласки ее не трогали его так сильно – никогда ее поцелуи не были столь пламенны – она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не боялась – мрак вечера питал желания – ни одной звездочки не сияло на небе – никакой луч не мог осветить заблуждения. – Эраст чувствует в себе трепет – Лиза также, не зная отчего – не зная, что с нею делается… Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где – твоя невинность?
Заблуждение прошло в одну минуту. Лиза не понимала чувств своих, удивлялась и спрашивала. Эраст молчал – искал слов и не находил их. «Ах, я боюсь, – говорила Лиза, – боюсь того, что случилось с нами! Мне казалось, что я умираю, что душа моя… Нет, не умею сказать этого!.. Ты молчишь, Эраст? Вздыхаешь?.. Боже мой! Что такое?» – Между тем блеснула молния и грянул гром. Лиза вся задрожала. «Эраст, Эраст! – сказала она. – Мне страшно! Я боюсь, чтобы гром не убил меня, как преступницу!» Грозно шумела буря, дождь лился из черных облаков – казалось, что натура сетовала о потерянной Лизиной невинности. – Эраст старался успокоить Лизу и проводил ее до хижины. Слезы катились из глаз ее, когда она прощалась с ним. «Ах, Эраст! Уверь меня, что мы будем по-прежнему счастливы!» – «Будем, Лиза, будем!» – отвечал он. – «Дай Бог! Мне нельзя не верить словам твоим: ведь я люблю тебя! Только в сердце моем… Но полно! Прости! Завтра, завтра увидимся».
Свидания их продолжались; но как все переменилось! Эраст не мог уже доволен быть одними невинными ласками своей Лизы – одними ее любви исполненными взорами – одним прикосновением руки, одним поцелуем, одними чистыми объятиями. Он желал больше, больше и, наконец, ничего желать не мог, – а кто знает сердце свое, кто размышлял о свойстве нежнейших его удовольствий, тот, конечно, согласится со мною, что исполнение всех желаний есть самое опасное искушение любви. Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде воспалял его воображение и восхищал душу. Платоническая любовь уступила место таким чувствам, которыми он не мог гордиться и которые были для него уже не новы. Что принадлежит до Лизы, то она, совершенно ему отдавшись, им только жила и дышала, во всем, как агнец, повиновалась его воле и в удовольствии его полагала свое счастие. Она видела в нем перемену и часто говорила ему: «Прежде бывал ты веселее, прежде бывали мы покойнее и счастливее, и прежде я не так боялась потерять любовь твою!» – Иногда, прощаясь с ней, он говорил ей: «Завтра, Лиза, не могу с тобою видеться: мне встретилось важное дело», – и всякий раз при сих словах Лиза вздыхала.
Наконец пять дней сряду она не видела его и была в величайшем беспокойстве; в шестой пришел он с печальным лицом и сказал ей: «Любезная Лиза! Мне должно на несколько времени с тобою проститься. Ты знаешь, что у нас война, я в службе, полк мой идет в поход». – Лиза побледнела и едва не упала в обморок.
Эраст ласкал ее, говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и надеется по возвращении своем уже никогда с нею не расставаться. Долго она молчала, потом залилась горькими слезами, схватила руку его и, взглянув на него со всею нежностию любви, спросила: «Тебе нельзя остаться?» – «Могу, – отвечал он, – но только с величайшим бесславием, с величайшим пятном для моей чести. Все будут презирать меня; все будут гнушаться мною, как трусом, как недостойным сыном отечества». – «Ах, когда так, – сказала Лиза, – то поезжай, поезжай, куда Бог велит! Но тебя могут убить». – «Смерть за отечество не страшна, любезная Лиза». – «Я умру, как скоро тебя не будет на свете». – «Но зачем это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу». – «Дай Бог! Дай Бог! Всякий день, всякий час буду о том молиться. Ах, для чего не умею ни читать, ни писать! Ты бы уведомлял меня обо всем, что с тобою случится, а я написала бы к тебе – о слезах своих!» – «Нет, береги себя, Лиза, береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала». – «Жестокий человек! Ты думаешь лишить меня и этой отрады! Нет! Расставшись с тобою, разве тогда перестану плакать, когда высохнет сердце мое». – «Думай о приятной минуте, в которую опять мы увидимся». – «Буду, буду думать об ней! Ах, если бы она пришла скорее! Любезный, милый Эраст! Помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самое себя!»
Но я не могу описать всего, что они при сем случае говорили. На другой день надлежало быть последнему свиданию.
Эраст хотел проститься и с Лизиной матерью, которая не могла от слез удержаться, слыша, что ласковый, пригожий барин ее должен ехать на войну. Он принудил ее взять у него несколько денег, сказав: «Я не хочу, чтобы Лиза в мое отсутствие продавала работу свою, которая, по уговору, принадлежит мне». – Старушка осыпала его благословениями. «Дай Господи, – говорила она, – чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя еще раз увидела в здешней жизни! Авось-либо, моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по мыслям. Как бы я благодарила Бога, если б ты приехал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что ты должен крестить их! Ах! Мне бы очень хотелось дожить до этого!» – Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть на нее. Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала в сию минуту.
Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал: «Прости, Лиза!» Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях свою бледную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала в молчании.
Лиза рыдала – Эраст плакал – оставил ее – она упала – стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся – далее – далее – и наконец скрылся – воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бледная, лишилась чувств и памяти.
Она пришла в себя – и свет показался ей уныл и печален. Все приятности натуры сокрылись для нее вместе с любезным ее сердцу. «Ах! – думала она. – Для чего я осталась в этой пустыне? Что удерживает меня лететь вслед за милым Эрастом? Война не страшна для меня; страшно там, где нет моего друга. С ним жить, с ним умереть хочу или смертию своею спасти его драгоценную жизнь. Постой, постой, любезный! Я лечу к тебе!» – Уже хотела она бежать за Эрастом, но мысль: «У меня есть мать!» – остановила ее. Лиза вздохнула и, преклонив голову, тихими шагами пошла к своей хижине. – С сего часа дни ее были днями тоски и горести, которую надлежало скрывать от нежной матери: тем более страдало сердце ее! Тогда только облегчалось оно, когда Лиза, уединясь в густоту леса, могла свободно проливать слезы и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица соединяла жалобный голос свой с ее стенанием. Но иногда – хотя весьма редко – златой луч надежды, луч утешения освещал мрак ее скорби. «Когда он возвратится ко мне, как я буду счастлива! Как все переменится!» – от сей мысли прояснялся взор ее, розы на щеках освежались, и Лиза улыбалась, как майское утро после бурной ночи. – Таким образом прошло около двух месяцев.
В один день Лиза должна была идти в Москву, затем чтобы купить розовой воды, которою мать ее лечила глаза свои. На одной из больших улиц встретилась ей великолепная карета, и в сей карете увидела она – Эраста. «Ах!» – закричала Лиза и бросилась к нему, но карета проехала мимо и поворотила на двор. Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо огромного дома, как вдруг почувствовал себя – в Лизиных объятиях. Он побледнел – потом, не отвечая ни слова на ее восклицания, взял ее за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей: «Лиза! Обстоятельства переменились; я помолвил жениться; ты должна оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей – возьми их, – он положил ей деньги в карман, – позволь мне поцеловать тебя в последний раз – и поди домой». – Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел ее из кабинета и сказал слуге: «Проводи эту девушку со двора».
Сердце мое обливается кровью в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте – готов проклинать его – но язык мой не движется – смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему. Ах! Для чего пишу не роман, а печальную быль?
Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? – Нет, он в самом деле был в армии, но, вместо того чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился в Москву, отягченный долгами. Ему оставался один способ поправить свои обстоятельства – жениться на пожилой богатой вдове, которая давно была влюблена в него. Он решился на то и переехал жить к ней в дом, посвятив искренний вздох Лизе своей. Но все сие может ли оправдать его?
Лиза очутилась на улице и в таком положении, которого никакое перо описать не может. «Он, он выгнал меня? Он любит другую? Я погибла!» – вот ее мысли, ее чувства! Жестокий обморок перервал их на время. Одна добрая женщина, которая шла по улице, остановилась над Лизою, лежавшею на земле, и старалась привести ее в память. Несчастная открыла глаза – встала с помощию сей доброй женщины, – благодарила ее и пошла, сама не зная куда. «Мне нельзя жить, – думала Лиза, – нельзя!.. О, если бы упало на меня небо! Если бы земля поглотила бедную!.. Нет! небо не падает; земля не колеблется! Горе мне!» – Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тению древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями ее восторгов. Сие воспоминание потрясло ее душу; страшнейшее сердечное мучение изобразилось на лице ее. Но через несколько минут погрузилась она в некоторую задумчивость – осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего соседа (пятнадцатилетнюю девушку), идущую по дороге, – кликнула ее, вынула из кармана десять империалов и, подавая ей, сказала: «Любезная Анюта, любезная подружка! Отнеси эти деньги к матушке – они не краденые – скажи ей, что Лиза против нее виновата, что я таила от нее любовь свою к одному жестокому человеку, – к Э… На что знать его имя? – Скажи, что он изменил мне, – попроси, чтобы она меня простила, – Бог будет ее помощником, – поцелуй у нее руку так, как я теперь твою целую, – скажи, что бедная Лиза велела поцеловать ее, – скажи, что я…» Тут она бросилась в воду. Анюта закричала, заплакала, но не могла спасти ее, побежала в деревню – собрались люди и вытащили Лизу, но она была уже мертвая.
Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы там, в новой жизни, увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!
Ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на ее могиле. Тут часто сижу в задумчивости, оперевшись на вместилище Лизина праха; в глазах моих струится пруд; надо мною шумят листья.
Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ее от ужаса охладела – глаза навек закрылись. Хижина опустела. В ней воет ветер, и суеверные поселяне, слыша по ночам сей шум, говорят: «Там стонет мертвец: там стонет бедная Лиза!»
Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могилке. Теперь, может быть, они уже примирились!
Вопросы и задания
1. Какова в этом произведении идейная позиция повествователя и как она выражается?
2. Как соотносится поведение Эраста с понятием дворянской чести?
3. Чем мотивирует автор отказ Эраста от своей любви и данного слова?
4. Для чего в конце повествования говорится, что изложенные события сообщены повествователю самим Эрастом?
5. Какие художественные средства использует автор для создания характера Лизы?
6. Какую роль в «Бедной Лизе» играет пейзаж:?
7. Определите основной художественный конфликт в повести и проследите основные этапы его развития.
8. Какова роль диалогов в «Бедной Лизе»?
9. Как соотносится речь персонажей с «голосом» повествователя?
10. Назовите характерные черты сентиментализма, проявляющиеся в данном произведении.
11. Напишите сочинение на тему «Трагическая вина Эраста».
Александр Николаевич Радищев
Наверное, вы уже заметили, что в конце XVIII – начале XIX века в русской литературе было много явлений неоднозначных. Это было связано с еще очень нестабильным характером русской культуры. Д. И. Фонвизин и И. А. Крылов осуществляли переход от классицизма к реализму, Н. М. Карамзин – от сентиментализма к предромантизму (вспомните по произведениям западноевропейской литературы, в чем его особенности). Сходную картину представляет и творчество А. Н. Радищева, писателя-просветителя, который начинал свою творческую деятельность как писатель-сентименталист, но обращался и к принципам просветительского классицизма. Происходило это по все той же причине: русские писатели, к какому бы направлению они ни принадлежали, всегда держали в центре внимания конкретные картины российской действительности, а прежде всего положение русского крепостного крестьянства. Радищев же, кроме того, был еще и радикалом в политике: недаром Екатерина II, прочитав его «Путешествие из Петербурга в Москву», заявила, что автор «бунтовщик хуже Пугачева».
Что же вызвало столь резкий отзыв императрицы, повлекший за собой политическую опалу и ссылку автора? Прежде всего отчетливый антикрепостнический характер его произведения, его объективно революционный дух. Уже в оде «Вольность» Радищев открыто призывал народ к свержению тиранов. В «Путешествии из Петербурга в Москву» этот мотив был усилен. На каждой странице мы встречаемся с разгулом крепостников-помещиков, с бедственным положением крестьян. Радищев чрезвычайно подробно останавливается на картинах ужасающих бедствий народа. Он подробно описывает, сколько дней в неделю мужик работает на помещика, и получается, что для своего надела мужику остаются лишь ночь и праздники; крестьянин крайне скудно питается, не имея иногда даже «пустых щей»; помещики творят произвол, ничем не ограниченный, разлучая родителей с детьми, мужей с женами. Наряду с описанием зверств и беззаконий крепостников писатель дает нам остросатирические картины жизни русского барства, которое за счет непосильного труда крепостного крестьянства ведет праздный образ жизни.
В отличие от других русских просветителей, Радищев не противопоставляет образы развращенных дворян образам дворян просвещенных и милосердных. Его сатира направлена на государственный строй, на всю общественно-политическую систему. Особенно явно это проявилось в «сне» путешественника, в котором аллегорически изображены сама Екатерина II и ее ближайшее окружение. «Неизвестная странница Прямовзора» снимает царю бельма с глаз, и он начинает видеть вещи в их истинном свете. И тогда оказывается, что то, что казалось блеском и роскошью, оборачивается грязью и нищетой.
Все названные особенности произведения А. Н. Радищева (а вы можете к ним добавить и подробности из других глав) указывают на то, что автор обращается к беспощадному социальному анализу. И все же по своему творческому методу писатель остается преимущественно поэтом-сентименталистом. В его «Путешествии…» огромную роль играет известный уже нам по произведениям Карамзина лирический герой-повествователь, который постоянно сопровождает реальные картины своим эмоциональным комментарием. Повествователь у Радищева никогда не упустит заметить, что сердце его «обливалось кровью», «глаза наполнялись слезами», «душа замирала» и т. п. Этот сплав классицистского и сентиментального мировидения составляет одну из отличительных черт Радищева-прозаика. Здесь мы снова встречаемся с переходными формами, с борьбой старого и нового.
Нельзя не обратить внимания на то, что писатель очень глубоко задумывался над судьбами родины и его взгляды менялись от известного радикализма к более сдержанным и объективным оценкам истории России. Так, в стихотворении «Осьмнадцатое столетие» он по-прежнему противопоставляет «безумие и мудрость» века, но при этом объективно оценивает значение царствования Екатерины II, с которой раньше он вел лишь резкую полемику:
Мир, суд правды, истина, вольность лиются от трона, Екатериной, Петром воздвигнут, чтоб счастлив был росс. Петр и ты, Екатерина! Дух ваш живет еще с нами. Зрите на новый вы век, зрите Россию свою.Здесь мы видим ту свойственную русским просветителям высокую оценку «просвещенной монархии», которая отражала признание достижений России в XVIII веке.
Сочинения А. Н. Радищева были чрезвычайно прогрессивны по своему содержанию. Но потому XVIII век в России и является переходной эпохой, что новое содержание иногда проявлялось в старых формах, и наоборот. Сам слог прозы Радищева оказался очень далеким от художественных исканий его современников, и прежде всего Карамзина. Радищева читать очень трудно, особенно современному читателю: у него много устаревших форм и оборотов речи, очень затрудненный синтаксис, через который не всегда легко пробиться к художественному смыслу. Оказав существенное влияние на развитие свободолюбивых идей в России, писатель не оставил почти никакого следа в развитии того, что мы называем «изящной словесностью»: у его стиля не было поклонников и подражателей. Тем не менее место А. Н. Радищева в развитии русской литературы достаточно почетно.
Подумайте, пожалуйста, и ответьте: почему Екатерина II назвала автора «Путешествия…» «бунтовщиком хуже Пугачева»? Какие черты крестьянского быта отмечает Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву»? Можно ли считать оду «Вольность» революционным произведением?
Вопросы и задания к оде «Вольность»
1. Почему в начале оды Радищев называет себя рабом?
2. Что понимает Радищев под свободой?
3. Каким пороком возмущается поэт и кого он обличает?
4. Каким видится поэту будущее России?
5. Объясните христианскую позицию поэта.
6. Охарактеризуйте пафос оды.
7. Назовите жанровые признаки оды на примере «Вольности».
8. Охарактеризуйте стиль оды и приведите примеры риторических приемов, используемых автором.
9. Определите творческий метод оды и покажите его признаки.
10. Составьте ритмическую схему и систему рифмовки одной из строф.
Путешествие из Петербурга в Москву
Любани
Зимою ли я ехал или летом, для вас, думаю, равно. Может быть, и зимою и летом. Нередко то бывает с путешественниками: поедут на санях, а возвращаются на телегах. – Летом. Бревешками вымощенная дорога замучила мои бока; я вылез из кибитки и пошел пешком. Лежа в кибитке, мысли мои обращены были в неизмеримость мира. Отделялся душевно от земли, казалося мне, что удары кибиточные были для меня легче. Но упражнения духовные не всегда нас от телесности отвлекают; и для сохранения боков моих пошел я пешком. В нескольких шагах от дороги увидел я пашущего ниву крестьянина. Время было жаркое. Посмотрел я на часы. Первого сорок минут. Я выехал в субботу. Сегодня праздник. Пашущий крестьянин принадлежит, конечно, помещику, который оброку с него не берет. Крестьянин пашет с великим тщанием. Нива, конечно, не господская. Соху поворачивает с удивительною легкостию.
– Бог в помощь, – сказал я, подошед к пахарю, который, не останавливаясь, доканчивал зачатую борозду. – Бог в помощь, – повторил я.
– Спасибо, барин, – говорил мне пахарь, отряхая сошник и перенося соху на новую борозду.
– Ты, конечно, раскольник, что пашешь по воскресеньям?
– Нет, барин, я прямым крестом крещусь, – сказал он, показывая мне сложенные три перста. – А Бог милостив, с голоду умирать не велит, когда есть силы и семья.
– Разве тебе во всю неделю нет времени работать, что ты и воскресенью не спускаешь, да еще и в самый жар?
– В неделе-то, барин, шесть дней, а мы шесть раз в неделю ходим на барщину; да под вечером возим вставшее в лесу сено на господский двор, коли погода хороша; а бабы и девки для прогулки ходят по праздникам в лес по грибы да по ягоды. Дай Бог, – крестяся, – чтоб под вечер сегодня дожжик пошел. Барин, коли есть у тебя свои мужички, так они того же у Господа молят.
– У меня, мой друг, мужиков нет, и для того никто меня не клянет. Велика ли у тебя семья?
– Три сына и три дочки. Перьвинькому-то десятый годок.
– Как же ты успеваешь доставать хлеб, коли только праздник имеешь свободным?
– Не одни праздники, и ночь наша. Не ленись наш брат, то с голоду не умрет. Видишь ли, одна лошадь отдыхает; а как эта устанет, возьмусь за другую; дело-то и споро.
– Так ли ты работаешь на господина своего?
– Нет, барин, грешно бы было так же работать. У него на пашне сто рук для одного рта, а у меня две для семи ртов, сам ты счет знаешь. Да хотя растянись на барской работе, то спасибо не скажут. Барин подушных не заплатит; ни барана, ни холста, ни курицы, ни масла не уступит. То ли житье нашему брату, как где барин оброк берет с крестьянина, да еще без приказчика. Правда, что иногда и добрые господа берут более трех рублей с души; но все лучше барщины. Ныне еще поверье заводится отдавать деревни, как то называется, на аренду. А мы называем это отдавать головой. Голый наемник дерет с мужиков кожу; даже лучшей поры нам не оставляет. Зимою не пускает в извоз, ни в работу в город; все работай на него, для того что он подушные платит за нас. Самая дьявольская выдумка отдавать крестьян своих чужому в работу. На дурного приказчика хотя можно пожаловаться, а на наемника кому?
– Друг мой, ты ошибаешься, мучить людей законы запрещают.
– Мучить? Правда; но небось, барин, не захочешь в мою кожу. – Между тем пахарь запряг другую лошадь в соху и, начав новую борозду, со мною простился.
Разговор сего земледельца возбудил во мне множество мыслей. Первое представилось мне неравенство крестьянского состояния. Сравнил я крестьян казенных с крестьянами помещичьими. Те и другие живут в деревнях; но одни платят известное, а другие должны быть готовы платить то, что господин хочет. Одни судятся своими равными; а другие в законе мертвы, разве по делам уголовным. Член общества становится только тогда известен правительству, его охраняющему, когда нарушает союз общественный, когда становится злодей! Сия мысль всю кровь во мне воспалила.
– Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение.
Углубленный в сих размышлениях, я нечаянно обратил взор мой на моего слугу, который, сидя на кибитке передо мной, качался из стороны в сторону. Вдруг почувствовал я быстрый мраз, протекающий кровь мою, и, прогоняя жар к вершинам, нудил его распростираться по лицу. Мне так стало во внутренности моей стыдно, что едва я не заплакал.
– Ты во гневе твоем, – говорил я сам себе, – устремляешься на гордого господина, изнуряющего крестьянина своего на ниве своей; а сам не то же ли или еще хуже того делаешь? Какое преступление сделал бедный твой Петрушка, что ты ему воспрещаешь пользоваться усладителем наших бедствий, величайшим даром природы несчастному – сном? Он получает плату, сыт, одет, никогда я его не секу ни плетьми, ни батожьем (о умеренный человек!) – и ты думаешь, что кусок хлеба и лоскут сукна тебе дают право поступать с подобным тебе существом, как с кубарем[252], и тем ты только хвастаешь, что не часто подсекаешь его в его вертении. Ведаешь ли, что в первенственном уложении, в сердце каждого написано? Если я кого ударю, тот и меня ударить может. Вспомни тот день, как Петрушка пьян был и не поспел тебя одеть. Вспомни о его пощечине. О, если бы он тогда, хотя пьяный, опомнился и тебе отвечал бы соразмерно твоему вопросу!
– А кто тебе дал власть над ним?
– Закон.
– Закон? И ты смеешь поносить сие священное имя? Несчастный!.. – Слезы потекли из глаз моих; и в таковом положении почтовые клячи дотащили меня до следующего стана.
Черная грязь
Здесь я видел также изрядный опыт самовластия дворянского над крестьянами. Проезжала тут свадьба. Но вместо радостного поезда и слез боязливой невесты, скоро в радость претвориться определенных, зрелись на челе определенных вступать в супружество печаль и уныние. Они друг друга ненавидят и властию господина своего влекутся на казнь, к алтарю отца всех благ, подателя нежных чувствований и веселий, зиждителя истинного блаженства, творца вселенныя. И служитель его приимет исторгнутую властию клятву и утвердит брак!
И сие назовется союзом божественным! И богохуление сие останется на пример другим! И неустройство сие в законе останется ненаказанным!.. Почто удивляться сему? Благословляет брак наемник; градодержатель, для охранения закона определенный, – дворянин. Тот и другой имеют в сем свою пользу. Первый ради получения мзды; другой, дабы, истребляя поносительное человечеству насилие, не лишиться самому лестного преимущества управлять себе подобным самовластно. – О! горестная участь многих миллионов! конец твой сокрыт еще от взора и внучат моих…
Я тебе, читатель, позабыл сказать, что парнасский судья, с которым я в Твери обедал в трактире, мне сделал подарок. Голова его над многим чем испытывала свои силы. Сколь опыты его были удачны, коли хочешь, суди сам; а мне скажи на ушко, каково тебе покажется. Если, читая, тебе захочется спать, то сложи книгу и усни. Береги ее для бессонницы.
Слово о Ломоносове
Приятность вечера после жаркого летнего дня выгнала меня из моей кельи. Стопы мои направил я за Невский монастырь и долго гулял в роще, позади его лежащей. Солнце лицо свое уже сокрыло, но легкая завеса ночи едва-едва ли на синем своде была чувствительна. Возвращался домой, я шел мимо Невского кладбища. Ворота были отверсты. Я вошел… На сем месте вечного молчания, где наитвердейшее чело поморщится несомненно, помыслив, что тут долженствует быть конец всех блестящих подвигов; на месте незыблемого спокойствия и равнодушия непоколебимого могло ли бы, казалося, совместно быть кичение, тщеславие и надменность? Но гробницы великолепные? Суть знаки несомненные человеческия гордыни, но знаки желания его жити вечно. Но се ли вечность, которыя человек толико жаждущ?.. Не столп, воздвигнутый над тлением твоим, сохранит память твою в дальнейшее потомство. Не камень со иссечением имени твоего пренесет славу твою в будущие столетия. Слово твое, живущее присно и вовеки в творениях твоих, слово российского пламени, тобою в языке нашем обновленное, прелетит во устах народных за необозримый горизонт столетий. Пускай стихии, свирепствуя сложенно, разверзнут земную хлябь и поглотят великолепный сей град, откуда громкое твое пение раздавалося во все концы обширныя России; пускай яростный некий завоеватель истребит даже имя любезного твоего отечества: но доколе слово российское ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь. Если умолкнет оно, то и слава твоя угаснет. Лестно, лестно так умрети. Но если кто умеет исчислить меру сего продолжения, если перст гадания назначит предел твоему имени, то не се ли вечность?.. Сие изрек я в восторге, остановясь пред столпом, над тлением Ломоносова воздвигнутым. – Нет, не хладный камень сей повествует, что ты жил на славу имени российского, не может он сказать, что ты был. Творения твои да повествуют нам о том, житие твое да скажет, почто ты славен.
Где ты, о! возлюбленный мой! где ты? Прииди беседовати со мною о великом муже. Прииди, да соплетем венец насадителю российского слова. Пускай другие, раболепствуя власти, превозносят хвалою силу и могущество. Мы воспоем песнь заслуге к обществу.
Михайло Васильевич Ломоносов родился в Холмогорах… Рожденный от человека, который не мог дать ему воспитания, дабы посредством оного понятие его изострилося и украсилося полезными и приятными знаниями; определенный по состоянию своему препровождать дни свои между людей, коих окружность мысленныя области не далее их ремесла простирается; сужденный делать время свое между рыбным промыслом и старанием получить мзду своего труда, – разум молодого Ломоносова не мог бы достигнуть той обширности, которую он приобрел, трудясь в испытании природы, ни глас его той сладости, которую он приобрел от обхождения чистых мусс. От воспитания в родительском доме он приял маловажное, но ключ учения: знание читать и писать, а от природы – любопытство. И се, природа, твое торжество. Алчное любопытство, вселенное тобою в души наши, стремится к познанию вещей; а кипящее сердце славолюбием не может терпеть пут, его стесняющих. Ревет оно, клокочет, стонет и, махом прерывая узы, летит стремглав (нет преткновения) к предлогу своему. Забыто все, один предлог в уме; им дышим, им живем.
Не выпуская из очей своих вожделенного предмета, юноша собирает познание вещей в слабейших ручьях протекшего наук источника до нижайших степеней общества. Чуждый руководства, столь нужного для ускорения в познаниях, он первую силу разума своего, память, острит и украшает тем, что бы рассудок его острить долженствовало. Сия тесная округа сведений, кои он мог приобресть на месте рождения своего, не могла усладить жаждущего духа, но паче возжгла в юноше непреодолимое к учению стремление. Блажен! что в возрасте, когда волнение страстей изводит нас впервые из нечувствительности, когда приближаемся степени возмужалости, стремление его обратилося к познанию вещей.
Подстрекаем науки алчбою, Ломоносов оставляет родительский дом; течет в престольный град, приходит в обитель иноческих мусс и вмещается в число юношей, посвятивших себя учению свободных наук и слову божию.
Преддверие учености есть познание языков; но представляется яко поле, тернием насажденное, и яко гора, строгим камнем усеянная. Глаз не находит тут приятности расположения, стопы путешественника – покойныя гладости на отдохновение, ни зеленеющегося убежища утомленному тут нет. Тако учащийся, приступив к неизвестному языку, поражается разными звуками. Гортань его необыкновенным журчанием исходящего из нее воздуха утомляется, и язык, новообразно извиваться принужденный, изнемогает. Разум тут цепенеет, рассудок без действия ослабевает, воображение теряет свое крылие; единая память бдит в острится и все излучины и отверстия свои наполняет образами неизвестных доселе звуков. При учении языков все отвратительно и тягостно. Если бы не подкрепляла надежда, что, приучив слух свой к необыкновенности звуков и усвоив чуждые произношения, не откроются потом приятнейшие предметы, то неуповательно, восхотел ли бы кто вступить в столь строгий путь. Но, превзошед сии трудности, коликократно награждается постоянство в понесенных трудах. Новые представляются тогда естества виды, новая цепь воображений. Познанием чуждого языка становимся мы гражданами тоя области, где он употребляется, собеседуем с жившими за многие тысячи веков, усвояем их понятия; и всех народов и всех веков изобретения и мысли сочетаем и приводим в единую связь.
Упорное прилежание в учении языков сделало Ломоносова согражданином Афин и Рима[253]. И се наградилося его постоянство. Яко слепец, от чрева материя света не зревший, когда искусною глазоврачевателя рукою воссияет для него величество дневного светила, – быстрым взором протекает он все красоты природы, дивится ее разновидности и простоте. Все его пленяет, все поражает. Он живее обыкших всегда во зрении очей чувствует ее изящности, восхищается и приходит в восторг. Тако Ломоносов, получивши сведение латинского и греческого языков, пожирает красоты древних витий[254] и стихотворцев. С ними научался он чувствовать изящности природы; с ними научался познавать все уловки искусства, кроющегося всегда в одушевленных стихотворством видах, с ними научался изъявлять чувствия свои, давать тело мысли и душу бездыханному.
Если бы силы мои достаточны были, представил бы я, как постепенно великий муж водворял в понятие свое понятия чуждые, кои, преобразовавшись в душе его и разуме, в новом виде явилися в его творениях или родили совсем другие, уму человеческому доселе недоведомые. Представил бы его, ищущего знания в древних рукописях своего училища и гоняющегося за видом учения везде, где казалося быть его хранилище. Часто обманут бывал в ожидании своем, но частым чтением церковных книг он основание положил к изящности своего слога, какое чтение он предлагает всем желающим приобрести искусство российского слова.
Скоро любопытство его щедрое получило удовлетворение. Он ученик стал славного Вольфа[255]. Отрясая правила схоластики или паче заблуждения, преподанные ему в монашеских училищах, он твердые и ясные полагал степени к восхождению во храм любомудрия. Логика научила его рассуждать; математика верные делать заключения и убеждаться единою очевидностию; метафизика преподала ему гадательные истины, ведущие часто к заблуждению; физика и химия, к коим, может быть, ради изящности силы воображения прилежал отлично, ввели его в жертвенник природы и открыли ему ее таинства; металлургия и минералогия, яко последственницы предыдущих, привлекли на себя его внимание; и деятельно хотел Ломоносов познать правила, в оных науках руководствующие.
Изобилие плодов и произведений понудило людей менять их на таковые, в коих был недостаток. Сие произвело торговлю. Великие в меновном торгу затруднения побудили мыслить о знаках, всякое богатство и всякое имущество представляющих. Изобретены деньги. Злато и сребро, яко драгоценнейшие по совершенству своему металлы и доселе украшением служившие, преображены стали в знаки, всякое стяжение представляющие. И тогда только, поистине тогда возгорелась в сердце человеческом ненасытная сия и мерзительная страсть к богатствам, которая, яко пламень, вся пожирающий, усиливается, получая пищу. Тогда, оставив первобытную свою простоту и природное свое упражнение, земледелие, человек предал живот свой свирепым волнам или, презрев глад и зной пустынный, претекал чрез оные в недоведомые страны для снискания богатств и сокровищ. Тогда, презрев свет солнечный, живый нисходил в могилу и, расторгнув недра земная, прорывал себе нору, подобен земному гаду, ищущему в нощи свою пищу. Тако человек, сокрываясь в пропастях земных, искал блестящих металлов и сокращал пределы своея жизни наполовину, питался ядовитым дыханием паров, из земли исходящих. Но как и самая отрава, став иногда привычкою, бывает необходимою человеку в употреблении, так и добывание металлов, сокращая дни ископателей, не отвергнуто ради своея смертоносности; а паче изысканы способы добывать легчайшим образом большее число металлов по возможности.
Сего-то хотел познать Ломоносов деятельно и для исполнения своего намерения отправился в Фрейберх. Мне мнится, зрю его пришедшего к отверстию, чрез которое истекает исторгнутый из недр земных металл. Приемлет томное светило, определенное освещать его в ущелинах, куда солнечные лучи досязать не могут николи. Исполнил первый шаг; – что делаешь? – вопиет ему рассудок. – Неужели отличила тебя природа своими дарованиями для того только, чтобы ты употреблял их на пагубу своея собратий? Что мыслишь, нисходя в сию пропасть? Желаешь ли снискать вящее искусство извлекати сребро и злато? Или не ведаешь, какое в мире сотворили они зло? Или забыл завоевание Америки?.. Но нет, нисходи, познай подземные ухищрения человека и, возвратясь в отечество, имей довольно крепости духа подать совет зарыть и заровнять сии могилы, где тысящи в животе сущие погребаются.
Трепещущ нисходит в отверстие и скоро теряет из виду живоносное светило. Желал бы я последовать ему в подземном его путешествии, собрать его размышления и представить их в той связи и тем порядком, какими они в разуме его возрождалися. Картина его мыслей была бы для нас увеселительною и учебною. Проходя первый слой земли, источник всякого прозябения, подземный путешественник обрел его несходственным с последующими, отличающимся от других паче всего своею плодоносного силою. Заключал, может быть, из того, что поверхность сия земная не из чего иного составлена, как из тления животных и прозябений, что плодородие ее, сила, питательная и возобновительная, начало свое имеет в неразрушимых и первенственных частях всяческого бытия, которые, не переменяя своего существа, переменяют вид только свой, из сложения случайного рождающийся. Проходя далее, подземный путешественник зрел землю, всегда расположенную слоями. В слоях находил иногда остатки животных, в морях живущих, находил остатки растений и заключать мог, что слоистое расположение земли начало свое имеет в наплавном положении вод и что воды, переселялся из одного края земного шара к другому, давали земле тот вид, какой она в недрах своих представляет. Сие единовидное слоев расположение, теряяся из его зрака, представляло иногда ему смешение многих разнородных слоев. Заключал из того, что свирепая стихия, огнь, проникнув в недра земные и встретив противуборствующую себе влагу, ярясь, мутила, трясла, валила и метала все, что ей упорствовать тщилося своим противодействием. Смутив и смешав разнородные, знойным своим дохновением возбудила в первобытностях металлов силу притяжательную и их соединила. Там узрел Ломоносов сии мертвые по себе сокровища в природном их виде, воспомянул алчбу и бедствие человеков и с сокрушенным сердцем оставил сие мрачное обиталище людской ненасытности.
Упражнялся в познании природы, он не оставил возлюбленного своего учения стихотворства. Еще в отечестве своем случай показал ему, что природа назначила его к величию, что в обыкновенной стезе шествия человеческого он скитаться не будет. Псалтирь, Симеоном Полоцким в стихи преложенная, ему открыла о нем таинство природы, показала, что и он стихотворец. Беседуя с Горацием[256], Вергилием и другими древними писателями, он давно уже удостоверился, что стихотворение российское весьма было несродно благогласию и важности языка нашего. Читая немецких стихотворцев, он находил, что слог их был плавнее российского, что стопы в стихах были расположены по свойству языка их. И так он вознамерился сделать опыт сочинения новообразными стихами, поставив сперва российскому стихотворению правила, на благогласии нашего языка основанные. Сие исполнил он, написав оду на победу, одержанную российскими войсками над турками и татарами, и на взятие Хотина[257], которую из Марбурга он прислал в Академию наук. Необыкновенность слога, сила выражения, изображения, едва не дышащие, изумили читающих сие новое произведение. И сие первородное чадо стремящегося воображения по непроложенному пути в доказательство с другими купно послужило, что, когда народ направлен единажды к усовершенствованию, он ко славе идет не одной тропинкою, но многими стезями вдруг.
Сила воображения и живое чувствование не отвергают разыскания подробностей. Ломоносов, давая примеры благогласия, знал, что изящность слога основана на правилах, языку свойственных. Восхотел их извлечь из самого слова, не забывая, однакоже, что обычай первый всегда подает в сочетании слов пример, и речения, из правила исходящие, обычаем становятся правильными. Раздробляя все части и сообразуя их с употреблением их, Ломоносов составил свою грамматику. Но не довольствуяся преподавать правила российского слова, он дает понятие о человеческом слове вообще яко благороднейшем по разуме даровании, данном человеку для сообщения своих мыслей. Се сокращение общей его грамматики. Слово представляет мысли; орудие слова есть голос; голос изменяется образованием или выговором; различное изменение голоса изображает различие мыслей; итак, слово есть изображение наших мыслей посредством образования голоса, чрез органы, на то устроенные. Поступая далее от сего основания, Ломоносов определяет неразделимые части слова, коих изображения называют буквами. Сложение нераздельных частей слова производит склады, кои опричь образовательного различия голоса различаются еще так называемыми ударениями, на чем основывается стихосложение. Сопряжение складов производит речения, или знаменательные части слова. Сии изображают или вещь, или ее деяние. Изображение словесное вещи называется имя; изображение деяния – глагол. Для изображения же сношения вещей между собою и для сокращения их в речи служат другие части слова. Но первые суть необходимы и называться могут главными частями слова, а прочие служебными. Говоря о разных частях слова, Ломоносов находит, что некоторые из них имеют в себе отмены. Вещь может находиться в разных в рассуждении других вещей положениях. Изображение таковых положений и отношений именуется падежами. Деяние всякое располагается по времени; оттуда и глаголы расположены по временам, для изображения деяния, в какое время оное происходит. Наконец, Ломоносов говорит о сложении знаменательных частей слова, что производит речи.
Предпослав таковое философское рассуждение о слове вообще, на самом естестве телесного нашего сложения основанном, Ломоносов преподает правила российского слова. И могут ли быть они посредственны, когда начертавший их разум водим был в грамматических терниях светильником остроумия? Не гнушайся, великий муж, сея хвалы. Между согражданами твоими не грамматика твоя одна соорудила себе славу. Заслуги твои о российском слове суть многообразны; и ты почитаешися в малопритяжательном сем своем труде яко первым основателем истинных правил языка нашего и яко разыскателем естественного расположения всяческого слова. Твоя грамматика есть преддверие чтения твоея риторики, а та и другая – руководительницы для осязания красот изречения творений твоих. Поступая в преподавании правил, Ломоносов вознамерился руководствовать согражданам своим в стезях тернистых Гелликона[258]; показав им путь к красноречию, начертывая правила риторики и поззии. Но краткость его жизни допустила его из подъятого труда совершить одну только половину.
Человек, рожденный с нежными чувствами, одаренный сильным воображением, побуждаемый любочестием, исторгается из среды народныя. Восходит на лобное место. Все взоры на него стремятся, все ожидают с нетерпением его произречения. Его же ожидает плескание рук или посмеяние, горше самыя смерти. Как можно быть ему посредственным? Таков был Демосфен[259], таков был Цицерон[260]; таков был Пит[261]; таковы ныне Бурк[262]; Фокс[263]; Мирабо[264] и другие. Правила их речи почерпаемы в обстоятельствах, сладость изречения – в их чувствах, сила доводов – в их остроумии. Удивлялся толико отменным в слове мужам и раздробляя их речи, хладнокровные критики думали, что можно начертать правила остроумию и воображению, думали, что путь к прелестям проложить можно томными предписаниями. Сие есть начало риторики. Ломоносов, следуя, не замечая того, своему воображению, исправившемуся беседою с древними писателями, думал также, что может сообщить согражданам своим жар, душу его исполнявший. И хотя он тщетный в сем предприял труд, но примеры, приводимые им для подкрепления и объяснения его правил, могут несомненно руководствовать пускающемуся вслед славы, словесными науками стяжаемой.
Но если тщетный его был труд в преподавании правил тому, что более чувствовать должно, нежели твердить, – Ломоносов надежнейшие любящим российское слово оставил примеры в своих творениях. В них сосавшие уста сладости Цицероновы и Демосфеновы растворяются на велеречие. В них на каждой строке, на каждом препинании, на каждом слоге, почто не могу сказать при каждой букве, слышен стройный и согласный звон столь редкого, столь мало подражаемого, столь свойственного ему благогласия речи.
Прияв от природы право неоцененное действовать на своих современников, прияв от нее силу творения, поверженный в среду народныя толщи, великий муж действует на оную, но и не в одинаком всегда направлении. Подобен силам естественным, действующим от средоточия, которые, простирая действие свое во все точки окружности, деятельность свою присну везде соделовают, – тако и Ломоносов, действуя на сограждан своих разнообразно, разнообразные отверзал общему уму стези на познания. Повлекши его за собою вослед, расплетая запутанный язык на велеречие и благогласие, не оставил его при тощем без мыслей источнике словесности. Воображению вещал: лети в беспредельность мечтаний и возможности, собери яркие цветы одушевленного и, вождаяся вкусом, украшай оными самую неосязательность. И се паки гремевшая на Олимпических играх Пиндарова труба возгласила хвалу всевышнего вослед псальмопевца. На ней возвестил Ломоносов величие предвечного, восседающего на крыле ветренней, предшествуемого громом и молниею и в солнце являя смертным свою существенность, жизнь. Умеряя глас трубы Пиндаровой, на ней же он воспел бренность человека и близкий предел его понятий. В бездне миров беспредельной, как в морских волнах малейшая песчинка, как во льде, не тающем николи, искра едва блестящая, в свирепейшем вихре как прах тончайший, что есть разум человеческий? – Се ты, о Ломоносов, одежда моя тебя не сокроет.
Не завидую тебе, что, следуя общему обычаю ласкати царям, нередко достойным не токмо похвалы, стройным гласом воспетой, но ниже гудочного бряцания, ты льстил похвалою в стихах Елисавете. И если бы можно было без уязвления истины и потомства, простил бы я то тебе ради признательныя твоея души ко благодеяниям. Но позавидует не могущий вослед тебе итти писатель оды, позавидует прелестной картине народного спокойствия и тишины, сей сильной ограды градов и сел, царств и царей утешения; позавидует бесчисленным красотам твоего слова; и если удастся когда-либо достигнуть непрерывного твоего в стихах благогласия, но доселе не удалося еще никому. И пускай удастся всякому превзойти тебя своим сладкопением, пускай потомкам нашим покажешься ты нестроен в мыслях, неизбыточен в существенности твоих стихов!.. Но воззри: в пространном ристалище, коего конца око не досязает, среди толпящейся многочисленности, на возглавии, впереди всех, се врата отверзающ к ристалищу, се ты. Прославиться всяк может подвигами, но ты был первый. Самому всесильному нельзя отъять у тебя того, что дал. Родил он тебя прежде других, родил тебя в вожди, и слава твоя есть слава вождя. О! вы, доселе бесплодно трудившиеся над познанием существенности души и как сия действует на телесность нашу, се трудная вам предлежит задача на испытание. Вещайте, как душа действует на душу, какая есть связь между умами? Если знаем, как тело действует на тело прикосновением, поведайте, как неосязаемое действует на неосязаемое, производя вещественность; или какое между безвещественностей есть прикосновение. Что оно существует, то знаете. Но если ведаете, какое действие разум великого мужа имеет над общим разумом, то ведайте еще, что великий муж может родить великого мужа; и се венец твой победоносный. О! Ломоносов, ты произвел Сумарокова.
Но если действие стихов Ломоносова могло размашистый сделать шаг в образовании стихотворческого понятия его современников, красноречие его чувствительного или явного ударения не сделало. Цветы, собранные им в Афинах и в Риме и столь удачно в словах его пресажденные, сила выражения Демосфенова, сладкоречив Цицероново, бесплодно употребленные, повержены еще во мраке будущего. И кто? он же, пресытившися обильным велеречием похвальных твоих слов, возгремит не твоим хотя слогом, но будет твой воспитанник. Далеко ли время сие или близко, блудящий взор, скитался в неизвестности грядущего, не находит подножия остановиться. Но если мы непосредственного от витийства Ломоносова не находим отродия, действие его благогласия и звонкого препинания бесстопной речи было, однакоже, всеобщее. Если не было ему последователя в витийстве гражданском, но на общий образ письма оно распространилося. Сравни то, что писано до Ломоносова, и то, что писано после его, – действие его прозы будет всем внятно.
Но не заблуждаем ли мы в нашем заключении? Задолго до Ломоносова находим в России красноречивых пастырей церкви, которые, возвещая слово Божие пастве своей, ее учили и сами словом своим славилися. Правда, они были; но слог их не был слог российский. Они писали, как можно было писать до нашествия татар, до сообщения россиян с народами европейскими. Они писали языком славенским. Но ты, зревший самого Ломоносова и в творениях его поучался, может быть, велеречию, забвен мною не будешь. Когда российское воинство, поражая гордых оттоманов, превысило чаяние всех, на подвиги его взирающих оком равнодушным или завистливым, ты, призванный на торжественное благодарение Богу браней, Богу сил, о! ты, в восторге души твоей к Петру взывавший над гробницею его, да приидет зрети плода своего насаждения: «Восстани, Петр, восстани», когда очарованное тобою ухо очаровало по чреде око, когда казалося всем, что, приспевый ко гробу Петрову, воздвигнути его желаешь, силою высшею одаренный, тогда бы и я вещал к Ломоносову: зри, зри и здесь твое насаждение. Но если он слову мог тебя научить… В Платоне душа Платона[265], и да восхитит и увидит нас, тому учило его сердце.
Чуждый раболепствования не токмо в том, что благоговение наше возбуждать может, но даже и в люблении нашем, мы, отдавая справедливость великому мужу, не возмним быти ему Богом всезиждующим, не посвятим его истуканом на поклонение обществу и не будем пособниками в укоренении какого-либо предрассуждения или ложного заключения. Истина есть высшее для нас божество, и если бы всесильный восхотел изменить ее образ, являлся не в ней, лицо наше будет от него отвращенно.
Следуя истине, не будем в Ломоносове искать великого дееписателя, не сравним его с Тацитом[266], Реналем или Робертсоном[267]; не поставим его на степени Маркграфа[268] или Ридигера[269] зане упражнялся в химии. Если сия наука была ему любезна, если многие дни жития своего провел он в исследовании истин естественности, но шествие его было шествие последователя. Он скитался путями проложенными, и в нечисленном богатстве природы не нашел он ни малейшия былинки, которой бы не зрели лучшие его очи, не соглядал он ниже грубейшия пружины в вещественности, которую бы не обнаружили его предшественники.
Ужели поставим его близ удостоившего наилестнейшия надписи, которую человек низ изображения своего зреть может? Надпись, начертанная не ласкательством, но истиною, дерзающею на силу: «Се исторгнувший гром с небеси и скиптр из руки царей». За то ли Ломоносова близ его поставим, что преследовал электрической силе в ее действиях; что не отвращен был от исследования о ней, видя силою ее учителя своего пораженного смертно[270]. Ломоносов умел производить электрическую силу, умел отвращать удары грома, но Франклин[271] в сей науке есть зодчий, а Ломоносов рукодел.
Но если Ломоносов не достиг великости в испытаниях природы, он действия ее великолепные описал нам слогом чистым и внятным. И хотя мы не находим в творениях его, до естественныя науки касающихся, изящного учителя естественности, найдем, однакоже, учителя в слове и всегда достойный пример на последование.
Итак, отдавая справедливость великому мужу, поставляя имя Ломоносова в достойную его лучезарность, мы не ищем здесь вменить ему и то в достоинство, чего он не сделал или на что не действовал; или только, распложая неистовое слово, вождаемся исступлением и пристрастием. Цель наша не сия. Мы желаем показать, что в отношении российской словесности тот, кто путь ко храму славы проложил, есть первый виновник в приобретении славы, хотя бы он войти во храм не мог. Бакон Веруламский[272] не достоин разве напоминовения, что мог токмо сказать, как можно размножать науки? Не достойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всесилие, для того, что не могли избавить человечества из оков и пленения? И мы не почтем Ломоносова для того, что не разумел правил позорищного стихотворения и томился в эпопеи, что чужд был в стихах чувствительности, что не всегда проницателен в суждениях и что в самых одах своих вмещал иногда более слов, нежели мыслей? Но внемли: прежде начатия времен, когда не было бытию опоры и все терялося в вечности и неизмеримости, все источнику сил возможно было, вся красота вселенныя существовала в его мысли, но действия не было, не было начала. И се рука всемощная, толкнув вещественность в пространство, дала ей движение. Солнце воссияло, луна прияла свет, и телеса, крутящиеся горе, образовалися. Первый мах в творении всесилен был; вся чудесность мира, вся его красота суть только следствия. Вот как понимаю я действие великия души над душами современников или потомков; вот как понимаю действие разума над разумом. В стезе российской словесности Ломоносов есть первый. Беги, толпа завистливая, се потомство о нем судит, оно нелицемерно.
Но, любезный читатель, я с тобою закалякался… Вот уже Всесвятское… Если я тебе не наскучил, то подожди меня у околицы, мы повидаемся на возвратном пути. Теперь прости. – Ямщик, погоняй.
Москва! Москва!!!
Вопросы и задания
1. Что возмущает Радищева в положении русских крепостных?
2. Как оценивается крестьянский труд автором?
3. Каково отношение автора к закону?
4. Какие идеалы Просвещения отразились в «Слове о Ломоносове»?
5. В чем Радищев видит основное величие Ломоносова?
6. Охарактеризуйте пафос произведения.
7. Определите творческий метод произведения, покажите его основные признаки.
8. Какие художественные приемы образуют стиль этого произведения?
7. Охарактеризуйте образ автора.
9. Сопоставьте взгляды Радищева со взглядами Фонвизина (диалоги Стародума и Правдина в «Недоросле»). Что в них общего и чем они различаются?
10. Напишите свое «Слово о Ломоносове» или «Слово о Радищеве».
Михаил Никитич Муравьев
М. Н. Муравьев – русский писатель второй половины XVIII века. Свой творческий путь он начал как писатель-классицист. Но его ранние оды и басни не отличались особой оригинальностью, хотя в них уже и проявлялся недюжинный талант их автора. Постепенно Муравьев переходит на позиции сентиментализма, и тогда к нему приходит подлинное признание. Его лирика в передаче тонких и мимолетных чувств соперничает с лирикой H. М. Карамзина. У него учится поэтическому мастерству будущий крупный поэт К. Н. Батюшков.
Замечательными были и достижения M. Н. Муравьева в прозе. «Обитатель предместья» – сентименталистский роман, написанный в форме дневника. Каждая дневниковая запись представляет собой определенный этап развития человеческого чувства, она как бы раскрывает новую страницу душевной жизни персонажа. Очень любопытен в этом произведении образ повествователя.
Задумайтесь, какие функции он выполняет в этом произведении, как его образ помогает понять сентименталистские позиции автора. Подумайте также, почему судьба Эвфемона занимает повествователя больше, чем судьбы других персонажей. Внимательно прочитайте и объясните смысл и роль эпиграфов.
Обитатель предместья
Хотелось мне иметь землицы уголок[273], И садик, и вблизи прозрачный ручеек, Лесочек сверх того; и лучше мне и боле Послали небеса. Мне хорошо в сей доле И больше ни о чем не докучаю им, Как только, чтоб сей дар оставили моим. Гораций№ 1 Пятница, августа 2, 1790 года
Млеком и медом напоенны Тучнеют влажны берега, И ясным солнцем освещенны Смеются злачные[274] луга. ЛомоносовНе выезжая из города, пользуюся всеми удовольствиями деревни затем, что живу в предместий. Я вижу жатву из окошка. С восхождением солнца земледелец жнет неутомимо полосу свою и связывает снопы. Косцы, поставленные строем один за другим, вместе взносят и опускают косы свои. Какой приятный запах от сена, разбросанного на лугу! С каким удовольствием, когда скажу трудолюбивым поселянам, проходя мимо них: «Бог помочь, друзья!» – они ответствуют мне: «Спасибо, добрый барин!» Мой домик очень мал и невиден, но я не променяю его на великолепнейшие здания, восходящие к облакам и поддерживаемые столпами.
Хотите ли видеть описание моего дома? Он стоит на конце широкой уединенной улицы, которая выходит в поле. Перед ним, со стороны города, строение обывательское прерывается. В приятной лощине извивается ручей, по берегам которого разбросано несколько кустов орешника. Ручей бежит по леску и по камешкам. Вода его чиста и холодна.
Напротив дома – приходская церковь весьма древнего строения. Один князь, которого не упомню имени, построил ее в благодарность за победу, одержанную над татарами. Основание ее вросло в землю. Оградою служат ей старые дубы, которые далеко кругом себя кидают тень свою.
Подле церкви живет священник, старый и почтения достойный человек. Он имеет попечение[275] о своих прихожанах так, как отец о детях; помогает бедным, утешает несчастных. Он всех старше в приходе и почти каждого запомнил рождение и младенчество. Мы его слушаемся затем, что опытом своим знаем благоразумие его советов. В нашем предместий очень много счастливых, ибо он научил нас находить счастие в добродетели и исполнении должностей наших, а не в удовольствовании ежечасных прихотей, которые никогда не кончатся.
Дом мой на возвышении. Позади – высокая роща из кленовых и ясеневых деревьев. Я пью иногда чай в прохладной темноте их, когда посетит меня священник или человек-другой приятелей.
Я имею приятелей, потому что без дружества человеку жизнь была бы неприятна. Как можно жить одному! Любить только самого себя! Никому не быть полезну!.. Нет, чувствую живо в сердце моем, что человек сотворен для общества: я получаю от него столько выгод! Оно имело попечение о воспитании моем, оно меня покровительствует, защищает от насилия неприятелей оружием, от обид согражданина моего – законами. Оно меня удостаивает доверенности, украшает честями и общим почтением, которое еще драгоценнее почестей. Оно снисходит даже до изыскания мне невинных забав, а я не захочу служить ему! Я отниму руку свою от участия в общих трудах; не разделю ни бдений[276] градоначальника, ни опасностей воина, когда отечество благоволит приобщить меня к оным! Да удалится от меня такое чувствование! Я желаю любить друга своего, сродника[277], благодетеля более, нежели самого себя, и более, нежели их, если возможно, – мое отечество.
Вспоминаю пример сего славного грека, который вознес отечество свое на верх сияния и могущества, но с удовольствием и почтением исполнял самые низкие должности, наложением которых неблагодарное гражданство думало его унизить.
Сколь приятно отдохновение, когда вкушаешь его после трудов своей должности! Самые простые и ежедневные забавы кажутся новыми и несравненными, когда обращаешься к ним с покойною совестью.
При окончании такого дня с умилением возвращаюся в мою хижину. В ней, кажется, нашел бы я счастие, если бы уже не имел его в моем сердце. Тут уединяюся, вхожу в самого себя, вопрошаю в безмолвии сердце мое о всех его движениях, о всех помыслах, действиях, поступках и, ежели найду подозрение худого дела, кроющегося в глубине сердца, краснеюся и приемлю твердое намерение исправить себя.
Потом оставляю хижину свою. Скорыми шагами пробегаю горы и долы. Дышу свежим воздухом при закате солнечном или развожу маленький садик свой и поливаю благоуханные розы и хожу за своими вишневыми деревьями. Иногда, как смелый всадник, стремлюся на резвом коне, посещаю хижину земледельца и спокойное хозяйство деревенского помещика. В другое время ищу произведений природы – цветов, растений, камней и стараюся проникнуть[278] силы и свойства их.
Наконец журчание источника и зыблющаяся тень ивы или тополя приманивают меня к себе. Сажуся на рождающийся дерн и читаю книгу полезную или приятную: повести прошедших веков или трогающие истины нравоучителей. В таком упражнении находит на меня сон сладкий и беспрерывный до тех пор, когда заря, озлатив горы, возвестит следующее утро.
№ 2 Пятница, августа 9, 1790 года
Раскаянье живет и поздно иногда.
СумароковПогода имеет какое-то влияние надо мною. Влажный воздух, покрытое тучами небо, не отнимая внутреннего спокойствия души моей, производят во мне некоторую важность, склонность к размышлению. Я вспоминаю отдаленных друзей своих. Уединен в глубокой задумчивости, проливаю слезы сожаления над теми, которых смерть у меня похитила. Эмилий сокрылся от моих дружеских объятий. В странах неизменяемого блаженства преемлет он воздаяние за жизнь беспрестанно добродетельную, за смерть, вкушенную за отечество. Граф Благотворов, конечно, не вспомнит имени его, не придавшися всей своей чувствительности, хотя радостный мир и возвращает ему Васеньку, здорового и достойного всей его нежности. Я посвятил в саду своем смиренный памятник Эмилию. Печальная сень кипарисов заключает в себе урну его и сии слова, начертанные на подножии: «Памяти моего любезного Эмиля! Добрый сын, нежный друг, ревностный гражданин, он увенчал добродетельную жизнь славною смертию за отечество».
В таком положении был я третьего дня поутру. Солнце показалося было на минуту и тотчас скрылося в тумане, который поднялся вверх. Дожжик начинал накрапывать, однако я не потерял мужества. Завернувшись в сертук[279] свой, сел на лошадь и пустился рысцою вдоль по дороге. Движение возвратило мне всю мою веселость. Иногда скакал я, сокрытый с обеих сторон волнующимися жатвами, иногда спускался в глубокий овраг, где ручеек пробегал по камешкам. Здесь проезжал я деревню, там – усадьбы помещиков; инде, выезжая из лесу на лужок, видел я пасущееся стадо соседственной деревни, и собаки пастуха преследовали лошадь мою лаем. Занимался всем, что попадалося мне навстречу, нечувствительно[280] очутился я на двадцатой версте от дому. Ладьино было в виду. Как не заехать к старинному другу моему капитану-командору[281] Неслетову? Я дал шпоры лошади и в четверть часа был уже у крыльца, и Неслетов бежал ко мне навстречу с развесистыми объятиями.
«Любезный друг! – говорил он в восхищении, – добро пожаловать! Вот так-то помнят друзей своих! Всегда мне приятно видеть тебя; но никогда не мог ты одолжить меня более посещением своим. (Слезы катились из глаз его…) Сегодня память жены моей. В сей день несчастная София тому три года назад оставила непорочную жизнь, которую запальчивость мужа ее в первом цвете прекратила».
Капитан обвиняет себя смертию жены своей затем, что в самом деле оскорбил ее однажды в большом обществе несправедливою укоризною, хотя и слабое сложение Софии само собою не обещало ей долгой жизни. Воображение ее было поражено сим уничижением. Чувствительно жизнь ее угасала. Никакие старания, ни слезы, ни раскаяния командора не могли исцелить ее сердца. С тех пор и капитан более мучится, нежели живет. Не доверяя беспрестанно горячности своей, он лишил себя последней отрады видеть своих детей. Он дает им воспитание в отсутствии, под присмотром благоразумного друга.
Таким образом, имея лучшее сердце в свете, он всегда в опасности огорчить друзей и ближних затем, что не имеет власти противиться первым движениям. Может быть, имел бы он теперь место между нашими храбрыми адмиралами, ежели бы нетерпеливость также не заставила его покинуть службу. Будучи на море, обидел он вспыльчивостию лейтенанта корабля своего, но, опамятовавшись через минуту, при собрании всего экипажа просил у него прощения. Сей поступок произвел разные толки, и нетерпеливый Неслетов захотел лучше отказаться от блестящих видов службы, нежели снести взор неудовольствий от своих начальников.
И теперь сама наклонность лет его и горестные опыты не могут совершенно преодолеть крутости его нрава. Человек, который в спокойные часы свои наполнен горячайшего доброжелательства ко всем людям, во гневе доходит до неистовства. Самая безделица выводит его из самого себя. Но ничто не может быть искреннее и горестнее его раскаяния. Он в состоянии унизить себя пред последним человеком и все отдать, чтобы удовольствовать обиженного. Зная то, домашние пользуются его слабостию и нарочно попадают ему во время исступления его, уверенные, что щедрость его превзойдет несравненно оскорбление.
Остаток дня проводили мы в приятных разговорах. В уединении своем не может он еще позабыть своей службы. Сердце его восхищается славою отечества, и он сердится на себя, что не имел счастия сражаться на Ревельском рейде или в заливе Выборгском[282].
У него множество заведений: больница, училище, деревенские рукоделья[283]. Благочестие его занимается теперь строением церкви. Крестьяне окружают его не так, как господина, но так, как отца и благоприятеля. Он заставляет прощать себе несовершенства нежным своим благоволением к человечеству.
Я проводил день с удовольствием, ночевал и на другой день, после завтрака, в прекраснейшее утро приехал домой.
№ 3 Пятница, августа 23, 1790 года
Напрасно море свирепеет: Когда всевышний не велит, Брегов оно терзать не смеет; Одна песчинка их делит. ХерасковИногда находят на меня такие минуты, что я погружаюсь совершенно в воспоминание прошедшего и с удовольствием представляю себе явления моего младенчества. Воображаю живо места, где я бегал, мои ребяческие игрушки, радость и печали, маловажные и непостоянные. Особливо помню я один разговор с моим наставником. Мне кажется, что я теперь его вижу.
Это было летом. Тихий вечер оканчивал знойный день. Солнце величественнее и медленнее на конце пути своего покоилося за мгновение перед закатом на крайних горах горизонта, а я прогуливался на крутом берегу Волги с добродетельным другом юности моей, кротким Плановым. Власы главы его белели уже от хлада старости; весна жизни моей не расцвела еще совершенно. Мы касалися оба противоположных крайностей века. Но дружба его и опытность сокращали расстояние, которое разделяло нас; и часто, позабывался, мнил я видеть в нем старшего благоразумнейшего товарища.
Будучи важнее обыкновенного в тот вечер, он говорил мне: «Сын мой (сим именем любви одолжен я был нежности сердца его и послушанию моего), озирая холмы сии, одеваемые небесною лазурью, поля, жатвы и напояющие их струи, не чувствуешь ли в сердце благополучия? Чудеса природы не довольны ли для счастия человека? Но одно худое дело, которого сознание оскорбляет сердце, может разрушить прелесть наслаждения. Великолепие и вся красота природы вкушаются только невинным сердцем. Сохраняй тщательно непорочность сердца своего; будь кроток, праведен, благотворителен, поставляй себя всечасно в присутствии вышнего существа. Одно счастие – добродетель; одно несчастие – порок. И все вечера твои будут так тихи, ясны, как нынешний. Спокойная совесть творит природу прекрасную».
Слова его глубоко проникли в душу мою, и я повергся с умилением в объятия старца. Бугорок служил нам местом успокоения. Свет вечерний исчезал под кровом ночи. Скоро стало повсюду единая тьма и безмолвие.
«Чувствительность твоя, – продолжал наставник мой, – есть хвала сердцу твоему и добродетели. Не взирай никогда хладнокровно на благодеяния божий. Все, что окружает тебя, ты сам, твоя бессмертная душа – все носит на себе священное напечатление[284] его могущества и благости. Сия былинка, теперь столь свежая и которая завянет завтра, и сие подъемлющееся[285] светило нощи, сребровидный месяц, единым словом его получили бытие свое. Пройди взором необъятные пустыни неба: они усеяны солнцами, которые другим мирам светят. Другие земли привлекаются и тяготеют к ним; и шар сей, на котором мыслящие существа проводят краткую жизнь, становится точкою в чине природы.
Повинуяся первому побуждению, которое рука всевышнего в первое мгновение бытия сообщила им, огромные тела небесные, окруженные шаром воздуха, колеблются на зыбях эфира. Планеты катятся в предписанных кругах. Источник света и жизни, горящее солнце служит средоточием для подчиненных ему планет. Не пременяя места, обращается оно на оси своей.
Испытатель естества[286] вознесся на крылах наблюдения и написал чертеж системы мира. Десять тысяч поперечников шара нашего[287] отдаляют нас от солнца. Всех ближе к нему катится Меркурий. Видишь сие блистающее светило? Это – Венера. Она странствует так же, как и Земля, блистая заемным светом. Ниже ее шествует Земля, прекрасная обитель человека. Служебная планета Луна ей сопутствует, обращался кругом и освещая ночи ее. Четвертый круг описывается Марсом. В чрезвычайном отдалении – огромный Юпитер с четырьмя Лунами совершает длинный путь свой. Далее движется Сатурн. Отдаление солнца заменяется ему изобилием спутников, отражающих слабеющие лучи солнца и твердым кольцом плавающих около его.
Око астронома не постигнет всех миров, но сердце благодарное и незлобливое полагает пределы любопытству благоговением и восхищается премудростию Божию в самое то время, когда признает свое неведение и слабость».
Так говорил он и, взяв меня за руку, повел в спокойную хижину. Уже наступало время сна. Рука в руку обратились мы спокойно ко вратам сельского обитания нашего.
№ 4 Пятница, сентября 13, 1790 года
Представь, о древность, мне пред очи Вселенный спокойный век: Там в сладком мире дни и ночи Препровождает человек; Земля там в части не делится, Там вся природа веселится, Бегут оттоль вражда и гнев, Там с агнцем почивает лев. МайковК нам все известия доходят поздно. Отделены от города, мы составляем особливый свет, где царствует тишина, спокойствие, уединение. Но какою радостию наполнилося наше предместье, когда раздалася желанная весть мира! Толпятся на улице, обнимают друг друга, поздравляют, окружают счастливого вестника. Каждый наведывается у него о брате, о друге, о сроднике. Я расспрашиваю об Алетове и имею несравненное удовольствие слышать, что он жив, что к достоинству храбрости присоединил он другое, любезнейшее – человеколюбие. Он имел счастие быть употреблен к спасению погибающих. Множество равных ему людей, сограждан, обязаны ему жизнию. Какое наслаждение может с сим сравниться! Сколько печалей должны быть заглажены в сердце его сим сладостным воспоминанием! Но восхищения наши помрачаются иногда слезами прискорбия и сожаления. Сердца проникаются состраданием при воспоминании сих достойных молодых людей, которые так, как мой Эмилий, заплатили долг отечеству своею незлобливою и прекрасною жизнию. Несчастные родители! Вы не примете их в свои объятия, ванта сирая старость лишена подпоры сладостного утешения. Нежные друзья будут вечно чувствовать в сердцах своих праздное место, которое занимали столь приятно сии любви достойные юноши. В блестящих обществах столицы будут спрашивать друг друга: где те, которые недавно разделяли забавы наши и увеличивали их своею живостию, откровенностию, знанием света? Строгий долг, любовь отечества, слава присвоили себе жизнь их и память.
В разговорах наших следуем мы постепенно за звучным оружием российским на суше, на море. С благоговейною печалию представляем себе и в самой смерти непоколебимое мужество героя Ангальта, удивляемся пламенному духу сего маршала, не вышедшего еще из первой юности, который, опоясав флаг, бросается в море, прося только уведомить отца его, что умирает достойным его сыном. Другой, сын славного стихотворца, которого стихи поставлены в заглавии листа сего, в самом огне сражения устремляется на камень против неприятельской батареи и кричит солдатам: «Ребята, за мною! Я уже на батарее!» И в то же самое время ядро опровергает великодушную похвальбу его.
Мы начертываем в воображении все походы, все станы российского воинства, и положение Мемеля, Ковалы, Пумалазунда, Саватайполя[288] нам уже почти столько же известны, как и мирные хижины нашего предместия.
Но мы не довольствуемся разговорами. Достойный пастырь наш ведет нас к жертвеннику бога сил и мира. Соединенные усердием и доброжелательством, мы изливаем горячайшие молитвы и благодарения Всевышнему за успехи, которыми благословил он оружие российское. Досточтимый священник поучает духовное стадо свое словом, происходящим от избытка сердца. Он не ищет красноречия: убеждение покоится на устах его. Таким образом любимый отец говорит среди послушных детей своих. Седины его, ясность взора, свидетельница спокойствия душевного, брада, нисходящая на грудь его, посох, на который опирается, – все возвещает учителя народного, который стоит на краю вечности.
Проповедник мира хочет и праздновать его у себя. Все жители предместия идут в смиренный дом его. Наши именитые граждане: отставной майор Дремов, Перков – ученый, заседатель Карманов, купец Кормилов и прочие соседи наши считают за удовольствие быть угощаемы добродетельным старцем. Не говорю о себе затем, что я разделял хозяйственные попечения священника.
Обедали на дворе, под тенью древнего дуба. Супруга священника, другая Бавкида[289], уставила гостеприимный стол простыми брашнами[290].
На память радости нашей мы посадили молодую леторасль[291] ивы. На корке дерева начертали мы год и день заключения мира. Умилительное явление заключило наш праздник. Священник вывел посреди нас малолетнее дитя, которого отец, солдат Измайловского полку, убит на войне. Единогласно все собрание наше взяло сироту в особливое свое покровительство. Священник будет его учить и воспитывать. Мы друг перед другом ревновали обложить себя некоторым числом денег для составления маленького имения несчастному, думая, что благодарение, угоднейшее вышнему существу, есть благодеяние человекам.
№ 5 Пятница, сентября 27, 1790 года
Тот изверг естества, кто ближних ненавидит; Тот мал, чтоб честным быть, кто только не обидит. По правде человек, кто всем благотворит: Дыхания его немолчный есть свидетель, Споспешна добродетель, Он жив, коль всех живит. ПетровПриняв участие в общей радости о заключении мира, я предался другому чувствованию, особенному, которое меня только касалося. Я вспомнил Васеньку. Мне известно было из писем, в который день его ожидают. Никольское далеко отсюда, но удовольствие видеть любимых людей в счастии уничтожило в воображении моем расстояние, которое разделяет предместие мое с Никольским. Я простился с добродетельным священником и бросился в кибитку. Каждое обращение колеса удовлетворяло моей нетерпеливости. Биения сердца моего угадывали приближение Никольского. С каким восхищением въехал я в сию темную аллею, которая ведет к воротам Никольского! Хотя осенний ветер похищал поблекшие листья ее, но сладостное мгновение, в которое граф Благотворов, все особы, составляющие семейство его, удостоивали меня своих объятий, превышает описание. Его любящее сердце возвышалося еще радостию родителя, которую вкушал он при возвращении сына своего из опасностей невредима и еще достойнейшего нежности его, нежели прежде. «Посмотри, – говорил он, – Васенька с нами! Обойми его». Слезы не позволяли говорить более. Он стыдился их и наслаждался ими.
Добросердечие господина перешло, кажется, во всех его домашних. В самом деле, он не имеет слуг, ежели сим имением означаются несчастные и равные нам люди, которые принуждаются бедностию состояния своего исполнять без награждения все наши своенравия. Он, кажется, окружен толпою внимательных приятелей, которых покровительствует. Не помнят в доме, чтоб он огорчил кого грубым словом, не для того, чтоб не случилось никогда оплошности, – это возможно, но он почитает должностию своею исправить преступившего с тихостию и думает, что бесчестит самого себя, ежели в домашнем своем унизит ругательством достоинство человека. Часто отлагает и самые кроткие увещания свои затем, что видит в стыде преступника величайшее наказание. Тот, который был удостоен его выговора, не променял бы ни за что утешения быть им наставлену. Столько тихость господина делает сердца служителей кроткими и чувствительными!
Все его домашние наполнены истинной учтивости и доброжелательства. Никакой бедный человек не был ими отвержен с презрением. Видя их поступки, иной бы принял их за благородных, оттого что граф признает одно благородство сердечное.
Говоря с слугами своими, он никогда не забывает, что говорит с людьми. Все его приказания умягчены какою-нибудь ласкою: «Потрудись, друг мой; не тяжело ли тебе будет?» или что-нибудь подобное. При исполнении какого-нибудь поручения никогда не преминет[292] хвалить за скорость и исправность.
Они люди и несчастны (вот слова его); следственно, имеют право на сожаление наше. Но они еще нам служат: следственно, мы обязаны им благодарностию. Так, как они, я мог бы родиться слугою, и нечувствительный господин изнурил бы меня трудом и уничижал презрением. Я очень счастлив, что могу облегчать судьбу мне подобных!
В самом деле, никто не разумеет лучше его искусства делать людей счастливыми. Все, что его окружает, испытывает влияние добродушия его и приветливости и заимствует от него навык приятности и снисхождения – жена, дети, родственники, друзья, знакомые, подчиненные, самые служители, которых он называет своими несчастными друзьями. По одному разговору узнаешь, что они пользовались обхождением графа Благотворова. В его доме нет ни злословия, ни переговоров, ни подлых происков. Каким бы образом злобный наушник осмелился приблизиться к графу? Он ненавидит одни пороки и любит исправлять порочных терпением и благоразумием. Его камердинер[293] самый счастливейший человек в свете. Он видит каждый день добродетельнейшего человека и каждый день становится добрее и просвещеннее. Он читает в библиотеке графской, и я знаю, что он употребляет половину жалованья своего на содержание бедных.
Последний день, что я был в Никольском, прогуливались мы с графом в поле. Было поздно. Вдруг видим, что хижина, отдаленная от жилья, загорелась. «Поспешим, любезный друг, на помочь, может быть, человек в опасности». Мы первые прибежали на пожар. Крестьяне, сбежавшиеся из села, видели с восхищением помещика своего, презирающего собственную опасность, спасающего дряхлую и больную женщину. Напрасно уговаривали они его. – «Друзья мои! Я человек, и мне приятно служить человечеству».
№ 6 Пятница, октября 4, 1790 года
…Внешний блеск преходит так, как дым, Но красота души свой образ сохраняет, Всегда влечет умы, всегда сердца пленяет. БогдановичВозвращался из Никольского, я имел случай видеть по дороге людей разного состояния и наблюдать их вблизи. Какое движение одушевляет целое общество! Земледельцы, рассеянные по полям, наполняют житницы государства. Обозы с товарами идут медлительно к месту назначения своего. Сокровища стекаются в города и питают рукоделья и художества, между тем как правление[294], устремляя все части к пользе целого общества, дарует всем покровительство законов.
Сие зрелище занимало меня приятным образом и уменьшало скуку путешествия. Я разговаривал с селянами и часто в разговорах их почерпал наставления в сельском домостроительстве, в наблюдении природы, с которою они знакомее нас. Везде находил я бодрость духа, рассуждение простое и здравое, неутомимое трудолюбие – черты, которые составляют, кажется, народное умоначертание.
В одной волости[295] представилась мне совсем иная картина: поля – пренебреженные, хижины земледельческие – развалившиеся, вросшие в землю, соломою крытые, а на холму, под которым деревня, огромное здание помещика в самом живописном местоположении. Но великолепие соединялося с худым вкусом: без плану, никакой соразмерности в частях, украшения тяжелые, излишние. От недостатка иждивений и порядка недоконченное строение начинает уже разваливаться. Я полюбопытствовал спросить об имени помещика. Извозчик мой ответствовал, что это князь… Но я лучше не назову его, уважая тени славных людей, от которых он происходит.
Улицы селения были столь худы, что при самом въезде в него ось кибитки моей изломилася; и между тем как я был в величайшем затруднении, звуки рогов и топот конский известили меня о возвращении помещика с охоты. Я был приглашен им не столько из гостеприимства, как из суетной надменности и желания ослепить проезжего сиянием пышности его.
Чертоги его испещрены повсюду золотом, и ничто не показывало более малости души господина их, как смешное великолепие, которым он окружал себя. Ему казалося, и он не скрывал того, что он совсем отменного существа от его подданных. Несчастие крестьян его не трогало. Он думал, что они рождены для его презрения. Но вместо того собаки были предметом его внимания и разговоров; одна охота могла приводить в движение тяжелую его душу. Впрочем, угождения чреву[296] его, сон и грубые шутки наполняют пустоту его времени. Неспособный к обхождению с честными людьми, он живет с презрительными шутами и смеется с удовольствием тому, что только заслуживает сожаление.
Обхождение его совсем противоположно тому, которым граф Благотворов составляет услаждение своих приятелей: простонародные предрассуждения, разговор черни, никакой вежливости, никаких знаний. Он утверждает, что Владимир был современник Августов[297], что пушки были при осаде Трои. Ломоносов ему столь же известен, как Конфуций[298].
Сколь различным образом препроводил я вечер на ночлеге моем. Я пристал к почтенному земледельцу. Четыре сына, из которых меньшему было за пятнадцать лет, окружали с почтением добродетельного отца. По доброй старости его я не поверил бы, что он переступил уже за сто лет жизни своей, если бы я осмелился и сам в себе подумать, что ложь может быть на языке его.
Поля, окружающие деревню, его рукою обработаны. Он первый поставил хижину, когда кругом еще было непроходимое болото и дремучий лес. Труды его благословлены изобилием, а добродетель – потомством. Его одно семейство составляет население деревни.
По вечерам все сходятся в жилище праотца своего утешать старость его зрением резвой юности и пользоваться мудростию его и опытностию. Женщины занимаются около огня домашними упражнениями в кротком молчании. Старик рассказывает или забавляет правнучат своих. И тогда два младенца, сыновья внуков его, сидели у него на коленях и играли сединами его. Он вкушал радости, редким из людей известные. Алексей, младший внук его, возвратился в тот день из похода. В мундире, две медали на груди, молодой человек чувствовал несравненное удовольствие быть похваляему дедом своим. Старик сам служил в молодости. Он имел счастие видеть и слышать Петра Первого. Молчание царствовало вокруг его, когда он выговаривал с глубоким чувствованием и с слезами имя великого государя. Память его, сохраняя залог свой, повторяла верно все приключения молодости его как бы действия вчерашние. Таким образом, некогда сама история составилась из преданий.
Гостеприимный, с важностию, он продолжал заниматься семейством своим. «Не прогневайся на меня, – говорил он мне, – я не видал давно Олешеньки, и мне недолго его видеть. Я желаю от всего моего сердца, чтобы и ты дождался внучат своих, когда они с войны придут. Я было отдал его государю: Бог привел опять увидеть».
Меня поразила мысль, что в тот же самый день простой крестьянин внушил в меня почтение, когда я взирал с презрением на знатного, недостойного своей породы. Я почувствовал всю силу личного достоинства. Оно одно принадлежит человеку и возвышает всякое состояние.
№ 7 Пятница, октября 11, 1790 года
Коль счастья с должностью не можно согласить, Тогда порочен тот, кто хочет счастлив быть. КняжнинСколь истинно, что лишения придают новые приятности наслаждениям нашим! После отсутствия моего мне кажется, что дом мой еще украсился, хотя глубокая осень лишила сад мой и рощу летнего их убранства и заключила в комнаты уединенного их обладателя. Я доволен тем, что могу быть сам с собою. Никакое неприятное воспоминание не отравляет моего уединения. Чувствую сердце мое способным к добродетели. Оно биется с сладостною чувствительностию при едином помышлении о каком-нибудь деле благотворительности и великодушия. Имею благородную надежду, что, будучи поставлен между добродетелию и несчастием, изберу лучше смерть, нежели злодейство. И кто в свете счастливее смертного, который справедливым образом может чтить самого себя?
Какое удовольствие ожидало меня на пороге дома моего! Усердие домашних, которых каждое движение изъявляло радость о моем приезде; одно зрение покоев, столь знакомых, где я так давно счастлив, книги, в которых учуся мыслить и чувствовать; рукописи, слабые опыты, в которых осмеливаюсь перелагать древних или предаюся собственной мечтательности, – все вместе делало минуту возвращения моего восхитительною. И после того есть еще люди, которые ищут благополучия в рассеяниях, в многолюдстве, далеко от домашних богов своих! Бегают от веселий к весельям и из земли в другую, между тем как оно везде в своем отечестве и ожидает их дома.
Меня занимает приятным образом домашнее хозяйство. Есть люди, которым нужна моя помощь, совет, предстательство[299]. Какое счастие отереть слезы невинно страждущего[300], оказать услугу маломощному, облегчить зависимость подчиненных! Но что скажу о дружбе? Чувствовать себя в другом, разуметь друг друга столь искренно, столь скоро при едином слове, при едином взоре! Кто называет дружбу – называет добродетель. Меня ожидал в горнице моей Алетов, возвратившийся из похода. Предчувствования сердца его открыли ему время возвращения моего. Наши сердечные объятия, наше глубокое молчание изъявляли красноречивейшим образом чувствования, для которых нам слов не доставало.
Мы не видали, как прошел вечер в приятных разговорах. Воспоминания, чувствования и мнения прошедшего времени снабжали нас новыми размышлениями. Иногда мы были противного мнения, но спорили без упрямства и уступали друг другу без огорчения. Мы разгорячались только тогда, когда говорили о пользах человечества. Часто вспоминал Алетов какой-нибудь прекрасный стих из Танкреда или Меропы[301] и возглашал его с восхищением.
Скоро прочие друзья мои проведали мое прибытие. Каждый из них спешил предупредить меня посещением. Пришел почтенный священник, добрый Дремов, Перков, Тучин. Было полное собрание перед камином. Мы завтракали, читали ведомости. Дремов рассказывал нам успехи земледелия своего и сколько убрал он хлеба с поля. Перков показывал выписки свои из Гиббона[302] и Гиллиса.
Одного не доставало Карманова. Все отзывались, что не видали его давно. Должность судьи занимает все время человека. И самое отдохновение его нарушается часто помышлением о делах общественных. От одного слова, которое произносит он, зависит спокойствие или собственность гражданина. Каким угрызениям подвергнет он жизнь свою, ежели приговором, легко произнесенным, осудит невинного, угнетаемого стечением обстоятельств. Сколько таких случаев, где изыскание истины сделано трудным ябедою и ухищрением! Иногда жалость, права знакомства, убеждения, просьбы соединяются на поколебание его мужества.
Первое, что я предприял, как скоро оставили меня одного, было посещение моего приятеля. Карманов встретил меня с тем добродушием, которое ему свойственно. Расспросы о моем путешествии. Но, несмотря на спокойствие, которое он старался принять на себя, я видел заботу, снедающую его сердце. Она не могла быть долго тайною для моей дружбы. «Ты угадал, любезный друг, – говорил он мне, – я должен быть истолкователем строгости закона. Сильный человек желает спасти виновного. Есть подлые люди, которые угрожают меня всем его гневом, ежели я не спасу его любимца». – «Что ж, мой друг, какое ты возьмешь намерение?» – «Оно взято. Никогда язык мой не произнесет того, что отвергает совесть. Сильный человек должен мне благодарением за то, что я спасу святость законов от препятствий, которые в заблуждении своем противополагал он исполнению их». – «Но ежели, будучи раздражен твоим упорством?..» – «Я утешуся в несчастии одобрением совести». Я летел в его объятия: «Любезный друг мой! Ты возвращаешь мне спокойствие сею благородною твердостию. Злодейство – предпочитать жизнь свою чести; и какое может быть счастие, когда оно в противоречии с добродетелию?»
№ 8 Пятница, октября 18, 1790 года
Любить торги, науки И счастье дома находить. ДержавинМне так хорошо сидеть перед моим камином! Огражден от стужи твердыми стенами, одет мягкою волною агнцев, я наслаждаюся произведениями всех частей света. Сей напиток, услаждающий своею смачною солью, извлечен из плодов деревца, которое росло для меня в Аравии. Сей чай, которого благоухание наполняет воздух, возращен и собран промыслительною рукою китайца. Еще более: не выходя из горницы моей, узнаю происхождение целой Европы. Мудрость древних, изобретения новейших – все сие сделано вечным и общим человеческому роду посредством искусства столь важного, сколь удивительного, которое умножает в одно мгновение списки сочинения до бесконечности. Я могу слышать настоящие слова добродетельнейших и знаменитейших людей в свете чрез безмерное расстояние и тысячи лет, которые разделяют меня с ними. Гражданин Афин и Рима, я могу вместе с тем удивляться Софоклу[303] и плескать Теренцию[304]. Сие же искусство, распространенное на живопись, собирает в горнице моей превосходные творения художников и восхитительные положения природы. Резец Скородумова[305] или Вакера[306] подражает кисти Ангелики Куфман[307] и Батения[308]. Одеяния разных народов, обряды, происшествия, здания, крепости, сражения привлекают мое внимание поочередно. Время, ускоряемое сими забавами разума, протекает легко и приятно, не оставляя места скуке. Под кровом искусств общежития едва примечаю суровость погоды. Но без ведома моего сколько рук трудится в самое сие мгновение для доставления мне удобностей и приятностей жизни! Земледелец, рукомесленник, промышленник, мореплаватель служат обществу трудами и часто опасностию своею.
Я рассуждал таким образом сам с собою. Кормилов в двери: купец, делающий честь своему состоянию сведениями в торговле, неизменяемою честностию и трудолюбием. Он имеет дела почти во всех купеческих городах Европы. Исполненный общественной ревности, он поддерживает имуществом своим предприятия промышленников, торгующих на островах Курильских и Алеутских.
По первых учтивостях с обеих сторон он говорит: «Вот английские книги, которые я для вас выписывал. Особливо приятно мне видеть между прочими полезную книгу Адама Смита[309] о народном богатстве. Читайте ее, чтобы постигнуть важность торговли. Ею соединяются государства, насаждаются искусства и нравы в грубых народах, природа обращается к благополучию вселенной. Несправедливое предрассуждение унижает купечество перед другими состояниями. Я не могу думать о себе с пренебрежением, когда повеления мои исполняются в Лондоне и когда я получаю донесение от приказчика моего в Уналашке[310], когда вижу, что трудолюбием моим и расчетом обращение денег в государстве ускоряется, что я отверзаю новые пути вывозу естественных произведений моего отечества и возбуждаю промыслительность рукомесленника. Подлое корыстолюбие не унижает предприятий моих. Моя прибыль соединена беспрестанно с пользами государства. Учреждаю так все дела мои, что я в состоянии удовлетворить каждому требованию при самом предъявлении. Обманщик, который во зло употребляет доверие, не достоин почтенного имени купца. Одно слово мое на бирже должно стоить самой важнейшей письменной сделки. И как может быть иначе? Бесчестное дело предполагает тесный разум. Купец, какого я понимаю, есть государственный человек, который приуготовлен тщательным воспитанием к исполнению своего звания и которого все действия управляются духом порядка и хозяйства.
Как он говорит о должностях купца, так исполняет их, но умалчивает о своей благотворительности. У него есть правило откладывать десятую часть прибыли: это называет он имениями бедных.
Наша беседа прервана разносчиком писем. Кормилов пошел читать их к себе в контору. Я получил следующее письмо из Бернова от Иринеева, который поехал туда нынешнее лето пользоваться приятностями деревенской жизни.
Берново, октября 8-го
Теперь ты не имеешь никакой отговорки. Ты был в Никольском. Надобно приехать в Берново. Ты знаешь, что здесь живут самые снисходительные люди. Но спроси сам у себя по совести, можно ли удовольствоваться твоими извинениями? Я люблю спокойствие и глубокое уединение моего предместия. Как оставить книги мои, упражнения, привычки? Надобно вооружиться мужеством. Мы так положили[311] в думе своей; этого переменить невозможно. Ты должен с нами провести зиму: ездить на порошу или оставаться дома и рыться в библиотеке. Мы воли не снимаем: музы у нас не в изгнании. В доказательство прилагаем басенку:
Изгнание Аполлона
На Феба некогда прогневался Зевес И отлучил его с небес На землю в заточенье. Что делать? Сильному противиться нельзя. Без спору Аполлон исполнил изреченье. В простого пастуха себя преобразя, В мгновение с небес свое направил странство Туда, где с глумом бьет Пенеев[312] быстрый ток. Смиренно платье, посошок И несколько цветков – вот все его убранство. Адмету, доброму Фессалии царю, Сей кроткий юноша услуги представляет, Находит в пастухах невежество и прю[313], Сердец ожесточенье, О стаде нераченье[314], Какое общество защитнику искусств! Несчастлив Аполлон. Но сладостной свирелью Он тщится их привесть к невинному веселью. Поет, и скоро став владыкой грубых чувств, Влагает в пастырей незнаемую душу, Учтивость, дружество, приятный разговор, Желанье нравиться. К нему дриады[315] с гор И нимфы ручейков сбегаются на сушу. Внезапну вкруг себя большой он видит двор. Небесны боги сами Один по одному С верхов Олимпа вниз сходилися к нему. Соскучив обладать пустыми небесами, Зевес изгнанника на небо возвратил. Искусства укрощают нравы. Кто первый вымыслил для разума забавы. Мнил только забавлять: он смертных просветил И грубых варваров людей преобратил.№9 Пятница, октября 25, 1790 года
В нас сердце для страстей, в нас разум для спокойства.
НиколаевПисьмо Иринеева действует. Оно возбудило во мне цепь приятных воспоминаний. Все, что имеет отношение к первым летам нашей жизни, наполняет сердце сладостными движениями. Невинность возраста, новость приобретаемых знаний и чувствований, первые знакомства, но более всего благодеяния, которыми ободряли, поддерживали юность нашу, оставляют в памяти картину столь восхитительную, что хотел бы, кажется, обратиться назад и взглянуть еще раз, ежели можно, на ее смеющиеся изображения и нежные краски.
Сколь счастлив тот, кому благосклонное небо сохранило древнего родителя и кто много раз может праздновать день рождения своего, приникнув на перси[316] добродетельного старца! Скажите вы, наслаждающиеся ласками нежной матери, какое чувствование может быть для вас сладостнее того, которое наполняет сердце ваше при ее объятии? Берегите драгоценную ее чувствительность. Сколько страхов и попечений колебали сердце ее в младенчестве вашем и теперь еще колеблют. Нить жизни ее сплетена неразлучно с вашею. Она живет любовию вашею, желанием вам счастия, успехов, добродетелей. Сколь виновен должен быть сын, который может опечалить сие чувствительное сердце и позабыть на одно мгновение священный долг природы и благодарности!
Однако есть неблагодарные! Сердца жестокие, недостойные имени человечества, озлобляющие руку, которая их питала! Природа производит их во гневе своем. Подобные сим страшным преобращениям, которые разоряют вселенную землетрясениями, потопами, они являются редко, чтобы ужасать примером своим человеческий род, и оставляют по себе долговременное омерзение.
Что может быть трогательнее положения моего почтенного приятеля Дремова? Проведя жизнь свою в изобилии, видев кругом себя все семейство свое, нисходящее в могилу, будучи один в мире, он устремил всю нежность сердца своего на сирое[317] незнакомое дитя, оставленное родителями. Он был ему настоящий отец: радовался его успехами, радовался оставить после себя счастливого. Молодой Евфемон (так называлося дитя) подавал надежду наградить с избытком попечения воспитания. Введенный рано в общество, он привлекал всех взоры своею живостию, обращением и сим блеском, который искусства и знания придают разуму благовоспитанного человека. Но обольщенный тщеславием, юноша поверил внушениям безрассудных приятелей. Скоро увещания Дремова показалися ему несправедливыми суровостями. Евфемон тем более привязывался к сияющим безделицам и бедственным своенравиям, чем более опорочивал их Дремов. Наконец должно было дойти до строгости, и тогда несчастный Евфемон сделался в первый раз виновным. В исступлении разума своего он разорвал союз благодарности и дерзнул укорять воспитателя своего. Вообразите себе сокрушение Дремова, я не имею для него выражений. «Несчастный! – вопиял он болезненным гласом. – Ты пронзаешь сердце мое, обращая против меня собственные мои благодеяния. Столько попечений, столько трудов для произведения неблагодарного! Твое жестокосердие ужасает меня. Кого пощадишь ты, когда дерзаешь произносить хулы на того, кто избавил жизнь твою от пагубы, кто даровал тебе более, нежели жизнь, кто сделал тебе ее приятною? Я не могу более сносить твоего присутствия, оставь меня одного терзаться. Ты наносишь удар смерти сему нежному сердцу, которое только тем наслаждалось, чтоб любить тебя. Я не знаю тебя более. Ты мне – ничто. Иди ищи сообщества таких же неблагодарных, как ты, и одного прошу: избавь меня навсегда несчастия тебя видеть».
Молодой человек вышел в окаменении ярости. Его видели бегущего по улице, изумленного. Но полчаса спустя жалость и любовь изгнали справедливый гнев из сердца Дремова. Он разослал людей своих вслед Евфемона, побежал сам искать его. Бесполезно. Его в городе уже не было.
Дремов возвращается домой печален и встревожен в душе своей неизвестностию и сетованием. Садится утомленный. Прибегают служители. Все стараются друг перед другом угождениями своими смягчить печаль доброго господина. Все суетятся кругом его, бегают. Кто приготовляет ужин, кто перестилает постелю. Между тем Дремов впадает в глубокое размышление: «Как! Для меня одного столько людей беспокоится, нужно столько иждивения! А мой Евфемон, которого молодости приличнее все сии удовольствия, изгнан моею суровостию, странствует теперь без пристанища. Нет, я не буду пользоваться негою покойной жизни, покуда изгнанник мой не возвратится в сии отеческие объятия. До тех пор хочу себя наказывать за него всеми лишениями, работой, изнурением».
В самом деле он распродал все: палаты, пожитки, украшения и поселился в нашем предместий. Отказывая себе всякое удовольствие, возделывает своими руками маленькое поле. Два года живет между нами и не может удалить от сердца своего мысли о своем милом и неблагодарном воспитаннике. Самое преступление Евфемона приписывает вине своей: «Я не довольно исправлял сердце его, – говорит он. – Слова мои не имели волшебной прелести, которая делает добродетель легкою и порок невозможным. Справедливо, чтоб я за то наказывался».
№ 10 Пятница, ноября 1, 1790 года
Прямую цену уму дает благонравие. Без него умный человек – чудовище.
Умного человека легко извинить можно, если он какого качества ума и не имеет. Честный человек должен быть совершенно честный человек.
ФонвизинВ какой благополучный час предпринял я путешествие в Берново! Оно доставило мне неоцененное удовольствие приблизить друг к другу две души благородные и чувствительные, окончить раскаяние питомца и сиротство воспитателя. Я нашел Евфемона, несчастием искушенного и которого теперь ничто не может отвратить от добродетели затем, что он видел собственными глазами неизмеримую бездну, в которую повергал его порок. На краю ее остановился он с трепетом, и слезы раскаяния очистили душу его и возвратили ей спокойствие невинности. Я спешил овладеть им. Для меня нетрудно было воротиться назад, чтобы повергнуть его в объятия умиленного Дремова. Я наслаждался их счастием. Судите, каково было мое! Видеть мудрость, прощающую заблуждение; смиряющегося юношу, которого добродетельный старец объятиями своими не допускает упасть к ногам своим; слышать имя свое, благословляемое ими. Нет, я не знаю положения умилительнейшего. Счастлив тот, кто может укрепить священные союзы семейства, примирить несогласия ближних и повсюду кругом себя разливать благоволение!
Между спокойными селянами препроводил Евфемон время своего заточения. Здесь изгнал он из мыслей сияющие суеты, которые омрачали его. Здесь научился отличать от самого себя посторонние достоинства, которые случай его доставил: богатство, уважение, внешнее сияние. Два года послушный добродетельному оратаю[318], которого семейство избрал он себе убежищем, терпеливый, прилежный, благонравный, он казался ангелом небесным, для утешения старости его ниспосланным. Деревенский воздух, труды земледелия, порядочная жизнь укрепили тело его и придали благообразному стану его некоторый мужественный вид. Но он приобрел еще более превосходства со стороны сердца в школе несчастия и сельской жизни. Не было безрассудных приятелей, которые делали бы ему добродетель смешною и потворствовали бы его слабостям. Окруженный равными, он должен был заслуживать дружбу каждого. Почтение, которое ему оказывали после, было его собственное затем, что состояние его не было никому известно. Одетый, как прочие селяне, он отличался от них одною приятностию нрава, повиновением, любовию труда и добродетели.
Сие то самое отличие было для меня стезею[319] к найдению Евфемона. Счастливый случай привел меня остановиться на первой станции дороги моей в Берново точно в хижине земледельца, у которого Евфемон скрывался. Присутствие его, обращение, самая задумчивость, которая осеняла лицо его, обратили на него все мое внимание. Но какое удивление возбудил во мне разговор его! Первое слово, им произнесенное, открыло мне состояние его. Я боялся быть нескромным и овладеть тайною его поневоле, уважая несчастие в том, кого хотелось бы мне любить как друга. Сердца наши соглашалися втайне. Едва знакомые, мы были уже искренни. Я назвал в разговоре место отъезда моего: молодой человек изменился в лице. С видом виновного, который ждет осуждения, он сказал: «Позвольте спросить, не доходило ли нечаянно до слуха вашего почтенного имени Дремова? Небо сохраняет ли еще добродетельную жизнь его?» При сих словах, но более при чувствовании, которое на лице изображалося, я угадал истину, произнес имя Евфемона, и слезы, покатившиеся из глаз его, не оставили места сомнению. Кто изобразит восхищения наши! Их разделили добродушные селяне.
Вопросы и задания
1. Объясните смысл названия произведения.
2. Как воспринимает общество герой Муравьева?
3. Какое место занимает, по мнению автора, в жизни человека дружба?
4. Охарактеризуйте образы Неслетова, Иланова, Благотворова.
5. Как проявляется в этом произведении патриотизм автора?
6. Как понимает закон Муравьев, в чем отличие его взгляда от позиции Радищева?
7. Сравните изображение крестьянского труда у Муравьева и Радищева.
8. Как оценивает Муравьев роль купечества в России?
9. Для чего вводится в повествование вставная басня; каков ее смысл?
10. Какую роль играют в этом произведении пейзажи?
11. Охарактеризуйте творческий метод произведения, укажите его основные признаки.
12. Напишите «письмо», характеризующее одного из ваших друзей.
Поэтическое мастерство русских стихотворцев XVIII века
Сейчас даже трудно представить себе, что истоки великой русской поэзии, которой восхищается весь мир, находятся в середине XVIII столетия. Лишь к сороковым годам этого века Василий Кириллович Тредиаковский предлагает реформу русского стихосложения, продолженную Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Только с помощью этих великих реформаторов поэты освободились от чуждой русскому языку стихотворной системы, перенесенной в Россию из Польши и основанной на равном количестве слогов в стихе (силлабическая система стихосложения).
Реформа стихосложения открыла дорогу лирической поэзии. За очень короткий срок русские стихотворцы создают удивительную по красоте и силе поэзию. Они обращаются к строгим, формализованным жанрам французской поэзии, и в России появляются сонеты, триолеты, рондо, стансы. Но показывая виртуозное владение формой, русские поэты бережно и любовно сохраняют национальные лирические традиции, охотно обращаясь и к фольклору, в первую очередь к народной лирической песне.
В. К. Тредиаковский, находясь на чужбине, пишет проникновенные «Стихи похвальные России», в которых находит ясные и точные слова, чтобы передать и свое безмерное восхищение Отчизной, и тоску по родной земле. Это очень искренние, глубокие по чувству и красоте стихи.
Современник Тредиаковского А. П. Сумароков в своей лирике сумел запечатлеть сложнейшие любовные переживания. Обратите внимание на песню «Тщетно я скрываю сердца скорби люты…». Не всякий современный поэт сможет так точно передать раздвоенность души, переживающей сильное любовное чувство, как это сумел поэт середины XVIII века. Музыкальность стиха подчеркивает душевное состояние лирического героя, точнее, героини, потому что стихотворение это написано от лица девушки.
Ипполит Федорович Богданович, создатель прославленной поэмы «Душенька», явился одним из создателей «легкой поэзии», в шутливой форме он размышляет о таком «непоэтическом предмете», как деньги. Но он же способен подняться и до высокого трагического пафоса, обращаясь к Богу («Бедами смертными объят…»). А вот Михаил Никитич Муравьев буквально несколькими строками создает прекрасный пейзаж (стихотворение «Утро»).
Век Просвещения немыслим без сатиры. Посмотрите, как, используя жанр надгробной надписи, Михаил Иванович Попов выносит приговор несправедливости общественного устройства.
Алексей Андреевич Ржевский виртуозно владел стихотворной формой. Не было в литературе жанра, который был бы недоступен этому поэту. Но стихотворство не было для него игрой. Форму А. А. Ржевский заставлял служить для передачи сложности, красоты и противоречивости мира. Он истинный сын века Просвещения, рациональное начало его поэзии проявляется в первую очередь в тонкой иронии.
Михаил Васильевич Милонов большинство своих стихотворений создал уже в XIX веке, но сентименталистские и предромантические принципы, на которых основывалась его поэзия, принадлежат целиком веку восемнадцатому. В стихотворении «Прощание казака» очень заметна ориентация на народное поэтическое творчество, характерная для предромантизма.
Читая стихотворения поэтов XVIII века, не забывайте, что за два с лишним столетия наш язык претерпел существенные изменения. То, что сейчас может показаться неуклюжим или даже ошибочным, на самом деле отражает языковые нормы прошлого.
Василий Кириллович Тредиаковский
Стихи похвальные России
Начну на флейте стихи печальны, Зря на Россию чрез страны дальны: Ибо все днесь мне ее доброты Мыслить умом есть много охоты. Россия мати! свет мой безмерный! Позволь то, чадо прошу твой верный, Ах, как сидишь ты на троне красно! Небо Российску ты Солнце ясно! Красят иных всех златые скиптры, И драгоценна порфира, митры; Ты собой скипетр свой украсила, И лицем светлым венец почтила. О благородстве твоем высоком Кто бы не ведал в свете широком? Прямое сама вся благородство: Божие ты, ей! светло изводство. В тебе вся вера благочестивым, В тебе примесу нет нечестивым; В тебе не будет веры двойныя, К тебе не смеют приступить злые. Твои все люди суть православны И храбростию повсюду славны: Чада достойны таковыя мати, Везде готовы за тебя стати. Чем ты, Россия, неизобильна? Где ты, Россия, не была сильна? Сокровище всех добр ты едина! Всегда богата, славе причина. Коль в тебе звезды все здравьем блещут! И Россияне коль громко плещут: Виват, Россия! виват, драгая! Виват, надежда! виват, благая! Скончу на флейте стихи печальны, Зря на Россию чрез страны дальны. Сто мне языков надобно б было Прославить все то, что в тебе мило!Александр Петрович Сумароков
«Сокрылись те часы, как ты меня искала…»
Сокрылись те часы, как ты меня искала, И вся моя тобой утеха отнята: Я вижу, что ты мне не верна ныне стала, Против меня совсем ты стала уж не та. Мой стон и грусти люты Вообрази себе И вспомни те минуты, Как был я мил тебе. Взгляни на те места, где ты со мной видалась, Все нежности они на память приведут. Где радости мои? Где страсть твоя девалась? Прошли и ввек ко мне обратно не придут. Настала жизнь другая: Но ждал ли я такой? Пропала жизнь драгая, Надежда и покой. Несчастен стал я тем, что я с тобой спознался, Началом было то, что муки я терплю, Несчастнее еще, что я тобой прельщался, Несчастнее всего, что я тебя люблю. Сама воспламенила Мою ты хладну кровь. За что ж ты пременила В недружество любовь? Но в пенях пользы нет, что я, лишась свободы, И радостей лишен, едину страсть храня. На что изобличать – бессильны все доводы, Коль более уже не любишь ты меня. Уж ты и то забыла, Мои в плен мысли взяв, Как ты меня любила И время тех забав.«Тщетно я скрываю сердца скорби люты…»
Тщетно я скрываю сердца скорби люты, Тщетно я спокойною кажусь. Не могу спокойна быть я ни минуты, Не могу, как много я ни тщусь. Сердце тяжким стоном, очи током слезным Извлекают тайну муки сей; Ты мое старанье сделал бесполезным, Ты, о хищник вольности моей! Ввергнута тобою я в сию злу долю, Ты спокойный дух мой возмутил, Ты мою свободу пременил в неволю, Ты утехи в горесть обратил; И, к лютейшей муке, ты, того не зная, Может быть вздыхаешь о иной, Может быть, бесплодным пламенем сгорая, Страждешь ею так, как я тобой. Зреть тебя желаю, а узрев, мятуся И боюсь, чтоб взор не изменил; При тебе смущаюсь, без тебя крушуся, Что не знаешь, сколько ты мне мил. Стыд из сердца выгнать страсть мою стремится, А любовь стремится выгнать стыд. В сей жестокой брани мой рассудок тмится, Сердце рвется, страждет и горит. Так из муки в муку я себя ввергаю, И хочу открыться, и стыжусь, И не знаю прямо, я чего желаю, Только знаю то, что я крушусь; Знаю, что всеместно пленна мысль тобою Вображает мне твой милый зрак; Знаю, что, вспаленной страстию презлою, Мне забыть тебя нельзя никак.Ипполит Федорович Богданович
Деньги
Беда, коль денег нет; но что за сила тянет К богатству всех людей? Без денег счастье вянет, И жизнь без них скучна, живи хотя сто лет; Пока твой век минет – беда! коль денег нет. Беда, коль денег нет; везде сии законы, Что деньгам воздают и ласки и поклоны. О деньги, деньги! вас и чит и любит свет, И каждый вопиет: беда, коль денег нет. Беда, коль денег нет; имея жизнь толь кратку, Приписывать должны мы счасите к достатку; Хоть деньги множество нам делают сует, Однако без сует беда, коль денег нет.«Бедами смертными объят…»
Бедами смертными объят, Я в бездне ада утопаю; Еще взвожу ослабший взгляд, Еще на небо я взираю. Твой суд, о Боже, прав и свят, Тебя я в помощь призываю: Воззри, как грудь мою теснят Беды, в которых я страдаю. Прости, Творец, сию вину, Что день рождения кляну, Когда от мук ослабеваю. Ты сердца видишь глубину: Хоть в адских пропастях тону, Но от Тебя спасенья чаю.Михаил Никитич Муравьев
Утро
Тревожится кипяща младость, И рушится мой сладкий сон. Опять земле приносит радость Из волн спешащий Аполлон, Предвозвещаемый денницей, С своей горящей колесницей Поверх является валов. В востоке злато разлиянно, И вещество благоуханно Лиется в воздух со цветов.Алексей Андреевич Ржевский
Сонет заключающий в себе три мысли: читай весь по порядку, одни первые полустишья и другие полустишья
Вовеки не пленюсь красавицей иной Ты ведай, я тобой всегда прельщаться стану, По смерть не пременюсь; вовек жар будет мой, Век буду с мыслью той, доколе не увяну, Не лестна для меня иная красота; Лишь в свете ты одна мой дух воспламенила. Скажу я не маня: свобода отнята — Та часть тебе дана о ты, что дух пленила! Быть ввек противной мне, измены не брегись, В сей ты одна стране со мною век любись. Мне горесть и беда, я мучуся тоскою, Противен мне тот час, коль нет тебя со мной; Как зрю твоих взор глаз, минутой счастлив той Смущаюся всегда, и весел, коль с тобою.Рондо
Не лучше ль умереть, ты часто рассуждаешь, Успехов в чем-нибудь когда не обретаешь; И часто говоришь: возможно ли терпеть? Не лучше ль умереть? Коль ты желанием своим не обладаешь, Ища себе чинов, и их не получаешь, На что на свете жить, коль радости не зреть? Не лучше ль умереть? Желав сокровища, ты голову ломаешь, Но тщетно тратишь труд, его не умножаешь. Несносно, коль ни в чем успехов не иметь. Не лучше ль умереть? Влюбясь в красавицу, пред нею воздыхаешь; О рок! ты вздохи те все суетно теряешь. Доколе мучиться? доколь в любови тлеть? Не лучше ль умереть? Желанного конца уже ты достигаешь: Идет желанна смерть – ты на нее взираешь. Скажи, желаешь ли теперь ты умереть? Не лучше ль потерпеть? Охотно умереть ты для себя желаешь, Что скоро смерти ты себе не ожидаешь, И только говоришь: не лучше ль умереть? Не лучше ль потерпеть?Михаил Васильевич Милонов
Прощание казака
С нежным верности обетом Обойми меня, мой друг, Я заутра, дня с рассветом, Покидаю мирный луг! Во своем гордясь убранстве, Быстрый конь мой, вороной, Землю бьет в непостоянстве И зовет лететь на бой! Опененными браздами Он звучащий, в чуждый край, Понесет на бой с врагами, С Дона мигом на Дунай! Там калены вражьи стрелы, Крови жаждущий булат, Там неверных стран пределы Смертью страшной мне грозят! Там слетится с супостатом Сил изведать твой Донец, На коне своем крылатом Встретить славу иль конец!Николай Михайлович Карамзин
Триолет Лизете
«Лизета чудо в белом свете, — Вздохнув я сам себе сказал, — Красой подобных нет Лизете; Лизета чудо в белом свете; Умом зрела в весеннем цвете». Когда же злость ее узнал… «Лизета чудо в белом свете!» — Вздохнув, я сам себе сказал.Михаил Иванович Попов
Надгробия
1
Под кучкой здесь зарыт пречестный человек; Он обществу служил во весь свой долгий век, От зависти самой имел похвал венец, И украшением природы почитался; Но наконец, За все свои труды от голода скончался.2
В гробнице сей лежит преславнейший купец, И вот каких он был товаров продавец: Не рыб и не скотов, не птиц и не зверей; Да что ж он продавал? Людей.Вопросы и задания
1. Какие изобразительно-выразительные средства использует В. К. Тредиаковский для создания образа России?
2. Почему в стихотворении «Сокрылись те часы, как ты меня искала…» А. П. Сумароков использует два стихотворных метра?
3. Составьте ритмическую схему стихотворения А. П. Сумарокова «Тщетно я скрываю сердца скорби люты…» и объясните их поэтическое значение.
4. Для чего используются повторы в стихотворении И. Ф. Богдановича «Деньги»?
5. Каков жанр стихотворения И. Ф. Богдановича «Бедами смертными объят…»?
6. Укажите метафоры в стихотворении M. Н. Муравьева «Утро», объясните, как музыка стиха способствует раскрытию лирического чувства.
7. Для чего объединяет три сонета в один А. А. Ржевский?
8. Попытайтесь дать определение жанру «рондо» и жанру «триолет», проанализировав стихотворения А. А. Ржевского и H. М. Карамзина.
9. Как создается героический пафос стихотворения М. В. Милонова «Прощание казака»?
В мастерской художника слова Поэтическое мастерство русских стихотворцев XVIII века
Иногда люди задают вопрос: зачем поэты осложняют себе жизнь? Зачем они придумывают сложные стихотворные формы, в которых ограничивается количество строк, рифм, где строки должны повторяться в определенной последовательности? Зачем они изобретают сложные рифмы, в которых должны быть созвучными почти все звуки? Зачем? На первый взгляд ими движет тщеславие, желание просто показать свое мастерство. Но на самом деле все гораздо сложнее.
Мы уже говорили о том, что лирика должна воздействовать непосредственно на чувства человека. Нередко разум читателя не помогает, а мешает установить полный эмоциональный контакт с поэтом. Музыка стиха, яркие образы, звуковые повторы имеют свой смысл, хотя его и не просто определить словами, как невозможно словами передать всю эмоциональную глубину музыкального или живописного произведения.
В конце XVII века такие поэты, как С. Полоцкий и К. Истомин, умудрялись создавать поэтические шедевры, хотя их творчество было зажато в узкие рамки противоречащей законам русского языка силлабической системы стихосложения. Только подлинный талант мог победить все жестокие рамки ограничений. Поэты очень ревниво оберегают подлинное искусство слова от подражателей, эпигонов и графоманов. Они знают, что законы искусства строги, но справедливы. Облекая их в жесткие правила, создавая «нормативные поэтики», стихотворцы как бы ставили непреодолимую преграду для тех, для кого поэзия была забавой или увлечением дилетанта.
Когда В. К. Тредиаковский совершил поэтическую реформу, многим стало казаться, что слагать стихи может любой, и стихи эти будут звучать более гармонично, чем гениальные, но тяжелые сатиры А. Д. Кантемира, поэта начала восемнадцатого столетия. Вот почему русские стихотворцы сразу же обратились к жестким поэтическим правилам классицизма. Следовать этим правилам, ограничивать себя и создавать неповторимые, искренние, гармоничные произведения – вот необходимая проверка подлинности поэтического таланта! Русские поэты перенесли на русскую почву почти все строгие формализованные жанры западноевропейской поэзии. Они быстро доказали читателям и самим себе, что им доступны любые формы. Но остались в их арсенале лишь те, в которых нуждалась русская поэзия, например сонет и стансы.
И еще один очень смелый эксперимент проделали русские стихотворцы. Они, сохраняя поэтическую традицию, решительно воспользовались достижениями русского фольклора. Вспомним, в Западной Европе народная поэзия была открыта для читателей лишь предромантиками, в России же поэт-классицист А. П. Сумароков откровенно демонстрирует свою ориентацию на народное творчество. Он сумел соединить классицистские нормы и традицию фольклора, что не менее сложно, чем создавать на русском языке силлабические вирши.
Гавриил Романович Державин
Гавриил Романович Державин – выдающийся представитель классицизма в отечественной литературе. Это один из тех поэтов, чье творчество подготовило появление в русской литературе А. С. Пушкина, который недаром вспоминал: «Старик Державин нас заметил/ И, в гроб сходя, благословил». Интересно то, что из всех поэтов XVIII века именно Державин оказывается созвучен не только своему, но и нашему времени, его произведения актуальны настолько, что их с удовольствием можно перечитывать и сегодня. Давайте подумаем, почему это происходит.
Во-первых, в произведениях Державина нас привлекает глубина философской проблематики. В своих произведениях он рассуждает о таких вечных проблемах, как жизнь и смерть, человек и природа, справедливость и милосердие. Современный читатель многое может почерпнуть из его стихотворений, насыщенных житейской и философской мудростью.
Во-вторых, творчество Державина совершенно в художественном отношении. Его стиль, как правило, энергичный, мощный и в то же время очень свободный, звучит своеобразной музыкой, которую можно сравнить с музыкой героической симфонии.
Наконец, Державин просто ближе к нам по особенностям своего языка, его гораздо легче понимать, чем, например, А. Н. Радищева, А. Д. Кантемира или В. К. Тредиаковского.
Как поэт-классицист, Г. Р. Державин проявил себя во многих жанрах поэтического творчества, но наибольшего успеха он добился в жанре оды (вспомните отличительные признаки этого жанра). Условно оды Державина можно разделить на хвалебные и сатирические. Если в первых рисуется в основном картина идеального общественного устройства, то во вторых Державин смело обличает пороки общества, в особенности высшей дворянской аристократии. Крылатыми стали слова Державина из оды «Вельможа»:
Осел останется ослом, Хотя осыпь его звездами. Где должно действовать умом, Он только хлопает унтами.Одной из наиболее острых сатирических од, вызвавших прямое недовольство самой Екатерины II, стала ода «Властителям и судиям». Как бы от имени ветхозаветного пророка Державин призывает громы небесные на «неправедных и злых», на земных владык, поддавшихся пороку и изменивших своему высокому назначению – быть хранителями Божьего завета. С искренним состраданием относится Державин к жертвам неправых «властителей и судей», заканчивая оду такой резко обличительной строфой:
Воскресни, Боже! Боже правых! И их молению внемли: Приди, суди, карай лукавых И будь един царем земли!Противопоставляя власть небесную власти земной, поэт, разумеется, рисковал: ведь стихотворение могло быть прочитано как обличение самой верховной власти. Но в таком подходе заключалось и новаторство Державина: в отличие от своих предшественников-классицистов, он усомнился в возможности просвещенной монархии и обращался к более высоким ценностям. Основными идеями державинской оды стали идеи просвещения и гуманизма.
Одной из главных поэтических заслуг Г. Р. Державина была его способность конкретно и осязаемо описывать внешний мир, в особенности мир природы. До него в стихах русских поэтов природа носила абстрактный характер, воспринималась скорее умом, чем взглядом. В стихе Державина мы видим и ощущаем природу. Одним из лучших в этом отношении является стихотворение «Водопад». Обратите внимание на то, как автор создает зримую картину этого величественного явления природы. Мы буквально видим мощный поток воды, низвергающийся с высоты, разбрасывая вокруг себя сверкающие искры. Очень важны в поэзии Державина эпитеты, иногда являющиеся неологизмами, соединением двух признаков в одном слове: «искросребрный», «златобисерный», «златозарный» и др. Охотно употребляет Державин сравнения и метафоры (вспомните, что это такое). При этом державинская образность отличается яркостью, красочностью: «лазурный», «блистающий рубином», «жемчужный», «перлы», «заря багряным златом», «сребро» и т. п. Все эти особенности были новаторскими в русской поэзии и подготавливали более позднюю, реалистическую пейзажную лирику.
Любимая тема Державина-философа – тема бренности земной жизни, хрупкости человеческого существования, ненадежности земного бытия. Не случайно последним стихотворением поэта стала глубоко пессимистическая миниатюра «Река времен в своем стремленьи…». В этом поэтическом шедевре идея неизбежной смерти, бессилия человека перед законами вечности выразилась с необычайной силой, и прежде всего именно потому, что это стихотворение относится к жанру миниатюры: в восьми коротких строчках Державину удается с исключительной силой, практически без использования художественных средств выразить свою главную философскую мысль.
Еще одна любимая мысль Державина-философа – мысль о неизбежном коловращении жизни, о непрочности всего земного: «Где стол был яств, там гроб стоит». Непрочность человеческого существования, противоречивость положения человека в мире выразились в знаменитом державинском афоризме «Я царь – я раб – я червь – я Бог».
Но при всем этом поэта Державина вряд ли можно безоговорочно назвать пессимистом в философии. Из трагического положения человека в мире он видит два выхода: один состоит в обращении к Богу и тем самым в приобщении к вечности (ода «Бог»), другой выражен простой мыслью: да, человек смертен, но, осознавая краткость своего пребывания на земле, человек может и должен наслаждаться жизнью и не думать о смерти, которая все равно неизбежна («Ода на смерть князя Мещерского»).
Властителям и судиям
Восстал всевышний Бог, да судит Земных богов во сонме их; Доколе, рек, доколь вам будет Щадить неправедных и злых? Ваш долг есть: сохранять законы, На лица сильных не взирать, Без помощи, без обороны Сирот и вдов не оставлять. Ваш долг: спасать от бед невинных, Несчастливым подать покров; От сильных защищать бессильных, Исторгнуть бедных из оков. Не внемлют! видят – и не знают! Покрыты мздою очеса: Злодействы землю потрясают, Неправда зыблет небеса. Цари! Я мнил, вы боги властны, Никто над вами не судья: Но вы, как я подобно, страстны, И так же смертны, как и я. И вы подобно так падете, Как с древ увядший лист падет! И вы подобно так умрете, Как ваш последний раб умрет! Воскресни, Боже! Боже правых! И их молению внемли: Приди, суди, карай лукавых, И будь един царем земли!Вопросы и задания
1. Объясните смысл названия стихотворения.
2. Сформулируйте идею этого произведения.
3. Охарактеризуйте образ лирического героя.
4. Определите пафос и стиль стихотворения.
5. Назовите художественный прием, положенный в основу этого стихотворения.
6. Какие изобразительно-выразительные средства используются Державиным и для чего?
7. Охарактеризуйте жанр произведения и укажите его признаки.
8. Определите творческий метод этого стихотворения и укажите его признаки.
9. Составьте схему ритмического рисунка оды.
10. Подготовьте выразительное чтение поэтического текста.
Бог
О ты, пространством бесконечный, Живый в движеньи вещества, Теченьем времени превечный, Без лиц, в трех лицах божества! Дух всюду сущий и единый, Кому нет места и причины, Кого никто постичь не мог, Кто все собою наполняет, Объемлет, зиждет, сохраняет, Кого мы называем: Бог. Измерить океан глубокий, Сочесть пески, лучи планет Хотя и мог бы ум высокий, — Тебе числа и меры нет! Не могут духи просвещенны, От света твоего рожденны, Исследовать судеб твоих: Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, В твоем величьи исчезает, Как в вечности прошедший миг. Хаоса бытность довременну Из бездн ты вечности воззвал, А вечность, прежде век рожденну, В себе самом ты основал: Себя собою составляя, Собою из себя сияя, Ты свет, откуда свет истек. Создавший все единым словом, В твореньи простираясь новом, Ты был, ты есть, ты будешь ввек! Ты цепь существ в себе вмещаешь, Ее содержишь и живишь; Конец с началом сопрягаешь И смертию живот даришь. Как искры сыплются, стремятся, Так солнцы от тебя родятся; Как в мразный, ясный день зимой Пылинки инея сверкают, Вратятся, зыблются, сияют, Так звезды в безднах под тобой. Светил возженных миллионы В неизмеримости текут, Твои они творят законы, Лучи животворящи льют. Но огненны сии лампады, Иль рдяных кристалей громады, Иль волн златых кипящий сонм, Или горящие эфиры, Иль вкупе все светящи миры — Перед тобой – как нощь пред днем. Как капля, в море опущенна, Вся твердь перед тобой сия. Но что мной зримая вселенна? И что перед тобою я? В воздушном океане оном, Миры умножа миллионом Стократ других миров, – и то, Когда дерзну сравнить с тобою, Лишь будет точкою одною; А я перед тобой – ничто. Ничто! – Но ты во мне сияешь Величеством твоих доброт; Во мне себя изображаешь, Как солнце в малой капле вод. Ничто! – Но жизнь я ощущаю, Несытым некаким летаю Всегда пареньем в высоты; Тебя душа моя быть чает, Вникает, мыслит, рассуждает: Я есмь – конечно, есть и ты! Ты есть! – природы чин вещает, Гласит мое мне сердце то, Меня мой разум уверяет, Ты есть – и я уж не ничто! Частица целой я вселенной, Поставлен, мнится мне, в почтенной Средине естества я той, Где кончил тварей ты телесных, Где начал ты духов небесных И цепь существ связал всех мной. Я связь миров, повсюду сущих, Я крайня степень вещества; Я средоточие живущих, Черта начальна божества; Я телом в прахе истлеваю, Умом громам повелеваю, Я царь – я раб – я червь – я Бог! Но, будучи я столь чудесен, Отколе происшел? – безвестен; А сам собой я быть не мог. Твое созданье я, Создатель! Твоей премудрости я тварь, Источник жизни, благ податель, Душа души моей и царь! Твоей то правде нужно было, Чтоб смертну бездну преходило Мое бессмертно бытие; Чтоб дух мой в смертность облачился И чтоб чрез смерть я возвратился, Отец! – в бессмертие твое. Неизъяснимый, непостижный! Я знаю, что души моей Воображении бессильны И тени начертать твоей; Но если славословить должно, То слабым смертным невозможно Тебя ничем иным почтить, Как им к тебе лишь возвышаться, В безмерной разности теряться И благодарны слезы лить.Вопросы и задания
1. Как проявляется христианская позиция Державина в этом произведении?
2. Охарактеризуйте концепцию мира и человека, утверждаемую автором.
3. Каков, на ваш взгляд, образ лирического героя произведения?
4. Определите жанр произведения и назовите его признаки.
5. Какой художественный прием использует автор в девятой строфе стихотворения?
Водопад
Алмазна сыплется гора[320] С высот четыремя скалами, Жемчугу бездна и сребра Кипит внизу, бьет вверх буграми, От брызгов синий холм стоит, Далече рев в лесу гремит. Шумит и средь густого бора Теряется в глуши потом; Луч чрез поток сверкает скоро; Под зыбким сводом древ, как сном Покрыты, волны тихо льются, Рекою млечною влекутся. Седая пена по брегам Лежит буграми в дебрях темных; Стук слышен млатов по ветрам, Визг пил и стон мехов подъемных: О водопад! в твоем жерле Все утопает в бездне, в мгле! Ветрами ль сосны пораженны? — Ломаются в тебе в куски; Громами ль камни отторженны? — Стираются тобой в пески; Сковать ли воду льды дерзают? — Как пыль стеклянна ниспадают. Волк рыщет вкруг тебя и, страх В ничто вменяя, становится; Огонь горит в его глазах, И шерсть на нем щетиной зрится; Рожденный на кровавый бой, Он воет, согласясь с тобой. Лань идет робко, чуть ступает, Вняв вод твоих падущих рев, Рога на спину приклоняет И быстро мчится меж дерев; Ее страшит вкруг глум, бурь свист И хрупкий под ногами лист. Ретивый конь, осанку горду Храня, к тебе порой идет; Крутую гриву, жарку морду Подняв, храпит, ушми прядет, И, подстрекаем быв, бодрится, Отважно в хлябь твою стремится. Под наклоненным кедром вниз, При страшной сей красе Природы, На утлом пне, который свис С утеса гор на яры воды, Я вижу, некий муж седой Склонился на руку главой. Копье и меч, и щит великой, Стена отечества всего, И шлем, обвитый повиликой, Лежат во мху у ног его. В броне блистая златордяной, Как вечер во заре румяной, Сидит – и, взор вперя к водам, В глубокой думе рассуждает: «Не жизнь ли человеков нам Сей водопад изображает? — Он так же блеском струй своих Поит надменных, кротких, злых, Не так ли с неба время льется, Кипит стремление страстей, Честь блещет, слава раздается, Мелькает счастье наших дней, Которых красоту и радость Мрачат печали, скорби, старость? Не зрим ли всякой день гробов, Седин дряхлеющей вселенной? Не слышим ли в бою часов Глас смерти, двери скрып подземной? Не упадает ли в сей зев С престола царь и друг царев? Падут, – и вождь непобедимый, В сенате Цезарь[321] средь похвал, В тот миг, желал как диадимы, Закрыв лице плащом, упал; Исчезли замыслы, надежды, Сомкнулись алчны к трону вежды. Падут, – и несравненный муж Торжеств несметных с колесницы, Пример великих в свете душ Презревший прелесть багряницы, Пленивший Велизар[322] царей В темнице пал, лишен очей. Падут. – И не мечты прельщали, Когда меня, в цветущий век, Давно ли города встречали, Как в лаврах я, в оливах тек? Давно ль? – Но, ах! теперь во брани Мои не мещут молний длани! Ослабли силы, буря вдруг Копье из рук моих схватила; Хотя и бодр еще мой дух, Судьба побед меня лишила». Он рек – и тихим позабылся сном, Морфей[323] покрыл его крылом. Сошла октябрьска нощь на землю, На лоно мрачной тишины; Нигде я ничего не внемлю, Кроме ревущия волны, О камни с высоты дробимой И снежною горою зримой. Пустыня, взор насупя свой, Утесы и скалы дремали; Волнистой облака грядой Тихонько мимо пробегали, Из коих, трепетна, бледна, Проглядывала вниз луна. Глядела и едва блистала, Пред старцем преклонив рога, Как бы с почтеньем познавала В нем своего того врага, Которого она страшилась, Кому вселенная дивилась. Он спал – и чудотворный сон Мечты ему являл геройски: Казалося ему, что он Непобедимы водит войски; Что вкруг его перун молчит, Его лишь мановенья зрит. Что огнедышащи за перстом Ограды вслед его идут; Что в поле гладком, вкруг отверстом, По слову одному растут Полки его из скрытых станов, Как холмы в море из туманов. Что только по траве росистой Ночные знать его шаги; Что утром пыль, под твердью чистой, Уж поздно зрят его враги; Что остротой своих зениц Блюдет он их, как ястреб птиц. Что, положа чертеж и меры, Как волхв невидимый, в шатре, Тем кажет он в долу химеры, Тем – в тиграх агнцов на горе, И вдруг решительным умом На тысячи бросает гром. Что орлю дерзость, гордость лунну, У черных и янтарных волн, Смирил Колхиду златорунну, И белого царя урон Рая вечерня пред границей Отмстил победами сторицей. Что, как румяной луч зари, Страну его покрыла слава; Чужие вожди и цари, Своя владычица, держава, И все везде его почли, Триумфами превознесли. Что образ, имя и дела Цветут его средь разных глянцев; Что верх сребристого чела В венце из молненных румянцев Блистает в будущих родах, Отсвечивался в сердцах. Что зависть, от его сиянья Свой бледный потупляя взор, Среди безмолвного стенанья Ползет и ищет токмо нор, Куда бы от него сокрыться, И что никто с ним не сравнится. Он спит – ив сих мечтах веселых Внимает завыванье псов, Рев ветров, скрып дерев дебелых, Стенанье филинов и сов, И вещих глас вдали животных, И тихий шорох вкруг бесплотных. Он слышит: сокрушилась ель, Станица вранов встрепетала, Кремнистый холм дал страшну щель, Гора с богатствами упала; Грохочет эхо по горам, Как гром гремящий по громам. Он зрит одету в ризы черны Крылату некую жену, Власы имевшу распущенны, Как смертну весть, или войну, С косой в руках, с трубой стоящу, И слышит он – проснись! – гласящу. На шлеме у нее орел. Сидел с Перуном помраченным, В нем герб отечества он зрел; И, быв мечтой сей возбужденным, Вздохнул и, испустя слез дождь, Вещал: «Знать, умер некий вождь! Блажен, когда, стремясь за славой, Он пользу общую хранил, Был милосерд в войне кровавой И самых жизнь врагов щадил: Благословен средь поздних веков Да будет друг сей человеков! Благословенна похвала Надгробная его да будет, Когда всяк жизнь его, дела По пользам только помнить будет; Когда не блеск его прельщал И славы ложной не искал! О! слава, слава в свете сильных! Ты точно есть сей водопад. Он вод стремлением обильных И шумом льющихся прохлад Великолепен, светл, прекрасен, Чудесен, силен, громок, ясен; Дивиться вкруг себя людей Всегда толпами собирает; Но если он водой своей Удобно всех не напояет, Коль рвет брега и в быстротах Его нет выгод смертным – ах! Не лучше ль менее известным, А более полезным быть; Подобясь ручейкам прелестным, Поля, луга, сады кропить, И тихим вдалеке журчаньем Потомство привлекать с вниманьем? Пусть на обросший дерном холм Приидет путник и воссядет, И, наклонясь своим челом На подписанье гроба, скажет: «Не только славный лишь войной, Здесь скрыт великий муж душой. О! будь бессмертен, витязь бранный, Когда ты весь соблюл свой долг!» Вещал сединой муж венчанный И, в небеса воззрев, умолк. Умолк, – и глас его промчался, Глас мудрый всюду раздавался. Но кто там идет по холмам, Глядясь, как месяц, в воды черны? Чья тень спешит по облакам В воздушные жилища горны? На темном взоре и челе Сидит глубока дума в мгле! Какой чудесный дух крылами От севера парит на юг? Ветр медлен течь его стезями, Обозревает царствы вдруг; Шумит, и как звезда блистает, И искры в след свой рассыпает. Чей труп, как на распутьи мгла, Лежит на темном лоне нощи? Простое рубище чресла, Две лепте покрывают очи, Прижаты к хладной груди персты, Уста безмолвствуют отверсты! Чей одр – земля; кров – воздух синь; Чертоги – вкруг пустынны виды? Не ты ли счастья, славы сын, Великолепный князь Тавриды[324]? Не ты ли с высоты честей Незапно пал среди степей? Не ты ль наперсником близ трона У северной Минервы[325] был; Во храме муз друг Аполлона; На поле Марса вождем слыл; Решитель дум в войне и мире, Могущ – хотя и не в порфире? Не ты ль, который взвесить смел Мощь росса, дух Екатерины, И, опершись на них, хотел Вознесть твой гром на те стремнины, На коих древний Рим стоял И всей вселенной колебал? Не ты ль, который орды сильны Соседей хищных истребил, Пространны области пустынны Во грады, в нивы обратил, Покрыл понт Черный кораблями, Потряс среду земли громами? Не ты ль, который знал избрать Достойный подвиг росской силе, Стихии самые попрать В Очакове и в Измаиле, И твердой дерзостью такой Быть дивом храбрости самой? Се ты, отважнейший из смертных! Парящий замыслами ум! Не шел ты средь путей известных, Но проложил их сам – и шум Оставил по себе в потомки; Се ты, о чудный вождь Потемкин! Се ты, которому врата Торжественные созидали; Искусство, разум, красота Недавно лавр и мирт сплетали; Забавы, роскошь вкруг цвели, И счастье с славой следом пели. Се ты, небесного плод дара Кому едва я посвятил, В созвучность громкого Пиндара Мою настроить лиру мнил, Воспел победу Измаила, Воспел, – но смерть тебя скосила! Увы! и хоров сладкий звук Моих в стенанье превратился; Свалилась лира с слабых рук, И я там в слезы погрузился, Где бездна разноцветных звезд Чертог являли райских мест. Увы! – и громы онемели, Ревущие тебя вокруг; Полки твои осиротели, Наполнили рыданьем слух; И все, что близ тебя блистало, Уныло и печально стало. Потух лавровый твой венок, Гранена булава упала, Меч в полножны войти чуть мог, Екатерина возрыдала! Полсвета потряслось за ней Незапной смертию твоей! Оливы свежи и зелены Принес и бросил Мир из рук; Родства и дружбы вопли, стоны И муз ахейских[326] жалкий звук Вокруг Перикла раздается: Марон по Меценате рвется[327], Который почестей в лучах, Как некий царь, как бы на троне, На сребро-розовых конях, На златозарном фаэтоне, Во сонме всадников блистал И в смертный черный одр упал! Где слава? Где великолепье? Где ты, о сильный человек? Мафусаила[328] долголетье Лишь было б сон, лишь тень наш век; Вся наша жизнь не что иное, Как лишь мечтание пустое. Иль нет! – тяжелый некий шар, На нежном волоске висящий, В который бурь, громов удар И молнии небес ярящи Отвсюду беспрестанно бьют И, ах! зефиры легки рвут. Единый час, одно мгновенье Удобны царствы поразить, Одно стихиев дуновенье Гигантов в прах преобразить; Их ищут места – и не знают: В пыли героев попирают. Героев? – Нет! – но их дела Из мрака и веков блистают; Нетленна память, похвала И из развалин вылетают; Как холмы, гробы их цветут; Напишется Потемкин труд. Театр его – был край Эвксина; Сердца обязанные – храм; Рука с венцом – Екатерина; Гремяща слава – фимиам; Жизнь – жертвенник торжеств и крови, Гробница ужаса, любови. Когда багровая луна Сквозь мглу блистает темной нощи, Дуная мрачная волна Сверкает кровью и сквозь рощи Вкруг Измаила ветр глумит, И слышен стон, – что турок мнит? Дрожит, – и во очах сокрытых Еще ему штыки блестят, Где сорок тысяч вдруг убитых Вкруг гроба Вейсмана лежат. Мечтаются ему их тени И росс в крови их по колени! Дрожит, – и обращает взгляд Он робко на окрестны виды; Столпы на небесах горят По суше, по морям Тавриды! И мнит, в Очакове что вновь Течет его и мерзнет кровь. Но в ясный день, средь светлой влаги, Как ходят рыбы в небесах И вьются полосаты флаги, Наш флот на вздутых парусах Вдали белеет на лиманах, Какое чувство в россиянах? Восторг, восторг – они, а страх И ужас турки ощущают; Им мох и терны во очах, Нам лавр и розы расцветают На мавзолеях у вождей, Властителей земель, морей. Под древом, при заре вечерней, Задумчиво любовь сидит, От цитры ветерок весенний Ее повсюду голос мчит; Перлова грудь ее вздыхает, Геройский образ оживляет. Поутру солнечным лучом Как монумент златый зажжется, Лежат объяты серны сном И пар вокруг холмов виется, Пришедши, старец надпись зрит: «Здесь труп Потемкина сокрыт!» Алцибиадов прах! – И смеет Червь ползать вкруг его главы? Взять шлем Ахиллов не робеет, Нашедши в поле, Фирс? – увы! И плоть и труд коль истлевает, Что ж нашу славу составляет? Лишь истина дает венцы Заслугам, кои не увянут; Лишь истину поют певцы, Которых вечно не престанут Греметь Перуны сладких лир; Лишь праведника свят кумир. Услышьте ж, водопады мира! О славой шумные главы! Ваш светел меч, цветна порфира, Коль правду возлюбили вы, Когда имели только мету, Чтоб счастие доставить свету. Шуми, глуми, о водопад! Касаяся странам воздушным, Увеселяй и слух и взгляд Твоим стремленьем, светлым, звучным, И в поздней памяти людей Живи лишь красотой твоей! Живи – и тучи пробегали Чтоб редко по водам твоим, В умах тебя не затмевали Разжженный гром и черный дым; Чтоб был вблизи, вдали любезен Ты всем; сколь дивен, столь полезен. И ты, о водопадов мать! Река на севере гремяща, О Суна! коль с высот блистать Ты можешь – и, от зарь горяща, Кипишь и сеешься дождем Сафирным, пурпурным огнем,— То тихое твое теченье, Где ты сама себе равна, Мила, быстра и не в стремленье, И в глубине твоей ясна, Важна без пены, без порыву, Полна, велика без разливу, И без примеса чуждых вод Поит златые в нивах бреги. Великолепный свой ты ход Вливаешь в светлый сонм Онеги; Какое зрелище очам! Ты тут подобна небесам.Вопросы и задания
1. Назовите тему и идею произведения.
2. Объясните философский смысл произведения.
3. Раскройте смысл названия.
4. Какие просветительские идеи утверждает в произведении Державин?
5. Как проявляется в произведении патриотизм автора?
6. Охарактеризуйте творческий метод произведения, укажите его признаки.
7. Составьте ритмическую схему и систему рифмовки одной из строф.
«Река времен в своем стремленьи…»
Река времен в своем стремленьи Уносит все дела людей И топит в пропасти забвенья Народы, царства и царей. А если что и остается Чрез звуки лиры и трубы, То вечности жерлом пожрется И общей не уйдет судьбы.Краткий словарь литературных терминов
Агиогра́фия – житийная литература.
Анони́мность – неизвестность автора какого-либо произведения или ряда произведений.
Антите́за – художественное противопоставление характеров, обстоятельств, понятий, композиционных элементов и пр., создающее эффект резкого контраста.
Антре́ – танцевальный выход одетых в маски и костюмы аллегорических персонажей, изображающих сценки, о содержании которых рассказывалось в предшествующем выступлении певцов; один из основных элементов балета XVII–XVIII веков.
Антропоцентри́зм – учение, ставившее в центр мироздания человека, рассматривающее человека как венец природы.
Афори́зм – краткое выражение, заключающее в себе какую-либо философскую или житейскую мудрость.
Баро́кко – непродуктивный творческий метод XVII века, для него характерно представление о дисгармоничности мира, в котором человек ищет «свою роль»; метафоричность изобразительных средств, «случайность» счастливых и несчастливых поворотов судьбы; литературное направление, возникшее на основе данного метода.
Виде́ние – средневековый литературный жанр, описывающий путешествие по загробному миру в сопровождении ангела, святого или Богоматери; содержит в себе религиозные и этические поучения.
Говоря́щая фами́лия – один из литературных приемов, заключающийся в характеристике персонажа с помощью наделения его именем или фамилией, смысл которых указывает на определенные личные качества персонажа.
«Готи́ческий» рома́н – возникший в творчестве предромантиков жанр «романа ужасов», где в средневековом замке появляются призраки, дьявольские силы преследуют невинных жертв и пр.; утверждал непознаваемость мира и всесилие в нем зла.
Дета́ль худо́жественная – выразительная подробность, характерная черта какого-нибудь предмета, части быта, пейзажа или интерьера, несущая повышенную эмоциональную и содержательную нагрузку, характеризующую не только весь предмет, частью которого она является, но и определяющую отношение читателя к происходящему.
Дра́ма судьбы́ – предромантический драматический жанр, в котором персонаж оказывается игрушкой враждебных ему высших сил.
Идеоло́гия – господствующее философское учение в определенную историческую эпоху.
Карикату́ра – художественный прием сатирического изображения, опирающийся на соединение схематических черт с характерными деталями.
Классици́зм – продуктивный творческий метод, в основе лежит принцип «подражания природе», которую его представители рационалистически представляли гармоничной, а также утверждали идею изначальной разумности и доброты человека; художественный мир строился на основе гармоничности, ясности и дидактичности, строгом следовании нормативным поэтикам; на базе этого метода образовалась художественная система, включавшая литературные направления: классицизм Возрождения, классицизм XVII века и просветительский классицизм.
Колли́зия – столкновение, борьба действующих сил, участвующих в конфликте, который составляет основу развития действия литературного произведения.
Конце́пция ми́ра и челове́ка – устойчивое мотивированное представление об устройстве окружающей человека действительности и месте в ней самого человека, о пределах его возможностей и взаимоотношения с природой и людьми.
Ле́топись – жанр русской средневековой литературы, содержащий хронологическое описание легендарных, реальных исторических событий, мифологических представлений, преданий и пр.
Литерату́рное направле́ние – конкретно-историческое проявление продуктивного творческого метода внутри художественной системы, а также произведения, созданные на основе одного непродуктивного творческого метода.
Литерату́рное тече́ние – создание произведений на основе общего творческого метода в конкретной национальной литературе.
Литерату́рный проце́сс – историческое существование литературы в ее развитии, во взаимодействии литературных явлений и восприятии читателей.
Национа́льное своеобра́зие – проявление в произведении национальной литературной традиции, на которую опирается в своем творчестве автор.
Нова́торство – обогащение литературы новыми художественными открытиями, органично дополняющее национальную традицию данной литературы и оказывающее влияние на дальнейшие пути развития словесного творчества.
О́да – лирический жанр, торжественное лирико-ораторское произведение, воспевающее кого-то или что-то.
Ора́торские приёмы – приемы, используемые при устных выступлениях для придания речи выразительности: риторические вопросы, восклицания и пр.
Памфле́т – эпический жанр; сатирико-публицистическое высказывание по какому-либо поводу или в чей-нибудь адрес.
Пара́бола – эпический жанр, основанный на иносказании; от басни и притчи отличается неоднозначностью сопоставлений, основанных не на аллегории, а на символе; содержание параболы предполагает многозначное, иногда противоречивое истолкование.
Пафос – основной эмоциональный настрой произведения, его эмоциональная насыщенность.
Плутовско́й рома́н – разновидность романа, повествующая о странствиях по дорогам жизни человека, вынужденного использовать любые средства для добычи пропитания; обычно начинается с описания нормальной жизни героя («малый свет»), затем следует «катастрофа» и его скитания («большой свет») и, наконец, обретение покоя («тихая гавань»).
Поэ́тика – учение о строении художественного произведения и системе литературных приемов и средств, на основе которых создается художественный мир.
Предроманти́зм – литературное направление, возникшее в результате кризиса буржуазной идеологии в XVIII веке, утверждало непознаваемость мира и всесилие в нем зла, но при этом требовало от человека активной жизненной позиции и решительности в действиях.
При́тча – эпический жанр, на основе иносказания объясняющий какую-либо сложную философскую, социальную или этическую проблему на простых примерах.
Псевдони́м – условная фамилия, имя, инициалы или символ, под которыми писатель публикует свое произведение, чтобы скрыть свое подлинное имя.
Психологи́зм – совокупность средств, используемых для изображения внутреннего мира персонажа; его психологии, душевного состояния, переживаний и пр.
Публицисти́чность – направленность произведения на разрешение злободневных проблем, установка на принятие немедленных мер на устранение выявленных недостатков.
Резонёр – литературный персонаж, выражающий в произведении авторскую точку зрения на изображаемые события и действующих лиц; может принимать участие в развитии сюжета, но нередко он оказывается сторонним наблюдателем, чья задача ограничивается комментированием происходящего.
Ретарда́ция – сюжетно-композиционный прием, применяемый в эпических жанрах для задержки развития действия, что позволяет оттянуть наступление кульминации или развязки; заключается в введении внесюжетных элементов (лирические отступления и т. п.), вводных эпизодов, описаний (пейзажей, интерьеров, портретов и т. п.), композиционных повторов однородных эпизодов, описаний, объяснений и т. п.
«Робинзона́да» – литературный жанр, описывающий поведение человека или людей, оказавшихся в изоляции (например, на необитаемом острове), но силой своего разума и деятельным поведением преодолевающих все препятствия.
Рома́н – эпический жанр, стремящийся с наибольшей полнотой изобразить все разнообразные связи человека с окружающей его действительностью и всю сложность мира и человеческого характера.
Ро́ндо – формализованный лирический жанр: стихотворение из тринадцати или пятнадцати строк, где начальные слова первого стиха повторяются как девятый и тринадцатый или пятнадцатый стих; все стихотворение строится на двух рифмах.
Ры́царский рома́н – эпический жанр, вид романа, в котором отражена борьба героя за личное счастье и благополучие, ставятся серьезные проблемы долга и чести, любви и ненависти, предательства и верности.
Са́га – средневековый жанр древнескандинавской литературы; героический эпос, соединяющий стихотворные и прозаические описания.
Сентиментали́зм – непродуктивный творческий метод и литературное направление эпохи Просвещения, в котором на смену классицистическому культу разума пришел культ чувства; утверждал изначальную доброту человека и необходимость воспитания и развития этой доброты на основе близости к природе.
Сло́во – понятие, в русской средневековой литературе определяющее жанр, описывающий значительные события, поднимающий проблемы, волновавшие людей, и содержащий конкретные советы и поучения.
Ста́дия литерату́рного проце́сса – исторический отрезок развития литературы, для которого характерна общность эстетических представлений и поэтических учений.
Стилиза́ция – литературный прием, используя который при создании художественного произведения автор подражает стилю и художественным средствам какого-либо известного произведения.
Сти́ль – совокупность поэтических приемов и средств, свойственных какому-то одному произведению (стиль произведения), творчеству писателя (стиль автора) и пр. Кроме того, говорят о стилях речи (книжный стиль, разговорный стиль, ораторский стиль и т. п.).
Тво́рческий ме́тод – основные художественные принципы оценки, отбора и воспроизведения действительности в произведении.
Терци́на – стихотворная строфа, в которой первый стих рифмуется с третьим, а второй – с первым и с третьим второй строфы, и так далее.
Типиза́ция – художественная условность; отбор и художественное осмысление характерных черт, явлений и свойств реальной действительности в процессе создания художественных образов и построения художественного мира.
Траги́ческая вина́ геро́я – неумышленный поступок героя, который становится причиной его несчастий.
Тради́ция – литературный опыт многих поколений авторов, выраженный в способах создания художественного мира произведения; традиция обеспечивает непрерывность и преемственность развития литературы, связь художественных произведений различных эпох.
Тракта́т – жанр научной литературы; законченное сочинение на научную тему, заключающее в себе постановку проблемы, систему доказательств и выводы.
Триоле́т – формализованный лирический жанр из восьми строк, в котором первая строка повторяется как четвертая и седьмая, а вторая – как восьмая.
Уто́пия – литературный жанр, описывающий искусственно созданное идеальное государственное и общественное устройство.
Хара́ктер – сочетание в персонаже личных, психологических черт с общечеловеческими, характерными для группы людей, типическими качествами; такое сочетание формирует неповторимую индивидуальность персонажа, сложность его внутреннего душевного мира.
Хро́ника – эпический жанр, художественный мир которого ограничен определенным временным отрезком, в рамках которого ведется последовательное повествование о всех событиях.
Худо́жественная систе́ма – совокупность литературных произведений, созданных на основе одного продуктивного творческого метода.
Эле́гия – лирический жанр; произведение, представляющее собой печальное размышление на какую-нибудь тему или по какому-либо поводу.
Эпи́граф – относительно короткий текст, помещаемый автором перед произведением или его частью, призванный кратко выразить основное содержание следующего за ним текста.
Примечания
1
Ма́рка – название феодального владения у франков, передающееся по наследству.
(обратно)2
Круг – совокупность феодальных владений племени алеманов.
(обратно)3
Тать – вор, грабитель, убийца.
(обратно)4
Гать – тропа, проложенная через болото или через размытые земли с помощью хвороста и небольших бревен.
(обратно)5
Клир – общее название священнослужителей.
(обратно)6
Ри́мский апо́стол – глава католической церкви, папа.
(обратно)7
Ри́мской – здесь: христианской.
(обратно)8
Понома́рь – дьячок, помогающий священнику в совершении обрядов.
(обратно)9
Миджну́р – грузинское видоизменение арабского слова «меджнун»: обезумевший от любви.
(обратно)10
Лал – рубин.
(обратно)11
Вази́р – царский советник, министр.
(обратно)12
Спаспе́т – верховный военачальник.
(обратно)13
Кимва́л – древний музыкальный инструмент в виде двух медных тарелок.
(обратно)14
Дра́хма – мелкая монета, а также мера веса.
(обратно)15
Эде́м – по библейской легенде: земной рай.
(обратно)16
Амирба́р – начальник военного флота в Индии XII века.
(обратно)17
Спасала́р – военачальник.
(обратно)18
Аксами́т (оксалист) – старинная драгоценная ткань, на подобие бархата
(обратно)19
Виссо́н – старинная дорогая ткань; употреблялась на одежды царей, сановников и знатного духовенства.
(обратно)20
Куртуа́зный – изысканно вежливый, любезный.
(обратно)21
Камело́т – замок короля Артура, в котором, по преданию, и находился знаменитый Круглый стол.
(обратно)22
Авало́н – остров, на котором жили сиды, божества древних кельтов.
(обратно)23
Сэр – в Средневековье это обращение указывало на посвященность человека в рыцари.
(обратно)24
Влады́чица О́зера – фея, живущая со своими приближенными в подводном замке; по преданию, ею был подарен королю Артуру волшебный меч Экскалибур.
(обратно)25
Ме́рлин – волшебник, воспитатель и советник короля Артура.
(обратно)26
Серединой человеческой жизни Данте считает 35-летний возраст. Его он достиг в 1300 году и к этому году приурочивает свое путешествие в загробный мир.
(обратно)27
Над лесом грехов и заблуждений возвышается спасительный холм добродетели, озаряемый солнцем истины.
(обратно)28
Восхождению на холм спасения препятствуют три зверя: пантера – сладострастие, лев – гордость, волчица – корыстолюбие.
(обратно)29
Рожден при Юлии Цезаре (лат.).
(обратно)30
Данте еще не готов одолеть волчицу и взойти на холм спасения. Он должен предварительно посетить три загробных мира.
(обратно)31
Ками́лла, предводительница вольсков, и Турн, вождь рутулов, пали, обороняя Италию от троянцев; троянские юноши Эвриал и Huс погибли в борьбе против рутулов.
(обратно)32
Вергилий предлагает направиться в ад, где грешники, умершие телесной смертью, желали бы умереть и душой, чтобы прекратились их муки.
(обратно)33
Речь идет о Беатриче.
(обратно)34
Вергилий был язычником.
(обратно)35
Имеются в виду врата чистилища, охраняемые ангелом, наместником апостола Петра.
(обратно)36
В год 6420 – летосчисление «от сотворения мира»; для перевода в исчисление «от Рождества Христова» от даты следует отнять 5508 лет.
(обратно)37
Доментиа́н – император римский Домициан (81–96).
(обратно)38
Волхв – языческий маг, чародей, прорицатель.
(обратно)39
Аполло́ний Тиа́нский (I в. н. э.) – греческий философ, реальное историческое лицо.
(обратно)40
Антио́хия – город на берегу реки Оронт в Сирии.
(обратно)41
Анаста́сий Синаи́т – византийский патриарх в 561–563 годах, известный богослов.
(обратно)42
Варя́ги – русское название скандинавских народов.
(обратно)43
Русь – здесь: одно из северных германских племен. Легенда о призвании на Русь варягов лежит в основе так называемой норманнской теории возникновения власти на Руси, но эта легенда, зафиксированная только в «Повести временных лет», явно искусственного происхождения; она возникла, очевидно, в Новгороде, чьи обычаи избрания князя отражает, и ее содержание не получило обоснованного исторического подтверждения.
(обратно)44
Хоза́ры – тюрскские племена, объединенные в Хозарский каганат, исповедовали иудаизм.
(обратно)45
Гри́вна – шейное украшение, использовавшееся на Руси как денежная единица высокого достоинства.
(обратно)46
Ше́ляг – старинная монета.
(обратно)47
Ве́жи – крытые повозки кочевников-степняков.
(обратно)48
По́ловцы – кочевые племена южнорусских степей.
(обратно)49
Михаил III – византийский император (842–867).
(обратно)50
Апо́стол, Ева́нгелие, ниже Псалты́рь – книги Би́блии.
(обратно)51
Октои́х – православная, богослужебная книга.
(обратно)52
Имеется в виду надпись, сделанная по приказу Понтия Пилата для креста, на котором был распят Иисус Христос, на трех языках: еврейском, греческом и латинском, о чем рассказывается в Евангелии.
(обратно)53
Папа римский Адриан II поддержал Кирилла-Константина и Мефодия, надеясь на распространение влияния католичества на восток.
(обратно)54
Апо́стол – «посланник», название двенадцати избранных Иисусом Христом учеников, проповедовавших христианство; это понятие применяется также к семидесяти первым христианским проповедникам, среди которых был и Андроник.
(обратно)55
Суд – залив Золотой Рог, перегораживавшийся во время нападений цепью, протянутой между двумя башнями на берегах залива.
(обратно)56
Дми́трий – Святой Дмитрий Солунский (IV в.).
(обратно)57
Имеется в виду месячное довольствие.
(обратно)58
Перу́н, Во́лос (Ве́лес) – славянские языческие боги, имевшие общерусское значение, о чем свидетельствует распространенность их кумиров (идолов) в разных городах Руси.
(обратно)59
Паволо́ка – дорогая шелковая ткань, ко́принные – простой шелк.
(обратно)60
А́льта – река, протекающая неподалеку от Киева и впадающая в Трубеж.
(обратно)61
Наса́д – речное судно с высокими бортами.
(обратно)62
Старинный способ погребения, когда вместо гроба с крышкой использовались две выдолбленные колоды.
(обратно)63
Зна́мение – появление кометы Галлея в 1066 году.
(обратно)64
Со́лнце измени́лось – упоминание затмения солнца в 1064 году.
(обратно)65
Антио́х – Антиох IV Эпифан, царь Селевкидов, разграбивший Иерусалимский храм в 168 году до н. э.
(обратно)66
Неро́н – римский император, в чье правление в 66 году началась Иудейская война.
(обратно)67
Юстиниа́н – византийский император (527–563).
(обратно)68
Маври́кий – византийский император (582–602).
(обратно)69
Константи́н – византийский император (741–755), сын императора Леона III Исавра; оба отрицали почитание икон.
(обратно)70
Смерд – крестьянин.
(обратно)71
Си́мон Волхв – философ, о котором сохранились христианские апокрифические предания; апо́криф – книга религиозного содержания, не признанная церковью священной.
(обратно)72
Ана́ний – египетский маг.
(обратно)73
Мамврий – египетский маг.
(обратно)74
Моисе́й – вождь израильского народа во время странствования по пустыне, выведший его из рабства в Египте к самостоятельности, почитается как великий пророк и законодатель израильтян.
(обратно)75
Глеб – Глеб Святославич княжил в XI веке сначала в Тмутаракани, а затем в Новгороде.
(обратно)76
Боя́н – легендарный поэт-певец, живший, видимо, во второй половине XI в.
(обратно)77
Имеется в виду киевский князь Яросла́в Влади́мирович Му́дрый (ум. в 1054).
(обратно)78
Имеется в виду черниговский и тмутороканский князь Мстисла́в Влади́мирович (ум. в 1036), брат Яросла́ва Му́дрого; в 1022 году битва его войск с косогами (предками черкесов) была решена личным поединком князя с Редедей, косожским ханом.
(обратно)79
Имеется в виду тмутороканский князь Рома́н Святосла́вич (ум. в 1079), внук Ярослава Мудрого.
(обратно)80
Ста́рый Влади́мир – киевский князь Владимир Святославич (ум. в 1015), ны́нешний И́горь – герой «Слова…», новгород-северский князь Игорь Святославич (ум. в 1202).
(обратно)81
Речь идет о солнечном затмении 1 мая 1185 года.
(обратно)82
Троя́н – один из славянских языческих богов; упоминание его тропы – поэтический образ дальнего расстояния.
(обратно)83
Ве́лес – славянский языческий бог скотоводов, был, видимо, также покровителем поэзии.
(обратно)84
Имеется в виду курский князь Все́волод Святосла́вич (ум. в 1196), брат Игоря; буй тур – смелый сильный бык.
(обратно)85
Див – языческий образ, враждебная русичам птица, предупреждающая врагов о походе Игоря.
(обратно)86
Тмуторока́нский и́дол – чтимая половцами «каменная баба» на Таманском полуострове.
(обратно)87
Червлёный – красный.
(обратно)88
Бунчу́к – конский хвост на древке, символ власти.
(обратно)89
Имеются в виду принимавшие участие в походе четыре князя: Игорь, его брат Всеволод, сын Игоря – Владимир и его племянник – Святослав Олегович.
(обратно)90
Какая река носит в «Слове…» поэтическое имя Каяла (жалеть, оплакивать), точно не выяснено.
(обратно)91
Стри́бог – один из славянских языческих богов.
(обратно)92
Имеется в виду княгиня Ольга Глебовна.
(обратно)93
Века́ Троя́новы – древние времена.
(обратно)94
Оле́г Святосла́вич – дед Игоря и Всеволода (ум. в 1115), прозван «Гориславичем» из-за своей тяжелой судьбы.
(обратно)95
Святопо́лк Изясла́вич – князь, в 1078 году в битве на Нежатиной Ниве потерял отца, которого привез в Киев на носилках между двумя конями.
(обратно)96
Да́ждь бог – один из славянских языческих богов; его внуки – русский народ.
(обратно)97
Ка́рна и Же́ля – по-видимому, олицетворения кары и скорби.
(обратно)98
Размы́кивая ого́нь – имеются в виду пожары, которыми сопровождались нашествия половцев.
(обратно)99
Беличьи шкурки использовались на Руси как денежная единица.
(обратно)100
Святосла́в – киевский князь Святослав Всеволодович (ум. в 1194), двоюродный брат Игоря и Всеволода (назван «отцом» как князь киевский), в 1184 году в союзе с другими князьями нанес половцам сокрушительное поражение и взял в плен их хана Кобяка с сыновьями.
(обратно)101
Гри́дница – большой пиршественный зал, где собирались дружинники, «гридни».
(обратно)102
Жемчуг в снах предвещал слезы.
(обратно)103
Толкови́ны – союзнические кочевые племена; были язычниками, поэтому называются «погаными».
(обратно)104
Князёк – перекладина, на которой держатся стропила крыши или доски потолка; видеть дом без князька во сне – к большому несчастью.
(обратно)105
Два со́лнца – Игорь и Всеволод.
(обратно)106
Оле́г и Святосла́в – имеются в виду младший сын и племянник Игоря.
(обратно)107
Па́рдус – гепард.
(обратно)108
Хино́ва – очевидно, собирательное название враждебных племен.
(обратно)109
Го́ты – германское племя, жившее на Таманском полуострове; Бус – один из половецких ханов; Шарука́н – половецкий хан, дед Кончака.
(обратно)110
Яросла́в – черниговский князь Ярослав Всеволодович (ум. в 1198), ниже перечисляются подчиненные ему знатные роды тюрков.
(обратно)111
В мы́тех – период линьки.
(обратно)112
Имеется в виду переяславский князь Владимир Глебович (ум. в 1187).
(обратно)113
Все́волод – сын Юрия Долгорукого, великий князь владимирский Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (ум. в 1212).
(обратно)114
Нога́та, ре́зана – мелкие денежные единицы на Руси.
(обратно)115
Шереши́ры – очевидно, копья.
(обратно)116
Сыны́ Гле́бовы – рязанские князья, сыновья Глеба Ростиславича.
(обратно)117
Имеются в виду белгородский князь Рюрик Ростиславич (ум. в 1215) и его брат смоленский князь Давыд Ростиславич (ум. в 1198).
(обратно)118
Имеется в виду тесть Игоря галицкий князь Ярослав Владимирович (ум. в 1187).
(обратно)119
Го́ры Венге́рские – Карпаты.
(обратно)120
Имеется в виду венгерский король.
(обратно)121
Рома́н и Мстисла́в – волынский князь Роман Мстиславич (ум. в 1205) и, очевидно, его двоюродный брат князь пересонницкий Мстислав Ярославич (ум. в 1226).
(обратно)122
Ятвя́ги, Дереме́ла – литовские племена.
(обратно)123
Имеются в виду волынские князья.
(обратно)124
Изясла́в – полоцкий князь, ниже упоминаются другие полоцкие князья: Всеслав, Брячислав, Всеволод.
(обратно)125
Золото́е ожере́лье – круглый или квадратный вырез княжеской одежды, обшивался золотом и драгоценными камнями.
(обратно)126
Под девицей подразумевается Киев; в 1068 году во время восстания киевлян Всеслав захватил княжеский престол.
(обратно)127
Неми́га – небольшая река, на которой стоял Минск.
(обратно)128
Хорс – славянский языческий бог солнца.
(обратно)129
Имеется в виду жена Игоря Ефросинья Ярославна.
(обратно)130
Забра́ло – крепостная стена.
(обратно)131
Каменные горы – днепровские пороги.
(обратно)132
Овлу́р – половец, бежавший вместе с Игорем.
(обратно)133
Имеется в виду князь Ростислав Всеволодович, утонувший в 1093 году при переправе через реку Стугну.
(обратно)134
Не бу́дет у нас ни соколёнка, ни кра́сной де́вицы – сын Игоря Владимир в 1187 году бежал из плена вместе с дочерью хана Кончака.
(обратно)135
Бори́чев – подъем от Днепра на гору в Киеве.
(обратно)136
Имеется в виду церковь Богородицы Пирогощей, названа так по иконе, привезенной из Константинополя.
(обратно)137
Архистрати́г – предводитель небесного воинства архангел Михаил.
(обратно)138
Иерусали́м – здесь: центр христианской веры.
(обратно)139
Ми́рра, лива́н – благовонные смолы.
(обратно)140
Золото́й идол – вылитый из золота телец, которому, по преданию, заставлял поклоняться своих подданных Навуходоносор.
(обратно)141
Измара́гд – изумруд.
(обратно)142
Порфи́ра – пурпурная мантия, символ царского достоинства.
(обратно)143
Трасима́х – в переводе с греческого: храбрый воин.
(обратно)144
Мерку́рий – в римской мифологии: бог торговли, вестник богов, обутый в крылатые сандалии.
(обратно)145
Вулка́н – в римской мифологии: бог огня, покровитель кузнечного ремесла, от рождения был хромым.
(обратно)146
Пусто́й пояс – со времен римских легионеров солдаты зашивали добытое золото в пояс.
(обратно)147
Имеется в виду Библия: Книга пророка Захарии, глава 5 (7–8).
(обратно)148
Фу́рии – в римской мифологии: богини мести, мучающие грешников.
(обратно)149
Ма́ворс – древняя форма имени римского бога войны Марса.
(обратно)150
Имеется в виду церковная проповедь.
(обратно)151
Имеется в виду совершение паломничества к резиденции главы католической церкви.
(обратно)152
Доминика́нцы – члены монашеского ордена, которые составляли основу высшего католического трибунала – «священной инквизиции».
(обратно)153
Индульге́нция – католический церковный документ, заплату дающий отпущение грехов.
(обратно)154
Альгуаси́л (альгваси́л) – испанский полицейский.
(обратно)155
Алька́льд – судья или судебный следователь в средневековой Испании.
(обратно)156
Крестным знамением врагами его (лат.).
(обратно)157
Интерме́дия – представление, обычно комедийного характера, разыгрываемое между действиями спектакля; нередко интермедии тяготеют к небольшой одноактной пьесе.
(обратно)158
Симео́н По́лоцкий (1629–1680) – поэт, драматург, проповедник, педагог, общественный и церковный деятель.
(обратно)159
Крутчи́ны – заботы.
(обратно)160
Волочи́ться – медленно идти, тащиться.
(обратно)161
А́ще – если.
(обратно)162
Паки́ – опять.
(обратно)163
Аз – я.
(обратно)164
Мздовоздая́ние – оплата.
(обратно)165
Глаго́лить – говорить.
(обратно)166
Ха́ртия – здесь: рукопись.
(обратно)167
Ю съя́сти – ее съесть.
(обратно)168
Аз, бу́ки, ве́ди, глаго́л – названия букв древнерусского алфавита.
(обратно)169
Затем, как видно из следующей сцены 2, в рукописи пропущено:
МАЛЕЦ
Веди.
СТАРИК У меня уже сут дети.
(обратно)170
Гла́сно – вслух.
(обратно)171
Днес – сегодня.
(обратно)172
Бех – был.
(обратно)173
Зело́ – очень.
(обратно)174
Я́ко – что.
(обратно)175
Зепь – карман, сумка.
(обратно)176
Ве́лий – великий.
(обратно)177
Ми – моей.
(обратно)178
Сут бу́йство власы́: нужда́ изрива́ти – очень густые волосы, нужно вырвать.
(обратно)179
Мзда – плата.
(обратно)180
Е́же има́м – что имею.
(обратно)181
Стена́ть – стонать, охать, вздыхать (чаще всего от душевной боли).
(обратно)182
Велми́ – очень.
(обратно)183
Оба́чить – радеть, стараться.
(обратно)184
Ми́рт – вечнозеленый кустарник или дерево.
(обратно)185
Чертополо́х – эмблема Шотландии.
(обратно)186
Остроли́ст – растение с колючими ветками.
(обратно)187
Ко́птский язык – язык, продолжавший развитие египетского языка и умерший в XI–XII веках.
(обратно)188
Одноле́тник – растение, жизненный цикл которого длится от двух до пяти месяцев (в течение одного вегетационного периода).
(обратно)189
Се́верные цветы́ – здесь: скандинавские, голландские.
(обратно)190
Пега́с – в греческой мифологии: крылатый конь, символ поэтического вдохновения.
(обратно)191
Феб – второе имя бога Аполлона, покровителя искусств.
(обратно)192
Иппокре́на – источник, находящийся под покровительством муз; вода из этого источника сообщает человеку поэтическое вдохновение.
(обратно)193
Граб-стрит – улица в Лондоне XVIII в., где жили бедные поэты и писатели, название стало нарицательным для обозначения литературной поденщины.
(обратно)194
Па́нглос – всеязыкий (от греч. pan – все и glossa – язык).
(обратно)195
Диоскори́д – древнегреческий врач, автор многочисленных медицинских сочинений.
(обратно)196
Под ава́рами Вольтер подразумевает французов, а под болгаро-аварской войной – Семилетнюю войну (1756–1763).
(обратно)197
Анабапти́ст – представитель протестантизма; анабаптисты отрицали предопределение и проповедовали свободу совести, всеобщее равенство.
(обратно)198
Изначально (лат.).
(обратно)199
Аутодафе́ – приведение в исполнение приговоров инквизиции; это сожжение еретиков действительно имело место в Лиссабоне 20 июня 1756 года.
(обратно)200
Санбени́то (сма́рра) – накидка из желтого сукна, надевавшаяся на осужденных инквизиционным трибуналом.
(обратно)201
Святых отцов (исп.).
(обратно)202
Социниа́нство – рационалистическое течение в протестантизме, основанное Фавстом Социном (1539–1604); социниане отвергали многие догматы католицизма и исповедовали своеобразный религиозный оптимизм, то есть считали, что все в мире направлено к лучшему божественным соизволением.
(обратно)203
Манихе́й – сторонник манихе́йства, религиозного течения, возникшего в Персии в III веке; для манихеев характерно представление о том, что в мире царят два начала – добро и зло, находящиеся в состоянии борьбы, человек должен противостоять злу, и поэтому манихейство проповедовало аскетизм, отрицало богатство и даже собственность.
(обратно)204
Журнал, в котором опубликовано это письмо, выходил под редакцией сэра Дрокансера (журналистский псевдоним Г. Филдинга).
(обратно)205
Перевод смотри в тексте. (Примечание автора.)
(обратно)206
Ящик Пандо́ры – источник всех бед; от имени Пандоры, героини греческой мифологии.
(обратно)207
Гудибра́с – персонаж одноименного произведения английского писателя Сэмюэля Батлера.
(обратно)208
Мизаргу́рус – имя означает «ненавистное серебро» (лат.).
(обратно)209
Га́мпден (Ге́мпден) – деятель Английской буржуазной революции XVII века.
(обратно)210
Кро́мвель – предводитель буржуазии в Английской революции XVII века.
(обратно)211
Ми́льтон – английский поэт XVII века.
(обратно)212
Эре́в (Эреб) – в древнегреческой мифологии: олицетворение мрака.
(обратно)213
Стиги́йские во́ды – в древнегреческой мифологии: образ реки в царстве теней.
(обратно)214
Возлю́бленная тишина́ – мир.
(обратно)215
Кла́сы – колосья.
(обратно)216
И зрак прия́тнее рая́ – вид, который приятнее райского.
(обратно)217
Лик – толпа.
(обратно)218
Понт – море.
(обратно)219
Верьхи́ Парна́сски – поэты, художники, ученые (от горы Парнас, обиталища муз).
(обратно)220
Секва́на – Сена; имеется в виду Парижская академия наук.
(обратно)221
Верьхи́ Рифе́йски – Уральские горы.
(обратно)222
Плато́н – древнегреческий философ.
(обратно)223
Невто́н – Ньютон, английский ученый.
(обратно)224
О́бер-секрета́рь – чин чиновника.
(обратно)225
Ду́мный дьяк – государственный служащий.
(обратно)226
Счи́стил – взял, получил.
(обратно)227
Акциде́нция – случайность, непостоянство, несущественность.
(обратно)228
Челоби́тчики – просители.
(обратно)229
Поне́же – поскольку.
(обратно)230
Моё здоро́вье – здесь: мое звание.
(обратно)231
Имеются в виду бытовые комедии, которые видел автор в театрах.
(обратно)232
Це́рбер – в древнегреческой мифологии: двуглавый огромный пес, убитый Гераклом (Геркулесом).
(обратно)233
«О времена́! О нра́вы!» – крылатое выражение из речей римского оратора и политического деятеля Цицерона.
(обратно)234
Подка́пка – вид женской одежды.
(обратно)235
Мы́льня – баня.
(обратно)236
Патоги́ – батоги, прутья; здесь: намек на банные веники.
(обратно)237
Епити́мья – церковное наказание.
(обратно)238
За́падная це́рковь – католичество.
(обратно)239
Каде́т – ученик кадетского корпуса, среднего учебного заведения для дворянских детей.
(обратно)240
Сакрдье – Черт побери! – французское бранное выражение.
(обратно)241
Ро́берт (ро́бер) – название одной партии в карточной игре, скорее всего в «винт».
(обратно)242
Позо́рище – театральное представление.
(обратно)243
Козноде́й – проповедник.
(обратно)244
Al fresco – буквально: по-сырому; фресковая живопись (итал.).
(обратно)245
Фунт – русская мера веса, равная 409,5 г.
(обратно)246
Спесь – надменность, высокомерие.
(обратно)247
Нату́ра – природа.
(обратно)248
Зама́ять – замучить, утомить.
(обратно)249
Уро́к – порча.
(обратно)250
Доброхо́т – доброжелатель.
(обратно)251
Вжи́ве – при жизни.
(обратно)252
Куба́рь – волчок.
(обратно)253
Сограждани́ном Афи́н и Ри́ма – то есть образованным человеком.
(обратно)254
Вити́я – здесь: оратор.
(обратно)255
Вольф – немецкий философ-идеалист.
(обратно)256
Гора́ций – древнеримский поэт-одописец.
(обратно)257
Хоти́н – турецкая крепость на реке Днестр; взята штурмом русской армией в 1739 г., на это событие Ломоносов отозвался одой «На взятие Хотина».
(обратно)258
Геллико́н – гора в Греции, на которой, по древнегреческим мифам, жили музы – покровительницы наук и искусств.
(обратно)259
Демосфе́н – древнегреческий философ.
(обратно)260
Цицеро́н – древнеримский оратор и общественный деятель.
(обратно)261
Питт, Уи́льям – английский политический деятель и оратор XVIII в.
(обратно)262
Берк, Э́дмунд – английский философ, теоретик предромантизма XVIII в.
(обратно)263
Фокс, Чарлз Джеймс – английский государственный деятель и оратор, выступавший в защиту революционной Франции.
(обратно)264
Мирабо́, Оноре́ Габриэ́ль Рикети́ – один из деятелей Великой французской революции, противник абсолютизма.
(обратно)265
Плато́н – древнегреческий философ, с ним Радищев сравнивает московского митрополита Платона.
(обратно)266
Та́цит, Пу́блий Корне́лий – древнеримский историк.
(обратно)267
Ро́бертсон, Уи́льям – английский историк XVIII в.
(обратно)268
Ма́ркграф, Андрей Сигизму́нд – немецкий химик XVIII в.
(обратно)269
Ри́дигер, Христиа́н Фри́дрих – немецкий естествоиспытатель XVIII в.
(обратно)270
Радищев имеет в виду друга Ломоносова Георга Рихмана, ученого-физика, погибшего при проведении опыта с электричеством во время грозы.
(обратно)271
Фра́нклин, Бе́нджамин – американский государственный деятель, ученый-естествоиспытатель XVIII в.
(обратно)272
Бэ́кон Веруламский – английский философ, положивший начало экспериментальным методам в науке, жил на рубеже XVI и XVII вв.
(обратно)273
Начало VI сатиры римского поэта Горация в переводе M. Н. Муравьева.
(обратно)274
Зла́чный – травянистый, богатый растительностью, обильный злаками.
(обратно)275
Попече́ние – забота.
(обратно)276
Бде́ния – здесь: заботы.
(обратно)277
Сро́дник – родной человек.
(обратно)278
Прони́кнуть – понять.
(обратно)279
Серту́к (сюрту́к) – кафтан с разрезом сзади.
(обратно)280
Нечувстви́тельно – незаметно.
(обратно)281
Капита́н-командо́р – бригадирский чин во флоте в XVIII в.
(обратно)282
Ре́вельский рейд, залив Вы́боргский – места морских сражений во время русско-шведской войны 1788–1790 гг.
(обратно)283
Дереве́нские рукоде́лья – особые помещения для занятия ручными работами (вязанием, шитьем и проч.).
(обратно)284
Hапечатле́ние – отпечаток.
(обратно)285
Подъе́млющееся – поднимающееся.
(обратно)286
Испыта́тель естества́ – естествоиспытатель.
(обратно)287
Попере́чник ша́ра на́шего – экватор.
(обратно)288
Ме́мель, Ко́вала, Пу́малазунд, Савата́йполь – места военных сражений в русско-шведской войне 1788–1790 гг.
(обратно)289
Бавки́да – героиня одной из «Метаморфоз» римского поэта Овидия; ее имя и имя ее мужа Филимона сделались нарицательными именами идеальных супругов.
(обратно)290
Бра́шно – кушанье.
(обратно)291
Летора́сль – годовой побег дерева.
(обратно)292
Не преми́нуть – не забыть.
(обратно)293
Камерди́нер – домашний слуга.
(обратно)294
Правле́ние – правительство, власти.
(обратно)295
Во́лость – область.
(обратно)296
Чре́во – желудок.
(обратно)297
А́вгуст (Це́зарь А́вгуст) – римский император.
(обратно)298
Конфу́ций – древнекитайский философ, занимавшийся этико-политическими вопросами.
(обратно)299
Предста́тельство – заступничество, покровительство.
(обратно)300
Стра́ждущий – страдающий, мучающийся.
(обратно)301
«Танкре́д», «Меро́па» – трагедии французского писателя-просветителя XVIII в. Вольтера.
(обратно)302
Ги́ббон, Э́двард – английский историк XVIII в., автор сочинения «История упадка и разрушения Римской империи».
(обратно)303
Софо́кл – древнегреческий трагик V в. до н. э.
(обратно)304
Тере́нций – великий римский комедиограф II в. до н. э.
(обратно)305
Скороду́мов, Гаврила Иванович – русский гравер, миниатюрист и акварелист XVIII в.
(обратно)306
Ва́кер (Ва́ккаро), Андре́а – итальянский живописец XVII в., подражатель Микеланджело Америги (Караваджо).
(обратно)307
Ку́фман (Ка́уфман), Анге́лика – немецкая художница XVIII в., представитель классицизма, автор портретов, мифологических и исторических композиций.
(обратно)308
Бате́ний (Бато́ни), Помпе́о – итальянский художник-классицист, портретист, а также автор исторических и религиозных полотен.
(обратно)309
Смит, А́дам – английский экономист и философ.
(обратно)310
Унала́шка (Уналя́ска) – один из Алеутских островов в Тихом океане.
(обратно)311
Положи́ли – здесь: решили.
(обратно)312
Пене́й – река в Фессалии (области Северной Греции).
(обратно)313
Пря – спор, вражда.
(обратно)314
Нераче́нье – невнимание, попустительство.
(обратно)315
Дриа́ды – низшие лесные богини.
(обратно)316
Пе́рси – грудь.
(обратно)317
Си́рый – сирота.
(обратно)318
Ора́тай – пахарь.
(обратно)319
Стезя́ – след, признаки прошедшего.
(обратно)320
Г. Р. Державин описывает водопад Кивач на реке Суне.
(обратно)321
Кай Ю́лий Це́зарь – римский государственный деятель, полководец; был убит в сенате заговорщиками-республиканцами, так как захотел превратить Рим из республики в империю.
(обратно)322
Велиза́р (Велиза́рий) – византийский полководец, был обвинен в заговоре, заключен в тюрьму и, по преданию, ослеплен.
(обратно)323
Морфе́й – бог сна.
(обратно)324
Князь Таври́ды – Потемкин, получивший почетный титул Таврический за присоединение к России Крыма (Тавриды).
(обратно)325
Се́верная Мине́рва – Екатерина II.
(обратно)326
Ахе́йский – греческий.
(обратно)327
Маро́н по Мецен́ате рвётся – Марон (Вергилий) в эклогах прославлял Мецената, покровителя поэтов.
(обратно)328
Мафусаи́л – библейский патриарх, самый долговечный из людей, он жил 969 лет.
(обратно)




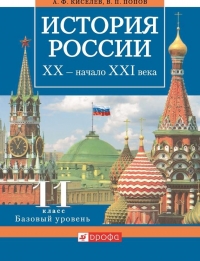






Комментарии к книге «Литература 8 класс. Учебник-хрестоматия для школ с углубленным изучением литературы», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев