Павел Евдокимов Этапы духовной жизни. От отцов-пустынников до наших дней
Памяти матери Женевьевы из общины Граншан
Paul Evdokimov
Les Âges De La Vie Spirituelle. Des Pères du désert à njs jours
Préface d’Oliver Clément
Théophanie
DESCLÉE DE BROUWER 1995
Павел Евдокимов
Данный перевод французского издания книги “Этапы духовной жизни” Павла Евдокимова публикуется с согласия издательства Desclee De brouwer.
© Desclee De brouwer, 1995
© Свято-Филаретовская московская высшая православно-христианская школа, 2003
Предисловие Оливье Клеман
ЭТАПЫ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ – возможно, самое важное произведение Павла Евдокимова, наиболее способное своей напряженностью по-настоящему взволновать ищущего читателя, повернуть к Богу сомневающееся сердце. Евдокимов достигает здесь вершины мастерства. В свете поисков и тревог современного Запада он показывает самое устойчивое и плодотворное в православной духовности, можно сказать, самую ее суть. Он понимает Запад как ненасытимый поиск, как дающее иллюзию посвящения сошествие во ад: и именно там он показывает Христа – победителя ада, Его животворящий “кенозис”, Его жизнь, возникающую из смерти. Основная тема книги предстает таким образом как проблема реального, преобразующего духовного опыта в современном христианстве, как призыв распять и воскресить желание, дабы оно стало “онтологической нежностью”. И если в наше время в восточных странах христианство было открыто отвергнуто, то на Западе ему исподволь угрожают подчас весьма утонченная редукция и широкое распространение атеизма. Действительно, для многих людей и даже, увы, членов Церкви, христианство сводится к верованию, все более и более приспособленному к современной ментальности (деизм снисходительного Бога и гуманизм Христа), к которому прибавляется главным образом социальная этика, поскольку необходимо “оправдать” индивидуума.
Однако великой православной традиции – патристики, паламизма и Добротолюбия – традиции более сдержанной, более последовательной и менее психологизированной, нежели западная мистика, известна духовность одновременно церковная и личная, “онтологическая”, способная объединить и просветить всего человека, включая его тело и окружение. Цель Евдокимова – показать, как мы можем здесь и сейчас насытиться этой духовностью, на первый взгляд такой же далекой и неприступной, как утесы Афона… Духовная жизнь состоит из “этапов", согласно предназначению не только отдельного человека, но и всего человечества[1]. Будучи укоренен в Предании, Евдокимов ищет в нем разрешения проблем нашего времени и делает это в современных понятиях. В целом, речь идет о том, чтобы найти и преодолеть в принципиально евангельской перспективе, в познании-любви, данном для общения, а не для обладания (или слияния), то, что столь многие запутавшиеся западные люди – и среди них столь многие христиане – ищут в йоге, дзен-буддизме или “трансцендентальной медитации", рискуя утратить чувство личности, или в космической магии “новых правых", рискуя утратить чувство трансцендентности, т. е. подлинную человеческую свободу. Речь идет об обретении Церкви как таинства и как тайны.
В этой книге сходятся три основных темы. Во-первых, чтобы изгнать “стражей при дверях", не допускающих стольких людей доброй воли до Бога, Бога Живого, Евдокимов предлагает ответ на процесс, возбужденный современным атеизмом против Всемогущего, где Он обвиняется во всем мировом зле (и уж конечно за то время, что прошло с момента смерти Евдокимова, общество “потребления и любезности", как называет его Доменак, значительно развилось; ему, кажется, более свойственно безразличие, чем атеизм, но нажмите слегка на такого “безразличного", и из него посыплются все те же старые атеистические доводы, читай – антитеистические, которые, перестав быть – по крайней мере в наших странах – принадлежностью интеллигенции, стали достоянием масс). В согласии с некоторыми греческими отцами и русскими религиозными философами Павел Евдокимов обращает особое внимание на то, что в самом творческом акте уже заключен определенный риск для Творца (это “Агнец, закланный от начала мира" из Апокалипсиса, прочитанного русской духовностъю). Он подчеркивает ту немощь, в которой совершается всемогущество, поскольку оно творит свободу. Бог становится уязвим вплоть до Креста. Предваряя и завершая в чисто богословской перспективе основную интуицию Рене Жирара, Евдокимов показывает в искуплении не жертвоприношение Сына Отцу, но воскрешение человечества из его трагического состояния победоносным “кенозисом” Великой субботы, в котором изменяется смысл самой смерти. Вновь появляется “агапический” аргумент Достоевского, доказательство бытия Божия бесконечным существованием любви, сокрытой в человеке, доказательство Бога через человека, который есть не что иное, как стремление к Нему. “Ты – Тот, Кого любит сердце мое”, – любил повторять П. Евдокимов вслед за одним из каппадокийских отцов…
Во-вторых, Евдокимов развивает в рамках обширной восточной аскетической традиции концепцию греха и, соответственно, спасения, которая многим покажется новой, – настолько морализм и “терроризм”, а затем антиморализм и психоанализ исказили эти понятия. Грех предстает как нарушение богочеловеческого и человеческого единства (в самом человеке и между людьми). Грех разделяет и замыкает в адском одиночестве; св. Макарию принадлежит образ осужденных, связанных спинами, так что они никогда не могут увидеть друг друга, обрести отвечающие друг другу во взаимной ответственности лица. Грех, говорит Евдокимов, это также та “болезнь духа”, о которой говорилось на VI Вселенском соборе, болезнь, которая разлагает душу и через нее – тело: распятый собственными противоречиями, грешный человек ненавистен сам себе, он трепещет от тоски небытия по “кратким вечностям наслаждения”, и грех, предоставляя простор для действия темных сил, отравляет человеческие отношения и саму космическую атмосферу. В этой перспективе спасение во Христе через “стяжание Духа Святого” предстает как новый способ существования, позволяющий божественным энергиям проникнуть все человеческое существо, как преодоление самого себя, в котором человек одновременно рассредоточивается – по отношению к эгоистическому индивидууму и соединяется – в причастии святыням и общении святых. Это действительно новое рождение, долгое выздоровление (которое для многих простирается за пределы смерти, в ожидание Парусии), лечение, в котором благодать Страстей позволяет нам преобразовать наши идолопоклоннические страсти в страсть к Богу и ближнему… Церковные “таинства", глубоко вошедшие в “метод"’ Добротолюбия, делают человека, как за св. Исааком Сириным повторяет Евдокимов, чувствительным к Воскресению и тем самым способным “реализовать" (в английском смысле слова) собственное воскресение в Воскресшем. Человек на пути исцеления, тот, кто не впадает в отчаяние, но припадает к ногам Христа, присутствующего даже в самых непроницаемых глубинах его внутреннего ада, постепенно становится человеком не просто регулярно участвующим в богослужении, но “литургическим человеком", священником мира в алтаре своего сердца. Свидетель истинной жизни, он умеет принимать без осуждения, ему порой присуще освобождающее чувство отцовства, а иногда ему удается озарить культуру или общество настоящей поэзией спасения.
Средоточием книги является попытка наметить некий духовный метод – аскезу, которая была бы одновременно традиционна и созвучна нашему времени. В основном речь идет вовсе не о том – и здесь вполне раскрывается смысл заглавия книги, – чтобы повторять подвиги отшельничества и борьбы, определяющие всю силу первоначального монашества. В отношении разлагающейся языческой души, имманентной религиозности ближневосточного синкретизма – космической магии, отцы пустыни осуществили своего рода глобальный экзорцизм, и значение его сохранится навсегда. Отныне должно идти скорее по пути преображения, нежели отвержения. Кроме того, Евдокимов показывает, что изменился сам онтологический тип: традиционная аскеза работала на мощной жизненной силе, присущей обществам безмолвия и медлительности, и в отношении примитивных и грубых проявлений греха. Дерево уже существовало, его надо было лишь подрезать. Сегодня скорее существует необходимость его защитить, укрепить, вернуть ему двойную укорененность – в земле и на небе. Поскольку техническая цивилизация больших городов, постоянно обновляющихся изображений и звуков отрезает человека от жизненно необходимого, основного, требуется сперва пересоздать, умиротворить, углубить жизнь и не просто порвать с космосом, переполненным энергиями и магией, но и возобновить, как советовал Габриэль Марсель, “орфический" брачный договор с божественным творением, вновь обрести “любовь к жизни" и очарование бытия. Сегодня аскеза должна также учитывать более хрупкое, сложное и рассеянное состояние человека, грех, ставший более чем когда-либо распадом души, искушением небытием, скукой и отчаянием (за которым неизбежно следует падение в пароксизм). Эти бездны (и эти пошлости) первым раскрыл Достоевский, он показал, что отныне они являются парадоксальным местом присутствия Христа: Того Христа, Который не поучает, но в тишине безмолвия излучает любовь, красоту, свободу. Евдокимов прилагает к этим прозрениям Достоевского всю русскую религиозную философию, раскрывает смысл слова “целомудрие" не как преимущественно сексуальное воздержание (брак также может быть “целомудрен"), но как целостность души, как собирание всего человеческого существа благодатью, как движение со Христом и в Нем, “от двойственности к единству" – так называется работа Рене Жирара, посвященная великому русскому писателю.
Описывая преобладающий ныне человеческий тип, Евдокимов особо отмечает возбуждение, переутомление, нервное истощение. Медицина продлевает жизнь, но в то же время ослабляет сопротивляемость страданию и нужде. В таких условиях человеку не требуется долористская аскеза, она лишь разрушила бы его. “Умерщвление плоти должно стать освобождением от всякой необходимости в допинге: скорости, шуме, раздражителях… Аскеза скорее… дисциплина спокойствия и тишины, периодических и регулярных, в которых человек обретает способность остановиться для молитвы и созерцания даже в сердце всех шумов мира, и особенно – ощущать присутствие других…"
Так, человек призван уже сейчас вкусить Царство, ибо вечность во Христе начинается уже в мире сем. Он предчувствует, пусть мимолетно, словно огонь касается глубин его сердца (до тех пор, пока сердце не станет огнем), – тишину, мир, ласку божественного присутствия. И Павел Евдокимов цитирует Евагрия, дабы представить нам образ духовного человека:
Он отделен от всего и со всем соединен; Бесстрастный и преисполненный чувствительности, Оба́женный, он считает себя сором мира. Более всего он счастлив, Божественно счастлив…Истинных пророков называет История. В “Братьях Карамазовых" старец Зосима посылает послушника Алешу в мир. Павел Евдокимов, всегда несший на себе печать судьбы Алеши, пишет “Этапы духовной жизни" и разрабатывает тему “внутреннего монашества"’. Сегодня мы узнаем, что в России постоянно возрастающее число молодых людей, работая на предприятиях и оставаясь в миру, живут монашеской жизнью в целомудрии, самоуглубленности, неустанной молитве. Для различения с монашеством установленным, “черным", это движение именуют “белым монашеством". “Думаю, это явление беспрецедентно как по численности, так и по реальному значению", – говорит свидетель[2]. Черный – цвет долга, белый – преображения. “Этапы духовной жизни" могли бы стать уставом “белого монашества".
Оливье Клеман
Введение
Сквозь все шумы мира, если мы умеем слушать, нас вопрошает Смысл вещей. Более чем когда-либо человеческое существование несет в себе требование неопровержимой ясности, ставит единственный серьезный вопрос, который можно адресовать любому человеку. За рамками какой бы то ни было катехизической или проповеднической литературы, на уровне сознания, свободного от всякой предвзятости, верующий человек XX века призван сказать: что есть Бог? А атеист – т. е. тот, кто отрицает, – определить объект своего отрицания.
Вопрос захватывающий, и если ответ долго не приходит, тишина действует освежающе. Этот вопрос помогает раскрыться и самому человеку, это способ сказать ему: кто ты?
Тот, кто скажет: Бог – Творец, Провидение, Спаситель, – воспроизводит страницы учебника или свидетельствует о спекуляции, о диалектической дистанции между собой и Богом. Бог в таком случае не есть Все, страстно и спонтанно уловленное в непосредственной данности Его откровения. Один из самых суровых аскетов, прп. Иоанн Лествичник говорил, что Бога надо любить так, как жених любит невесту[3]. Влюбленный, страстно увлеченный кем-то, сказал бы: “Да в этом все!.. Это – моя жизнь!.. Только это и есть!.. Все остальное ничего не стоит, просто не существует!” У св. Григория Нисского на пределе восхищения вырывается лишь: “Ты, Которого любит сердце мое…”[4]
Атеизм отказывается лишь от идеологии, от системы, от спекуляции, которая чаще всего вводит человека в заблуждение, но никогда – от божественной реальности, которая открывается лишь верой.
Святоотеческая традиция отвергает какое бы то ни было определение Бога, ибо Бог превыше всякого человеческого слова: “Понятия создают идолов Бога, одно лишь восхищение что-то улавливает”, – признается св. Григорий[5]. Для отцов слово “Бог” стоит в звательном падеже, оно есть обращение к Несказанному.
С человеком сложностей не меньше, что некогда уже заставило Феофила Антиохийского сказать: “Покажи мне твоего человека, и я покажу тебе моего Бога”[6]. Божественная тайна отражается в зеркале человеческого. Апостол Петр говорит о homo cordis absconditus, “сокровенном сердца человеке” (1Петр 3:4). Deus absconditus, Бог таинственный, сокровенный, создал Своего визави, Своего alter ego: homo absconditus, человека таинственного.
Источники духовной жизни начинают струиться на “пажитях сердечных”[7], в этом пространстве свободы, и именно тогда, когда там встречаются два таинственных существа – Бог и человек.
“Самое великое, что бывает между Богом и человеческим сердцем, – это любить и быть любимым”, – утверждают великие подвижники [8].
“Невозможно увидеть Бога и остаться в живых” (Исх 33:20). Для отцов это библейское предостережение означает: невозможно увидеть Бога светом нашего разума, никогда нельзя дать определение Богу, ибо всякое определение есть ограничение. И однако “Он ближе к нам, чем мы сами”. На такой глубине Его удивительной близости Бог обращает Свое Лицо к человеку и говорит ему: “Я Святой” (Ос 11:9). Из Своих Имен Он выбирает именно то, которое более всего скрывает Его. Он даже “Трисвятой”: “Свят, свят, свят”, – взывают ангелы в победной песне, выявляя таким образом ни с чем не сравнимый, совершенно уникальный характер божественной Святости. Премудрость, могущество, даже любовь могут обрести в чем-то сходство и подобие, святость же, напротив, не имеет аналогов в этом мире, не может быть ни соизмерена, ни сравнена с чем-либо в мире сем. Перед неопалимой купиной, лицом к пожирающему огню Tu solus Sanctus, Ты един Свят (Откр 15:4), все человеческое лишь “прах и пепел”. Поэтому, когда святость Бога является, эта агофания вызывает в человеке mysterium tremendum, священный трепет, необоримое чувство “совсем иного"[9]. Это отнюдь не страх перед неизвестным, но мистический ужас, весьма характерный и сопутствующий всякому проявлению “нуминозного”[10]: “Ужас Мой пошлю пред тобою”, – говорит Бог (Исх 23:27); или еще: “Сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая” (Исх 3:5).
Ограничив таким образом непреодолимые бездны, Бог тотчас открывает их таинственную согласованность: “Бездна бездну призывает” (Пс 41:8) и “как в воде лицо – к лицу” (Притч 27:19). Бог Человеколюбец трансцендирует собственную трансцендентность к человеку, выводит его из его небытия и призывает в свою очередь трансцендировать его имманентность к Святому. Человек может это, ибо божественный Святой пожелал принять его образ. Более того, “муж скорбей” являет “мужа желаний”: вечный Магнит, притягивающий всякую любовь и проникающий в нас, дабы мы могли возродиться в Нем. Он говорит всякой душе: “Положи Меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь… пламя ее как пламя пожирающего огня Яхве” (Песн 8:6).
Поэтому в Писании говорится: “Святы будьте, ибо свят Я” (Лев 19:2); когда апостол Петр хочет определить цель христианской жизни, он ведет речь об участии в святости Бога (2 Петр 1:4; ср. Евр 12:10); так же и апостол Павел, говоря с христианами, обращается к “святым” Рима или Коринфа. Так же ли и сегодня обратился бы апостол к “святым” Парижа или Лондона, и узнал ли бы себя в этом современный верующий?
Как только речь заходит о святости, включается психологическая блокировка. Вспоминаются гиганты прошлого, отшельники и столпники: одни – погребенные в пещерах, другие – вознесенные на столпах; в конце концов, эти “просветленные”, “равные ангелам”, кажутся уже не от мира сего. Святость представляется отжившей, она принадлежит прошлому, ставшему чуждым, неприемлемым для прерывистых форм, синкопированного ритма современной жизни. Сегодня столпник не вызывает даже любопытства, но только вопрос: для чего все это? Святой – это вроде йога, а то и грубее – больной, неадекватный, и в любом случае – существо бесполезное.
Мир десакрализуется на наших глазах, не встречая никакого сопротивления. Раньше священное было знамением, созданным из материи мира сего и отсылающим к “совсем иному”, выражающим это “совсем иное”, свидетельствующим этим знамением о его присутствии. Но разве это “совсем иное” что-нибудь говорит сегодняшнему человеку? Для него трансцендентное ничего уже не трансцендирует, оно утратило всякую связь с действительностью, оно не существует – это факт. И сколь симптоматично здесь частое появление такой формы атеизма как атеизм нормальный и органичным. Далекий от того, чтобы казаться неврозом цивилизации, он кажется скорее выражением некоторого здоровья, психическим состоянием, лишенным всякого метафизического беспокойства, всецело занятым жизнью мира сего, утратившим чувствительность к религиозному. Подобная “профанность”, этакий улыбающийся и лишенный иллюзий скептицизм ничего не побеждает, но и не ставит более ни одного вопроса о Боге. Сегодня быть умным – значит все понимать и ни во что не верить.
В лучшем случае такая позиция вежливо убирает святость в кладовую, подальше от мира людей, что означает, что духовная жизнь совершенно не интересует современного человека; он расценивает ее как предмет бесполезный, лишь обременяющий его, место которому на чердаке истории.
Но это не все: даже, и может быть особенно, в теперешней конформистской среде религиозное вызывает в искренней душе неизменный рефлекс скуки. Это скука обрядов и служб на архаичном языке, скука наивных песнопений, призывная радость которых звучит впустую, скука символики, дезориентирующей своей непроницаемостью, ключ к которой кажется безвозвратно утерянным.
Это также мир клириков в черных одеждах, тоскливых интегристов или прогрессистов в грубых башмаках, честных или смешных; это, кроме того, благочестивый стиль правил и требований, действительно тяжеловесный. Существует также и посредственность “благочестивых”, принимающих себя всерьез, навязывающих свою ментальность, состоящую из душеспасительных разговоров и проповедей, пустые формулы которых растекаются посреди всеобщей инфляции слов… Одомашненная, приспособленная к обществу, демократизированная религиозная жизнь порождает явления самые непривлекательные. Ее интеллектуальное содержание очень неглубоко, на упрощенном уровне устаревших учебников, полных недалеких идей и неприемлемой апологетики. В мировом масштабе это огромное социальное препятствие, способствующее враждебным или безразличным к религии господствующим идеологиям. Однако перед лицом Откровения речь идет не только о человеке, и чудо присущего человеку здравого смысла проявляется постоянно. В свете серьезного анализа быстро становится ясно, что, сближенные присущей им недостаточностью, метафизической скудостью их видения друг друга, устаревшая религиозность и прогрессивная безрелигиозность оказываются сведенными на нет в замкнувшейся в самой себе имманентности.
Часть первая Встреча
I. Атеизм
Своим широким распространением атеизм утверждает себя и добивается всеобщего признания. Он более не является привилегией просвещенного меньшинства, но выражает единую норму для всех слоев общества. Цивилизация сознательно построила себя на отказе от Бога, точнее, на отрицании всякой зависимости от потустороннего. Действительно, наука не нуждается в гипотезе существования Бога. С другой стороны, с точки зрения нравственности, Бог либо не всесилен, поскольку не упраздняет зла, либо, если Он не желает это зло упразднить, – Он не есть любовь.
Построенный на отрицании, атеизм не имеет никакого собственного метафизического содержания, никакой конструктивной философии. Последовательно исповедуемый атеизм остается редкостью, его господствующая демократичная форма – это атеизм практический, бесхребетный, но удобный. Философский же спор имеет место лишь a posteriori, чтобы найти ему оправдание и подтвердить его положения. Его доказательства никогда не бывают действительно рациональны и таковыми просто не могут быть, они оборвались бы на полуслове, поскольку все они эмпирического порядка, преимущественно утилитарные и прагматические. Это объясняет тот факт, что на этом уровне данная проблема просто перестает интересовать человека: ему, озабоченному скорее вопросами политическими и экономическими, такая вещь, как религиозные верования, ничего более не говорит. Подобное отношение усиливается недоверием к философам, часто справедливым, поскольку они предают свою социальную функцию, отрекаясь от нее уходом в скептицизм.
Апостол Павел хорошо понимал, что делал, когда сосредоточил свою проповедь на том, что неизбежно вызывало отчаянное сопротивление рационального ума. Воплощение всегда будет безумием и соблазном для человеческой мысли, которая в своей радикально-исторической критике демифологизирует и различает исторического Иисуса и Христа догматического вероучения. Архаическое состояние учености в прошлые века делает всякого современного ученого недоверчивым и мало склонным принимать во внимание так называемое “откровение”. В отправной точке подразумеваемого события не находят никакой достоверности, да и в любом случае правда, сокрытая в веках, неприемлема для современного актуализма. Приходится выбирать между подлинными фактами и текстами, явно происходящими от мифа. То, что Бог помещается во времени и доверяет Свою истину горстке темных учеников и ненадежной передаче нескольких текстов, написанных двадцать веков назад, – непостижимо и даже оскорбительно. Жизнь Иисуса представляется лишь набором занимательных историй без какой-либо гарантии объективности. Как может случайный факт, едва замеченный историками, достичь сердца рядового человека в ХХ веке? Как может событие, когда-то совершившееся во времени и пространстве, претендовать на вечную ценность, авторитет Бога и универсальную силу спасения для всякого человека? В этом есть что-то крайне несообразное[11], даже невыносимое для критического разума. Конечно, человек Иисус вполне мог существовать в Палестине; неприемлемым представляется не столько Его обожествление учениками, сколько само вочеловечивание Бога. Нравственный идеал, философскую концепцию еще можно в крайнем случае назвать божественными, но философ оспорит диалог между человеком и Богочеловеком и опровергнет Бога, принявшего человеческий облик и говорившего как простой человек. Так истощается авторитет апостольского свидетельства, а с тем и авторитет Слова: из-за недостатка слушающих оно более чем когда-либо – глас вопиющего в исторической пустыне. Как некогда афинские мудрецы, рядовой человек отстраняется от всякого разговора: “Поговорим об этом в другой раз”[12].
Необходимо быть очень внимательным к этой реальной трудности и ясно представлять себе, чего требует от нас вера и каковы причины этого требования. К сожалению, верующие и неверующие совершенно игнорируют друг друга, друг друга не понимают, относятся к различным антропологическим типам. Так, уже для св. Григория Нисского человек, который не движим Духом Святым, представляет какой-то особый человеческий вид.
Верующие простодушно выдвигают в качестве аргументов боязнь Страшного Суда или метафизическую тревогу перед лицом смерти; однако на современном этапе эволюции воскресение мертвых и вся классическая религиозная проблематика даже не задевают сознания обычного атеиста, вырождение продвинулось столь далеко, что даже в подсознании от них не осталось никаких следов. Мы присутствуем при глубокой мутации самой основы человеческого существа.
Важно это понимать, ведь только наличие реальной духовной жизни и дел святости, возвышающихся над аморфной толпой, – вот что всегда будет острой занозой для атеизма, претендующего на систематичность, нравственность и всеобщность. Рано или поздно становятся невозможны как взаимное игнорирование живой веры и воинствующего атеизма, так и их мирное сосуществование. Наступает момент, когда они резко противопоставляются и исключают друг друга. Действительно, уже существует ясный и очевидно действенный подход к проблеме веры: прямая конфронтация, которая ставит атеизм под вопрос и не допускает с его стороны никакого мошенничества, никаких уверток, никакого “спасительного неведения”.
Атеизм объясняется тем простым фактом, что Бог не всем необходим и не для всех Его существование является непосредственной очевидностью. В сознании масс религиозная вера сводится к эксплуатации, отчуждению или компенсации, но стоит перешагнуть через эту чересчур примитивную демагогию – что очень несложно, – как критика упрется в трудность уже настоящую. Речь не идет о людях безразличных, не они нас в данном случае интересуют, самое поразительное – это как раз существование атеизма сознательного, сама таковая возможность. Как же можно быть атеистом?
Своим отрицательным “а” слово “атеизм” отрицает “теизм”, отрицает Бога. Настоящая проблема в том, чтобы показать, как же он может сделать это, и прежде всего уточнить, что же именно он отрицает. Как атеизм научно определяет “комплекс Бога”, прежде чем отрицать его? – вот в чем вопрос. Выясняется, что это всего-навсего отрицание некоего школьного богословия, антропоморфной и человеческой концепции Бога, что нисколько не выходит за рамки человеческого и никак не затрагивает Бога Самого по Себе. С другой стороны, с философской точки зрения невозможно что-либо отрицать, не утверждая иного. Что же конкретно утверждают на месте Бога, отрицая Его? Если это протоплазма, уже чреватая своими будущими пророками, то надо признать, что подобная гипотеза еще более проблематична, чем совершенно простая и честная идея Бога-Творца.
Отрицать и не считаться – это совершенно различные пути рассуждения. Агностик ничего не утверждает и не считается. Отрицать же можно либо доказанные ошибки, либо вещи очевидно невозможные. Так, атеизм настаивает, что Бог очевидно невозможен. Однако наука прививает нам крайнюю осторожность в гипотетических суждениях, и особенно в оценках чего-либо как невозможного. Граница между возможным и невозможным перемещается постоянно, так что уже неизвестно, где же ей быть, и что, если завтрашняя наука покажет, что атеизм есть невозможный обман, бессильное невежество, пережиток сциентистского обскурантизма, худший, нежели пресловутая “темнота” средневековья? [13]
Разумеется, подобное изменение умов – дело не сегодняшнего дня, однако острая нехватка достаточно последовательной и конструктивной атеистической философии уже обязывает академический атеизм в его новых формах занять позицию вообще по ту сторону проблемы Бога. Атеизм возникает уже не в конце рассуждения, но в его начале. Это необоснованный, упрощенный, докритический постулат, заявляющий, что существование Бога больше не является философской проблемой[14].
Упрощенный подобным образом атеизм, проникая в массы, исходит уже не из философских умов и лишается всякой мыслительной разработки. Незаметно он отождествляет себя с исторической ситуацией, становится в ряду политических и экономических условий. Он оспаривает и присваивает себе все усилия в борьбе с голодом, войной, несправедливостью и делает все это тем более легко, что официальная религия, связанная с отжившим строем, разделяет судьбу последнего и просто убирается с дороги.
В конечном счете оспаривается не Сам по Себе Бог: “Оставим небеса священникам и воробьям”, – говорил Гейне; но именно присутствие Его в мире, укорененность в Нем человеческого существа – вот что настойчиво отрицается. Это отрицание облегчается и Самим Богом, Который показывает, но не доказывает Себя. Если же исходить из опыта, то очевидно, что человек может обрести человека, может даже пострадать за него, не вмешивая в это богов; поэтому, хотя бы по видимости, чем больше человек – человек, тем менее он религиозен и тем более он может чувствовать себя единственным творцом своей судьбы и хозяином Истории.
В конце концов атеизм уже не представляется эпифеноменом, случайным побочным продуктом состояния человека, но становится сущностным, как, например, в марксистской доктрине.
Коммунизм существует лишь в перспективе интегрального гуманизма: ведь, согласно его предпосылкам, человек – единственная реальность Истории. Он носит в себе принцип своего собственного генезиса – творение человека человеком. Историю образуют диалектические отношения, отношения воспроизводства человека и превращения природы в человеческую природу. Человек, следовательно, лишь таков, каким произвел себя. От “иметь” (неполнота обладания) он переходит к “быть” (полнота онтологическая), овладевает всем своим бытием, сам себя творит. Уникальный “человеческий разум” направлен на человека, пробуждает влечение одного человека к другому. В кульминационный момент его сознания свобода дешифруется и утверждается как “осознанная необходимость” творения собственной сущности, восхождения к человеку социальному, целостному и универсальному.
Важно понимать, что воинствующий атеизм является именно пред-коммунистическим, так как он строго ограничен собственными положениями. Отрицание Бога, доказательства Его несуществования, философское истолкование противоречий, присущих религиозности, составляют лишь предварительную часть диалектического развития, перед лицом практики все это неизбежно становится сферой абстракции. Человек эпохи воинствующего атеизма, даже исповедующий его наилучшим образом, является еще человеком абстрактным, поскольку критика, даже марксистская, – операция чисто интеллектуальная.
В момент же радикального уничтожения всех форм отчуждения автоматически, без каких-либо серьезных усилий исчезнет и отчуждение религиозное. Абсолютный гуманизм действительно атеистичен, таково реальное положение вещей.
В итоге исторической эволюции не останется места для воинствующего и критического атеизма, поскольку по достижении им своей цели – telos’a[15] – религиозный вопрос существования Бога даже не встанет и, в то же время, теоретический и абстрактный атеизм отживет свой век и минет окончательно. Религия, теизм и атеизм разделят одну судьбу, станут музейными залами. Действительно, в золотом веке акт индивидуального сознания был бы общеродовым и самодостаточным, в нем весь закон рода оказался бы сконцентрированным и полностью присутствующим, вплоть до того, что вопрос о первом предке отпал бы сам собой. Всякий вопрос об истоках заставлет выйти из опыта, возвращает в минувшее рефлективное состояние мысли, вновь ставит человека и материю под вопрос и тем самым лишает полноты их существование, что равносильно признанию их не-существенности. Однако коммунизм – не философский постулат, но акт, завершающий историю. Социалистический человек, его пришествие – вот его единственное доказательство; будучи неопровержимым, оно окажется более чем доказательством – откровением! Поэтому коммунизм начинается после атеизма, он praxis, трансформация мира. Решительное практическое опровержение in actu раз и навсегда знаменует собой начало новой эры.
Отрицание Бога сделало возможным утверждение человека; единожды осуществившись, оно избавляет от необходимости что-либо отрицать или пропагандировать. Психологическое состояние социалистического человека делает ненужным спекулятивный атеизм отрицания, и круг замыкается на человеке, который есть все, на его абсолютизированной, обожествленной сущности. На этом уровне – совсем как Бог, Который не задает вопросов о Себе Самом, – тотальный человек не сможет более задавать вопросов о собственной реальности.
Такой метод – что сразу заметно – является упрощенным, дофилософским. Невидимое трансцендентное объявляется несуществующим, но не непосредственно, а с точки зрения материи, поскольку оно уменьшает реальность материального, его самодостаточность, ускользает от конструктивной объективности сознания. Важно также, что однажды занявший определенные позиции интегральный коммунизм, упразднив критический атеизм, устранил бы и сами условия, дающие к нему доступ, т. е. уничтожил бы всякую возможность проверить собственные основания. Критический атеизм есть всего лишь постулат некой истины, которая его же и уничтожает навсегда. Своим заключительным действием он ликвидирует условия собственной актуализации.
Получается, что до пришествия тотального человека отрицание существования Бога, будучи сугубо прагматичным, оказывается недостаточным, после же такового пришествия оно вообще перестает существовать, т. е. ни в том, ни в другом случае оно не работает как отрицание в собственном смысле слова. Право и факт располагаются в различных плоскостях, разрыв между ними не дает возможности сослаться одному на другое. Такой острый недостаток диалектической связи делает всю марксистскую атеистическую доказательность крайне хрупкой, бессвязной и неустойчивой перед серьезным философским исследованием.
Таким образом, действенный атеизм – уже более чем атеизм, это нечто совсем другое, поскольку он располагается по ту сторону собственно атеизма и его проблематики. Он возможен только для будущего человека, следовательно, его еще нет и не будет до наступления коммунизма, а для некоммуниста он тем более неприемлем. Это чистый фетишизм материи, выводящей из своих глубин человека-бога. Такой взгляд хорошо объясняет, почему в России в современной ситуации остается известное место как для церкви, так и для ядовитой критики религии: для пред-коммунистического периода это закономерно. Мы присутствуем при безнадежной борьбе, из которой критический атеизм может выбраться только путем запланированной им фантастической фабрикации грядущего мифа.
Насколько марксизм силен политически и экономически, настолько он скуден философски. Понятие материи в марксизме не имеет ничего общего с понятием материи в современной физике. Когда Маркс не без некоторого лиризма говорит, что разум есть “круговорот материи”, он извлекает на свет покрытый пылью романтизм. Очевидная интеллектуальная регрессия низводит марксизм до уровня весьма архаичного панкосмического монизма. Действительно, он представляет собой философию, в которой всеобщность материи объясняется через эманацию. Социалистический коллектив – единственная конкретная форма организованного существования; все, что отходит от этой “генеральной линии”, обозначающей контуры социалистической плеромы, – индивидуальность, например, или личность, желающая отделиться, или, что еще хуже, противопоставиться, – ересь и, следовательно, только абстракция. Бог препятствует всякой тотализации, Он не может стать одним из элементов этой системы, и поэтому также оказывается абстракцией par excellence.
Полнота марксизма исключает существование Бога, но претендует на обладание всеми божественными атрибутами. Здесь, в марксизме, парадоксальным образом узнается онтологический аргумент: в предельном состоянии, в состоянии обожествленной протоплазмы, совершенство и существование совпадают.
Этот всеохватывающий характер марксизма делает из него некую ложную религию. Маркс создал миф о коллективном пролетариате-мессии, единственном классе, свободном от первородного греха эксплуатации; своими страданиями этот избранный народ искупает и спасает человечество и ведет его к обетованной земле царства.
Материя достигает вершины в непогрешимом сознании Карла Маркса. Его доктрина – истина непреложная и универсальная, она актуальна как для земли, так и для бесчисленных миров вселенной – материя повсюду одинакова. Невозможно, однако, ответить на вопрос, который ставит марксистская метаморфоза: каким образом материя эволюционирует в сознание, как она становится способной ощущать самое себя и осознавать себя сверхматерией? Какой же она была, та удивительная обезьяна, и что делалось у нее в голове и в ее душе, когда она впервые открыла, что она – человек? [16] Здесь “большее выходит из меньшего”, следствие содержит “что-то”, “неизвестно что”, что не имеет следов в предпосылках, а это свойство чуда. Почему-то материя, наделенная “самодвижением”, причину которого никто не может выяснить, неумолимо направляется не к абсурду, но к логосу сверхматерии.
В порыве самокритики современный коммунизм признает, что пренебрег самим человеком, его одиночеством
– таков излюбленный сюжет современных советских романов. Но, как точно сказал один великий математик, Уайтхед, “Бог – это то, что человек делает из своего одиночества…” и медленно, но верно этого человека потрясает захватывающая мысль: противопоставить себя кому-либо
– значит отдать должное его существованию…
В свете серьезного анализа диалектический материализм оказывается антидиалектическим, реакционным и несовременным, поскольку разрешает проблему Бога, так и не поставив ее должным образом, разрешает ее против человека, против фундаментальной данности его существа. Это фрустрация и отчуждение наоборот. Бог оказывается лишенным человеческого, развоплощенным. Можно спросить себя: что же человек получает взамен и что будет, когда, перевернув фейербаховскую схему, Бог обретет сознание этой своей лишенности и решительно присвоит Себе все человеческое – totus Christus, – и это и будет Судом?
“Дайте человеку этот мир, и потребность в ином отпадет”, – гласит демагогическое требование, используемое атеистом, чтобы распоряжаться этим миром. Практика, подменяя собой истину, делает акцент на эффективности и продуктивности в технических секторах, что объясняет их быстрые успехи, всегда возможные, но всегда временные, держащиеся на “паузах” Истории и на балансе ее неудач.
В советской России Церковь полностью принимает науку и технику, заявляя, что существование Бога и атеистическая мистика не являются вопросами научными. Она возводит в принцип полное согласие религии и науки и принимает без возражений обобществление собственности, заботу о ближнем и мир на земле, поскольку это соответствует евангельской истине. Подобное поведение обезоруживает и дезорганизует критический атеизм, у которого не находится более подходящих аргументов. Иерархи спокойно ссылаются на историю, говоря: “Несмотря на ошибки и поражения христиан, христианство существует и будет существовать всегда, потому что вечность работает на нас, на человека и на время”.
Довольно распространенную форму методологического атеизма представляет сциентизм. Его всеупрощающее видение опасно тем, что может сделать душу стерильной от всякого религиозного плодородия. Современный человек столь постоянно подвергается этой опасности, вытекающей из культурного и технического контекста его жизни, что постепенно оказывается в ее власти, причем бессознательно, – ведь она буквально разлита в воздухе.
Действительно, сектантская, полунаучная ментальность сциентизма равномерно размазана по страницам популярной печати. Сциентизм закрыт для любой идеи, угрожающей его превзойти, для всякой трансцендентности и пытается, не вмешивая никаких богов, дать исчерпывающую картину мира своими методами: образуется вселенная, по мере ее расширения в ней начинает робко развиваться жизнь, и человек – это “существо в становлении”. Все может быть объяснено исходя из начальных данных, и все существующее есть не более чем частичное исполнение возможностей, присущих вещам. Проникая в секреты природы, человек отнюдь не доказывает, что Бога не существует, но просто перестает испытывать в Нем потребность.
Однако несмотря на кажущийся оптимизм, сегодня сциентизм уже обжег себе крылья, так как очень быстро дошел до собственных пределов. Он более не догматичен и не обещает людям никаких “благ”. Показав себя не имеющим ни власти разрешить конфликты, ни силы утешить в страдании или сказать “встань и ходи”, он потерял всю свою привлекательность, так как вместо истины предлагает лишь прагматичные и сиюминутные решения, на краткий миг гипнотизируя толпу блеском технических возможностей. Подобно ученику чародея, он сам оказался во власти этих пресловутых “возможностей, присущих вещам”. Он отнюдь не хозяин будущего, и ему знаком страх перед неизвестностью. Однако с таким деформированным и ограниченным сознанием трудно понять, почему хирург не обнаруживает никаких следов души или спутник не сталкивается с ангелами, ведь то, что душа и ангелы по природе своей суть невидимые духовные реальности, в этом случае просто не приходит на ум. Может ли существо, живущее в трех измерениях, отрицать существование сферы, которая их превосходит и которая действительно является сферой “возможностей, присущих вещам”? Дерзновенный ум математиков, к счастью, свободен от такой ограниченности.
Причинное видение представляет внутреннее содержание бытия перенесенным на его внешность и, таким образом, не признает нередуцируемую новизну духовного делания. Однако даже марксистская диалектика превосходит упрощенную причинность и показывает взаимную зависимость человеческого сознания и истории: в ней одно действует на другое, и реакции здесь никогда не бывают пассивными. К этому видению присоединяется глубинный психоанализ, показывающий, что биопсихологическое есть не только продукт действующих факторов, но реакция и творческое выражение человека: наряду с причинностью существует все же и внутренний динамизм, конечная цель, искомая разумом, сознательная и духовная направленность. Ко всякому “чем” добавляется “для”, ко всякому утверждению типа “это есть то-то” добавляется: “это есть то-то и более того”: так, статуя – лишь мрамор, но еще – гармония и красота; человеческое существо – лишь биохимический процесс, но также – дух и дитя Божие, т. е. к причине всегда присоединяется мотивация. Причинное видение объясняет человека как продукт био-психо-социологических структур, но эти элементы всегда амбивалентны, они не только объясняют, но и выражают человека, говорят о стремлениях и замыслах, превосходящих его и трансцендирующих сциентистский подход.
Сегодняшняя наука уже не сводит высшее к низшему, но признает ступенчатые структуры, уровни, различные планы. Когда же феноменология склоняется к утверждению непрерывности всех этих планов, смешанных и сводимых один к другому, когда она утверждает “это то-то и только оно”, то выходит за рамки описательного метода и переходит уже к онтологии чистой случайности и закрытого в своей завершенности мира. Радикальное же различие порядков в паскалевском смысле слова[17] остается непоколебимой очевидностью. Материализм не может в понятии материи найти достаточной причины для отрицания Бога и трансцендентного, но и обратное не менее верно: не на материи и верующий основывает свою веру в Бога. Высшее – иной природы, оно радикально нередуцируемо, а потому ни один научный метод, даже материализм, не может себя ему противопоставить и оставляет, таким образом, метафизический план совершенно открытым.
Настоящая наука достаточно трезво и честно оценивает себя и открыто признает, что она лишь гипотеза, дающая удовлетворительную интерпретацию известным фактам, причем интерпретацию временную, постоянно пересматриваемую. Научный рационализм, исходящий лишь из имманентных процессов, никогда не бывает ни достаточным, ни окончательным, у ученого-атеиста к обычным возражениям против религиозной веры всегда примешиваются эмоции; пресловутая “объективность” ученого – миф, у него есть свои человеческие реакции, и его позиция может свестись к простому агностицизму. Наука совершенно не влияет ни на доводы сердца, ни на метафизический выбор.
Ученого же такого класса, как Эйнштейн, изучение жизни наводит на неизбежную мысль о порядке. “В науке я никогда не встречал чего-либо, что я мог бы противопоставить религии”, – говорил он. Настоящая наука смиренна, она знает, что всякое ее объяснение лишь отодвигает действительную трудность. “Самая большая тайна заключается в самой возможности существования хоть толики науки”[18]. Сама наука в целом – великая тайна. “Величайшее чувство, которое мы можем испытывать, это чувство мистическое. Вот зародыш всякой подлинной науки”[19]. Лавелль говорит о “тотальном присутствии”[20], побуждающем к молитвенному отношению, и у Рене ле Сенна философское размышление переходит в молитву[21].
Пресловутый присущий ученым атеизм ex officio окончательно вышел из моды. Разум, чем более он научен, тем более противится абсурду и полагает в мире наличие смысла, даже если и не может научно его сформулировать. Сохраняя глубокое уважение к тайне, он передает эту задачу в другую компетенцию; приведем еще раз слова Эйнштейна: “Самая непостижимая вещь в мире – это то, что мир можно постигать”. То, чем разум овладевает, никогда и не могло бы быть Богом, самое большее – отпечатком Его славы, сверкающим следом Его Премудрости. Разум может лишь обнаружить невещественные составляющие тайны, но не может объяснить их. Где ресурсы разума исчерпаны и в самое сердце бытия пущена его последняя стрела – миф, там высвечивается тайна[22], которая, не позволяя постичь своего существа, может возбудить предчувствие чего-то необычайно важного. Тайна не есть то, что мы вмещаем, но то, что вмещает нас.
Что касается экзистенциальной философии, то она представляется скорее ностальгической, нежели агрессивной. Ее пессимизм вылядит хорошо продуманным. Один из афоризмов Хайдеггера открывает долю мужественности в безнадежном отчаянии: “Человек есть бессильный бог”.
Все это, безусловно, восходит к Кьеркегору, к его неистовой реакции против гегельянской рационализации действительности. Панлогическая спекуляция не вносит строя в действительность, не приносит спасения, поэтому гений Кьеркегора и концентрирует свою мысль, очень индивидуальную и максимально конкретную, на вопросе религиозном: что я должен сделать из самого себя, иными словами: как мне спастись? Предпринятый им опыт самопознания – один из самых проницательных, он предвосхищает глубинную психологию. В тайниках души он открывает страх и априорное чувство вины, которые как бы расщепляют человека и вселяют в него ад, – именно в этих глубинах зарождается жажда спасения. Единственная альтернатива ставит человека перед выбором между ничто и абсолютом и предлагает ему подвиг веры, созерцающей Христа, сделавшегося современником всякой души; ускользнуть же в идеалистическую метафизику – значит, напротив, скрыться от суда Божия.
Человеческий разум может работать лишь между началом и концом, ведь только между ними он и расположен, вот почему эта промежуточная сфера имманентного не имеет онтологического основания. Только страх перед ничто может заставить имманентность прорваться и вывести к “совершенно иному” религиозного опыта. И поскольку оно “иное”, оно требует распинания рационального ума и призывает к “распятому суждению”. Случай с Авраамом иллюстрирует трансцендентность этики безумием Креста. С тех пор единственным подлинным доказательством Истины является мученик. Человек сам по себе – не более чем переход-пасха. Пасхальное же восстание – переход – превращает transitus в transcensus[23], здесь сама смерть обретает смысл как христианская; она более не непрошеная гостья, отныне она переживается как великое посвящение в тайну вечности.
Однако диалектическое богословие, богословие Креста еще не есть богословие Парусии – Бог Кьеркегора, как и Бог Карла Ясперса, остается Богом абсолютно трансцендентным. Человек здесь – не в Боге, и Бог – не в нем, человек находится лишь перед Богом, его не покидает трагическая жажда, ему еще не знакома тайна имманентности Бога и мистический брак всякой души с Богом. Кьеркегор не знал, что, сочетаясь с Региной Ольсен, его душа могла сочетаться со Христом.
Хайдеггер вновь обращается к формуле “Человек есть экзистирующее я”. Существование предшествует сущности, это значит, что человек создает самого себя, никакая сущность не определяет его участи, вплоть до того, что человек не имеет природы, но имеет Историю.
Брошенный в со-бытие с другими, постоянно находясь “в ситуации”, рядовой человек фатально не сопротивляется миру. Заботы, эта непреложная основа жизни, рассеивают его внимание, направляют его на “не-бытие” и затемняют бытие реальное; отчужденный от самого себя, человек теряет свое настоящее “я” и соскальзывает в анонимного и безличного “некто”, das Man. Построенный из забот мир иллюзорен, призрачен и обманчив, поскольку заботы заставляют забыть о реальном: о “я” и его свободе. Вот почему “я” – и в этом вся трагедия человека – действительно высвобождается только на фоне Ничто, этом грубом полотне, на которое проецируется неизбежный опыт смерти.
Одни только Ничто и Свобода не обусловлены причинами и основаниями, неограниченны, а потому соотносимы и родственны. Действительно, единственное ограничение свободы – ничто, она обнаруживает свои границы только в чувстве смерти, по существу конкретном, личном, неизбежном. Только такое трансцендирование забот к смерти дарит опыт абсолютной свободы[24]. Более того – и это весьма существенно – сознание смерти вызывает решимость реализовать все свои возможности свободы и принять на себя, таким образом, полную ответственность за “я” перед лицом своей судьбы.
Метафизическое чувство, порождаемое страхом смерти, дает опыт конечности временного бытия, но обнажает и то, что оно, будучи основанным на заботах, есть очевидное не-бытие. Становится понятным фундаментальный тезис Хайдеггера, сведенный к знаменитой формуле Freiheit zum Tode, свобода к смерти, – ее трагическое величие открывает человеку его “бытие к смерти”, Sein zum Tode.
Этическая задача заключается в том, чтобы трансцендировать мир забот в подвиг свободы, ответственной за судьбу. Она очевидно родственна стоической этике: бессильный смертный объявляет себя богом. Неответственный за свое вынужденное бытие, он принимает свою свободу суждений, и тем самым – свою участь, каков бы ни был конечный результат. Он накладывает на себя обязанность суждения, его свобода, таким образом, не совсем чистый произвол, однако он остается бессильным судьей по недостатку объективного критерия суждения – т. е. аксиологии ценностей по отношению к Абсолюту. Не это ли кающийся судья Камю?
Только крайний субъективизм, глубокий, серьезный и истинно трагичный, может обусловить подобное видение. Философия ничто – это богословие без Бога, место Бога отдано Ничто, а свойство Ничто – ничтожить. Однако этот безысходный тупик может оказаться спасительным. Никогда Хайдеггер не напишет второго тома Бытия и Времени – Sein und Zeit, – поскольку он уже отмечает, что его философия – не объяснение, но описание, не отрицание Бога, но некое Его ожидание…[25]
Сартр развивает тезисы Хайдеггера. Его экзистенциальный психоанализ создает мифологию бытия-в-себе и бытия-для-себя, бытия и ничто. Взгляд усложняется, поскольку бытие раздвоено, и ничто разнообразно. Бытие-в-себе несовместимо с бытием-для-себя, каждое из них утверждает себя, и они взаимно разрушают друг друга. Союз этих реальностей, т. е. соединение в одно сущности и существования, объявлен невозможным – таким образом радикально отрицается идея Бога, ведь Он и есть такое соединение.
Бытие-для-себя (сознание, идеализм) – динамичное и изменчивое в выборе путей, представляется как прореха в статичном бытии-в-себе (бытие, реализм). Самополагание есть отвержение непреложного порядка, отвержение, прежде всего, своей заданности. Утверждая свою свободу как независимость от мира, от бытия-в-себе, бытие-для-себя предается отрицанию, неустанно уничтожает и таким образом увеличивает прореху не-бытия в статичном бытии-в-себе, ставит его на границу с ничто.
Отрицание начала и конца, из которых только и возможен выход в трансцендентное, делает свободу трагичной, располагает ее вне прощения, возможного в начале, и оправдания, возможного в конце. Становится неизбежным конфликт между давящим существованием мира, лишенного смысла, где всякая ценность непоправимо фальшива, и человеческим разумом, исполненным потребностью в смысле. Человеку остается только свобода отрицать мир, который отрицает человека.
Человек ужасающе одинок в своей страшной и абсолютной свободе, за которую он, однако, как пишет Хайдеггер, чувствует свою полную ответственность. Делая, таким образом, из свободы форму истины (тогда как она является лишь ее условием), экзистенциализм логически приходит к утверждению: “человек приговорен к свободе”. Приговорен, поскольку не является творцом своего бытия, и свободен, поскольку полностью ответственен. Сартр определенно принадлежит к великой французской школе моралистов.
Анализ человеческих отношений показывает, что они поражены неискренностью: так, “бытие-для-себя” пытается трансформировать другое “бытие-для-себя” в “бытие-в-себе”, сделать из субъекта объект. В конце концов, оно рискует само трансформироваться в статичное “бытие-в-себе”, застывшее в собственных воспоминаниях или планах. Либо мы завладеваем другим, либо мы сами оказываемся в его власти. Наше отношение к другому – всегда ложь, и потому другие – настоящий ад для “я”.
Если марксизм – философия всеобщего, то экзистенциализм Сартра, напротив, есть философия того, что не может быть сделано всеобщим. Здесь всеобщее есть выражение предельной абстракции, конкретное же – индивидуально. Его реальность является только в свете разрыва, разлома, прерывистости, свободной воли, абсурда. Понятно, что всякая идея Бога – Того, Кто покрывает все разрывы, претворяет множественность в единство и утверждает Смысл, обесценила бы трагедию существования, упразднила бы одиночество, ограничила произвол и уменьшила автономное значение абсолютной ответственности.
Надо быть очень внимательным к этому экзистенциальному вопрошанию, философски очень значимому. Оно ниспровергает ханжеский оптимизм религиозных философий, в которых зло служит добру и таким образом перестает существовать как зло, делая необъяснимой смерть Бога на Кресте. Действительно, для Сартра Бог уменьшал бы радикализм зла, несчастья, виновности. В этом можно узнать кантианство, ставшее религией, но утратившее постулат практического разума, кантианство без Бога. Кантианский ригоризм достигает здесь своего пароксизма: Бог противоречит абсолюту этической требовательности, и именно этот абсолютный характер требует этики без Абсолюта. Самое парадоксальное здесь то, что отчаяние в своей предельной точке поневоле соотносит себя с тем самым Абсолютом, который объявлен невозможным. Молча (чтобы спасти свое величие), экзистенция содействует ценности, онтологический аргумент отрицается, но от этого становится лишь более отчетливым. Именно отсутствие Бога в конечном счете делает мир абсурдным и безнадежным, следовательно, оно одно оправдывает крайние позиции экзистенциализма. Не существует, конечно же, никакого ответа на вопрос о таком положении вещей, не существует даже и вопроса, поскольку в этом мире без конечной цели не существует “судьи”. Тем не менее, пусть и в отрицании, Бог служит здесь ориентиром: все мыслится в связи с отсутствием божественного смысла. Достоевский показал, что предельное страдание переходит в самолюбование в страдании и что из этого состояния нет более выхода: наслаждение страданием уничтожает всякую возможность его трансцендировать.
Чем человек свободнее, тем более он одинок и чужд миру. В разряженном воздухе вершин дело постоянного самоутверждения, самовымысла, полагания себя возвышается над страхом и отчаянием – но дает ли оно право на произвол, и если Бога нет, то все ли позволено? Для Сартра, несомненно знакомого со страшным вопросом Достоевского, достаточным доводом для того, чтобы не совершать злодеяний, является абсолютность свободы, ибо она родственна ценностям, даже если таковые случайны и искусственны. Т. е. событие одной стороной соприкасается с жизнью других. Когда человек полагает себя, он со-полагает вместе и других. Быть свободным и оставаться честным и искренним – значит утверждаться нравственно, иметь чистую совесть. Преступник, напротив, нарушает целостность своего бытия и своего выбора – его совесть нечиста.
Существование “в ситуации” включается в историю, и именно марксизм в своей теории социальной эволюции наделяет историю смыслом. Вот где Сартр станет искать возможное человеческое общение. Как ни странно, бездна свободы вызывает головокружение, отвращение, тошноту. Можно сказать, что за самозванство надо платить, – это так удачно предвидел Достоевский: он говорил, что человек никогда не сможет вынести ига свободы, и именно марксизм представляет максимальные возможности для того, чтобы избавиться от этого царского дара. Сартр признается: “Я ни к чему не прихожу, моя мысль не позволяет мне создать что-либо, итак, нет иного выхода, кроме марксизма” (“Критика диалектического разума”). Остается, однако, неразрешимое противоречие: марксизм преувеличивает значение материи, чтобы сделать ее творческой, экзистенциализм же, напротив, ослепляет ее, предпочитая бороться против нее и держать человека в поражении.
Ницше и затем Сартр возвещают о смерти Противника, так и не сумев ни разу окончательно Его изгнать. Их постоянно преследует Его тень, ведь оборотная сторона Бога явно присутствует во всякой мысли о человеке. Стремительный прорыв человека к сверхчеловеку споткнулся о бессилие, закончился провалом. Фрейд открывает таинственную изначальную вину: “убийство Отца”; человек, совершающий его, уже не может справиться с угрызениями совести, здесь берет начало коллективный невроз. Глубокий пессимизм последних произведений Фрейда обусловлен его запоздалой проницательностью. Его утопия человеческого счастья рухнула, и его безропотность горька. С другой стороны, сверхчеловек не удался, и совершенный атеизм гуманистов обречен на неудачу.
Мальро в “Метаморфозе богов” признает: чтобы обрести себя и взяться за собственное обожествление, человек должен победить неотвязный комплекс Абсолюта. Способен ли он на это? Фрейд как психотерапевт отвечает отрицательно. Хотя у Сартра человек и убивает Бога, чтобы иметь возможность сказать: “Я есмь – значит, Бог не существует”, но даже для Сартра эта власть свободы являет свою пустоту и тщету ничто. Наиболее последовательна этика А. Жида, единственный ее принцип – идти до конца самого себя, честно держаться тех правил, которые каждый устанавливает для себя по собственному произволению.
Однако безнаказанность, которой наслаждается всякий атеист в течение своего земного существования, – еще не последнее слово, ведь смерть ревниво оберегает свою тайну. Бес рассказывает Ивану Карамазову историю просвещенного атеиста: после смерти тот обнаруживает, что реальность отличается от его прогрессивных идей. “Я ее не приемлю, – восклицает он, – так как она противоречит моим убеждениям”, и ложится поперек дороги. Он приговаривается идти до тех пор, пока его часы не разложатся на составные элементы.
Отвечая Сартру, Мерло-Понти сказал: человек не приговорен к свободе, он приговорен к смыслу, иначе говоря, – он призван раскрыть смысл существования, прежде всего, смысл самой свободы[26].
Следует признать значение экзистенциализма, сконцентрировавшего всю свою рефлексию на свободе. Свобода – основополагающая очевидность для человеческого ума, она составляет условие творческой деятельности человека. Но в этом значении она не может происходить из мира, из его системы зависимости и принуждения, иначе как противореча сама себе. Очевидно поэтому, что свобода трансцендентна миру, она берет начало где-то в другом месте, предлагается как царский дар. Поэтому в глубокой философии Карла Ясперса она ясно указывает на Подателя, убедительно свидетельствует о существовании Бога. Заслуга Ясперса в том, что в человеческой свободе он увидел доказательство бытия Божия. Здесь мы открываем родину свободы, ту область, куда она уходит своими корнями и тем самым выводит к Богу. Именно Бог вдохновляет быть подлинно свободным, это и делает свободу отличной от всех отношений зависимости типа кантианской теономии. Бог создал “вторую свободу”; на этот дар Бога человек отвечает принесением в дар самого себя, он умирает и воскресает в согласии двух свобод, в этом опыте узнавая и обретая смысл собственного существования. Свобода никогда не является объектом для человека, она даже не действие, но скорее – творческий ответ Подателю, ответ на Его приглашение встать в свободу служения и свидетельства о небесных началах человеческого существа.
Остается еще одна довольно распространенная форма атеизма – психологизм. Подобным образом ориентированное сознание пытается во всех религиозных чувствах видеть лишь функцию психики, субъективную психологическую данность; оно сводит религию либо к продуцирующей причинности намерений, либо к сублимации инстинкта. Всякое проявление человека действительно возвращает нас к нашей настоящей реальности, но в то же время и расширяет ее, ведет к тому, что заставляет нас полнее стать самими собой; оно прорывает порочный круг имманентности и отсылает к трансцендентному. И здесь решающую роль играют глубинная психология и гений Юнга. Юнг прекрасно показал, что религиозный символ есть свидетельство реальности одновременно внутричеловеческой и транс-человеческой. Даже в клинических случаях символ носит транс-субъективные архетипические черты. Наряду с последовательностью причинно-следственных связей, суждение об истине всегда принимает в расчет и уровень смысла. Болезни происходят от навязанных смыслов, которые человек терпит, но не приемлет. В нормальном же случае человек должен свободно открывать, что он есть, себя осмысливать. Поэтому, по Юнгу, основная проблема всех больных – религиозное отношение: “Все стали больны через утрату того, что живые религии всегда давали верующим”[27]. Юнг утверждает: всякая жизнь несомненно имеет смысл, и задача врача – привести пациента к этому открытию, а такое открытие включает свободное принятие религиозного сознания. “Кто проходит через это, может уверенно сказать: это была Божья благодать”. – “Испытавший ее обладает неоценимым сокровищем, это источник, наделяющий жизнь смыслом”[28].
Возможно, что современный атеизм – провиденциальное и неотложное требование очистить идею Бога, уйти от всякого школьного богословия и поднять диалог на библейский и патристический уровень. И здесь наследие Юнга обретает весь свой размах и все свое значение. Будущее зависит от духовного транс-субъективного содержания человеческой души: с чем и в чем человек воплотит свою судьбу. Четверичность, о которой говорит Юнг, есть приложение халкидонского догмата (“неслиянно и нераздельно”) к таинству восьмого дня, к апокатастасису, к воссозданию всей твари. Единосущее всего творения противостоит фрагментарности. Святые и мученики у престола Агнца ожидают конечного претворения неподобия в подобие. Христос – настаивает Ориген – ожидает, чтобы Его Слава воссияла в полноте Его Тела[29]. Хотя это продолжает оставаться тайной, ясно, что расколоть адскую монаду изнутри способна одна только любовь, но для этого она должна вслед за Христом сойти в этот ад.
Об этом же говорит нам Юнг, но как психолог[30]. Это его последнее слово, его завещание. Тут он возвышается над наукой, преодолевает психологизм и достигает значения пророка последних времен. Его устами Иов передает нам полученный им, наконец, ответ. Верующим и атеистам, друзьям Иова – быть внимательными.
По причине отсутствия положительного содержания все формы атеизма ведут к систематическому заблуждению. Существование Зла – вот что мешает атеизму стать решением проблемы. Иррациональный характер страдания и смерти повергает разум ниц, обнаруживает его несостоятельность. Безразличная к добру и злу, а следовательно, и к человеку с его судьбой, природа разрушает его своей абсурдностью. Единственный эффективный выход заключался бы в незнании свободы – только в этом случае зло и страдание были бы упразднены, поскольку этим упразднялось бы и сознание. Марионетка не имеет права на трагические рыдания. Но всякая безропотность воспринимается как невыносимый отказ от человека.
О. Валенсин в своем рассуждении доходит до предела: если (допуская невозможное) станет очевидно, что Бога нет, “я бы подумал, что доставлю себе честь, веруя в Него. Если вселенная – это что-то идиотическое и ничтожное, то тем хуже для Него; это не я неправ, думая, что Бог есть, но Бог неправ, что не существует”. На такой степени благородства для человека отсутствие Бога бесконечно важнее присутствия мира, т. е. подобное отсутствие просто немыслимо. И это отнюдь не пустой звук, не способ избавиться от страха, не пари Паскаля, это очевидность для всякого адекватного рассуждения. Зло заставило споткнуться еврейское богословие: Христос не упразднил зла, значит, Он не настоящий Мессия. У атеизма тот же самый аргумент: Христос не установил Царства Божия на земле. Н о Евангелие никогда и не обещало никакого земного материального блага. Оно глубоко пессимистично в том, что касается истории, ибо свобода, если она реальна, также служит ко злу. Освобождение, о котором говорит Евангелие, вовсе не механическое разрушение зла – это исцеление, и Христос “смертью смерть попрал”. До тех пор, пока последнее человеческое существо не примет добровольного участия в этой победе, зло будет продолжать определять историю. Бог может встать на наше место, чтобы пострадать и умереть, но Он не может сделать за нас наших дел свободы, выбора, любви. Свобода освобождает только того, кто этого хочет. Поэтому тот, кто жаждет небытия, получит его по-своему, хотя бы на краткий миг. Никакая человеческая жажда не сравнится с Божьей жаждой свободы для человека, она создает ад Бога, прежде чем создаст ад человека, и потому Бог в него сходит.
Христианская позиция в этом вопросе решительна. Апологетический прагматизм, затрагивая проблему зла, рассматривает его не само по себе, но в качестве неизбежного составляющего мира. Зло обладает поразительной силой, оно заставляет Бога выйти из безмолвия и пройти через смерть и воскресение, но существование зла есть также самое блестящее доказательство существования Бога. Мир, убивающий правого и невинного Сократа, требует иного мира, невыразимо свидетельствует о существовании мира над ним, где Сократ появляется вновь, а воскресший Христос распахивает вечность[31]. “Атеизм придает разуму силу, но только до некоторой степени”, – заметил Паскаль[32]. Никакое отрицание Бога не попадает в цель, поскольку находится вне Бога, это просто отрицание ложного бога или абстрактной концепции Бога. Бога нельзя выдумать, как вообще невозможно идти к Богу, если это не исходит от н его. Онтическая истина предваряет всякую ноэтическую истину и предстает в виде очевидности опыта.
Ошибка любой критики онтологического аргумента в том, что она пытается видеть в нем дедукцию бытия из содержания мысли, но св. Ансельм никогда так не думал. Речь, скорее, идет об интуиции, угадывающей невозможность мыслить какое-либо содержание как имеющееся только в сознании.
Идея Абсолюта неотчуждаема. Всякая философская мысль имеет в виду Абсолют, рассуждает в связи с Абсолютом, Бог мыслит Себя Богом. Если человек мыслит Бога, то он уже оказывается внутри божественной мысли о Боге, внутри очевидности, какую Бог имеет относительно Себя Самого. Содержание мысли о Боге – уже не просто помысленное содержание. Во всякой мысли о Боге Сам Бог мыслит себя в человеческом разуме и непосредственно составляет опыт Своего Присутствия[33]. Человек еще ничего не может сказать о Боге, но уже может Его призвать и броситься в Его близость.
Между невозможностью отрицать и невозможностью доказать находится этот неопровержимый опыт, его неколебимая очевидность. Если всякая мысль всегда соотносится с Богом, имеет Его в виду, то всякая мысль о существовании, становящаяся аргументом, утверждает существование Бога. Как говорил Пеги: “Чтобы не верить, надо совершить над собой насилие…”[34] Скрытый смысл онтологического аргумента[35] мог бы успешно наметить путь к Богу для всякого современного человека.
Возможно, мир сейчас как никогда близок к религиозной вере. наука ей более не противоречит, атеизм не в силах выдвинуть ни одного серьезного аргумента. Но существует все же серьезное препятствие, исходящее уже из самого христианства. Это скрытый атеизм рядовых верующих, усыпленных бездарным спокойствием их чистой совести, делающим ненужным обращение сердца. Такой неприемлемый в наше время способ жить абстрактной, бездейственной верой оскверняет имя Божье. Об этом хорошо говорит одна мишна: “Вы поступаете так, как если бы Я не существовал”. Для Жана Ростана ностальгия неверующего по Богу бесконечно глубже всякого “удовлетворения” верующего. Настало время христианам перестать быть верующими с той же легкостью, с каким трудом атеисты безбожны.
На пороге веры начальная свежесть таких слов как: “Вот, Я предлагаю тебе жизнь и смерть, выбирай…” (Втор 30:15–19), побуждает к крайней серьезности, ведь речь идет о выборе своей судьбы. На противоположном полюсе по отношению к “нет”, порождающему хаотические скопления и адские разделения, расположено безусловное “да”, все претворяющее в бесконечность согласий. Апостол Павел говорит об этом: “В Боге все только «да»” (2 Кор 1:20). В этом “да” – кульминация доверия, отвечающего на доверие Создателя, и со времени Пятидесятницы оно стоит в повестке последнего дня. Евангелие предупреждает нас, что на циферблате ангелов истории час мессианского обновления может пробить в самый непредвиденный момент. Чтобы его услышать, и особенно, чтобы чувствовать внутреннюю поступь истории, надо достичь того уровня углубленности и тишины, когда, по Кьеркегору, “человек не имеет ни глаз, ни ушей”. Вот почему Евангелие постоянно возвращается к этому предостережению: “Имеющий уши да слышит”.
Симона Вейль заметила, что существует два вида атеизма, один из которых есть очищение идеи Бога. В некотором смысле это даже благодать. Церковь призвана “показать” людям истинного Бога. Она может начать “экуменический” диалог с атеистом, поскольку атеизм – определенно христианская ересь, которая, однако, никогда еще не приближалась к вере в ее сути. Вера есть Божий Дар, ее реальность таинственна и потому не может быть оспорена, но ее исторические проявления и сами верующие – вот что стоит под вопросом.
Если эмпирические условия способствуют неверию, то потому, что наша эпоха провозглашает повзросление человека, который более не потерпит никакой отставки или опеки над ним. В этом есть очевидный положительный момент, и к нему следует отнестись всерьез: это отказ от всякого признания Бога, которое не являлось бы одновременно признанием человека. Такой атеизм обязывает христиан исправить вопиющие ошибки прошлого и признать одновременно с Богом и человека, показать в Боге эпифанию человека. Вера Авраама исповедует: Богу все возможно; христианская вера предполагает также, что все возможно человеку.
Для апостолов и святых общение с Богом всегда было неотделимо от общения с человеком. В современном диалоге атеистов и христиан марксистскому атеизму солидарности должен отвечать человек церковной общины, а экзистенциалистскому атеизму одиночества – монах.
Необходимо как можно скорее очистить евангельскую весть от всякого отжившего исторического и социального контекста. Как говорит Симона Вейль, наша эпоха нуждается в “святости, которая была бы гениальна”.
Было бы грубой ошибкой наделить наш век отрицательным значением. Человек растет с ростом своих потребностей, и религиозная идея углубляется в той же мере. История движется к конечному вопрошанию о Боге и о человеке, которые неразделимы в тайне божественной Любви. Напряжение может привести к апокалиптическому взрыву. В худшем случае это будет маранафа и страшная молитва агонизирующих, так что камни возопиют как аккорд, вторящий последним мученикам.
II. Вера
Вера в самой себе уже несет препятствие, вытекающее из загадочности ее природы и вполне соответствующее ее величию: “Бог на небе, а люди на земле” (Еккл 5:2). Это расстояние непреодолимо, что и заставило когда-то Исаию так по-человечески воскликнуть: “О если бы Ты расторг небеса и сошел!” (Ис 64:1).
Оптимизм наших песнопений, зачастую не вполне естественный, не избавляет нас от этого потаенного чувства отсутствия, в котором нам страшно признаться.
Каким же образом от абстрактного, отвлеченного, катехизисного знания перейти к личной встрече, к живому общению? Как присутствие Божие может войти в жизнь людей? “Почему Бог делает веру такой трудной?” – спрашивает себя человек, находящийся во власти сомнений. Да, Воскресение ознаменовало вступление в “день восьмой”, но ведь внешне ничего не изменилось, новый мир включает в себя ветхий, и восьмой день существует лишь в семи остальных. Апостол Петр был знаком с этим скептическим и насмешливым духом, вопрошающим: “Где обещание пришествия Его? Ибо с тех пор, как умерли отцы, все остается так от начала создания” (2 Петр 3:4). Точно так же и иудеи хотели получить определенный, без каких-либо двусмысленностей, ответ: “Скажи, Ты ли Христос?” (Мф 26:13); они даже требовали более надежной гарантии: “Покажи нам Отца, и этого нам довольно” (Ин 14:8). Разумеется, подобного доказательства было бы более чем достаточно, но доказательства оскорбляют истину[36], и потому ответ Господа был незамедлителен и столь категоричен: “Почему род этот требует знамения? Истинно говорю вам, не будет дано роду этому знамения” (Мк 8:12).
Бог пришел, но оказывается, Он не хочет, чтобы люди заметили Его божественность. В тех редких случаях, когда Иисус совершает чудеса, Он говорит: “Иди и никому не говори”. Паскаль замечает: “Откровение означает откинутый покров, Воплощение же еще более скрывает лицо Божие”[37]. Бог скрывается даже в самом Своем явлении, и в этом – великая тайна сокровенного Бога.
Претензии разума ставят свои условия даже в тот момент, когда уже “Совершилось!”: “Если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с Креста, – и уверуем в Него” (Мф 27:42). Бог отвечает молчанием, но для того, кто умеет слушать, именно в этом молчании “Он признается в любви к человеку”[38]. Это то “божественное безумие”, о котором говорит апостол Павел, – непостижимое уважение Бога к нашей свободе.
Всякое принудительное доказательство насилует человеческое сознание, подменяет веру простым знанием. Вот почему Бог ограничивает свое всемогущество, заключает себя в молчании страдающей любви, лишает всякого знамения, отказывается от всякого чуда, бросает тень на сияние Своего Лица. Именно на этот кеносис Бога и дает ответ сама сущность веры. Она хранит и всегда будет хранить то, что в ней есть сумеречного, распинающий мрак, простор, достаточный для того, чтобы сохранить свободу, чтобы сохранить возможность сказать в любой момент “нет” и сделать этот отказ своим фундаментом. Именно потому, что человек имеет возможность сказать “нет”, его “да” может достичь полного резонанса и его доверие оказывается не просто в согласии, но на том же головокружительном уровне свободного творчества, что и Доверие Бога.
Вера есть диалог, но голос Бога – почти тишина. Его воздействие необычайно деликатно и никогда не бывает непреодолимым. Бог не отдает приказаний, Он обращается с предложениями: “Слушай, Израиль” (Втор 4:1) или: “Если хочешь быть совершенным…” (Мф 19:21). На приказ тирана отвечает глухое сопротивление, на приглашение хозяина Пира отвечает радостное согласие “имеющего уши слышать”, который сам делает себя избранным, протягивая руку за предложенным даром.
Неизъяснимость “страждущего Бога”[39] являет себя и на уровне более глубоком, нежели божественное целомудрие по отношению к свободе – в “Агнце, закланном от сотворения мира” (Откр 13:8). Создавая “вторую свободу”, Бог дает нам возможность ответить взаимностью. Отец – отец, не навязывающий своего отцовства; Он предлагает Себя в Сыне, и всякий человек – сын Божий: “Я сказал, вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы” (Ин 10:34, Пс 81:6); “боги” – при условии, что признаете себя сынами во Христе и скажете в Духе: “Авва, Отче!” Раскрываясь, свобода сынов оказывается совпадающей с Даром Отца, который есть Дух Святой.
И потому Бог соглашается быть неузнанным, непринятым, отвергнутым, покинутым Своим собственным творением. На Кресте Бог вопреки Богу принял сторону человека.
Христианин – человек ничтожный, но он знает, что есть Кто-то еще ничтожнее – Нищий, просящий любви у дверей сердца: “Вот, Я стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, Я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною” (Откр 3:20). Сын пришел на землю, чтобы возлечь за столом с грешниками.
От начала времен Бог думает только о спасении человека, и человек должен оставить эту заботу Богу, даже забыть о ней и не искать этого поверх всего остального. Он должен думать о спасении божественной Любви, ибо Бог, неизвестно почему, возлюбил первым.
Положение Бога станет яснее, если понять главную тайну любви: любовь всегда взаимна. Любовь возможна лишь потому, что она – чудо, потому, что она всегда вызывает взаимность, даже если эта взаимность бессознательна, подавлена или извращена. Поэтому всякая настоящая любовь есть любовь крестная, она порождает дар, тождественный ее собственному величию, дар царский, ибо – добровольный. В ожидании достойного ее отклика любовь может лишь страдать и быть чистой жертвой, вплоть до смерти и сошествия во ад.
Иаков Серугский, сирийский автор, возводит человеческую любовь на уровень Христа: “Какой жених, – спрашивает он, – умер когда-либо за свою невесту и какая невеста когда-нибудь выбрала в супруги распятого? Господь обручил себе Церковь, положил ей приданое в Собственной Крови и выковал ей кольцо из гвоздей Своего Креста” [40].
Грех человека не в непослушании – оно лишь его неизбежное следствие. Грех – в непринятии дара общения, в отказе от свободы и отречении от сыновней любви. Бог умирает, чтобы человек жил в Нем. “И уже не я живу, но живет во мне Христос” (Гал 2:20), – апостол Павел умирает, и Христос живет в нем, и в этом полнота меры возраста личности Павла, его вхождение в брачную Плерому.
Наука навязывает свое представление о вещах видимых, поддающихся проверке, и заставляет меня его принимать. Я не могу отрицать существование дождевого червя или вируса, но могу отрицать существование Бога. Потому что “вера, – согласно апостолу Павлу, – есть уверенность в вещах невидимых” (Евр 11:1). Она превосходит порядок необходимости. “Блаженны не видевшие и уверовавшие”, – т. е. поверившие, не будучи обязанными, вынужденными или принуждаемыми. Вера предстает, таким образом, как превосхождение разума, руководимое самим же разумом, но прикоснувшимся к собственной ограниченности. Вера говорит: “Отдай свой жалкий разум и получи Логос”. Она есть выход к очевидному, к истине сокровенной и открывающейся, ее опыт – это одновременно и ее откровение. Она упраздняет всякое доказательство, всякое опосредование, всякое абстрактное представление о Боге и делает непосредственно присутствующим того неведомого Кого-то, Кто знаком нам ближе всех знакомых.
Недостаточность доказательств бытия Божия объясняется основополагающим фактом: только Сам Бог является критерием Собственной истинности, только Сам Бог – доказательство Своего существования. Во всякой мысли о Боге Бог мыслит Себя в человеческом разуме. Поэтому ничего нельзя рационально объяснить или обратить кого-либо с помощью аргументов – это вообще нельзя сделать вместо Бога, нельзя подчинить Бога логике доказательств или взять Его в плен причинно-следственных связей.
Если Бог – единственный аргумент своего бытия, это значит, что веру не обретают, – она даруется, и именно о царской, безвозмездной природе своей веры человек и должен свидетельствовать, ибо вера даруется для всех, чтобы Бог мог творить Парусию во всякой человеческой душе.
Следуя Своему желанию, Слово выбрало для Себя форму столь странную, что она оказывается камнем преткновения. Евангелие – хроника жизни Иисуса, собрание Его изречений. Но существует множество других текстов, апокрифов, пророков из Пепузы[41], чудотворцев и мессий вплоть до наших дней… Как же выбрать?
Свидетельство апостолов? Да, но оно не абсолютно убедительно и оставляет достаточный простор для сомнений. Состояние сомнения и трудности веры – не одно и то же. Однако, по глубокому замечанию Ньюмена, тысяча затруднений не равнозначна даже одному-единственному сомнению. Историческая критика нанесла тяжелый удар по наивным верованиям; для доказательства даже земного существования Иисуса, не говоря уже о небесном, недостает неопровержимых исторических документов. И это очень хорошо; возможно, в этом – лучшее доказательство правдивости Евангелий, в которых Христос не ищет признания, отнюдь не провозглашает открыто своей божественности, но только вопрошает: “Веруешь ли?” Он никогда не апеллирует к разуму, не выставляет доказательств или аргументов, не спрашивает: “Знаешь ли? Убежден ли? Побежден ли?” Желания Бога устремлены к сердцу человека в библейском смысле этого слова, и эта “точка схода” переворачивает всю мудрость человеческую. Здесь Святой Дух устанавливает весы правосудия, и человек внимательный, подобно Иову, взвешивает доказательства и очевидности, расстается с химерами доктрин и получает откровения. Только из такой глубины и могут появиться слова апостола Павла: “Кто нас отлучит от любви Христовой?” (Рим 8:35). Здесь подтверждается знаменитый парадокс Достоевского: “Если мне как a+b докажут, что истина вне Христа, я останусь со Христом”; это значит, что истина, доказываемая как a+b, никогда не может быть всей истиной, что Христова истина несоизмерима с истинами разума, что Бог – не только объект веры, но также и средство откровения о Себе. Выражения “всевидящее око” или “глаза голубиные”[42] означают, что это Бог смотрит на Себя в нас. Невидимый для Своих творений, Бог не невидим для Самого Себя, говорят св. отцы. “Рожденное от Духа есть Дух”, – это значит, что человек живет божественной жизнью. Бога видят через Бога, и именно эта тайна обусловливает и хранит тайны веры. Бог, как утверждает св. Григорий Нисский, всегда остается “искомым”, таинственным, а св. Григорий Назианзин пишет: “В Тебе – все имена; как же назвать Тебя, Тебя – Единственного, Кого нельзя назвать?”[43]
Хотя бы раз в жизни человек задумывается: откуда он и куда идет? Вопрос этот стар, как мир; похоже, Христос отвечал именно на него, когда говорил: “Я исшел от Отца… и иду к Отцу” (Ин 16:27–28). Этот ответ повторяется в Символе веры; поверх ограниченности атеизма и отречения агностицизма Символ веры совершенно ясно указывает на необозримую бездну Отца.
Здесь вступает в силу гениальный аргумент Достоевского. Человек определен своим Эросом; “Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше” (Мф 6:21), – говорит Евангелие. Если – по образу Божию – определение человека есть любовь, то очевидно, что действительно любить можно лишь то, что вечно; Бог и человек соотносятся как отец и его дитя. “Бездна сердца призывает бездну Бога”[44]. “Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе”[45]. “Сердце человеческое, необъятная сокровищница, достаточно обширная, чтобы вместить Самого Бога, было создано в соответствии со Христом. И потому ничто в мире сем не насыщает нас… Ибо человеческая душа жаждет бесконечного… всякий орган был создан для своего назначения, и желание сердца – устремиться ко Христу”[46].
“Свет Христов, – говорится в молитве Первого часа, вторящей прологу евангелиста Иоанна, – просвещает всякого человека, приходящего в мир”. Существует ли хоть один человек, которому не была бы предложена вера?
Согласно св. отцам, самой сутью Дара Божия является Святой Дух. Поэтому существует по меньшей мере одна молитва, которая никогда не бывает отвергнута, на которую Отец отвечает незамедлительно: это просьба о ниспослании Святого Духа, эпиклеза. Тот, кто ищет искренне, честно, кто умеет слушать тишину своего духа, может сформулировать молитву своего сердца как условие: “Если Ты есть, ответь мне и пошли Духа Святого”. “О Боже – если только есть Бог! – просвети меня!”, – так молился великий англичанин, обретший веру и епископское служение. Сюда же относится “если” требовательного и искреннего Фомы, которому, однако, дано было сказать: “Господь мой и Бог мой!” “Между стременем и землей наездник может обрести благодать”, – гласит английская поговорка.
Церковь окружает почитанием веру мучеников, прославляет их исповедание: “Тебя, жених мой, люблю и, Тебя ища, страдаю и с Тобой распинаюсь… чтобы и жить с Тобой”[47].
Мученик и исповедник, верующий и свидетель суть синонимы. Homologia, провозглашение свойственно вере: всякий верующий рассказывает, что он увидел в Боге; он, подобно достоверному свидетелю, очевидцу, публично исповедует во время литургии: “Мы видели Свет истинный, мы приняли Духа небесного”. Его вера может из глубины евхаристической Чаши повторить слова Иоанна: “О том… что мы слышали, что мы созерцали и видели своими глазами и что руки наши осязали, о Слове жизни… мы возвещаем вам…” (1 Ин 1:1). Вера делает невидимое более близким и знакомым, нежели видимое. По прекрасному выражению Таулера[48]: “Одни претерпевают мученичество единожды от меча, другие же познают мученичество любви, венчающее их изнутри”, – невидимо для мира.
Тем не менее мученическое исповедание даровано всем в последний час, в час смерти: перед лицом ее насилия звучит Символ веры, в смертный час он упраздняет смерть. “Или жизнь, или смерть – все ваше” (1 Кор 3:22). Так, согласно апостолу Павлу, даже сама смерть – дар. Верующий рождается, живет и умирает в чуде, оно – живое пространство его веры.
Бог остается сокрытым, но Он преподносит Своих святых и мучеников “зрелищем для мира, ангелов и людей” (1 Кор 4:9). Чистые сердца видят Бога, и через них Бог дает видеть Себя.
III. Аспекты духовной жизни
Религиозная жизнь множества верующих сводится к “религиозной практике”: присутствию на богослужениях, причастию на Страстной, исполнению “религиозных обязанностей”, – даже к человеколюбивым поступкам в том числе. Это жизнь наполненная, во многих отношениях позитивная, и тем не менее она может не иметь ничего общего с подлинной духовной жизнью. Более того, здравый смысл честного верующего, возведенный в разумную систему, оборачивается грозной броней, через которую не проникает никакое безумие, никакое чудо, ничто из того, что действительно отличало бы его от человека века сего. Возможно ли для него ощутить хотя бы скрытую иронию пари Паскаля вместо исповедания одной лишь спокойной уверенности:…в случае, если?..
С другой стороны, существуют люди, имеющие очень богатую, хотя и не религиозную, внутреннюю жизнь. Мыслители, люди искусства, теософы живут глубокой и насыщенной душевной жизнью, уводящей в сферы до космического мистицизма или спиритуализма без Бога.
Взглянув на эти две формы жизни – “религиозную” и “внутреннюю”, можно констатировать, что первая всегда несет в себе отношение зависимости от трансцендентного и личностного Абсолюта, вторая же автономна и углубляется во внутренние имманентные сокровища души.
Собственно духовная жизнь интегрирует оба эти аспекта и показывает их взаимодополняемость: внутренняя по сути, она одновременно есть жизнь человека лицом к лицу со своим Богом, так, что человек принимает участие в жизни Бога, дух человеческий внемлет Духу Божию.
Рассматриваемая в более широком контексте мировых религий, духовная жизнь представляет христианский синтез антропоцентричного самоуглубления восточных религий без Бога и трансцендентного и теоцентричного персонализма библейских религий – иудаизма и ислама. Соединяя удивительное проникновение индуизма в бездну внутреннего мира человека со священным трепетом иудейского и мусульманского монотеизма перед абсолютной трансцендентностью Творца, христианский синтез одновременно творит совершено новый элемент. Божественное “Я” обратилось к человеческому “ты”, и Его Слово утвердило слушающего. Оно наделило его существованием по Своему образу и продолжает его творить и наполнять в живом общении со своим Словом, ставшим плотью.
Новизна звучания Евангелия потрясает. Бог христиан – очень странный, Он ничем не походит на человеческие представления о Боге, и эта поразительная особенность определяет духовную жизнь: Творец мира, ради его сотворения, становится “Агнцем, закланным до сотворения мира” (Откр 13:8). На Кресте Бог занимает сторону человека в ущерб собственной божественности. Бог отказывается от своего всемогущества в пользу человека, Он умирает, чтобы человек жил. Он выходит из Своего внутрибожественного покоя к другому “ты” и вводит его в Свою тайну, в священный круг троического общения.
Потому человек может сказать вместе с блаженным Августином: “Ты был во мне глубже глубин моих и выше вершин моих”[49].
Бог пожелал стать Человеком, и именно Воплощение структурирует божественную и человеческую природы во всякой духовной жизни. В этой жизни человек никогда больше не бывает одинок, он делит ее с Богом, и Бог живет ею в человеке и вместе с человеком. Такое участие Бога в человеке – решающее: духовная жизнь приходит не снизу, она не рождается игрой человеческого воображения, не возникает лишь от его желания или крика души. Человек не выдумывает ее себе в утешение – подобная романтическая мифология не выдержала бы испытания временем и смертью. Духовная жизнь приходит свыше, Бог дает ей начало даром Своего Присутствия, человек получает это откровение-событие и отвечает актом своей веры. Он составляет и исповедует Символ веры, обращает его к “Ты” Отца с Его Сыном и Его Духом. Открывается литургический диалог, ведущий к единству.
Духовная жизнь – событие в глубинах духа. Увиденная извне, она неизбежно обречена на непонимание, частое смешение с душевностью, и поэтому психологизм задает свой классический, но бьющий мимо цели вопрос: существует ли соответствие между субъективностью религиозного опыта и объективностью его объекта?
Поставленный таким образом, вопрос предрешает чересчур простой ответ: объект опыта, Бог – не что иное, как аспект, имманентный душе, esse in anima. Человек вступает в диалог с элементами собственной души, мифологизирует и романтизирует.
Ошибка тут во введении спекулятивной дистанции между опытом и его объектом, в то время как религиозный опыт есть одновременно и явление его объекта.
Речь идет не о соответствии между опытом и духовной реальностью, потому что опыт и есть эта реальность: опыт святых и мистиков есть пришествие Духа. Идея Бога не антропоморфна, человек не создает Бога по своему образу, не выдумывает Его, наоборот – идея человека теоморфна, так как Бог создал его по своему образу. Все исходит от Бога, опыт Бога исходит также от Бога, ибо Бог ближе человеку, чем он сам; с того момента, как Он являет Свое Присутствие, человек его видит. Тут ничего нельзя ни доказать, ни опровергнуть, и отрицающий реальность опыта доказывает, самое большее, лишь то, что сам не пережил его. В Личности Христа навсегда сошелся опыт человека о Боге и опыт Бога о человеке. Эта реальность Христа предшествует всякому религиозному опыту, реализует его во Христе – “вы во Мне, и Я в вас” (Ин 15:4) – и углубляет его вплоть до божественной близости.
Можно даже сказать, что брачное обладание Бога человеком достигает своего рода взаимозамены: Дух Святой произносит в нас и с нами, как единое существо: “Авва, Отче!” Распятый Халлай говорит: “Я тот, кого люблю, и тот, кого я люблю, стал мною”[50]. “И уже не я живу, но живет во мне Христос” (Гал 2:20), – утверждает со своей стороны апостол Павел. Мейстер Экхарт и св. Симеон Новый Богослов сходным образом описывают это брачное и евхаристическое превращение: “Ты сделался единым духом со мною, неслиянно, непреложно”[51].
Бог необъективируем, и, следовательно, открывается только изнутри человека: “Бог тем более невидим, чем более Его опаляющая близость сияет в духе”. Духовная жизнь, как и религиозный опыт, равно необъективируемы. Однако совершенно искусственный психологический вопрос все-таки смущает человека и провоцирует бесплодную борьбу слов, которую ведут, не принимая во внимание простой очевидности; сам вопрос ставится за пределами духа. Бергсоновский интуитивизм, в согласии с Востоком, позволяет утверждать, что всякая мысль, чересчур адекватно вербализованная, теряет что-то от своей глубины. Сюда же относится столь глубокий опыт Л. Лавелля: “Слово отнимает у мысли ее чистоту и тайну”. Напротив, “тишина ничем не отличается от внутреннего слова”[52]. Чем дольше эта мысль-слово созревает в безмолвном углублении, чем более она, становясь невыразимой и несказанной, превращается в очевидность, тем более недоказуема ее неопровержимость. Последняя логика всякого откровения – очевидность. Бог Библии прежде всего самоочевиден.
Другую ошибку представляет синкретизм. Психолог с легкостью переступает конфессиональные границы и предполагает схождение всех мистик в одной точке. Однако евангельская истина, дарованная и пережитая в Евхаристии, ни с чем не сравнима. Она несет во Христе исполнение чаяний не людей и не ангелов, а Трех божественых Лиц, ибо, согласно Николаю Кавасиле, Воплощение есть “излияние Бога вне Себя Самого”.
IV. Опасности невежества и аскетическое искусство
И поныне источник многих органических заболеваний психиатрия видит в психическом расстройстве, в незнании элементарных принципов, управляющих душевным строем. Юнг пришел к выводу, что корень проблем всех его пациентов – в двусмысленности их религиозной позиции [53].
Тягостный дискомфорт современного человека связан с чувством тайной зависимости от тех начал, которые он носит в своей душе и которых не знает, не понимает или боится понять. Этот дикомфорт, вне зависимости от того, осознает ли его сам человек или же нет, делает его психическое равновесие хрупким и нестабильным. Несмотря на то, что стремительное развитие психологии перевернуло знание о человеческой душе, наука отказывается четко определить зыбкую границу между здоровьем и болезнью.
Как легко уязвим человек, невежественный во всем, что касается его внутренней жизни! – в минуту одиночества или страданий никакой общественный строй не защитит его, не разрешит конфликтов в его душе.
Фрейд увидел в умственных расстройствах обходной маневр, выход из противоречий, ставших невыносимыми: в конце концов, инстинкт самосохранения предпочитает безумие самоубийству.
Анализ не останавливается на уровне психики. Заглядывая глубже, верующие психиатры обнаруживают расстройство духовное. Согласно Юнгу, люди, за исключением клинических случаев, страдают от того, что жизнь их лишена смысла, позитивного и творческого содержания. Человек скучает от собственной скудости, заботы изматывают его до такой степени, что, как пишет Юнг, “его комплексы сильно походят на демонов”. Это – преддверие искушения. Аскетам хорошо известны бездны “греховной печали”, предел которой в страшной “acedia”, покинутости или крайнем унынии отчаявшегося духа.
Верующие же, в большинстве своем, даже если они интересуются психологией, изучают психоанализ или обращаются к психотерапевтам, проявляют крайнюю легкомысленность в религиозной жизни: текущая по минутному вдохновению, в полном неведении ее природы и законов, религиозная жизнь большинства верующих садится на мель и не может справиться с безразличием и ощущением пустоты.
Позитивистские упрощения сводят грех к невежеству, преступление – к влиянию социального окружения, зло – к несовершенству, а аскезу – к гигиене. Понятие “грех” перестало приниматься во внимание, уже мало кто понимает, что оно означает. По определению же VI Вселенского собора, грех есть болезнь духа. С другой стороны, из Пьера Жане известно, что “безумие есть потеря чувства реального”. Помешанный воспринимает реальность уже не так, как другие. Таким образом, не отличать более грех от его противоположности – святости – это функциональное расстройство, форма духовного безумия[54]. Когда апостол Павел требует различения добра и зла (Евр 5:14), он стремится именно к возвращению к норме, духовному здоровью, полноте реальности, включающей в себя земное и небесное.
“Человек, – говорит Паскаль, – есть среднее между ничем и всем”. Он колеблется между ничто и абсолютом. Такая двойственность положения приводит его к обостренному чувству собственной ограниченности. Даже достигнув вершины своего гения, человек остается Иовом: “Я прошу о помощи, но нет справедливости”[55].
На определенном уровне рефлексия граничит с пессимизмом, разъедающим корни жизни. Развиваясь, цивилизация провоцирует глубинную неуравновешенность человеческого разума, она поражает техническими возможностями и вместе с тем – удивительной поверхностностью прагматической философии. Вселенная становится огромной строительной площадкой, где все выражается в цифрах и подчиняется единому принципу производительности и занимательности. Страх перед нечеловеческой анонимностью ее несоразмерных человеку предприятий побуждает к бегству во все более и более неровный, прерывистый ритм – в стиле “атомного века”. Чем более подавляют и ограничивают нас нужды нового мира, тем более общество стремится освободиться от всех табу и запретов и общее настроение выражает немой протест: современный мир, он за или против человека?
Биологический ритм земледельческих цивилизаций, ориентиром которого было солнце, уступает место техническому ритму надвигающегося массированного урбанизма. Жизнь в мире заводов и лабораторий уже не органична, но организованна, ее железобетон убивает чувство живой природы. Даже самое простое вещество таинств – вода, хлеб, воск, огонь – исчезает из естественного употребления в человеческом быту или же фальсифицируется, уже не являясь привычным и понятным изображением космоса. Литургический символизм также не воспринимается, ритуал перестает быть непосредственно понятным, требуя многотрудного посвящения. Новые поколения становятся все более и более чужды символам священного.
Современный символизм нашел себе пристанище в эмблемах и аббревиатурах. Слова обезвожены, и самые обычные предметы кажутся потерявшими свой первоначальный смысл. В современных храмах свечи заканчиваются электрическими лампочками – гибрид, который затрудняешься даже назвать.
Тем не менее именно этот мир продолжает оставаться объектом забот Бога. Он призывает христианскую мысль к творческому усилию, указывает на необходимость перевести в современные понятия обширное наследие прошлого, а драгоценный опыт великих духоносцев привести к гармоническому согласию с самыми дерзновенными примерами жизни, мысли и искусства.
Речь идет не о модернизме, но о видении того, что пребывает над временем и тем самым управляет историей и судьбой человека. На этом уровне духовная жизнь может вновь открыться человеку изумленному, ставшему внимательным к знамениям.
В современных условиях, под гнетом перегрузок и нервного истощения чувствительность изменяется. Медицина защищает и продлевает жизнь, но в то же время уменьшает сопротивляемость к страданию и лишениям, поэтому и христианская аскеза, которая есть лишь метод на службе у жизни, постарается адаптироваться к новым условиям. Героическая Фиваида брала на себя исключительные посты и уставы, теперь же борьба перемещается, человек не нуждается в дополнительном долоризме[56]; власяница, цепи, самобичевание лишь сломили бы его, не принеся никакой пользы. Умерщвлением плоти сейчас был бы отказ от всякой потребности в допинге: скорости, шуме, алкоголе и всякого рода стимуляторах. Аскезой станет скорее возложенный на себя отдых, дисциплина периодического и регулярного покоя, тишины, в которых человек обретает способность – даже в сердце всех шумов мира – остановиться для молитвы и созерцания, и главное – внимать присутствию других. Пост, в противоположность налагаемому на себя изнурению плоти, будет отказом от излишеств, разделением их с бедными, улыбчивой гармонией.
Подобно ликам святых, форма аскезы отражает эпоху. Как симптоматично, что в уставшем, раздавленном тяжестью забот мире, св. Тереза говорит о духовном детстве, прокладывает “тропинку” и приглашает за “стол грешников”. Глубинная психология, со своей стороны, привлекает внимание к трансцендентности смирения и к воплощению духовного в социальной жизни. Современная аскеза видит себя на службе у человеческого, которое было воспринято в Воплощении; она решительно сопротивляется всякому умалению или устранению человека.
“Я уже не называю вас рабами, но Я назвал вас друзьями” (Ин 15:15). Эти слова Господа возвещают полноту меры возраста человека, когда человек превосходит человека. Духовная жизнь ориентируется на божественную Дружбу, аскеза освобождается от исправительной ментальности и переходит к профилактической терапии. Похоже, что повсюду монашество начинает постепенно искать уже нечто большее, чем просто соматическая и психологическая аскеза Средних веков, а именно – эсхатологическую аскезу первых веков, такой акт веры, который претворял бы все человеческое существо в радостное ожидание Парусии.
Опытные духовные наставники, “старцы”, сейчас более редки, чем когда-либо, но зато уже существует обширная аскетическая литература, излагающая очень точное знание человеческой души. Если Фрейд и Юнг выражают восхищение психологическим гением Достоевского, то это потому, что он очень многое почерпнул из писаний великих духовных подвижников прошлого.
Начиная с Климента Александрийского и Оригена духовная жизнь носит название аскезы. Это слово означает старание, упражнение, труд. Негативная аскеза ограничений сочетается с позитивной аскезой стяжания харизм и духовного возрастания в них. В широком смысле слова аскет – это христианин, внемлющий призыву Евангелия, заповедям блаженства, ищущий смирения и чистоты сердца, дабы сделать свободным своего ближнего [57].
V. Слагаемые духовной жизни
Слово “духовный” отсылает к Святому Духу и указывает на уровень бытия, свойственный “рождению свыше” и “мистическому браку”; он открывает протофеномен всякого человеческого существа, внимательного к своим небесным началам.
Христос рождается, умирает и воскресает не только в истории, но и в глубине человеческого духа: на это указывает крещение. Именно там, в этой внутренней глубине, завязываются отношения между Богом и человеком и намечается путь духовной жизни, которая всегда – встреча. Бог выходит из Самого Себя к человеку, а человек покидает свое одиночество и встречает своего Другого: “Ты никогда никем не пренебрег, это мы скрываемся, сами не желая прийти к Тебе”, – говорит св. Симеон[58].
Таким образом, слагаемые духовной жизни не ограничены только человеческим. Данте говорит о трех участниках божественной комедии: Боге, человеке и Сатане. Аскеты конкретизируют эти противоборствующие воли: спасительная Божья воля, действующая в человеке как призыв, приглашение, т. е. теономия – ее человек принимает, делая своей; воля человека, нестабильная и проблематичная, – автономия, заключающая его в самом себе; наконец, демоническая воля, чуждая человеку, заставляющая его выйти из себя самого, не приготовив ему встречи, – это гетерономия: подавление, порабощение, гибель.
Очень немногое можно сказать о божественном слагаемом духовной жизни; более уместно умолкнуть и почтить эту область молчанием. Инициатор, Бог, в Своем Присутствии полностью трансцендентен. “Не плоть и не кровь открыли тебе это, но Отец Мой, который на небесах” (Мф 16:17) или: “И это не от вас, Божий дар” (Еф 2:8). Дар безвозмездный: единственно по Любви Бог соделывает из человека свое троическое местопребывание: “Мы придем и обитель Себе у него сотворим” (Ин 14:23). Это акт несравненного величия, он несоизмерим ни с каким человеческим усилием; Троица просто живет в душе в соответствии со способностью человека ее вместить, как говорит св. Макарий.
Современный духовный писатель на редкость удачно выразил ту же мысль: “Бог открывает Себя людям смотря по их жажде: Он дает лишь каплю тем, кто не в состоянии выпить более; но Он желал бы отдать все волны Своего моря, дабы христиане могли, в свою очередь, утолить жажду всего мира”[59].
Очевидно, что на этом уровне божественной инициативы не существует никакого метода, никакой техники духовной жизни. Благодать раздает свои дары, человек же здесь только вместилище, удивленное и повергнутое, подобно ангелам, в глубокое восхищение.
Бесовское слагаемое представляет собой препятствие: противник – “человекоубийца от начала, отец лжи” (Ин 8:44) – ведет непрерывную борьбу: “Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских” (1 Петр 5:8, Еф 6:11).
На этом уровне человек чувствует, что призван к активным действиям. Здесь дело за мастерством, той очень тонкой стратегией “невидимой брани”, которая и составляет аскезу.
Наконец, собственно человеческое слагаемое, жаждущее подняться над всякой борьбой, находит выражение преимущественно в литургическом поклонении: “Буду петь Богу моему, доколе есмь” (Пс 104:33).
Анонимный средневековый мистик выразил это короткой и красивой фразой: “Я осёл, но я везу Господа моего”.
“Се, стою у двери и стучу, Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною” (Откр 3:20). На обращение стучащего Бога отвечает чуткость человека, полностью устремленного к этому событию: услышать и распахнуть дверь своего бытия, броситься к ногам Вошедшего и возлечь с Ним за пиршественный стол. Св. отцы любили комментировать притчу о блудном сыне, говорящую о решимости как акте, помещающем человеческое действие внутрь действия божественного: “Придя в себя, сказал: …пойду к отцу моему… встал и пошел к отцу своему” (Лк 15:17–20).
Это решение, согласно св. Кириллу, и делает человека из званого – избранным. Это подлинно творческое усилие позитивной аскезы, и если оно не обретено в первую очередь, учит св. Макарий, если оно не предшествует аскезе негативной, нормативной и дисциплинарной, то последняя просто бесполезна.
Мудрое предостережение накануне Великого поста гласит: “Дьявол не ест, не пьет и не вступает в брак, но этот с виду самый большой аскет не становится от этого менее дьяволом”. “Итак, посты, бдения, отшельничество нужны для главной цели, т. е. чистоты сердца, которая есть любовь”, – учит Кассиан, цитируя авву Моисея[60].
VI. О природе или о сущности духовной жизни
“В начале”, в момент решающего для человека испытания, роковая неудача его выбора заставила человека пасть ниже своего собственного существа и погрузила его в жизнь чувств и материи. Человек стал плотски и чувственно омрачен, однако домостроительство спасения поднимает его над своим существом до уровня новой твари. Здесь берет свое начало та диалектика, которую мы находим у апостола Павла: “Но если и разрушается внешний наш человек, то наш внутренний обновляется со дня на день” (2 Кор 4:16). ”Вы совлеклись ветхого человека и облеклись в нового” (Кол 3:9).
С этого момента духовная жизнь строго ориентирована только на такую метаморфозу: “облечься в нового человека”. “Новое” этого человека – в том, что он больше не одинок; а на более глубоком уровне, в самом центре своего изменения – это человек, “облеченный во Христа”, христоподобный.
Св. отцы рассматривают акт облечения во Христа почти буквально, видя в нем отражение или, точнее, продолжение в человеке Воплощения Слова, увековеченное в Таинстве Евхаристии. Поэтому они учат не “имитировать”, но “проникаться” Христом. Это проникновение не есть просто сильная метафора, она имеет глубокие корни в Самом Боге. Воплощение отражает определенную антропоморфность Бога (ее изначально обусловливает таинственная сообразность), но главным образом оно есть откровение несомненной теоморфности человека. С библейской точки зрения, Воплощение доводит до полноты нашу природу, созданную по образу Божию, с очевидностью раскрывает христологическую структуру духовной жизни.
Человек, таким образом, преодолевает головокружительную пропасть, отделяющую его от его собственного внутреннего содержания. Апостол Павел цитирует первохристианский гимн, полный почти взрывного динамизма: “Вставай, спящий, воскресни из мертвых, и будет светить тебе Христос” (Еф 5:14), в одном из разночтений смысл еще усиливается: “и ты коснешься Христа”. Этот переход из смерти в жизнь, из ада в Царство, и есть, собственно, путь духовной жизни.
Морализирующий спиритуализм сводит спасение к прощению непослушания. Библейская же онтология, смелая и требовательная, ведет от морального катарсиса (очищения) к катарсису онтологическому, который означает реальное изменение человеческого существа в целом: тела, души и духа. Это настойчивое утверждение святоотеческой экзегезы подчеркивает призыв Евангелия к метанойе (покаянию): “Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное” (Мф 3:2), правильнее было бы сказать “изменяйтесь”, становитесь новой тварью, поскольку речь идет о покаянии в глубоком смысле слова: о полном изменении ума и всего существа человека.
Встреча с Богом не смогла бы произойти в состоянии падшей природы; она предполагает ее предварительное восстановление в таинстве крещения, ибо крещение, согласно св. отцам, есть подлинное воссоздание освобожденной твари. Покаяние – metanoia – в глубоком его значении должно проникнуть до истока всех способностей человека – умственных, волевых, эмоциональных, до средоточия всего его существа: тела и духа. Св. Ириней в своем знаменитом учении о рекапитуляции – воссоединении всей природы под главою Христа – следует за апостолом Павлом. Четвертое Евангелие подчеркивает это, говоря о “втором рождении”. Оба эти термина – метанойя и рождение – ясно выражают глубокое изменение человека и знаменуют вхождение его в мир Духа, законы которого противоположны законам мира сего. Между жизнью человека до и после крещения разверзается пропасть, бесконечное расстояние между двумя природами. Чтобы подчеркнуть характер совершенной новизны, отцы преимущественно обращаются к сюжету брака в Кане, претворения воды в вино. Символизм этого образа объединяет Крещение и Евхаристию. Действительно, как учит Николай Кавасила, крещенская вода имеет цену крови Христовой, “она разрушает одну жизнь и творит из нее другую —… мы совлекаемся кожаных одежд, дабы облечься в царскую мантию”[61].
Теперь понятно, насколько резкий перелом производит духовная жизнь. Это уже совсем не та же самая жизнь, к которой просто добавляются богослужение, чтение и благочестие, – нет, в своем существе она – перелом и борьба, усилие, берущее приступом Небеса и овладевающее Царством. На пороге этой жизни звучат слова апостола Павла: “Вот, наступило новое” (2 Кор 5:17).
Евангелие напоминает о страшной власти князя мира сего. Апостол Павел, называя его “богом века сего” (2 Кор 4:4), подчеркивает состояние отчуждения человека демоническими силами, и именно эта власть Сатаны требует радикального перелома. Мы находим его в столь выразительном символизме таинства Крещения: полное погружение означает реальную смерть для греховного прошлого, а восстание из воды – окончательную победу, воскресение в новой жизни. Однако “обеты крещения”, “великое крещальное исповедание” веры в Троицу, предполагают как очистительное хирургическое вмешательство, так и личный подвиг человеческого духа. Церковь очень серьезно относится к власти зла и его разрушительной силе, несущей смерть; поэтому по древнему чину водное крещение – lavacrum – предваряется обрядом экзорцизма и торжественного отречения от зла.
Священник воспроизводит действие Бога (при сотворении человека): дует на лицо “умершего”, вдыхая в него дыхание жизни. Обращаясь к западу, царству князя мира сего, туда, где исчезает свет дня, крещаемый отрекается от прошлого, прошедшего под властью врага. Он символически изображает борьбу, предстоящую ему на всем протяжении духовной жизни; повернувшись к востоку, туда, где занимается день, он исповедует веру и принимает благодать.
Этот обряд в зародыше содержит сущность нового бытия. Его негативная сторона – это нескончаемая борьба, позитивная – метаморфоза, испрошенная в завершающей молитве крещения, акцентированной в духе апостола Павла: “О Боже, совлеки его ветхого человека, обнови его и исполни могуществом Духа Твоего Святого, в союзе со Христом”.
Таково очень сжатое изложение духовной жизни. Ее движение вперед никогда не прерывается: “Взявшийся за плуг и оборачивающийся назад ненадежен для Царствия Божия” (Лк 9:62). Любая остановка здесь – регресс. Всецелый характер посвящения, подчеркнутый в обряде пострижения, сообщает всякому крещеному и миропомазанному крайнее напряжение каждого мгновения жизни, стремление к совершенству, к невозможному. Обряд пострижения, органическая часть обряда таинства миропомазания в восточной церкви, идентичен тому, который совершается при посвящении в монашеский чин. Молитва просит: “Благослови же ныне раба твоего, пришедшего принести Тебе как начатки пострижение волос головы”. Символика тут совершенно прозрачна – это полное принесение своей жизни в жертву. Проходя через пострижение, всякий мирянин оказывается монахом “внутреннего монашества”, подчиненного всем абсолютным требованиям Евангелия. Верность новообращенного будет сопротивляться испытанию временем и натиску искушений, ведь Сам Христос будет бороться в нем, вместе с ним.
VII. Различные этапы духовной жизни
Поэты воспевают чудо взгляда, всегда неповторимое! Неповторимой представляется и судьба каждого человека. Существует все же определенное сходство между стадиями духовной жизни всякого человека, подобное ритму возрастных изменений. Есть некий главный элемент, вокруг которого строится любая человеческая судьба. Обстоятельства меняются, но личная духовная тема – у каждого своя – остается неизменной при любых внешних переменах, ее призыв и настоятельное требование ответа, это сочетание данного и предложенного образует то, что Евангелие называет личным крестом человека. Он “вписан” в нас с самого рождения, и здесь никакая власть не в силах что-либо изменить: “И кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя бы на локоть?” (Мф 6:27).
Будь то в сердце большого города или в глубине пустыни, мы никогда не можем избежать этой личной темы нашей жизни. Она сопровождает нас и обращается к нам на каждом повороте нашего пути. Мы можем отвечать по-разному и всякий раз менять направление жизни в том или другом смысле, мы можем вступить в брак или принять монашество, шлифовать стекла, как Спиноза, или чинить ботинки, как Якоб Бёме, – вопрос, наш вопрос, останется тем же, он вложен в нас как составляющий элемент нашей личности; это даже более чем вопрос, это постановка вопроса о нас самих.
Принять свой “крест” – значит предузнать главную тему своей судьбы, раскрыть ее смысл, понять себя. Это и делает духовная жизнь, она вносит порядок, являет ритм своего возрастания, требует продвижения вперед.
Религиозная психология, намечая схему такого развития, выделяет в ней три этапа: предварительное единство человеческого существа, хрупкое и неустойчивое; острый конфликт между духовным и эмпирическим; и, в конечном итоге, их объединение в одно целое.
За редким исключением духовная жизнь берет начало в событии, называемом “обращением”. Это событие, конкретная форма которого не так важна, пробуждает человека, потрясает его и сопровождается явным переходом из одного состояния в другое. Подобно свету, разгоняющему тени, оно мгновенно раскрывает неудовлетворительность бессвязного настоящего и направляет к распахнутым вратам нового мира. Так рождается девственная надежда, а вслед за ней – решительная перемена, которую радостно приемлет все наше существо. Даже тот, кто воспитан в вере с детства, рано или поздно проходит через ее сознательное обретение, очень личное и всегда захватывающее принятие.
Книга, встреча или размышление заставляют засверкать внезапный и яркий свет. В его лучах все приходит к согласию как в гениальном стихе, возвращающем всякой вещи ее бесконечную девственную ценность. Это религиозная весна в живой моцартовской тональности; подобно набухающей почке человек чувствует себя переполненным неожиданной и удивительной радостью, спонтанным сочувствием ко всем и вся. Незабываемое время: как праздник, расцвеченный тысячей огней, оно заставляет видеть в Боге улыбающееся лицо Отца, выходящего навстречу своему ребенку.
Время это скоро проходит. Лицо Отца принимает черты Сына, и нас изнутри осеняет Его Крест. Отчетливо вырисовывается и наш собственный крест, возврат к прежней простой и детской вере становится уже невозможен. Обретшую ясное видение зла и греха душу раздирают болезненные диссонансы, наступает крайнее напряжение между двумя взаимоисключающими состояниями. Жестокий опыт падений и бессилия может довести до грани отчаяния.
Велико искушение закричать о несправедливости, заявить, что Бог требует от нас слишком много, что наш крест тяжелее, чем у других. Старинная история повествует, как один честный и искренний человек был недоволен своей судьбой; тогда ангел показал ему множество различных крестов и предложил выбрать самому. Когда же тот выбрал самый легкий, оказалось, что этот крест и есть его собственный! Человеку никогда не дается испытаний сверх его сил.
Бог пристально следит за нами в этот решающий момент. Он ждет от нашей веры мужественного поступка, полного и сознательного принятия своей судьбы. Он просит нас добровольно взять ее на себя, ведь никто не может сделать этого за нас, даже Сам Бог. Крест сделан из наших слабостей и немощей, составлен из наших выдохшихся порывов и, особенно, из наших темных глубин, где шевелится немое сопротивление и коснеет постыдное и заговорщическое уродство, в общем – из всей сложности, которая в настоящий момент и есть подлинное “я”.
Заповедь “возлюби ближнего своего, как самого себя” подразумевает определенную любовь к самому себе: это и есть призыв возлюбить свой крест, означающий действие, возможно, самое сложное: принять себя таким, как есть. Известно, что именно самые гордые существа, чье самолюбие наиболее неутолено, чувствуют себя плохо с самими собой, даже тайно ненавидят себя. Этот важнейший момент – встреча с самим собой – требует обнажения, прямого взгляда на самого себя, проникающего в самые потаенные уголки души.
“Видящий себя, как он есть, – больше воскрешающего мертвых” [62], – утверждают духовные люди, подчеркивая этим важность такого видения. Такой взгляд всегда страшен, поэтому одновременно надо взирать на Христа. Тут мы входим в опыт апостола Павла и всякого христианина: “Когда хочу творить доброе, предлежит мне злое… несчастный я человек, кто избавит меня?… Иисус Христос, Господь наш” (Рим 7:21–25).
В моменты давящего одиночества только глубокое смирение может прийти нам на помощь: признание радикального бессилия человеческого естества подвигает человека принести все свое существо к подножию креста, и тогда неожиданно Христос поднимает эту невыносимую тяжесть вместо нас: “Научитесь от Меня… ибо иго Мое благо и бремя Мое легко” (Мф 11:30).
Доверие переполняет: “Да будет воля Твоя” – я принимаю эту волю как свою собственную, в ней я раскрываю, что Бог промыслил о мне, в ней я узнаю свою участь. Человек более не замкнут на самого себя, он обрел легкость и веселие: “Се, раба Господня” (Лк 1:38), “друг Жениха радостию радуется голосу Жениха. Эта радость моя теперь полна” (Ин 3:29).
Духовно опытные люди утверждают, что искусство смирения состоит не в том, чтобы стать тем или другим, но в том, чтобы точно соблюсти ту меру, которую положил нам Бог. В “Подростке” Достоевский описывает этот сверкающий миг устами странника Макара. Одним взглядом он охватывает вселенную, свою жизнь, время и вечность и только и может сказать в завершение: “Все в Тебе, Господи, и я сам в Тебе, и приими меня!” Не будучи еще в состоянии всего понять, человек чувствует больше, чем ему того нужно в данный момент. Судьба обретает свежесть страстно любимого бытия. И только после этого “второго рождения”, этой личной Пятидесятницы, и начинается собственно духовная жизнь.
Часть вторая Препятствие и борьба
I. Отрицание зла и утверждение добра
Слова “символ” и “дьявол” в греческом языке происходят от одного корня и с тем большей силой выражают реальности противоположные. Дьявол – сеятель раздора, тот, кто разделяет, прерывает всякое общение и сводит бытие к предельному одиночеству. Символ же, наоборот, – соединяет, наводит мосты, восстанавливает общение.
Рассказ о Герасинском бесноватом (Мк 5:9) выявляет природу Зла. Христос задает бесу страшный вопрос: “Как имя тебе?” Для еврейской ментальности имя предмета или существа отражает его сущность, а античная пословица nomen est omen видит в имени выражение личности и ее судьбы. То есть вопрос Иисуса означал: “Кто ты, какова твоя природа, твоя сокровенная сущность?” И бес отвечает: “Легион имя мне, потому что нас много”.
Этот неожиданный переход от единственного числа ко множественному, от “меня” к “нам”, проясняет, как действует в мире зло: созданное Богом безгрешное существо, чья целостность еще хрупка и неосознанна, разбивается, распыляется на отдельные частицы, это и есть ад. Греческий Хадэс и еврейский Шеол – оба означают то покрытое мраком место, где одиночество сводит человека к предельной скудости демонического солипсизма. Можно представить себе ад как клетку из зеркал: в них видишь лишь собственное отражение, бесконечно умноженное и не встречающее более ничьего взгляда. Не видя никого, кроме самого себя, пресытишься этим до тошноты, до онтологической икоты. В коптских “Апофтегмах” Макария Древнего выразительно описано такое одиночество: пленники связаны спинами друг к другу, и только усиленная молитва живых приносит им мгновение облегчения: “Один лишь миг мы видим лица друг друга”[63].
В противоположность такому действию Зла апостол Павел показывает действие Блага – Христа: “Ибо только один хлеб (Христос), мы же многие составляем одно тело” (1 Кор 10:1 7 и 12:12)[64], это – одно всех воссоединенных в евхаристическом общении под главою Христа по образу троического общения; Бог един и троичен одновременно, это единство во множественности.
Совершенно естественно поэтому, что Евхаристия составляет самое сердце Церкви и раскрывается как источник возвещенного единства, дарованного и открытого в опыте, – это золотоносная глыба без малейшей трещины, составляющая esse[65] Церкви. Самое древнее призывание: Marana tha (Господь, гряди) [66] – завершало литургическую молитву и относилось к Парусии, к евхаристическому явлению Господа Воскресшего[67]. Бог приходит дать Себя в пищу, и мы вкушаем Его субстанцию, агапэ, “нетленную любовь”[68]. Евхаристическое общение дает сущностное причастие всецелому Христу, и это по своей природе объединяющее творение делает из причастников, по словам св. Афанасия, “существа, исполненные Словом, Христом”. Св. Игнатий Антиохийский видит в Евхаристии “врачевство бессмертия”[69], исцеление от смерти. Более того, “вкушая Тело и Кровь Жениха, мы входим в koinonia – брачное общение”, – говорит Феодорит Кирский[70]. Это общение переполняет, так что “невозможно и простираться далее, невозможно и приложить большего”[71].
Henosis, “единство со Христом”, переживаемое в Евхаристии, определяет евхаристический характер духовной жизни. Увековеченное общение со Христом и с Его Телом – людьми – становится всецело созидательным возрастанием: “Между телом и головою нет места ни для какого промежутка”[72], ни для какого отрицания. Всякий, причастный Богу, в “Котором есть только да”, исповедует полное “да” жизни, бытию; в Сатане же, наоборот, есть только “нет”, и этим отказом отграничено место, из которого Бог исключен: отрицание, небытие, ад.
Апостол Иоанн (1 Ин 3:4) узнает это “нет” в грехе, означающем “беззаконие”, преступление онтологической границы, положенной Богом и очерченной Его Именем: “Я есмь Сущий”. Третья молитва “Дидахе” гласит: “Благодарим Тебя, Отче Святой, за Святое Имя Твое, которое Ты вселил в сердца наши. Ты, Владыко Вседержитель, создавший вселенную во славу Имени Твоего”[73], – “Так говорит Господь, Я Царь великий, Имени Моему поклоняются народы”[74]. Переступить эту границу – значит порвать изначальную связь, отречься от Царя, вернуться к автономии и стать вне Имени.
Атеизм упраздняет эту границу тварного бытия своим отрицанием всякой зависимости. Вместо человеческой жажды “совершенно иного” он утверждает решение жить так, “как если бы” эта граница перестала существовать вовсе. Таков атеизм западный. Атеизм воинствующих безбожников советского мира в некотором смысле более последователен и более радикален. Верный историческому интересу, присущему русской мысли (Чаадаев, Бердяев), он сконцентрирован на одном конкретном, поскольку историческом, отрицании: “Христос не воскрес!”
Здесь уместно вспомнить имя св. Исаака Сирина, жившего в VII веке. Он обобщил святоотеческую мысль и, как мастер аскезы, создал феноменологию греха. Не придавая большого значения многочисленности грехов – для Бога, можно сказать, почти ничтожной, поскольку человеку дано покаяние, – он изображает в своих “Поучениях” единственный грех, собственно грех: быть бесчувственным к Воскресшему! Сколь поразительное пророчество о современном советском атеизме! Чтобы быть убедительным, он обращается к единственному неопровержимому аргументу Креста, и это вопрос жизни и смерти не только человека, но и Бога. Действительно, отрицание Воскресения достигает, минуя творческий акт, Самого Творца. Мистически это отрицание завершает богоубийство, убийство Отца. Ницше хорошо это сформулировал, говоря о смерти Бога: “Где Бог? Я скажу вам. Мы Его убили”. Так же и у Достоевского атеистическое сознание достигает высшей точки именно в этом: “Был на земле один день, и в середине земли стояли три креста… кончился день, оба померли… и не нашли ни рая, ни воскресения… Вот вся мысль, вся, больше нет никакой”[75]. Вот само сердце атеизма. Из этого тайного источника исходит фрейдистский комплекс универсальной вины – убийство Отца – и тяготение человека к смерти – Todestrieb, так же как и формула Хайдеггера: Sein zum Tode.
Alea jacta est – жребий брошен, выбор сделан, атеистический символ веры возвещает urbi et orbi: Бог умирает и не воскресает. “Агнец, закланный от начала мира”, означает здесь: Агнец, закланный и умерший, несуществующий, уничтоженный. В начале была смерть Бога и Его молчание.
Поскольку на карту поставлена его судьба, человек оказывается перед единственной альтернативой: да или нет, третьего не дано. Ницше объяснил это в “Переписке”. Есть лишь два рода безумия, которые способны заставить человека жить, говорит он: одно – его собственное, безумие смертного сверхчеловека, выживающего в вечном возвращении; другое, неприемлемое для него, – безумие апостола Павла, безумие Креста, Бога Воскресшего и человека бессмертного.
Аргумент атеизма был предусмотрен апостолом Павлом (1 Кор 15:17): если Христос не воскрес, то напрасна вера и ничто не имеет смысла, все тщета. Не существует полумер или промежуточных решений, мы стоим перед фундаментальной очевидностью Христа Воскресшего. Бог, не предъявляющий хартии Человеколюбца, Бог, Который не есть Любовь, распятая для того, чтобы заставить воссиять, по слову бл. Августина, “жизнь, смерть смерти”, – не Бог. Доведя до конца мысль апостола, можно утверждать, что всякая религия существует лишь Воскресением Христовым, мистически опирается на это событие. Если Христос воскрес, то это касается всех людей. Если же христианское свидетельство о Воскресшем отрицается, то никакая религия не продержится на уровне современного мира, ибо вне Евангелия всякое религиозное возвещение останавливается на полдороге. Его трансцендентный предел – Бог, ставший воскресшим человеком. Этот факт касается вовсе не нескольких свидетелей, воскресший Христос – современник всех людей, а это означает, что каждый человек – современник вечного Христа. Это делает координаты истории христологическими по сути. Христос воскрес как Глава человеческого Тела, и теперь всякая религия и всякий человек должны и могут искать в Нем жизнь вечную. Это единственное свидетельство определяет вселенскую миссию Церкви среди всех религий и в великой встрече Востока и Запада. История ставит христианскую веру в Воскресшего в точку пересечения всех идеологий, по-своему повторяющих теперь единственный вопрос, вопрос Пилата: “Что есть истина?” Он обязывает веру произнести свое “да”, доходя, если это необходимо, до исповедания-мученичества, единственного ответа на этот отовсюду звучащий вопрос. Христос пребывает в предсмертной агонии, и вечность с нетерпением жаждет слышать этот ответ.
Апостольская керигма возвещает событие Пасхи, вмешательство Бога, воскрешающего Христа, Который Один дает определяющий смысл историческому существованию людей. Мы находим ее ядро в 1 Кор 15:3–4, Рим 4:24–25, Деян 2:36. Воскресение Иисуса есть “Аминь” Бога Своему обетованию. Аминь, исполненный являющего его Св. Духа. Слово “аминь” происходит от еврейского глагола he’emin и означает неколебимую точку опоры. Свидетельствующие о Воскресении – апостолы и мученики – отстаивают свое право возвещать об этом событии перед правителями Града земного. “Апологии” Иустина, Афинагора, Аристида смело обращаются к императорам с той же жизненно важной вестью и предупреждают их о неминуемом суде. Их керигма относится ко всем людям, она проповедана в присутствии ангелов и касается всего творения. Царство Божие уже настало: мы современники Воссевшего одесную Отца. Вот Агнец Закланный и Воскресший, вот Его Царство: оно здесь и это – полнота времен. Все религии суть пути, на которых человек ищет Бога, и они многочисленны. Христианское же откровение уникально, поскольку в нем Бог находит человека. Проповедь апостола Павла в Афинах фундаментальна для теологии религий: расшифровывая смысл жертвенника неведомому богу и давая ему Имя – Иисус Христос, апостол относит ко Христу религиозные усилия людей всех времен и возвышает их ценность во Христе.
Преступление границы запирает человека в посюсторонности, и чем более она материализуется, овеществляется, тем более она оказывается лишенной реальности и какого бы то ни было содержания. Это мир финансов с Храмом-Биржей и весталками, жаждущими люкса, политический мир амбиций и вожделений, коллективного невроза безумных страстей и извращенного эроса. Мир, колеблющийся на краю пропасти, лишенный какой-либо надежности, сотканный из туманов и населенный призраками, в любой момент рискующий исчезнуть “яко исчезает дым” и “яко тает воск от лица огня”. Противоположностью этому и является усилие отшельников пустыни в их походе [76] к совершенству, которое Ориген сравнивает с постепенным выходом из Платоновой пещеры ее обитателей. Покидая театр теней ради созерцания той реальности, в которой ничто не встает между человеком и последними истинами божественного мира, монах-пустынник твердо держится пути возвращения в Царство.
С самого начала в христианской мысли присутствует ясно выраженное целостное видение человеческой судьбы. Так, св. Григорий Нисский[77] упоминает знаменитое катехизическое поучение о двух путях, а “Завещание двенадцати патриархов” ясно формулирует: “Бог дал два пути сынам человеческим, и две склонности, и два образа действия, и два конца”. Это доктрина двухyeser, двух наклонностей сердца, соответствующих действиям ангела света и ангела тьмы. Из того же источника берут начало “Дидахе”, “Послание Варнавы” и другие тексты, большое влияние эта тема будет иметь и на последующую христианскую литературу. Она восходит к выбору, предложенному Богом: “Жизнь и смерть предложил Я тебе” (Втор 30:19). Это все тот же выбор между “да” и “нет”.
“Нет Бога”, – “безумец”, согласно Библии, волен сказать это в сердце своем. Но значение отрицания меняется от уровня глубины и страдания отрицающего. Поэтому “совершенный атеизм (совершенный означает здесь – пережитый вплоть до страдания) стоит на предпоследней верхней ступени до совершенной веры” [78]. Поскольку, будучи далеки от аморфного безразличия, атеизм и вера склонны к “совершенству”, они могут, оставив глупую болтовню, встретиться в безмолвной борьбе ангела и Иакова, благодати и отчаяния. Последовательный, горящий страданием атеизм парадоксальным образом знает свой особый крест. В конце жизни, в записках, созданных на пике своего загадочного безумия, Ницше называет свое окончательное имя: Распятый. Атеизм Великого инквизитора смеется над материализмом и позитивизмом и достигает истинного величия в своей страсти к человеку. Можно сказать, что его “нет”, вопреки ему самому, участвует в любви Бога к человеку, хотя он этого и не осознает. Быть может, именно страсть к человеку как раз и превышает определенный уровень человеческого, не та же ли страсть главенствует в божественном сердце и не тут ли один из таинственных “выходов к границе”? Но чтобы почувствовать здесь глубокое соответствие, наверное, надо быть, подобно Богу, святым “человеколюбцем”. Существует атеизм очистительный, по слову Жюля Ланьо, это “соль, мешающая вере в Бога загнить”, – и в такой роли защиты и спасения он причастен благодати. Поэтому Христос из “Легенды” Достоевского умолкает и целует Великого инквизитора, чье лицо сведено судорогой страдания.
II. Три аспекта зла и лукавый
Из множества проявлений зла можно выделить три характерных его вида: паразитизм, обман и пародию. Во-первых, Лукавый паразитирует на существе, созданном Богом, образуя чудовищный нарост, бесовскую опухоль. Во-вторых, этот Лжец, зарясь на божественные свойства, подменяет равное подобным: “И будете как боги”, как равные им. Наконец, завистливый плагиатор, он пародирует Творца и строит собственное Царство без Бога, имитацию с противоположным знаком.
Философам никогда не удавалось объяснить проблему зла, они ее, скорее, усложнили и запутали. Но для отцов церкви зло, напротив, никогда не было проблемой, ведь речь идет не о том, чтобы вести отвлеченные рассуждения о зле, но о том, чтобы победить Лукавого. Святой мог бы молиться так: “Сохрани нас от всякой пустой спекуляции о зле и избавь нас от Лукавого”. Так же и Библия не говорит об этических принципах, касающихся добра и зла, но открывает Бога и предупреждает о противнике; возвещает она и о “человеке беззакония” последних времен, “сыне погибели”, выдающем себя за Бога (2 Фес 2:3–4).
Дьявол, говорит Христос, в самом сердце своем, “от начала”, – человекоубийца (Ин 8:44). Дух отрицания – прежде всего убийца, убийца собственной истины, истины быть Люцифером, вместилищем божественного света. Он совершает, таким образом, собственное метафизическое самоубийство, утверждается во всецелом отрицании отпечатка Бога, становится одновременно и человекоубийцей, и богоубийцей.
Если для Платона противоположность истине – ошибка, то для более глубокого евангельского уровня – ложь. “Лжец и отец лжи” по своей сути, Лукавый берет на себя страшную роль: умышленно искажать истину. Изначальная извращенность его воли сделала возможной захват свободных пространств, дабы составить некое подобие жизни из лжи. Исайя ясно изображает это действие: “Ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикрыли себя” (Ис 28:15).
Лгать перед лицом Небес – значит противопоставлять себя божественной истине, навязывать миру собственную ее версию. Дьявол самоутверждается как двойник, пытающийся выжить Бога из Его творения, сделать это творение нечувствительным к божественному присутствию и осуществить таким образом колоссальную подмену: “Говорит он в сердце своем: я, и нет иного кроме меня”, – “Вознеслось сердце твое и ты говоришь: я бог”[79].
“Когда говорит он ложь, говорит свое”[80] – это суждение Господа содержит целую философию зла. Всякая ложь по своей природе основывается на чем-то ложном, т. е. несуществующем. “Свое”, то есть сокровенная сущность, из которой Лжец извлекает обман, является, таким образом, небытием. Исходя из этого, св. Григорий Нисский определял зло как имеющее призрачную субстанцию. Бог своим доверием, своим “да”, творит подобия и наполняет все во всем. Лжец своим “нет”, “антидоверием”, уничтожает и опустошает все во всем, образуя “место неподобия”[81]. Тогда как “святые: не они говорят от себя, но Бог”[82], образуя “место подобия”. Страшный секрет Сатаны таит в себе отсутствие онтологического основания, и эта ужасающая пустота вынуждает его заимствовать, захватывать существо, основанное и укорененное в творческом акте Бога. Зло прилепляется к бытию паразитом, высасывает из него кровь и поглощает его.
Писание не философствует. Библия видит в зле не простое отсутствие добра и совершенства, т. е. неполноту, но свободу – падшую и превратившуюся в злую волю. Прибавляя к существующему несуществующее, она превращает его в существо злотворное. Однако это извращение, зло, материализуется и персонифицируется в Лжеца лишь при определенных условиях – когда ему предоставляют онтологический “кров и дом”, что означает возможность, основанную на свободе, обратиться к сознательным или бессознательным пособникам, посвящающим себя служению лжи. В этом служении одержимых злом люди умаляются, дабы обманщик увеличивался и возрастал. Трагедия дьявола в том, что пищи богов, того “хлеба ангельского”, что “ел человек” (Пс 78:25), у него нет, ибо манна небесная – это исполнение воли Отца. Эта воля есть субстанция всякой вещи, учит св. Ириней. Призрачный и алчущий реального, Лукавый вынужден поэтому быть лишь “онтологическим нахлебником” в Божьем мире. Его дикие пирушки, оплаченные порабощением человека, уже в этом мире открывают людям ад, раздвигая границы той пустоты, где Бог отсутствует.
Там же, где нет Бога, нет более и человека. Потеря образа Божия очень быстро приводит к исчезновению и образа человеческого, обесчеловечивает мир, множит “одержимых”. Место Бога занимает давящая одержимость самим собой, само-идол[83], а его печальные утопии грозят со временем изменить и антропологический тип. Человек теряет измерение глубины, измерение Св. Духа, а тот, кто не движим Св. Духом, согласно дерзновенному слову Григория Нисского, не является человеком.
Всякая страсть несет в себе зародыш смерти, поскольку притупляет способность к различению духов. К тому же, цель, как известно, даже добрая, не оправдывает дурные средства, ибо с их помощью она самоотрицается. Напротив, можно утверждать, что доброе средство, направленное на дурную цель, способно изменить ее к лучшему. Весь вопрос в основании и первоисточнике. Соблазны не оправдывают ожиданий, поскольку зло не располагает никаким источником жизни в самом себе, оно наполняет, никогда не насыщая и не утоляя. Не в его власти повторить слова Господа: “Кто будет пить от воды, которую Я дам ему, не будет жаждать вовек” (Ин 4:14). Тот, кто ищет иных источников, питающих страсти, обрекает себя на неутолимую жажду.
В глубине всякого страстного состояния, амбиций, эротизма, азартной игры, наркомании находится простейший механизм обладания, который, будучи однажды преодолен, поражает бесконечной пошлостью своего скудного содержания со скукой в конце. Подобно устрице, выделяющей из себя собственную раковину, всякая идеология, делающая из атеизма страсть, рано или поздно оканчивается секрецией скуки. Проницательные наблюдатели отмечают это весьма симптоматичное состояние души. Это прежде всего тяжеловесная серьезность доктринеров, занятых созданием “нового человека”, который должен “вырабатываться” на фабриках социальной дисциплины. Чтобы сохранить себя, власть над массами, переполненная графиками и статистикой[84], возбуждает и увлекает эти массы лунными пейзажами, весьма двусмысленным миром на земле и пятилетками строительства земного рая. Только вот вместо “нового человека” является все тот же всегдашний, он вечно скучает; здесь ли, там ли, везде человек зевает понемногу. Достоевский и Бодлер говорили, что мир погибнет не по причине войн, но от скуки – невыносимой, необычайной скуки, когда из зевоты, огромной как мир, выйдет дьявол.
Достоевский внимательно изучил это стремительно распространяющееся явление и нашел самый эффективный метод против всякого действия скверны: стоит только выявить его беспримесную сущность, как она тут же оказывается смешной, а все смешное, ставшее очевидным и явным, неминуемо убивает; сам дьявол не всегда ли немного смешон?
Писатель многое почерпнул в юморе столь любимых народом “юродивых Христа ради”. Защищенные своим кажущимся “безумием”, скрывающим предельное смирение и любовь к ближнему, днем они противостояли преступному молчанию и с хлесткой иронией и неотразимым юмором, без колебаний отметали всякую ложь и лицемерную профанацию, ночью же молились обо всех. Они кидали камни в дома “благочестивых” и целовали пороги в домах грешников.
В недавние времена кровавых преследований именно эти “нищие духом” на городских перекрестках проповедовали Евангелие и Царство Божие.
Юмор, подобно смеху, обладает освобождающим действием, он освобождает от бремени социальных функций, от искушения держаться слишком серьезно, а также от чрезмерного страдания в духовной жизни. Открытая, детская веселость – типичная черта великих святых, они веселятся как дети Божии, и божественная Премудрость находит себе отраду в этой игре (Притч 8:31).
III. Ад и инфернальное измерение мира
Иконография
Иконы Православной Церкви углубляют понимание богослужебных текстов, превращают их в созерцательное чтение. Это богословие в образах, наглядностью своего откровения родственное Фаворскому свету. Отсюда – частое использование контраста света и тени, столкновение Небес и ада.
В числе своих харизм Иоаннов Восток, столь восприимчивый к Воскресению, имеет такую же восприимчивость и к теме ада – теме, которую апостол Павел проницательно и лаконично разрабатывает в Послании к Ефесянам: “А «восшел», что означает, как не то, что Он и нисшел в преисподние части земли? Нисшедший, Он же есть и Восшедший превыше всех небес, чтобы наполнить все” (Еф 4:9—10). Мы видим удивительный охват между двумя пределами пути крылатого Агнца: нисшествие в нижнюю точку – преисподнюю, и восшествие в точку высшую – Небеса. Православие замирает, очарованно созерцая “высоту и глубину” Таинства спасения, оно видит в нем безмерность любви Христовой и Его победную весть: “Восшед на высоту, Он пленил плен” (Еф 4:8) [85].
В богослужении Страстной субботы поется: “Ты сошел на землю спасти Адама, но, не найдя его там, снисшел, ища его, даже до ада”[86]. С этим текстом перекликается икона Рождества, на ней мы видим густой мрак пещеры, черный треугольник, где младенец Христос лежит словно в темных недрах преисподней. Чтобы стать в “сердце творения”, Христос мистически помещает свое рождение в ад, в точку предельного отчаяния. Человечество, начиная с Адама, сходит в шеол, мрачное жилище мертвых, и именно туда Христос отправляется в его поисках.
В своем эсхатологическом аспекте икона Рождества, как и всякая икона, пророчески соединяет все события Спасения. Своей неподвижностью младенец уже вошел в покой Великой субботы. “Спит Жизнь, и ад трепещет, и Адам от уз разрешается”[87]. Младенческие пеленки имеют форму пелен погребальных, тех, которые утром Воскресения ангел покажет женам-мироносицам. Излучающий свет младенец выделяется на черном фоне, предвосхищая “сошествие во ад”. Он Сам есть “свет, который во тьме светит”: “Солнце скрылось вместе с Ним, но плоть Бога под землей рассеивает мрак преисподней”[88]. “Свет побеждает тьму, Жизнь уничтожает смерть”[89].
С самого начала своего служения Иисус противостал космическим стихиям, таящим в себе темные силы: воде, воздуху, пустыне. В песнопениях праздника Богоявления Господь обращается к Иоанну Крестителю: “Пророк, гряди и крести Меня… ибо таящегося в водах врага, князя тьмы я спешу погубить, избавляя мир от его сетей и даруя жизнь вечную”[90]. А неосвященные воды – образ смерти-потопа – богослужебные тексты называют “водостланным гробом”[91].
И в самом деле, икона Богоявления представляет Иисуса, входящего в воды Иордана как в “водостланный гроб”. Этот гроб подобен пещере, целиком заключающей Тело Господа (образ погребения, воспроизводимый в таинстве Крещения полным погружением, отражает Пасхальный triduum[92]), дабы “вырвать родоначальника из места мрака”[93]. Следуя прообразующему символизму рождества, икона Богоявления показывает предсошествие во ад: “Погрузившись в воды, Он связал сильного”[94].
Св. Ефрем Сирин сравнивает Богоявление с Крестом-Лестницей: “Подобно Лестнице, достигающей небесных врат, которую видел Иаков; по ней свет сошел в Крещении…”[95] – и Иаков Серугский говорит, что “распятый Христос стоял на земле, как на многоступенчатой лестнице”[96]. Крест – это “древо жизни, выросшее на Голгофе”[97], место великой “космической битвы”[98]. Икона Распятия представляет вертикальную перекладину Креста как descensus и ascensus[99] Слова. В “Деяниях апостола Андрея” говорится: “Часть вбита в землю, дабы соединить земное и преисподнее с небесным”[100]. Поэтому на иконах подножие Креста уходит в пещеру, где покоится голова Адама, это и есть ад[101]. Так и на православном Кресте третья поперечная перекладина под ногами Господа слегка наклонена. Sca-bellum pedum[102], наклоненное вниз, показывает судьбу разбойника слева, а поднятое вверх – разбойника справа. “Мерило праведное”[103] и прорыв в вечность, Крест посреди двух других – как связующее звено между Царством и преисподней.
Икона Воскресения – это “Сошествие во ад”[104]. Избавитель, Христос, согласно апостолу Петру, возвещает пленникам евангелие спасения (1 Петр 4:6): “Ты разбил вечные засовы, удерживавшие пленных”[105]. В молчании Великой пятницы Евхаристия не совершается, ибо Христос в аду. Для земли – это день боли, но для ада Великая пятница – уже Пасха: смерть побеждена и возвещена жизнь вечная. Икона изображает Христа “Живущего… имеющего ключи от смерти и ада” (Откр 1:18). Он окружен мандорлой, сияющим ореолом прославленного тела. В левой руке Он держит свиток – проповедь воскресения находящимся в аду; а “правой Моей рукой Я дал им крещение жизни”. Ногами Он попирает разбитые врата ада. “И простирая руку Свою, сотворил Господь крестное знамение над Адамом и всеми святыми и, держа Адама за правую руку, вышел из ада; и все святые последовали за Ним”[106]. Не из гроба выходит Христос, но “из мертвых”, “покидая опустошенный ад как брачный чертог”[107].
Катехизис первых христиан сосредоточивает внимание на совершенно забытом в ходе истории аспекте таинства Крещения: крещение погружением воспроизводит весь образный ряд спасения, и всякий крещаемый следует этим путем по стопам Господа. Таинство Крещения, таким образом, – это весьма реальное погружение со Христом в Его смерть, а также и сошествие во ад. Св. Иоанн Златоуст ясно говорит об этом: “Погружение в воду и последующий выход из нее символизируют сошествие во ад и исход оттуда”[108]. Свет, воссиявший при Иордане, сияет и в свете крещальном [109], рассеивая адскую тьму. Просветившись, крещаемый таинственно присоединяется к душам, исшедшим со Христом из ада к жизни вечной. Таким образом, креститься – означает не просто умереть и воскреснуть со Христом, но также сойти во ад и выйти оттуда вслед за Ним, ведь ад страшнее смерти. Стоит задуматься над словами одного из свв. отцов: “И небытие, которого они ищут, все же не будет дано им”, ведь именно здесь была одержана решающая победа.
Христос сходит во ад, взяв на Себя Грех. Он несет стигматы Креста, распятой Любви. Необходимо подчеркнуть особое и непосредственное следствие этого: всякий крещеный, воскрешенный со Христом, носит также стигматы священнического попечения (епископии) Христа-Священника, Его апостольской тревоги за судьбу тех, кто в аду. “В нашем сердце есть места, еще не существующие, и чтобы они возникли, в них должно проникнуть страдание”, – напоминает нам Леон Блуа. Образ этой заботы можно найти в “Пастыре” Ерма[110] и у Климента Александрийского[111]: апостолы и отцы церкви сходят после смерти во ад, дабы возвестить спасение и преподать крещение тем, кто этого просит.
Наконец, икона Пятидесятницы изображает собрание апостолов, восседающих сияющим кругом и принимающих огненные языки. Контраст здесь особенно нагляден: внизу из темного проема выходит старый царь, в руках он держит пелену с возложенными на нее двенадцатью свитками. Часто проем отделен тюремной решеткой, подчеркивающей состояние плена. Это Космос в образе старца, пресыщенного днями со времени грехопадения, универсум, плененный князем мира сего. Мрак, его окружающий, изображает “тьму и тень смерти” (Лк 1:79), ад, из которого выходит некрещеный мир, устремляясь, в более светлой части, к апостольскому свету Евангелия. Он протягивает руки, чтобы получить благодать, а двенадцать свитков символизируют проповедь двенадцати апостолов, вселенское обетование спасения.
То же иконографическое содержание прочитывается и в богослужении Пятидесятницы. Великая вечерня, следующая за литургией, содержит три больших молитвы св. Василия, читаемые священником перед коленопреклоненным, в знак особого внимания, народом. Первая молитва представляет Церковь перед лицом Отца; вторая просит Сына о защите всех живущих; третья молит о всех от сотворения мира умерших и отсылает таким образом к сошествию Христа во ад. “Ты, в этот последний и великий день Пятидесятницы открывший нам тайну Святой Троицы; Ты, изливший на нас Духа животворящего… истинное Богопознание… Соблаговоливший принять наши молитвы об искуплении держимых во аде и подающий нам великую надежду увидеть Тебя, дарующего им освобождение от тягостных мучений… Упокой их в месте прохладном… Удостой их избавления, ибо не те, кто во аде, дерзнут принести Тебе исповедание, но мы, живые, благословляем Тебя и умоляем Тебя и очистительные молитвы и жертвы приносим Тебе за души их”[112].
Преизобильная благодать праздника преодолевает все границы. Раз в году, в день Пятидесятницы, Церковь молится даже за самоубийц… Мы еще раз видим охват праздника: от Небес до ада, и от ада – до Небес.
IV. Человеческое страдание
Не получившая догматической разработки, но постоянно звучащая в литургии, тема ада и его судьбы приобретает универсальное значение. Зло не субстанционально. Развращенная, сознательная и завистливая воля к автономии, активно стремящаяся к нарушению всякой нормы, способствует разделению и разлучению. Дурное живет паразитом, образует злокачественные наросты, опухоли. Чем больше оно отнимает у существа, на котором паразитирует, тем сильнее становится болезнь. У него есть такая возможность: Бог создал “другую свободу”; риск, взятый на Себя Богом, уже предвещает “мужа скорбей” и позволяет различить тень Креста, ибо, как гласит поговорка отцов Церкви, Бог может все, кроме одного: заставить человека любить себя… В ожидании любимого Бог отказывается от всемогущества, принимает на Себя кенозис[113], становится “Агнцем, закланным от начала мира”. Его участь среди людей зависит от доверия человечества. Чтобы гарантировать свободу этого доверия, Христос отказывается даже от Своего всеведения. Кажущаяся пассивность Бога скрывает, согласно св. Григорию Назианзину, “страдание бесстрастного Бога”… Бог предвидит худшее, и Его любовь от этого становится лишь более бдительной, ибо человек может отказаться от Бога и построить жизнь на Его отрицании. Что увлечет его за собой: любовь или свобода, какая из этих двух бесконечностей? – вот вопрос, который задает ад.
Восток остается чужд всякому юридическому, исправительному принципу, его понимание греха и отношение к грешнику преимущественно лечебное, тут скорее больница, нежели трибунал. Ничего не “предрешая”, Церковь предает себя Божьему человеколюбию и усиленно молится за живых и мертвых. Некоторые из самых великих святых обретают особое дерзновение и харизму молиться даже о бесах. Возможно, самое гибельное оружие против Лжеца – это именно молитва святого, и участь ада зависит еще и от милосердия святых. Человек сам уготовляет себе ад, закрываясь от божественной Любви, пребывающей неизменной: “Неверно утверждать, что грешники в аду лишены любви Божией… Но любовь действует двояко, она становится страданием в проклятых и радостью в блаженных…”[114]
Всякий верный член Православной Церкви, подходя к причастию, исповедует: “Я – первый из грешников”, то есть больший, или, точнее, вне возможной меры, “единственный грешник”. Св. Амвросий, пастырь и литургист, раскрывая такое положение вещей, дает лаконичную формулировку: “Один и тот же человек одновременно осужден и спасен”[115]. Преп. Исаак говорит о том же, но иначе, как аскет: “Видящий свой грех больше воскрешающего мертвых”. У такого обнажающего реальность видения есть одно важнейшее и парадоксальное следствие. Один очень простой человек признался св. Антонию: глядя на прохожих, я говорю себе: “Все будут спасены, один я осужден”, – и св. Антоний приходит к выводу: “Ад действительно существует, но лишь для меня одного…” Этой любви к людям прекрасно отвечают изумительные слова мусульманского мистика: “И если бы Ты поместил меня среди тех, кто в Геенне, я провел бы вечность, рассказывая им о моей любви к Тебе”[116].
Повторяя слова св. Амвросия, можно сказать, что мир в его целостности тоже “одновременно осужден и спасен”. Более того, возможно, что даже ад в своей приговоренности может найти собственную трансцендентность. Видимо, в этом и заключается смысл слов Христа, обращенных к современному старцу, Силуану Афонскому: “Держи ум твой во аде и не отчаивайся”[117].
Пеги упрекал Данте в том, что тот посетил ад “туристом”. Есть иной опыт сошествия – опыт великих подвижников[118]. “Христос, Свет Истинный, просвещающий и освящающий всякого человека, грядущего в мир…” – гласит молитва первого часа; пусть бессознательно, но все носят Его таинственный след. Поэтому христианам нужно не отчаиваться, но слышать Христа, обращающего к Церкви одни из важнейших слов, какие только дано услышать ее апостолату: “Принимающий вас, Меня принимает…” (Мф 10:40). Судьба мира зависит от нашей способности быть свидетелями Пятидесятницы, от нашей творческой любви к человеку перед лицом адского измерения этого мира.
Все богословское учение об осужденности мира содержится в одной фразе: “Каин, где брат твой Авель?”, но существует еще и тайна Церкви, раскрывающаяся в священнической молитве Христа (Ин 17): “Авель, где брат твой Каин?” Любовь Бога стоит “в начале” (1 Ин 4:9—10) как событие, трансцендентное всякому ответу. Оба Утешителя приходят, чтобы спасти. Достигнув последней глубины, любовь предстает бескорыстной как чистая радость друга Жениха, как радость, живущая сама собой, радость a priori всему. В Ин 14:28 Иисус призывает радоваться великой радостью, причины которой превышают человека, поскольку они – в объективном существовании Бога. В этой прозрачной и царственно свободной радости покоится спасение мира. 20-й стих 13-й главы приглашает нас открыть способ быть “примиренными”, “принятыми” миром. Для Церкви пришло время перестать говорить о Христе, но стать Христом. Горница раздвигает стены до пределов мира, и речь идет о мире в его бунте, в его противлении Богу, ведь Бог возлюбил мир в его грехе (Ин 3:16, 12:32). Невеста принимает образ Жениха. Она есть евхаристический Хлеб, причастие-общение, Дружба. Свет светит не просто, чтобы светить, – он преображает ночь в неугасимый день.
Более чем когда-либо мир ищет непосредственной данности, которая объединила бы людей, ищет “брата человеческого”. И тут только христианская любовь, не подсчитывающая выгод, не мерящая и не ограничивающая, может разорвать замкнутый христианский мир навстречу тому, кто дальше всех от Христа, ибо Христос жаждет быть им принятым. Прп. Симеон назвал себя “бедным братом всех людей”, и он им действительно был. Новый человек не изготавливается на марксистских заводах социального принуждения. “Новая тварь” укоренена в Св. Духе, образующем “апостольские души”. Ее вера серьезна и дела ее очень просты, если смотреть на них в свете веры евангельской: она воскрешает мертвых, когда Господь велит делать это… Исторический час настолько страшен, что взывает ко всем возможностям веры, поэтому апостол Петр приводит пророчество Иоиля (2 Петр 3:10) и возвещает изобилие служений, Пятидесятницу, удваивающую свое излияние в предапокалиптические времена.
Всякий, кто принял крещение, – невидимо стигматизирован, он носит глубокую рану судьбы других, всех других, дополняя чем-то страдания Христа, находящегося в агонии до конца мира. “Подражать” Христу – значит погружаться вслед за ним в пучину этого мира; “подражание” есть выстраивание себя по всецелому Христу и это, по Оригену[119], и есть мученичество, ведь “любовь Бога и любовь человеков есть два аспекта одной всецелой любви”[120]. Моя личная, всегда уникальная позиция – это бороться против моего ада, который угрожает мне в том случае, если я не люблю такою любовью, которая спасает других; спасается тот, кто спасает. Тут есть почти незаметное искушение соскользнуть в активизм и сказать: “Я люблю тебя, чтобы спасти”, апостольская же душа скажет: “Я спасаю тебя, потому что люблю…” На каждой литургии мы поем: “Мы видели свет истинный, мы приняли Духа Небесного” – это воскресная Пятидесятница. Она не разочаровывает, но в ее даре слышится властный призыв: как внести этот потрясающий опыт света в преисподнюю сегодняшнего мира?..
V. Весть Пятидесятницы
“Царство Божие внутри вас” – в этой фразе ощущается биение самого сердца Евангелия. Миры сближаются, границы сглаживаются, мир иной присутствует здесь и сейчас. Таков непосредственный опыт всякого верующего, участвующего в литургии: “Ныне все силы небесные невидимо со-славословят с нами”[121]. Однако эти вторжения “совершенно иного” говорят о том, что и ад также внутри нас. Несмотря на определенную инфляцию этого понятия[122], жизнь во всех своих проявлениях постоянно получает это качественное определение: адские муки несчастной любви, ад семейной жизни, ад чужого присутствия, ад самого себя. Ад, соразмерный человеку, вторгается в нашу интимность, становится пусть страшной, но привычной и знакомой частью жизни. Он, разумеется, не похож на картины средневековых мастеров, Босха, Гойи или пляски смерти, но от этого он становится лишь еще реальней. Дьявол, снимая романтическую маску, тоже становится чем-то будничным и привычным – как тот черт Ивана Карамазова в пиджаке, становится похожим на всех и каждого, таким, каким мы, возможно, встречаем его ежедневно. Он более не притворяется архангелом с опаленными крыльями; более реальный, более человеческий и тем самым более страшный, он походит на нас. Как верно сказал об этом Марсель Жуандо: “Я сам, один, могу воздвигнуть против Бога господство, против которого
Он ничего не может; это ад… Человек не понимает ада – это означает, что он не понял собственного сердца”[123].
Власть титана – власть отказаться от Бога – есть самая передовая позиция человеческой свободы; именно такой – неограниченной – ее пожелал видеть Бог. “Бог никого не может принудить любить”, – учили святые отцы, и в этом – даже страшно выговорить такое – ад Его Любви, небесное измерение ада, прискорбное зрелище человека, который до бесконечности повторяет жест Адама или Иуды, скрываясь в ночи одиночества.
Ад есть не что иное, как отделение человека от Бога, провозглашенная им независимость исключает его из места присутствия Божьего – это и есть ад, как все мы доподлинно знаем. Это ад всех отчаявшихся, познавших глубины Сатаны (Откр 2:24). Но это не целиком их вина, они совершают это по незнанию силы Пятидесятницы, по ужасающему отсутствию подлинных свидетельств. Ядовитый пессимизм разъедает корни жизни, делает безразличным, непроницаемым для благодати, и из преисподней сердца к пустым небесам несутся отчаяние и богохульство. Инфернальный “рай” пролетарской империи нагнетает ядовитые пары чудовищной скуки. Оснащенная всеми техническими возможностями, эта империя пожинает замкнутость человека на самого себя, покинутость, соразмерную тем межпланетным пространствам, где вместо ангелов – ракеты и где начинает глухо рокотать гнев Божий.
Веру или атеизм уже невозможно свести к “личному делу каждого” – privat Sache. Наше время – эпоха универ-сализмов, кафоличности [124] либо Царства, либо антицарства. Потусторонее – священное или секуляризованное – становится апокалиптическим измерением нашего бытия. Здесь исключено всякое “между”, неизбежен выбор между двумя тотальностями: “Бог есть все во всем” или “Бога нет нигде”. Промежуточный тип, как, например, типаж какого-нибудь Макса Штирнера, этот Kleinbürgerlich[125], крошечный обывательский Прометей, похищающий небесный огонь, чтобы сварить кофе или зажечь трубку, скоро
совсем исчезнет с мировой сцены. В жизни появляются новые доминанты, и, поскольку человеческий дух нуждается в вере, они предложат свои собственные абсолюты, хмель и мистическое опьянение. “Какое опьяняющее чувство, – пишет Симона Вейль, – быть членом Тела Христова! Однако сегодня многие иные мистические тела, не имеющие своею главою Христа, дают своим членам опьянение, на мой взгляд, той же природы”[126].
Современная наука – уже не мечта. Мечта эта сверх всяких ожиданий воплотилась в жизнь. Ее стремительный прогресс становится непредсказуем, она покидает лаборатории ученых и вторгается в размышления о бытии, сущности человека и его судьбе. Уже не богословие, не философия, но наука изменяет лицо мира. Кибернетика и автоматика поставляют чудесное дополнение к человеческому мозгу и позволяют делать весьма точные предсказания относительно всего человечества. Власть над биологическими процессами и внеземными пространствами закладывает в человеческое сознание зерна нового пророчествования. Наличествующая de facto всеобщая взаимосвязь обрекает нас на единство судьбы, что чревато своими опасностями. Ученые взывают к нам с тревогой: “Я – человек, которому страшно, – говорит Гарольд Урси, – и который хочет, чтобы и другие разделили его страх”[127]. Наука и техника включаются в политический контекст и дают ему почти неограниченную власть над людьми, как в “1984” Оруэлла.
Человечество, искусно дозируя или подавляя свои критические способности, рискует сузить себя до рационально обусловленных и заранее предусмотренных поступков. Гармоничное взаимодействие между материальным прогрессом и духовным возрастанием становится все более проблематичным, и его неведомое будущее исполосовано неведомыми тенями. Существование в отрыве от Бога построено на отказе от Бога. Есть опасность, что наука, полезная сама по себе, займет позицию активного противостояния Богу. Антихрист из “Легенды” Владимира Соловьева станет благодетелем человечества, превосходным ученым, дарующим хлеб, чудеса техники и мирную жизнь…
Ситуация в современном мире взывает к христианскому сознанию, вопрошает и обличает его. Если коммунизм воплощается в жизнь, то только потому, что неверные своему Евангелию христиане не смогли воплотить Царства Божия на земле. Если сегодняшняя мысль несет бремя отчаяния и пустоты, то это потому, что христианская надежда потеряла “утешение из Писаний” (Рим 15:4) и уже не стоит на уровне божественного обетования. Если существует абстрактное искусство, то потому, что фигуративное ничего не изображает, поскольку не воплощает никакого духа, не излучает никакого света. Сюрреализм возникает лишь там, где человек перестает чувствовать огонь вещей [128] и сокровенное содержание реальности. Чудеса техники, согласно Апокалипсису (Откр 13:13), – это не более чем пародия на огненные языки Пятидесятницы. В сердце адской жизни человек чувствует себя обреченным на полное одиночество. Слово “шеол” означает темное место, а “ад” по-гречески – место, где не видят, где ни один взгляд не встречается с другим, в аду не бывает vis-a-vis. “Вот слезы угнетенных, а Утешителя у них нет…” (Еккл 4:1).
Здесь весть Пятидесятницы обретает весь свой размах. От лица всех людей Христос возопил: “Для чего Ты оставил Меня?” Этот вопль пошатнул основания ада и сотряс чрево Отца. Но Отец, посылающий Сына, знает, что даже ад – Его владение, и “врата смерти” превратились во “врата жизни”. Даже адское отчаяние затронуто надеждой, изначально в нем присутствующей, и христианам не пристало отчаиваться… Рука, протянутая ко Христу, никогда не останется пустой. Четвертое Евангелие описывает Иуду протягивающим руку. Влагая в нее евхаристический Хлеб[129], Христос бросает последний вызов Злу, ночи, сгустившейся до предела. Пальцы Иуды смыкаются на закланном Агнце, и он выходит. “Была ночь”, или, как написано у бл. Августина: “Вышедший сам был ночью”[130]. Ночь принимает его и скрывает страшную тайну общения с Сатаной. Сатана – в Иуде. Но Иуда уносит в своей руке, руке Сатаны, другую страшную тайну. Ад хранит в своем чреве этот кусок хлеба, частичку света; не есть ли она верное и точное исполнение слов: “И свет во тьме светит”? Жест Господа выявляет глубочайшую тайну Церкви: она есть рука Иисуса, дарующая евхаристический Хлеб, этот призыв обращен ко всем, так как все находятся во власти князя тьмы. Свет еще не рассеивает мрака, но тьма не имеет власти над этим непобедимым Светом[131]. Все мы находимся в поле крайнего напряжения божественной любви.
На этом уровне мы обнаруживаем уже не отрицание, но потребность в аде, исток которой – в свободе человека. Перед лицом Бога, никого не заставляющего любить, ад свидетельствует о нашей свободе любить Бога. Свобода и порождает ад, ибо всегда человек может сказать: “Да не будет воля Твоя” – и даже Бог не имеет власти над этими словами.
Бог есть это mysterium fascinosum [132] всецело и навеки. Он не гениальный Архитектор, воплощающий свои совершенные и гармоничные проекты. На пороге новой жизни вбит Крест – безумие и соблазн, вносящий диссонанс в любой чересчур геометричный, “евклидов”, как сказал бы Достоевский, рисунок. Доводы сердца дают нам почувствовать, что наша икона Бога становится сомнительной, если Бог не любит своего творения так, что уже не может не наказывать его, но она также будет сомнительной, если Бог не спасает любимого, не затрагивая и не нарушая его свободы.
“Ад – это другие”, – говорит Сартр. Христианин сказал бы: “Судьба других – вот мой ад”. Отец передал весь суд Сыну Человеческому, и это “Суд над судом”[133], распятый суд. “Отец – Любовь распинающая, Сын – Любовь распинаемая, Дух Святой – Любовь, торжествующая силой крестной”[134]. Это невидимое могущество раскрывается в излиянии Св. Духа, и всякий принявший крещение получает его. Если отчаявшиеся познают глубины Сатаны, то Евангелие призывает верующих “двигать горы”. Не означает ли это для нас – сдвинуть адскую гору современного мира, его небытие, в сторону сияющего бытия Пятидесятницы и ее новых измерений Жизни: “Вот, Я предложил тебе сегодня жизнь или смерть…” “Ночь” западных мистиков, “богооставленность” восточных подвижников говорят о сошествии во ад. Для того, кто внимателен к миру, опыт ада неизбежен.
В Пасхальную ночь, согласно традиции православной Церкви, с началом заутрени в безмолвии исхода субботы священник и народ покидают храм. Процессия останавливается снаружи, перед закрытыми дверями, и на краткий миг эти двери символизируют гроб Христов, смерть, ад. Священник творит крестное знамение, под его необоримой силой двери широко распахиваются, и все, входя в залитый светом храм, поют: “Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав”. Врата адовы вновь стали вратами Церкви. Невозможно дальше пойти в символике праздника… Да, мир одновременно осужден и спасен, он одновременно ад и Царство Божие…
Когда, читая апостольский Символ веры, мы исповедуем: “Верую в Духа Святого во Святой Церкви”, это означает: “В Духа Святого, сошедшего в Церковь в день Пятидесятницы” – это увековеченная Пятидесятница и начало Парусии, совершающейся в истории. Это время не уводит человека от мира, но облегчает тяжесть мира и ободряет человека веянием Духа. В нашем мире телевидения, дистанционного управления, ультразвука, межпланетных полетов, в этом одновременно атеистическом и верующем, райском и адском, но неизменно любимом Богом мире, человек призван к чуду веры. Как некогда Авраам, он отправляется в путь, не зная куда и зачем, он знает только, что несет в сердце язык пламени, и может лишь повторить крылатую фразу св. Иоанна Лествичника: “Иду, воспевая Тебя…”
VI. Отцы пустыни
Единичные усилия отцов пустыни и, позже, монашества в непрекращающейся борьбе со Злом, Лукавым и адом сырали решающую роль в судьбе христианства. Следуя их примеру, современный верующий ставит перед собой ту же задачу, только в крайне облегченном виде, и живет наследием этого славного и в высшей степени назидательного прошлого.
Эсхатологические тексты Писания помещают историю между Воплощением и Парусией. Время предстает полностью соотнесенным с возвращением Христа, которое застает нас врасплох “как вор в ночи”. В качественном отношении, со дня Пятидесятницы мы живем в последние времена, и наступающая Парусия уже лишает века их кажущейся стабильности. Для “любящего явление Его” [135](2 Тим 4:8) христианский Град, построением которого занялась Константиновская империя, – дело глубоко двусмысленное, и поэтому монашеская аскеза девственности решила приблизить конец света угасанием человеческого рода. Если историю начинает супружеская пара, то завершает ее воздержание, утверждает Досифей в III веке. Несколько позже Василий Анкирский пишет: “Теперь, когда земля была засеяна… девство… произрастит из тела цветы нетления”[136]. Обет безбрачия, массовый отказ от продолжения рода выражает крайнюю позицию в отношении истории и будущего жизни на земле. Евангельский образ внезапного конца ставит акцент на предсмертном состоянии мира, читающего в самом себе собственную агонию и приближающегося к своему неотвратимому исчезновению, которое все откладывается и откладывается. В связи с этим радикальный разрыв монашества с обществом неизбежен.
Здесь происходит совершенно парадоксальное “переворачивание” ситуации: уже не языческий мир гонит мученика и борется с ним, но отшельник переходит в атаку и гонит мир своим бытием. Отцы пустыни воссоздают героический климат борьбы первых веков и находят эквивалент агрессии гонений. Арены, где хищники разрывали мучеников, уступают место необъятной сцене пустыни, на которой возникают хищники куда более жуткие, где восстают различимые тени демонических сил. “Искушение св. Антония” или Иоанна Египетского рисуют поражающую воображение картину искушения Ужасом, нашедшую весьма достоверное отображение в искусстве Иеронима Босха.
Погружаясь в бесконечное одиночество, отшельники хотели проникнуть на территорию демонов, дабы, вступив с ними в ближний бой, тем успешнее их поразить. Они превращали пустыню в пустыню самих себя, более страшную, нежели просто необитаемое место или уединение. Речь идет о том одиночестве, которого пожелал человеческий дух, его посещают демоны полуденного зноя и ночного отчаяния. Только аскеза, приправленная крайним мужеством, смогла, по словам св. Бенедикта, по достоинству оценить противника и противостать ему в этом “поединке”.
Разрыв с миром идет гораздо дальше простого удаления от людей. Совершенство расположилось на окраине мира, но не для того, чтобы найти убежище, а чтобы построить новый мир, предвосхищающий Град небесный. Аскеты рассматривали пустынные места как промежуточную зону между миром профанным и Царством. Изгнание становится паломничеством homo viator[137] в поисках своих небесных истоков. Отшельники – не изгнанники, но “атлеты изгнания”, борцы на аванпостах и, прежде всего, как их замечательно определяет св. Макарий, “люди, опьяненные Богом”[138]. Собираясь вместе, они стали провозвестниками будущих общин и республик монахов (гора Афон), которые строятся не вне, но на месте этого мира и которые по природе своей суть реальное отрицание профанного общества. Для того, кто полностью обращен к Востоку, конформизм оказывается неприемлем.
Прп. Пахомий, как твердо верили его ученики, основал свою монастырскую общину, насчитывавшую до восьми тысяч членов, по “ангельскому уставу”, который был ему продиктован. Оба письма, оставленные им своим преемникам, написаны на неизвестном языке, “языке ангелов”. Этот символизм характерен, он призван показать трансцендентное происхождение монашеской общины, порывающей с основами града человеческого. Отшельник – Божий мятежник, а “монастырь – земное Небо”, – говорит прп. Иоанн Лествичник[139]. Он провозглашает упразднение профанной истории и возвещает пришествие нового Града, населенного новыми людьми. Если всякий человек создан “по подобию”, то служба святым-монахам называет их “преподобными” образу Божию и почитает их как “земных ангелов и небесных людей”.
Уход из мира предполагает вхождение в иной мир, требующее последовательной стратегии. Предварительная аскеза уничтожает позорное наследие, дабы воссоздать очищенное человеческое существо. Она особенно экспериментирует с “противоестественными”, нонконформистскими условиями жизни, как если бы мир живых более не существовал или представлял собой лишь фальшивый, ирреальный аспект бытия. Дабы принести топор покаяния к корням преступного поведения и конформизма, “умирание для мира” в крайних формах пустыннической аскезы поражает некоторой даже неестественной асимметрией, достигающей подчас явного уродства, прямо противопоставляемого профанным идеалам этики и эстетики.
Так, “пасущиеся”[140] (боски) кормятся прямо от земли, травами и кореньями. Они, подобно Адаму, прячутся в кустах, скрываются от людей и породняются с животным миром. Прп. Ефрем Сирин, прозванный “цитрой Св. Духа”, пишет в “Похвале отшельникам”: “Они скитаются в пустыне с дикими зверями, как будто и сами они дикие”. Они живут как лишенные веса, и то, что еще остается в них от плоти, освобождается от накопленных ядов. По виду они подражают жизни животных, облекаются второй природой совсем как “безумные во Христе” – эти совершенные актеры, – дабы создать атмосферу презрения и низости, стать “самыми малыми” этого мира, дойти до предела смирения.
Так же необычна жизнь “затворников”: отказываясь от света и слова, они заживо погребают себя во тьме древних гробниц или подземных пещер. В этом можно видеть испытание оставленностью, одиночеством, безмолвием – опыт, предвосхищающий состояние смерти. “Чаще молитесь в гробах и запечатлите их неизгладимый образ в ваших сердцах”, – советует всем прп. Иоанн Лествичник[141], – дабы сделать смерть привычной, пережить и осмыслить ее тайну еще до кончины. Затворники противопоставляют безмолвие уст смятению охваченной пламенем души. “Не суди никого и научись безмолвию”, – говорит прп. Макарий, ибо, поясняет прп. Исаак, “молчание станет языком будущего века”[142].
“Дендриты” заключают себя в дупла деревьев, чтобы не касаться более земли, оскверненной человеком. Они переживают, подобно Ною в ковчеге, опыт человечества, благодатью Божией спасенного из осужденного мира. Своим удалением они свидетельствуют о глубине падения человека, в их покаянных слезах воды потопа смешиваются с водами крещения, среди ветвей и ветров они ведут жизнь птиц, упоенных небом и Богом.
“Стоящие” остаются неподвижными, застывшими, с руками, сложенными крестом, в непрестанной молитве, они – живой символ вертикального призвания человека и его духа, стремящегося к Вышнему. Еще дальше них идут “столпники”: поднявшись на высокие столпы, властвуя над всякой суетой и волнением, они уже находятся между небом и землей, ближе к небу, на последней ступени “лестницы Рая”.
Все эти формы представляют собой весьма загадочное явление. Отказ от града человеческого и от истории ведет к возвращению к доисторическим условиям жизни. Слова “будьте как дети” поняты буквально, но это “духовное детство” скрывает удивительную глубину. У св. Исаака мы читаем: “Простираясь пред Богом в молитве, стань в суждении своем о себе подобным муравью, земляному червю, скарабею. Не говори пред Богом как человек, обладающий знанием, но лепечи перед Лицем Его, приближайся к Нему с духом ребенка”[143].
Внешне такая аскеза поражает почти нечеловеческими крайностями, но за всем этим открывается большая трезвенность и точная мера. Те скупые слова, в которых Исихий описывает тишину сердца, совершенную нерассеянность мыслей, открывают глубокое знание человеческой души.
В такой атмосфере сверхъестественное и чудесное уже не удивляет, становясь нормой для внутренне накаленной личности. Так, “старец Иосиф поднялся и простер руки к небу: и руки его сделались подобны десяти возжженным свечам. И он сказал авве Лоту: “Если хочешь быть совершенным, стань весь огнем”[144]. Пустынническая аскеза несет в себе крещение огнем.
Для историка велико искушение расценить пустынническую аскезу как помрачение ума и дать ей “шутовское описание”[145]. Университетский ученый XX века без всяких оснований, просто автоматически свел бы сокровенную глубину к ее внешним проявлениям – не столько тем, что он говорит, сколько тем, что он о ней не говорит и даже не подозревает. Отцы же, признавая бессилие слов, советуют почтить тайну молчанием. Именно это и делает икона. Икона святого ничего не говорит о его анатомии, не дает никаких исторических, топографических, социологических деталей, но являет нам сияние человека поверх истории. Святой принимает и несет в себе историю, но показывает ее по-другому; он выявляет в ней новое измерение, раскрывает ее смысл в свете Конца и метаисторического синтеза. Жития отцов пустыни следует читать иконографически, подобно тому, как созерцают икону.
Ставить вопрос: культура или святость[146] – не значит ли ломиться в открытую дверь? Гармоничная традиция должна утверждать культуру и святость. Однако, чтобы сделать это окончательно и закрепить равновесие, потребовалось сначала диалектически пройти через крайнюю поляризацию понятий. Проходя этим путем, аскеза пустыни открывает свои евангельские корни. Дух Святой возводит Иисуса в пустыню для встречи с дьяволом. Таинственное время сорока дней молчания вводит Его в служение слова. “Кто приобрел слово Иисусово, тот истинно может слышать и Его безмолвие”, – говорит св. Игнатий Антиохийский[147]. Предание Церкви и есть это молитвенное безмолвие, питающее Слово, именно из него выходят литургия и икона. Молчание и слово, святость и культура проникают и дополняют друг друга.
Было бы грубейшей ошибкой видеть в пустыне лишь отбросы монашества, людей невежественных и живущих в атмосфере позорного унижения. Если мы не проникнем до глубинных мотиваций духа, мы пройдем мимо уникального факта, имевшего столь важные последствия для судьбы христианства, что их трудно переоценить. Аскеза пустыни формирует неотъемлемый диалектический компонент христианской духовности. Разумеется, она принадлежит минувшему духовному этапу, всякое возвращение в пустыню теперь было бы неприемлемым разрывом в традиции; и тем не менее эта аскеза сохраняет свое непреходящее значение для всех этапов и времен, она есть замок свода всей последующей монашеской традиции.
Не средствами культуры, но голыми руками аскеты удержали христианский идеал на его трансцендентной высоте, и это – чудо. Они верно поняли дух Евангелия: не путь является невозможным, но невозможное является путем, и они им прошли.
Влияние, оказываемое аскезой, – прежде всего педагогическое. Человек, живущий в миру, даже самый суетный, знал, что где-то, на его месте, есть настоящие люди, которые в молчании сердца разговаривают с ангелами и завоевывают жизнь будущего века. Люди толпами приходили, чтобы увидеть столпников, запечатлевая в сердце образ этого “упоения Богом”. Некоторые, дабы всегда иметь этот образ перед глазами, делали обобщенный рисунок, прототип иконы.
“Добродетелью (virtu) Духа и духовным возрождением человек поднят до достоинства первого Адама”, – говорит св. Макарий [148]. Аскеза уменьшает последствия первородного позора и являет власть духа. “Бестиарий” пустыни рассказывает об удивительной дружбе: дикие звери чуяли “райское благоухание” святых и в конце концов очеловечивались, перенимая у них ласковый и умный взгляд. Отшельники возродили эту привилегию человека, которому Богом предназначено было быть космическим глаголом и царем вселенной[149].
Мир в этом максимализме аскетов обретает точку отсчета, мерную шкалу и начинает ощущать страшную пошлость и пресность всякого духа достаточности. Перед лицом благоразумия: “Бог не требует столького” – аскеза провозглашает страшную ревность Бога, Который, отдав всего Себя, требует всего и от человека. Отцы-пустынники оставили нам икону этого всецелого дара. Крайности здесь лишь помогают привлечь внимание, так, чтобы всякий человек задался вопросом о собственном “возможном”. Образ христианина не был бы тем, что он есть, без этой аскезы, чье очищающее дуновение, исходящее из Абсолюта, бессознательно ощущается нами сквозь века.
Можно пойти еще глубже: аскетический отказ от культуры был поиском единого на потребу. Необходимо было, чтобы это желание стало страстью к совершенству: “продай все, что у тебя есть”, даже “продай все, что ты есть”. В таком совершенстве позиции все становится единым движением, несением креста: “да отречется от себя и возьмет крест свой”. Это еще не Литургия, но ее предварение, проскомидия, где сжато показан впечатляющий путь жертвоприношения.
“Смолотые в жерновах смирения”, аскеты жертвуют собой, чтобы позднее другие воспользовались “девственностью духа” и дали начало христианской культуре. Сама по себе аскеза – отнюдь не идеал, она лишь представляет кульминационную точку очищения. Тертуллиан, будучи уже сектантским полемистом, ставит вопрос: “Есть ли что общее между Афинами и Иерусалимом, между Академией и Церковью?” И продолжает: “Любопытство заканчивается после Евангелия”[150]. Однако и начинается любопытство после Евангелия, но иначе, чем прежде.
Мир и покой опасны тем, что могут свести на нет такое любопытство; аскеза, вобрав в себя гонения, затем обрела истинный мир в исихазме, но на этот раз уже вкупе с созерцательным познанием Бога и мира в Фаворском свете.
Аскеза уничтожает последствия того поступка, совершив который Адам перестал быть вполне самим собой, желая принадлежать себе и отказываясь превзойти себя в Боге. Следуя за Христом в Его послушании, она возвращает, таким образом, человеку призвание Адама. Мученики подражали Христу распятому, аскеты тоже “подражают”, т. е. принимают буквально евангельские заповеди: “Если же рука твоя… нога твоя… глаз твой соблазняют тебя, отруби их… лучше кривым и калекой войти в Царство, чем быть ввергнутым в огонь вечный… ибо каждый будет осолен огнем” (Мк 9:43–49). В героической атмосфере пустыни эти соль и огонь – не только метафоры. Здесь, желая подчинить инстинкты нравственности, их “заковывают в цепи” весьма реальные и весьма тяжелые. Духовное откровение возводит столпников на столпы. Св. Антоний одновременно достигает пика размышления и вершины горы Колзум. Сухая выжженная пустыня цветет как “луг духовный”; чаянием Царства монастыри и пустыня превращаются в микроскопическую частичку будущего Града небесного.
Душа, выведенная однажды из небытия, жаждет вернуться к истокам, нуждается в обновляющем перетворении, в том, чтобы быть разрушенной и воссозданной из последовательно очищенных элементов. Цель, которую преследует аскеза, – первозданнее падшей природы, ее место – в доконцептуальном, доэмоциональном, доволевом центре, она хочет коснуться девственного “Я”, созданного “по образу Божию”. В крайних формах аскезы видна попытка изменить удел человека изменением психосоматических элементов. Об этом говорит св. Макарий в “Гомилиях”: “Когда апостол увещевает: совлекитесь ветхого человека, он имеет в виду всего человека, он хочет сказать: имейте иные глаза, нежели свои, иную голову, нежели свою, уши, руки, ноги, которые уже не свои”. Прп. Симеон Новый Богослов пишет об этом в “Гимнах” на языке мистики: “Руки мои – руки несчастного, и ноги мои – ноги Христовы. Я, недостойный, я – нога и рука Христовы. Я поднимаю руку мою, и рука моя – вся Христос, ибо божественность Бога соединилась со мной нераздельно”.
“Апостольский человек” подвижников ускользает от законов мира сего и предвосхищает человека вечности. Хотя изменение и носит совершенно внутренний характер, его радикальность иногда символически подчеркивается тем, что затрагивает и внешность человека, как это происходит со св. Алексием “человеком Божиим”, который после возвращения из пустыни принят в собственном доме как нищий, и никто не узнает его. Одна женщина, Афанасия, присоединяется в пустыне к своему мужу под видом мужчины и остается неузнанной до самой смерти. Все связи, даже само половое различие, становятся чужды им, а сами они – миру.
Аскетическая практика “возвращает чистоту телесной почве”. Атлет упражняет тело, аскет – плоть. На иконах мы видим людей, чья плоть не имеет ни веса, ни земного притяжения; существ, живущих в новом измерении. Они лишены материальности, вещественности, но не реальности, более того – они реальнее остальных, поскольку превзошли самих себя.
Аскеза одиночества гасит даже огни и цвета внешнего мира, дабы сосредоточить взгляд вовнутрь. Аскеты проявляют совершенное безразличие к общественным приличиям. “Облеченные космосом”, они часто появляются нагими, вновь обретая утраченную невинность. Они не хотят причинить зла даже самому малому насекомому и действуют не извне, не “над”, но изнутри, из космической, бесконечной любви.
Отвержение осужденного мира приводит к отказу от всех достижений человеческого общества. Крайние формы аскезы доводят до умышленной регрессии в состояние дородовое, минеральное, растительное, животное, до поведения, противного условиям человеческого существования и общепринятым нормам. Аскеты доходят до адамовой наготы, до физического и психического бесстрастия, совлекаясь даже собственно человеческих признаков: прямохождения, дискурсивного мышления, речи, отдыха; перестают нормально реагировать на потребности плоти – и все это для того, чтобы в корне очистить все составные части человеческого существа и воссоздать нового человека – нового не только духовно, но и биологически. Восток мыслит спасение с терапевтической точки зрения, видит в нем прежде всего исцеление от смерти жизнью вечной. Он избегает юридических отношений и даже Искупление выражает в биологических понятиях: не ошибку исправляют, но природа исправляется во Христе.
Аскеза хочет сказать, что встреча с Богом не может произойти в состоянии падшей природы. Бог остается внешним в той мере, в какой страсти остаются внутренними и “я” отождествляется с "темными духами, гнездящимися где-то вокруг сердца”[151]. Восхождение к Богу начинается с погружения в себя – “познай самого себя”, – дабы выявить уводящие от Бога страсти и избавиться от них. Это первоначальный этап, называемый praxis или practike, когда человек приобретает навык такого выявления и очищения. Так, быть всеми презираемым и побиваемым – очистительное средство от вожделений, поясняет прп. Иоанн Лествичник, говоря о смирении[152]. Уклонение от любого умозрения производит впечатление “отупения”, но это лишь предварительное средство, чтобы отыскать “место сердца”, “место Бога”. Однако всякая попытка найти то, что “сокрыто в тумане страстей”, вызывает немедленную реакцию мрачного “подземелья”, темного мира подсознания.
С поистине психотерапевтической проницательностью святые открывают действия темных сил ниже порога сознания.
Аскеза пустыни – это всесторонний психоанализ, сопровождаемый психосинтезом универсальной человеческой души. Ориген, гениальный комментатор, сравнивает пустыню с Платоновой пещерой. Пустыня со всем своим арсеналом фантасмагорий – театр теней, зрелище для людей и для ангелов, с той разницей, что здесь тени отражают не внешнюю реальность, но суть проекция внутреннего мира человека.
Для авторов Нового завета, как и для отцов, мир до Христа был миром околдованным. Евангелие говорит об одержимых бесами, о противоборствующих силах, об извращенности человеческого сердца. Открывающиеся пропасти полны нечисти, в тайных изгибах скрываются темные силы и руководят нами, если мы невежественны или невнимательны. Аскеза воспитывает внимание и начинается с экспериментальной феноменологии внутреннего мира человека. Надо было материализовать и персонифицировать извращенные элементы бытия, отвратительное “я” с его самолюбием, скепсисом и демоническим двойником. Прежде всего нужно было вырвать их с корнем, “изблевать” и объективировать, дабы взглянуть им в лицо, увидеть их отчужденными, внешними. Такая “объективация” создает дистанцию, позволяет проецировать все эти внутренние элементы как на экран (Платонов театр теней) под видом чудовищ, хищников и демонов. Хирургическое вмешательство требует очень точной фиксации подлинной сущности врага, чтобы отсечь всякую связь и общение с ним. Иероним Босх дает свою художественную интерпретацию этой ужасающей инфернальной иконографии.
Отцы пустыни раз и навсегда проделали эту грандиозную работу за всех и для всех: “Тот, кто увидел себя таким, каков он есть, кто увидел свой грех, – больше воскрешающего мертвых” [153]. Они показали человека в его наготе, описали все темные силы зла и каждой дали имя. Потаенная игра человеческого и демонического была раскрыта и показана при свете дня. После такого раскрытия человек, приходящий и готовящийся к исповеди, знает, что ему надлежит делать и что произойдет. Всякий раз он воспроизводит опыт отцов пустыни, он может посмотреть в себя, но теперь он не будет потрясен неизвестностью. Чтобы не задыхаться наедине со своим грехом и с собственной виновностью, он может распознать действующие в нем силы и очиститься от них через исповедь. Здесь один лишь Христос, абсолютная невинность и абсолютная жертва, может произвести уникальную животворящую перемену: “Он стер осуждавшую нас рукопись… которая была против нас” (Кол 2:14). Отпущение грехов в таинстве покаяния воспроизводит это действие Христа, стирает грех и возвращает человеку невинность.
Когда аскеза покинет пустыню-пещеру и распространится в мире, экраны и тени исчезнут, все вновь возвратится внутрь человека, но теперь – по-иному. Восстановленная иерархия очищенных ценностей позволяет увидеть зло до того, как придет искушение его совершить.
Метафизическое единство человеческого рода, коллективное бессознательное, лежащее в корнях сознания, обусловливают и объясняют мистический факт: человеческая природа до и после Воплощения – различна. Можно сказать также, что человеческое сознание различно до и после пустыннической аскезы. Подобно событию Пятидесятницы, аскеза изменила энергетические доминанты души, обновила дух.
На предельной глубине человеческого духа целительный процесс, именуемый “пустыней”, становится всеобщим, это – как коллективная рвота, выявление и выброс наружу скопившейся там первородной нечистоты. В этом, возможно, смысл слов апостола П авла: “Восполнять недостающее скорбям Христовым” – чем-то, чего безгрешный Христос не мог совершить за человека. Ибо речь идет о его свободе и о том, что только грешный человек пустыни мог совершить за всех и для всех. В положительном смысле – это сложение аскетического Архетипа человека. Он предуготовляет “неистовых” для борьбы со злом и с Лукавым как в самом человеке, так и в окружающем его мире.
Реальность бесов не исчерпывается одной лишь человеческой греховностью. То, что говорят о бесах столь авторитетные люди, как св. Афанасий, св. Кассиан, св. Бенедикт, должно придать осторожности критическому разуму, видящему тут лишь одно мракобесие. Реальность сложнее – об этом говорит нам Евангелие, об этом свидетельствует экзорцизм.
В Евангелии говорится о нечистом духе, который, найдя душу человека “выметенной и убранной”, возвращается в нее с семью другими. Аскеза очищает душу; она же продолжает оберегать ее подобно неусыпному стражу.
Разумеется, теперь возврат к опыту пустыни невозможен. Мы относимся к различным временам и, что еще важнее, к различным этапам духовного возрастания; запаздывание с одной стороны и опережение – с другой не позволяют точно их датировать, но ясно, что вне зависимости от хронологии люди, подобные Евагрию, Макарию (автору “Духовных бесед”), Диадоху, принадлежат иному этапу, нежели пустынническая аскеза. Коллективная проекция[154] завершена, и всякая попытка ее продолжить становится опасной иллюзией. Чрезмерный самоанализ и одержимость угрызениями совести не одобряются как состояния болезненные. Поставив себя в антисоциальные условия, аскеза приготовила возвращение нового человека в историю. Полный цикл завершается: монашество, чьи корни лежат вне истории, становится той религиозной силой, которая наиболее сильно на нее повлияет.
Традиция искусно восстанавливает равновесие: на смену катарсису пустыни пришло учение святых о новой и окончательной самоуглубленности: ’’Войди в душу твою и найди в ней Бога, ангелов и Царство”[155]. “Очищенное сердце становится внутренним Небом”[156]. Уже не экстремальные условия жизни, но подлинная молитва делает монаха isangelos, равным ангелам[157]. В Уставе св. Бенедикта подчеркивается: “Все, что прежде соблюдали с ужасом и из-за страха перед адом, теперь сохраняем любовию Христовой”[158].
Молитва принимает участие в бытии всей вселенной, “сердце возгорается любовью ко всей твари” (св. Макарий, св. Исаак). В космической любви святых расцветает обновленное сознание.
Можно привести наугад некоторые меры, предпринятые для того мощного оздоровления, приведшего к уравновешенной аскезе. Все крайности по необходимости сглаживаются или даже порицаются соборным гласом. Так, Анкирский собор чуть не осудил упорство аскетов, отказывавшихся есть овощи, сваренные вместе с мясом. Кассиан говорит, что обе крайности одинаково вредны – и чрезмерность поста, и пресыщение чрева [159]. Такой же энергичный отпор был оказан энкратическим и гностическим тенденциям, презирающим плоть мира и супружество.
Когда св. Симеон Столпник приковал себя цепью за ногу, чтобы свести движение к необходимому минимуму, патриарх Антиохийский Мелетий заметил ему, что и одним усилием воли можно достичь неподвижности.
Текст VI века повествует о Феодуле Столпнике, проведшем 48 лет на столпе. На его наивный вопрос о будущей награде ангел ответил, что она будет та же, что и актеру из Дамаска, который отдал все свое состояние женщине, находившейся в жестокой нужде. “История монашества” (гл. XIV) повествует об эпизоде из жизни Пафнутия, великого аскета: он просил Бога показать ему совершенных, с которыми он сравнялся. В видении ему предстают трое: разбойник, спасший заблудившуюся в пустыне женщину, деревенский староста, справедливый и великодушный ко всем, и торговец жемчугом, раздающий сокровища бедным. “Луг духовный” Иоанна Мосха описывает, как молодой монах, смело посещающий таверны и сохраняющий при этом чистоту сердца, вызывает зависть у старого монаха, 50 лет проведшего в Скиту и не достигшего такой чистоты.
Под педагогическим воздействием Церкви мы познали евангельское учение: отныне дела милосердия превосходят чрезмерные аскетические подвиги и становятся в центре. В “Апофтегмах” рассказывается, как один отшельник, прожив 40 лет в пустыне, говорил настоятелю большого монастыря: “Солнце никогда не видело меня за едой”, на что тот живо ответил: “А меня – в гневе”.
Св. Василий, долгое время прожив с монахами в Египте и Сирии, вместе со св. Григорием Назианзином составил два монашеских правила, которые позднее вдохновили св. Бенедикта. Глубоко впечатленный пустыней он, однако, считается с историей и пишет как отец Церкви. Глядя в будущее, он сознательно придает меньше значения отречению от мира и больше – любви к ближнему и служению людям. Так, если монашество и оставляет мир, то только для того, чтобы тут же его благословить из своего убежища и хранить в своей непрестанной молитве. “Совершенный становится равен апостолам – он может вернуться к людям и рассказать им, что он увидел в Боге. Он может и должен это сделать, он просто не может поступить иначе”[160]. Св. Максим Исповедник яростно выступал против всякого пессимизма неоплатонического толка, а аскеза св. Исаака Сирина поражает максимально высокой оценкой человека и всего творения Божия.
Традиция исихазма придает особое значение участию тела в развитии духа. Эта аскеза ищет не страдания и скорби, но стойкости, связанной с воздержанием, отпора рассеянности и сердечного внимания к главному. Здесь ясно утверждается великая истина Евангелия: духовный человек духовен целиком – и душой, и телом. Св. Григорий Палама видит в этом привилегию человека и его превосходство над ангелами.
В X и XI вв. в великой Афонской лавре берет начало очень своеобразный опыт. Ее эсхатологический климат выражается в традиции Иисусовой молитвы и Фаворского света. Евангельский рассказ о Преображении показывает этот свет как предвосхищение Парусии и Царства. Но после Пятидесятницы свет скрывается внутрь человека. Лишь в редких случаях он может проявляться и тогда становится заметен для преображенных чувств. Человек, созерцающий его внутри или вовне, сам становится светом, поскольку свет – и предмет созерцания, и средство созерцания. Нимбы на иконах свидетельствуют, что телесная лучезарность святых онтологически нормативна, симптоматична для состояния новой твари.
Глазами естественными, но преображенными, святой созерцает невещественный свет. Но такие видения и знания – всегда дар, они никогда не являются “обладанием” божественным. Бог, являясь, сохраняет свою тайну и полную трансцендентность. Даже если Он дарует нам участие в Своей жизни и Присутствии, то скрывается в самом Своем явлении. Он скрывает Свою неприступную Сущность. Традиция исихазма здесь непреклонна: причина трансцендентности Бога – не в немощи человека, но в природе Бога. Непознаваемый по природе, Бог есть больше, чем Бог. Даже соединяясь с человеком, Бог остается трансцендентен ему. Причастие Богу возможно лишь в Его энергиях, благодати, и в этом – обжигающая близость Его Присутствия. Согласно прп. Симеону, “Бог тем более невидим, чем более Он сияет в духе”. Этот наиглавнейший принцип божественной Сущности обусловливает бесконечность человеческой любви, ее вечный epectasis, напряженное стремление к Богу, о котором говорит св. Григорий Нисский.
Довольно скоро традиция вытесняет всякое воображение, всякое мистическое опьянение страданием и утверждает предельную трезвенность. Даже экстаз вызывает подозрения. “Когда тебе кажется, что дух твой влеком к высотам неведомой силой, не давай этому веры, но заставляй себя трудиться”. С помощью труда монах избегает всякой романтической абстрактности и может достичь любви. “Часто думают, что вот – духовная радость, а это лишь чувственность, возбужденная врагом, но опытный научается их различать”, – учит св. Григорий Синаит[161]. Также и Евагрий говорит: “Не желай увидеть ни властей, ни ангелов, дабы не впасть в безумие”[162].
Богослужение предлагает действенный способ отфильтровать всякую неупорядоченную эмоцию. Поэтому жизнь монаха все более и более сосредоточивается на чтении Псалтири, молитве и молитвенном размышлении над Писанием. Душа внемлет Слову, позволяя Ему проникнуть, наполнить себя. Библейская онтология знает категории пустого и полного, разлуки и общения. Всякий духовный человек стремится к общению, наполняющему его Богом, – так пророки, Богородица или св. Стефан были исполнены Духа Святого. Из этого библейского источника исходит святоотеческое определение богословия: “опытный путь единения с Богом”. ”Если ты богослов, ты истинно молишься, и если ты истинно молишься, ты – богослов”[163]. Это пережитое “чувство Бога” позволяет перевести в евхаристические понятия брачное обитание Бога в человеке. Человек не предается умозрениям, он изменяется. Проницательный реализм аскезы утверждает раз и навсегда свой основной принцип: аскеза, лишенная любви, не приближает к Богу. “Мы будем судимы за совершенное зло, но в особенности за добро, которым пренебрегли, и за то, что не любим ближнего своего”[164]. В “Пастыре” Ерма также ясно утверждается, что тот, кто не поможет человеку в духовном обстоянии, будет ответствен за его потерю[165]. На современном Афоне древние поучения ничего не потеряли из своих достоинств: “Истинный монах – тот, кто в настоящей жизни не обладает ничем, кроме Христа”, но “тот, кто имеет в сердце своем хотя бы след злобы, – недостоин любви Христовой”.
Достигнув высшей свободы, отшельник может даже вернуться в мир, ибо для него он больше не околдован, вернуться к людям и их граду, поскольку он достиг любви, подвигающей его покинуть свое уединение. На этих вершинах “человек уже не осуждает ни иудея, ни эллина, ни грешника… внутренний человек смотрит на всех чистым оком и радуется о всей вселенной, всем сердцем своим он жаждет лишь любить и поклоняться всем и каждому”, – говорит прп. Макарий [166]. Благовестник и свидетель, он смешивается с толпой; харизматик, он открывает дверь своей кельи и принимает мир.
В противоположность чисто соматической аскезе умерщвления плоти, терапевтическое искусство Предания исцеляет материю и буквами радости выписывает на надгробиях всех кладбищ мира пасхальную весть, переход бытия в жизнь вечную. Эта эсхатологическая тональность аскезы всегда остается неизменной.
Душа узнает Бога в признании своего полного бессилия; она отвергается себя и себе более не принадлежит. Принесение себя в жертву, безусловное самоотречение формирует созерцательную восприимчивость, и это – смирение, ставшее действием. “Нагой человек следует за нагим Христом”. Он бодрствует на божественной всенощной и ожидает в своей душе Парусии, пришествия Христова. Но такая душа несет в себе весь человеческий мир. Очищенный аскезой духовный человек, по прекрасному выражению св. Григория Назианзина, есть “вместилище божественного человеколюбия”[167].
VII. Внутреннее монашество
1. Передача свидетельства
Кризис, почти повсюду переживаемый монашеством, может навести на мысль о завершении некоего исторического цикла. Но здесь, более чем где-либо еще, необходимо избегать упрощений и видеть различие между преходящими формами и неизменным принципом, между передачей главного в евангельской вести и творческим рождением ее новых свидетельств.
Подобную преемственность можно увидеть даже в самом появлении монашества. Начиная с дьякона Стефана, свидетельство кровью становится высшим и выразительнейшим знаком верности. Идеал мучеников, этого прославленного сонма “раненых друзей Жениха”, “неистовых, берущих приступом небо”, в которых “сражается Сам Христос”, делает духовность первых веков совершенно уникальной. На пути к славной смерти св. Игнатий Антиохийский исповедует: “Вот теперь я становлюсь настоящим учеником… не препятствуйте мне родиться к жизни”[168]. Также и для св. Поликарпа мученики суть “образы подлинной любви… пленники в почетных оковах – венцах истинных избранников Божиих”[169]. Поэтому Ориген и констатирует столь жестоко звучащую истину, что мирные времена выгодны Сатане, похищающему у Христа Его мучеников и у Церкви – ее славу.
Будучи живым образом Христа Распятого, мученик проповедует Его, сделав себя “зрелищем для мира, ангелов и людей” (1 Кор 4:9): “Тела ваши насквозь пройдены мечом, но дух ваш никогда не может быть вычеркнут из божественной любви. Страдая со Христом, вы сожжены горящими углями Св. Духа. Раненые божественным желанием, мученики Твои, Господи, радуются о своих ранах”, – поет Церковь[170].
“Можете ли пить чашу, которую Я буду пить?” – спрашивает Господь у апостолов. Этот страшный вопрос делает мученичество соответствующим евхаристической Чаше; душа мученика хранит совершенно особенное присутствие Христово. Согласно древнему преданию, всякий мученик в момент смерти слышит слова, обращенные к благоразумному разбойнику: hodie mecum eris in paradiso (“сегодня же будешь со Мною в раю”, Лк 23:43) – и в тот же миг входит в Царство.
Мирное существование Церкви, начиная с IV века защищенное ее легальным статусом, нисколько не умалило силы ее свидетельства. Дух Святой немедленно находит “эквивалент мученичеству”. Действительно, свидетельство, которое мученики приносили о “едином на потребу”, переходит к монашеству. “Крещение кровью” мучеников уступает место “крещению аскезой” монахов. Знаменитое “Житие св. Антония”, составленное св. Афанасием, описывает этого отца монашества как первого, кто достиг святости, не вкусив мученичества. Человек пал ниже самого себя, но аскеза возносит его над самим собой. Метанойя углубляет второе рождение в крещении, в котором переживается “малое воскресение”, и если тело еще чает “великого воскресения”, то душа уже бессмертна.
Богослужебные тексты называют монахов “земными ангелами и небесными людьми”. Монашеская святость формирует тип “преподобного”, живой иконы Божией. Можно сказать, что здесь, перед лицом компромиссов этого мира, метанойя, переворот самой структуры человеческого существа, его совершенное перерождение, была достигнута.
Страшная Фиваида, ставшая колыбелью стольких гигантов духа, сухая, выжженная пустыня предстает освещенной их светом. Эти удивительные мастера учили сложному искусству жить по Евангелию. В тишине келий и пещер, в школе этих “теодидактов”, наученных Богом, медленно происходило рождение новой твари.
2. Универсальный характер монашеской духовности
Отец Георгий Флоровский напоминает, что “слишком часто забывают о переходном характере монашества”. Св. Иоанн Златоуст признавал, что “монастыри необходимы постольку, поскольку мир не христианизирован. Когда же он будет обращен, необходимость ухода в монастыри исчезнет”[171]. История не подтвердила замечательного оптимизма св. Иоанна; монашество продолжает сохранять свое неизменное значение и, конечно же, сохранит свое уникальное свидетельство до конца времен.
Однако крещеный мир уже достаточно христианизирован, чтобы услышать то, что возвещает монашество, и по-своему это ассимилировать. Вся проблема только в этом. Как некогда мученик передал свой подвиг монашеству, так теперь монашество, похоже, находит известную преемственность во Всеобщем священстве мирян. Свидетельство христианской веры в условиях современного мира обусловливает всеобщее призвание к внутреннему монашеству.
Историческое прошлое предлагает два решения. Первое, монашеское – это проповедь полного отделения от общества, живущего по “стихиям мира сего”, ото всех его политических, экономических и социологических проблем. Это “бегство в пустыню” и, впоследствии, независимое существование общин, которое бы отвечало всем требованиям их членов. “Монашеская республика” горы Афон представляет собой наиболее характерный пример такого самодостаточного сообщества, отделенного и даже противопоставленного миру. Совершенно ясно, что, поскольку это призвание никогда не станет всеобщим, монашеский путь остается ограниченным, он не может стать решением для мира в целом.
Второе решение – попытка христианизировать мир, не выходя из него, построить христианский Град. Теократии – как на Западе, так и на Востоке – демонстрируют эту попытку в двусмысленной форме христианских империй и государств. Громкий провал этого замысла показывает, что Евангелие не может быть насаждено сверху, а его благодать невозможно предписать как закон.
Существует ли третье решение? Ничего не предрешая, можно по крайней мере сказать, что оно должно вобрать в себя оба имеющихся, глубоко усвоив их, т. е. переняв их принципы, но не конкретные формы. “Вы в мире сем, но вы не от мира”, – эти слова Господа призывают к совершенно особому служению – быть знамением, ориентиром на “совершенно иное”. Когда-то это служение везде исполнялось по-разному, теперь же, похоже, знамение является над Градом и Пустыней, ибо оно призвано возвыситься над всякой формой, дабы быть понятым повсюду, независимо от обстоятельств.
Запад канонизировал две формы христианской жизни – монашескую и мирянскую: одна отвечает consilia, советам Евангелия, другая – praecepta, заповедям Евангелия. Единый для всех абсолют оказался таким образом уничтоженным. С одной стороны, возвышаются совершенные, с другой – стоят немощные, живущие полумерами. Одна из аскетических концепций признает супружескую жизнь только в том случае, если от нее рождаются девственники, населяющие обители.
Глубоко однородный характер восточной духовности не ведает различия между “заповедями” и “советами” Евангелия. Евангелие со всей требовательностью обращается ко всем и к каждому.
“Когда Христос велит следовать узким путем, Он обращается ко всем людям. Монах и мирянин должны достичь одних высот”, – говорит св. Иоанн Златоуст[172]. Очевидно, что существует единая духовность для всех, без всякого различия в требованиях к епископам, монахам или мирянам, и это – монашеская духовность[173]. Она была выработана монахами-мирянами, что наделяет термин “лаик” (мирянин) значением предельно духовным и церковным.
Действительно, согласно великим учителям, монах – не кто иной, как тот, кто “хочет быть спасенным”, кто “живет по Евангелию”, “ищет единого на потребу” и “во всем принуждает себя”[174]. Совершенно очевидно, что эти слова точно характеризуют состояние всякого верующего-мирянина. Прп. Нил полагает, что весь монашеский опыт относится и к людям в миру[175]. Приведем еще раз слова св. Иоанна Златоуста: “Те, кто живет в миру, даже если вступают в брак, во всем остальном должны походить на монахов”. “Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что одно требуется от мирян, а иное – от монахов… все дадут одинаковый отчет”[176]. Молитва, пост, чтение Писания, аскетическая дисциплина необходимы всем в равной степени. Прп. Феодор Студит в письме к византийскому сановнику составляет монашеский устав и заключает: “Не думайте, что этот перечень подходит лишь для монаха, а не полностью и в равной мере и для мирянина” .
Когда говорили отцы, они обращались, не делая никакого различия между клиром и мирянами, ко всем членам Тела, ко Всеобщему священству. Современные богословские различия между епископатом, клиром, монахами и мирянами не были известны во времена отцов, они были бы просто непонятны для них. Евангелие во всей своей полноте приложимо ко всякой частной проблеме в любой сфере.
С другой стороны, великие представители монашества являют нам пример истинного преодоления как собственного состояния, так и вообще какой-либо определенной формы или формулы. Таков, например, светлый образ Серафима Саровского. Он не оставил учеников и не возглавил школы, и все же он – учитель всех, ибо его свидетельство Православия превосходит все, что относится к типу, категории, стилю, определению, границе. Его пасхальная радость исходит не от темперамента, – в ней звучит голос самого Православия. Обычным языком он говорит необычайные вещи, воспринятые им от Духа Святого. После страшной борьбы, покрытой молчанием, за которым скрывалась жизнь, какой ни один монах не мог вынести, прп. Серафим оставляет эти крайние формы отшельничества и столпничества и выходит к миру. “Ангел земной и человек небесный”, он выходит за пределы собственно монашества. В известной степени он уже и не монах, взятый от мира, и не человек, живущий среди людей, он одновременно и то, и другое, но и выход за пределы того и другого, а главным образом – свидетель Святого Духа. Об этом он говорит в известной беседе с Николаем Мотовиловым: “Не для вас одних дано вам разуметь это, а через вас – для целого мира, чтобы вы сами утвердились в деле Божием и другим могли быть полезными. Что касается до того, что я монах, а вы мирской человек, то об этом думать нечего… Господь ищет сердца, преисполненные любовью к Богу и ближнему, – вот престол, на котором Он любит восседать и на котором Он является в полноте Своей небесной славы. “Сыне, даждь Ми сердце твое, – говорит Он, – а все прочее я Сам приложу тебе”, ибо в сердце человеческом может вмещаться Царствие Божие… Господь равно слушает и монаха и мирянина, просто христианина, лишь бы оба были православные и оба имели в Него веру, хотя бы “яко зерно горушно” – оба двигнут горы”[177].
Оба, монах и мирянин, становятся знамением и ориентиром на “совершенно иное”. В том же смысле писал свт. Тихон Задонский к священноначалию: “В монашество постригать не спешите – черная риза не спасет. Кто и в белой одежде, да послушание, смирение, да чистоту имеет, есть непостриженный монах[178].
Монашество, целиком сосредоточенное на последних вещах, некогда изменило общее лицо мира. Сегодня оно обращает свой призыв ко всем, к мирянам и монахам, утверждая единое для всех призвание. Речь идет об адаптации его для каждого человека, о нахождении каждым личного эквивалента монашеским обетам.
3. Три искушения, три ответа Господа и три монашеских обета
Три монашеских обета вписаны в великую хартию человеческой свободы. Бедность освобождает от власти материи – это крещенское пересоздание в новую тварь; целомудрие освобождает от власти плоти – это мистический брак агапэ; послушание освобождает от служения идолу собственного “я” – это божественное усыновление Отцу. Все – и монахи, и не монахи – просят этого у Бога, согласно трехчастной структуре Молитвы Господней: послушание единой воле Отца; бедность, у которой есть только голод по насущному евхаристическому хлебу; целомудрие, очищающее от Лукавого.
Во времена Ветхого Завета всякий раз, когда Израиль-кочевник сталкивался с материалистической цивилизацией “благоустроенных стран”, он находил там три искушения: идолов – противоположность послушанию; проституцию – противоположность целомудрию, богатство – противоположность бедности. Пророки непрестанно обличали и боролись с приоритетом выгоды по отношению к Истине, с материальным успехом и его властью как критерием ценностей, с любым оправданием силой. Сегодня же мир более чем когда-либо держится этих принципов, и противостоит этому сопротивление пророков, проповедующих поклонение единому Богу, очищение народа, милосердие к бедному.
В новозаветном повествовании о трех искушениях Господа воспроизводится тот же сюжет, но на этот раз как высшее и окончательное откровение. В тексте подчеркивается: “И окончив все искушение, дьявол отошел” (Лк 4:13). Слуга Яхве, Послушный, Нищий, не имеющий “где главу преклонить”, Чистый (“идет князь мира и во Мне не имеет ничего”, Ин 14:30) – приходит в сердце пустыни как совершенный Монах и возвещает urbi et orbi[179] тройной синтез человеческого существования.
Святоотеческая мысль отводит этому рассказу центральное место среди первых евангельских событий. Христос пришел победить силы, порабощающие человека, и речь идет именно об этом освободительном значении Его дела. Уже Иустин[180] сопоставляет искушения первого и второго Адамов и показывает, что поведение Христа актуально для всякого сына Божьего. Ориген[181] видит в этом решающее событие, проливающее свет на последнюю битву каждого верного, ибо на карту поставлено ни много ни мало, как “станет человек мучеником или идолопоклонником"’. Он подчеркивает, что искушения имели своей целью сделать из Христа новый источник греха, причем такой силы, что по своему значению он сравнялся бы с первородным. Св. Ириней[182] пишет, что в искушении провалилась попытка окончательно пленить человека, и потому неопровержимая победа Христа вдохновляет борьбу церкви и освобождает истинно верного от всякой сатанинской власти: “Вот, Я дал вам власть… над всею силою врага” (Лк 10:19).
Таким образом, святоотеческая мысль с самого начала ясно видела в рассказе об искушениях в пустыне ultima verba[183] евангельской вести. Действительно, прообразу человека в божественной Премудрости искуситель противопоставляет темного двойника: человека демонической софии. В 2 Кор 11:4 апостол Павел упоминает даже о демонической пятидесятнице. Удивительным образом вся человеческая история разворачивается здесь в сжатом виде, в миниатюре, где все решается в том или другом направлении. Сатана выдвигает три “надежных” варианта человеческой судьбы: алхимическое чудо “философского камня”, тайну оккультных наук с их неограниченными возможностями и, наконец, власть, порабощающую всех одному.
Превратить камни в хлебы[184] – значит разрешить экономические проблемы, сделать ненужным “пот лица”, аскетическое усилие и творчество. Броситься вниз с крыла храма – значит сделать ненужным Храм и саму потребность в молитве, подменить Бога магической властью, восторжествовать над принципом необходимости, присвоить тайны и разрешить проблему познания. А неограниченное познание-проникновение есть подчинение космических и плотских начал, немедленное удовлетворение любого вожделения, время, составленное из “кратких вечностей наслаждения”, упразднение целомудрия. Наконец, объединить все народы под властью одного меча – значит решить политическую проблему, покончить с войной, открыть эру мира в мире сем.
Первый акт протекает между Бого-Человеком и Сатаной. Если Христос падет ниц перед Сатаной, Сатана удалится из мира, ведь ему уже нечего будет здесь делать: окончательно плененное человечество станет жить, не зная свободы выбора, потому что будет жить, не достигая добра и зла.
Еще раз всей своей тяжестью искушение налегает во время молитвы Господа: “Отче Мой, если возможно, да минует Меня чаша эта” (Мф 26:39). То, чего не делает Отец, может сделать Сатана: он предлагает вполне реальную возможность окончательно избегнуть чаши, обойти Крест. Трагедия Бога и человека разрешилась бы тогда демоническим happy end’ом.
Необходимо верно оценивать силы Противника и осознавать масштаб Зла, принудившего Бога покинуть “вершину безмолвия” и возопить: “Почему Ты оставил Меня?” Это делает искушение максимально реальным, в нем нет никакой фикции, никакого “спектакля”. Оставляя на волю Люцифера свободу обратиться в Лукавого, Бог Сам перед Собой поставил вопрос: быть или не быть Единственным? – с риском оказаться одиноким, страждущим и покинутым. Богу, вступающему в историю, Сатана предлагает безопасное мессианство, лишенное угрозы страдания, основанное на тройном подчинении свободы, на тройном порабощении человека, на насилии над его свободой чудом, тайной и властью [180].
Однако божественный отказ ничего не меняет в намерениях искусителя. Теперь его замысел будет предложен человеку – это второй акт, и он уже влияет на историю.
Жестокое время преследований вынуждает приветствовать христианскую империю. Парадоксальная канониза- [185] ция Константина, объявленного “святым”, свидетельствует о положительном значении его деятельности, диалектически обоснованной принципом “икономии” (домостроительства). Церковь утверждена в языческом мире, она добивается большого интереса к себе, но что из этого выйдет – вопрос другой. В этой очной ставке одна сторона “испачкает руки”, другая же сохранит их чистыми от всякого компромисса, обе необходимы и дополняют друг друга. К тому же слова жизни произнесет отнюдь не официальная административная церковь, она доверит эту задачу отцам Соборов и, прежде всего, великим носителям Духа – монахам. Все значение пришествия монашества – в этой свободе духа, которой обладает не укладывающаяся в нормативные рамки формация харизматиков, живущая в стороне от мира и благоустроенной церкви.
Приходится признать, что империя, объявленная христианской, стоит на трех вариантах, предложенных Сатаной, – разумеется не полностью и сознательно, но смешивая свет и тень, Бога и кесаря, нашептывания Сатаны и отвергающие их ответы Христа. Империя двусмысленна, поскольку она обходит стороной Крест; ни одно “христианское государство” как государство никогда не было распятым государством. Только о Церкви Иаков Серугский ставит вопрос: “Какая невеста когда-либо выбрала в женихи распятого?” Государи же и политики, не знающие охраняющей силы Креста, напротив, оказываются беззащитными перед тремя искушениями. Константин создал империю, величие, безопасность и процветание которой были опасней, нежели гонения Нерона.
Именно в этот момент монашество и выходит на историческую сцену. Оно есть самое категоричное “нет” всякому компромиссу, конформизму, всякому сговору с искусителем, замаскированным то императорской короной, то епископской митрой, оно есть громкое “да” Христу в пустыне. Невозможно переоценить спасительное для христианства значение простого факта возникновения монашества. “Господь наш завещал нам то, что Сам Он делал, когда был искушаем Сатаною”, – говорит Евагрий [186]. С самого начала египетское монашество осознавало свою духовность как продолжение борьбы, начатой Господом в пустыне.
Если империя незаметно поддается на искушение трех предложений Сатаны, то монашество открыто стоит на трех бессмертных ответах Христа. Удивительно, что экзегеза никогда не использовала тех трех слов, которые стали краеугольным камнем самой сущности монашества. Три монашеских обета точно воспроизводят три ответа Иисуса. Христос-Монах исполнил их, приняв Чашу и взойдя на Крест, “чтобы разрушить дела дьявола” (1 Ин 3:8). “Он стер осуждавшую нас рукопись с постановлениями, рукопись, которая была против нас, и Он устранил ее, пригвоздив ко кресту” (Кол 2:14).
Христос уничтожает рукопись, сатанинскую хартию тройного порабощения, и объявляет с высоты Креста божественную хартию троической свободы. В начале этого отрывка апостол Павел с силой предостерегает: “Смотрите, чтобы кто не увлек вас…” (Кол 2:8) – т. е. не похитил свободы, ослепительный залог которой – Крест. Всякий монах – staurophore[187], существо “распятое”. Он также и pneumatophore[188], ибо Крест есть торжествующая власть Духа Святого, являющая Христа Распятого. “Отдай свою кровь и прими Духа”, – гласит древняя монашеская поговорка, которая таким образом открывает в каждом монахе воплощенную свободу, икону Святого Духа. Такими были первые харизматики – до того момента, когда приток в монашество большого числа людей создал организационную необходимость подчинить их жесткому монастырскому уставу. Те, кто умел сделать из этого устава благодать, отвечали подлинному величию монашества, которое независимо от любых человеческих установлений продолжает в своем существе оставаться событием.
Три ответа Христа отозвались в безмолвии пустыни, туда-то и удалились монахи, чтобы вновь услышать и принять их под видом трех обетов в качестве правила монашеской жизни.
Св. Григорий Палама так описывает образ святых монахов: “Оставив материальные наслаждения (бедность), человеческую славу (послушание) и дурные удовольствия плоти (целомудрие), они избрали жизнь евангельскую”; таким образом усовершившиеся, они “достигли полноты меры возраста Христова”[189]. В письме к Павлу Асеню по поводу одежд и внешних отличий разных ступеней монашества св. Григорий советует “совершенствовать образ жизни, а не переменять одежды”. У великих подвижников монашества мы видим преодоление всякого формального принципа, всякой формы, переход от символов к реальности.
“Приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее” (Ос 2:14). Это “восхождение одного к Единственному” есть первенство анахорезы, отшельничества над общежительной формой, аристократизм духа, освобождающий от всего, даже от общины и ее правил. Но если ради обретения свободы кто-то и покидает общество, то лишь для того, чтобы истинно обрести мир людей.
Такой уровень свободы выходит за рамки человеческих установлений, и таким образом раскрывается его универсальное значение – быть решением судьбы всякого человека. Внутреннее монашество Царственного священства обретает собственную духовность, по-своему принимая те же монашеские обеты.
Когда-то верность предполагала кровь мучеников или подвиг пустыни – зрелище, поражающее очевидным величием. Но в момент, когда константиновская эпоха очевидно завершается, битва христианского царя уступает место царству мучеников (Откр 20) и героизму верных в повседневной одежде – а это уже не столь зрелищно.
4. Обет бедности во внутреннем монашестве мирян
Ответ Господа: “Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих” (Мф 4:4), показывает, что вместо древнего проклятия: “В поте лица будешь есть хлеб твой” утверждается новая иерархия ценностей, первенство духа над материей, благодати – над необходимостью. В доме Марфы и Марии Иисус переходит от трапезы вещественной, от физического голода, к пиру духовному, к жажде единого на потребу. В том варианте “заповедей блаженства”, что приведен в Евангелии от Луки, подчеркивается, что положение дел изменилось радикально: “Блаженны нищие… алчущие…” Даже физическая нищета “в поте лица” – уже не проклятие, но знак избранности, данный уничиженным, последним и малым, которые противопоставлены могущественным и богатым. “Бедные
Израилевы”, которых есть Царство, или, шире, “нищие Духом”, получают в дар, безвозмездно, хлеб ангельский, Слово Отца, сошедшее в евхаристический хлеб.
Камень, ставший хлебом, из первого искушения (это всеупрощающее чудо) прежде всего уничтожил бы “нищего” – не бедняка, объект “ярмарок милосердия”, но Нищего – Того, Кто раздает Свое существо, евхаристические Плоть и Кровь. Так всякий истинный нищий “в поте сердца своего” раздает самого себя. Подобная “нищета” проповедовалась как единственное экономическое решение отцами церкви, например св. Иоанном Златоустом. Евангелие требует от своих последователей того, чего не требует ни одна политическая доктрина. В мировом масштабе шансы на успех есть только у хозяйства, ориентированного на нужды, а не на выгоду, но для этого необходимо многим пожертвовать и от многого отказаться. Невозможно пользоваться материальными благами беспорядочно. Мера действительных потребностей зависит от призвания, но главное – это независимость духа от любого имущества.
Отсутствие потребности иметь становится потребностью не иметь. Простор бескорыстной свободы в отношениях между духом и вещами восстанавливает в нем способность любить их как Божий дар. Жить в том, что “не мерою дается”, – значит жить между нищетой и изобилием. Даже монашеский идеал проповедует отнюдь не формальную нищету, но благоразумную умеренность в потребностях.
Мера бедности всегда очень индивидуальна, она требует творческого поиска и исключает всякий упрощенческий сектантский дух. Дело не в том, чего мы себя лишаем, а в том, как мы это употребляем: и простой стакан воды, превращенный в дар, может оправдать человека на Страшном суде. Поэтому св. Иаков так четко определяет смысл милостыни: “Посещайте вдов и сирот в скорби их” (Иак 1:27). Если же раздавать нечего, то остается пример “неправедного домоправителя” из евангельской притчи, который расточает имение Господина своего (неисчерпаемую любовь), дабы умножить “друзей во Христе”.
Тот, кто ничем не обладает, становится подобен прп. Симеону Новому Богослову, “бедному брату всех”. Симеон, Анна, Иосиф, Мария суть “бедные Израиля” в ожидании утешения, но они уже “богаты в Боге”, ибо “Дух Святой был на них” (Лк 2:25). Так и Дева “слагала слова в сердце своем”, сделала их своей жизнью, а Дух Святой соделал из нее “Дар Утешения” и “Врата Царства”.
5. Обет целомудрия
“Не искушай Господа Бога твоего” (Мф 4:7, Лк 4:12). Искушать – значит испытывать. Искушать Бога – испытывать предел Его великодушия. Не создал ли Он человека “по образу Своему” microtheos’ом: “Вы боги и сыны Всевышнего все вы”? Сознавая свое величие, этот “малый бог” может заявить свои “права” на атрибуты этого высокого достоинства. Искушать Бога в этом случае – значит пользоваться Богом, властью “наравне с Богом”, чтобы удовлетворить свои желания.
Во втором искушении (Мф 4:6) – броситься вниз с крыла Храма – речь идет не о подвиге Икара. То был только своеобразный символ превосходства над стихиями космоса. Искушение алчет власти бесконечно более обширной, о которой говорит отрывок из Луки: “Вот, Я дал вам власть наступать на змей и скорпионов и – над всею силою врага; и ничто не повредит вам” (Лк 10:19–20). Эта власть включает господство над пространством: броситься с крыши Храма, преодолеть земное притяжение, господствовать над астрономическим небом и над духами. “Но тому не радуйтесь, что духи вам покоряются (то самое покорение ангелов, о котором говорит Сатана), радуйтесь, что имена ваши вписаны на небесах” (Лк 10:20). Имя означает личность. Этот текст говорит о радости видеть себя принятым на духовном небе божественного Присутствия. Мы читаем здесь возвещение свободы детей Божиих и их небесной власти, противостоящей всякому искушению властью земной магии.
В руках “вождей” эта магическая власть порождает коллективный эрос толпы; она гипнотизирует, очаровывает и господствует. Для каждого – это власть над пространством, а значит – и надо всем, что оно заключает в себе, над материальным планом бытия. Магия лишает девственности тайну природы, оскверняет святость космоса как творения Божия.
Необходимо вспомнить об очень близком родстве женского и космического. Это весь ряд языческих мистерий, предвосхищающих почитание Девы: “Земля блаженная, Земля обетованная, щедрая Жатва”. Эти литургические имена суть космические символы Новой Евы: Девы и Матери. Эта таинственная связь объясняет заповедь не искушать Бога, не порочить и не осквернять целомудрия. Оно превосходит простую физиологию и выражает чистоту, единство, целостность человеческого духа. Оно составляет харизму таинства брака; в более широком смысле оно питает чувство ненарушимой святости каждой частички творения Божия, неприкосновенного в своем ожидании спасения, исходящего от целомудренного человека[190]. Власть целомудрия противоположна власти магической, она есть возврат к подлинной “сверхъестественно-естественной” власти человека в Раю[191]. “Не искушай Господа” – значит, таким образом, не делай свою сообразность Богу причастной страстям, нецеломудрию.
Ориген говорит о “целомудрии души”[192], которое получит у отцов-пустынников название “очищения сердца”. Этой духовной зрелости равно достигают и те из монахов, кто ранее был женат. В этом уже есть трансцендентность одному лишь физиологическому состоянию.
Целомудренная любовь входит в сердце, остающееся девственным несмотря ни на какие плотские стремления. Согласно Библии, она есть всецелое взаимное “познание” двух существ, беседа духа с духом, где тело чудесным образом оказывается проводником духовного. Вот почему: “Соблюдайте свой сосуд в святости и чести” (1 Фес 4:4). Как чистое вещество, пригодное для литургического употребления, человек целомудренный есть целиком – душой и телом – вещество таинства брака, и Церковь освящает его любовь. Благодать таинства превращает трансцендентность бытия-для-себя в прозрачное присутствие одного для другого, одного в другом, дабы они могли предаться друг другу и, уже как одно существо, – Богу.
Целомудрие – σωφροσυνη – собирает все элементы человеческого существа в единое целое, девственное и внутренне присущее духу, и потому апостол Павел говорит о спасении всякой матери “через целомудрие” (1 Тим 2:15). Павлова диалектика обрезания по плоти углубляет это понятие до “обрезанного сердца” (Рим 2:26–29). Та же диалектика углубляет и понятие целомудрия: “Кто не духовен даже до плоти, становится плотян до самого сердца”, – и еще: ’’Девственность плоти присуща немногим, девственность же сердца должна быть явлением всеобщим”[193].
Любовь проникает до самых корней инстинкта и “изменяет саму субстанцию вещей”, – говорит св. Иоанн Златоуст[194]. Она возвышает наши эмпирические цели до целей, созданных духом, делает из них чистый источник невещественной радости.
Созерцание икон очищает и воспитывает воображение, учит “хранению очей” ради целомудренного созерцания красоты. Красота тела есть выражение души, а в красоте души нас восхищает образ Божий. Исламская мудрость хорошо это передает: “Рай верного гностика – это само его тело; и ад человека без веры и гнозиса – это также его тело”[195].
Св. Нонн, епископ Одесский, взирая на красоту некой танцовщицы (Пелагеи, будущей святой), “обратил похвалы ей в повод поклониться и прославить высшую красоту, которой та была лишь произведением, и, ощутив себя восхищенным огнем божественной любви, растаял в слезах радости… этот человек, – говорит прп. Иоанн Лествичник, – воскрес, нетленен прежде всеобщего воскресения”[196]. Эротическое воображение разлагает дух неутолимой жаждой адских бездн. Признаком же целомудрия св. Климент Римский называет такое состояние, когда христианин, глядя на женщину, не имеет ничего плотского в уме. “Единственная женщина, ты для меня воплощение всех женщин”, – говорит поэт о “неповторимой”, воспевая целомудрие супружеской любви.
История Товита замечательно описывает победу над похотью. Имя ангела – Рафаил – означает “исцеление Божие”, оно есть целомудрие, присутствующее во всякой amor magnus, ибо оно зажжено от “пожирающего огня Превечного”[197].
Хорошо определил внутреннее целомудрие Бердяев: “Любовь должна победить старую плоть и раскрыть новую плоть, в которой соединение двух не будет утерей девственности, а будет осуществлением девственности, т. е. целости. В этой огненной точке только и может начаться преображение мира”[198].
“Броситься вниз с крыла Храма”[199] – значит пренебречь им, сделать его ненужным. Этой похоти, побуждающей – вплоть до подчинения даже ангелов – захватить власть, которую Храм символизирует и которой обладает реально, и противопоставляется целомудрие. “Броситься с крыла Храма” означает движение сверху вниз, с небес во ад, и это как раз путь Люцифера – падение, вызванное вожделением. Целомудрие же есть восхождение, и это – путь Спасителя из ада в Царство Отца. Оно есть также внутреннее восхождение к обжигающей близости Бога. Изнутри своего духа человек устремляется в Присутствие Божие, и целомудрие – лишь одно из имен мистического брака Агнца.
6. Обет послушания
“Возлюби Господа Бога твоего и Ему одному служи” (Втор 6:13, Лк 4:8). Литургическое определение человека как участника в Трисвятом и Sanctus'е[200] не оставляет места никакой пассивности. Истинное послушание Богу включает в себя высшую, всегда творческую свободу. Христос показывает это тем, как Он исполняет весь Закон: Он восполняет и возвышает Закон до его собственной сокровенной истины – быть благодатью. Негативная, ограничительная форма Декалога: “Не делай…” исполняется, уступая место заповедям блаженства, безграничному утверждающему творчеству святости.
Послушание в Евангелии есть восприимчивость к Истине, а она, прежде всего, освобождает. Поэтому Бог не отдает приказаний, но раздает приглашения, призывает: “Слушай, Израиль…” (Втор 5:1, Мк 12:29), “Если кто хочет…” (Мк 9:35), “Если хочешь быть совершенным…” (Мф 19:21).
Это предложение снова обрести свободу: “Если кто приходит ко Мне и не ненавидит… своего, свою, своих…” (Лк 14:26): притяжательное местоимение здесь показывает состояние плена, “ненавидеть” – значит освободиться и обрести настоящую бескорыстную любовь к ближнему, которая “не ищет своего”.
Блестящий урок дает нам школа “духовных отцов”. Они неизменно предупреждают, что ищущий какой-либо помощи подвергается большой опасности. Чем сильнее авторитет такого отца, тем сильнее его самоустранение. Один ученик хорошо сформулировал подлинную и единственную цель своего обращения к наставнику: “Отец мой, открой мне, что Дух Святой подсказывает тебе касательно исцеления моей души”[201]. Авва Пимен, в свою очередь, так определяет искусство старца: “Никогда не командуй, будь всем примером и никогда – законодателем”[202]. “Юноша пришел к старцу-аскету, чтобы быть наставленным на путь совершенства, однако старец не говорил ни слова. Тогда юноша спросил о причинах его молчания. “Кто я такой, чтобы руководить тобою? – отвечал тот. – Я ничего не скажу тебе. Смотри, что делаю я, и делай, если хочешь, то же.” С тех пор юноша стал во всем уподобляться старому аскету и постиг смысл безмолвия и свободного послушания”[203].
Духовный отец – это не “хозяин совести” [204], он прежде всего – харизматик, он рождает не “свое” духовное чадо, но чадо Божие. Оба они, вместе, отправляются в школу Истины, причем ученик получает харизму духовного внимания, а духовный отец – харизму быть голосом Св. Духа. Св. Василий советует “найти друга Божия”, о котором было бы достоверно известно, что Бог говорит через него. “И отцом своим не называйте никого на земле” (Мф 23:9) – это означает, что всякое отцовство участвует в единственном божественном Отцовстве, всякое послушание есть послушание воле Отца, участие в деяниях послушного Христа.
Иоанн Лукопольский советует: “Различай свои мысли благоговейно, перед Богом, если же не можешь этого сделать, обратись к тому, кто способен различить их”[205]. Цель в том, чтобы разрушить стену, воздвигнутую помыслами между душой и Богом[206]. Тем, кто научен искусству смирения, прп. Феогност говорит: “Кто достиг кротости, духовного послушания и подчинил тело духу, не нуждается в подчинении человеку. Он покоряется Слову Божию и Его закону как истинный послушник”[207]. Более того: “Хотящий жить в пустыне не должен иметь нужды в научении, но сам должен быть учителем, иначе ему придется плохо…”[208] Хотя этот совет и относится к сильным, он выражает общую для всех суть: никакого послушания человеческому, никакого идолопоклонства в отношении к духовному отцу, даже если он святой. Всякий совет старца ведет к состоянию вольноотпущенника, распростертого ниц перед лицом Божиим.
Послушание распинает всякую личную волю, чтобы воскресить предельную свободу: дух, внемлющий Духу.
7. Единство христиан и монашеская свобода
Исторические деформации, там где они имели место, исказили замечательный тип монаха – человека совершенно свободного в служении своему Царю[209], – сделав из него существо расколотое и подчиненное жестким законам.
Если начиная со средневековья мы наблюдаем разрыв между мистической духовностью и богословием, то “сегодня мир нуждается в святых, которые были бы гениальны”, дабы воссоздать единство молитвы и вероучения. Для отцов Церкви “богослов тот, кто умеет молиться”. “Для тех, кто неспособен воспринять солнечные лучи Христа, существуют святые, чтобы наделить их светом; этот свет много слабее, но, хотя и его они едва способны принять, этого вполне достает им для полноты”[210].
Тот, кто строит жизнь на трех монашеских обетах, делает это в соответствии с тремя речениями Христа. Тремя обетами христианин не связывает, но освобождает себя. После этого он может повернуться к миру и рассказать, что он увидел в Боге. Если он сумел возрасти до состояния “нового человека”, до полноты меры возраста Христова, – мир выслушает его.
Тот, кто знает, – ибо его вера видит невидимое; кто способен, если Бог того желает, воскрешать мертвых – ибо сам уже переживает “малое воскресение”; кто может прозревать Смысл – ибо в состоянии дать истинное имя всякой вещи, будучи сам лишь Именем Иисуса, “соединившимся” с его дыханием, – тот может начать отсчет последних времен и возвестить о Парусии.
Разделение христианства оказывается не формальным препятствием, но отсутствием подлинной свободы, коренящейся в целостной Истине. Более чем кто-либо монахи способны прийти к единству естественным образом, т. е. – литургически. Их “православие” ничего не ужесточает до запретов, но открывает все пути. Своими поклонениями и славословиями они никого не исключают, но лишь приглашают всех и каждого достичь “полноты меры возраста Христова”. Такая зрелость стоит выше любых противоестественных ситуаций – в Теле Христовом, на уровне Единого и Единой.
По прекрасному выражению Симеона Нового Богослова, Святой Дух никого не боится и никем не пренебрегает. Икона Святого Духа, монашество, есть живая вселенская “эпиклеза”. Единство может быть обретено только в измерении универсального монашества, если оно сумеет стать таким же свободным, как дыхание великого Утешителя.
VIII. Человеческое существо
Библия не знает греческого дуализма души и плоти и их борьбы, тела как тюрьмы души. Она знает лишь нравственный конфликт между желанием Творца и желанием твари, между святостью-нормой и грехом-извращением, конфликт, в который человек вовлечен полностью. Так и противостояние между homo animalis[211] и homo spiritualis[212] относится к целостности человеческого существа. По словам бл. Августина, человек или целиком плотян, даже до духа, или целиком духовен, даже до плоти.
Душа животворит тело, делает из него живую плоть, дух же их одухотворяет, соделывает из них духовного человека. Дух не есть что-то добавочное к телу и душе, он проявляется через душевное и телесное, определяя их своими энергиями. В согласии с такой структурой человеческого существа аскетика создает очень строгую науку и всестороннюю культуру, которые призваны вернуть телу и душе прозрачность, подчинить их духу. Но человек может и “угасить дух” (1 Фес 5:19), иссушить источник своей жизни, иметь плотские помыслы и свести себя к плоти животной, плоти допотопной, стать добычей гроба и ада.
Библейское видение позволяет, таким образом, составить верное представление о размерах зла и раскрыть его тайные истоки: грех никогда не приходит снизу, от плоти, но сверху – от духа. Первое падение произошло в мире ангелов, чистых духов. Извращенность плоти обличает и обвиняет грех духа против плоти. Вот почему целомудрие, отнюдь не исчерпываясь уровнем физиологии, поднимается до целостной структуры духа. Опустошенность праздного, рассредоточенного духа вызывает рассеяние. Напротив, духовные наставники учат молчанию сердца, этому “языку будущего века”, и собранности, противостоящей всякой рассеянности мысли. В поиске самоуглубленности они говорят: “Ничего не ищи вовне, но войди в себя, в свое сердце, и там найди Бога, ангелов и Царство”.
Однако сердце, о котором говорит Библия, не совпадает с эмоциональным центром, известным из психологии. Иудеи думали сердцем. Оно есть центр метафизический, собирающий воедино все способности человека: разум, интуиция, воля всегда участвуют в выборе сердца и его привязанностях. Сияя и все проницая своим светом, оно в то же время сокрыто в собственной таинственной глубине. Выражение “познай самого себя” относится прежде всего к сердцу и его тайне.
“Кто может знать сердце?” – спрашивает Иеремия и тут же отвечает: “Бог один проникает сердце и внутренности” (Иер 17:9—10) – т. е. проникает вплоть до темной сферы подсознательного и бессознательного. Апостол Петр также говорит о homo cordis absconditus, “сокровенном сердца человеке” (1 Пет 3:4), и именно на этой непостижимой глубине покоится человеческое “я”. Св. Григорий Нисский, указывая на эту глубину, открывает в ней образ Божий: “В непознаваемости самого себя человек являет отпечаток несказанного”[213].
“Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше” (Мф 6:21) – человек заслуживает того, чего заслуживают желания его сердца, предмет его любви. “Иисусова молитва”, называемая еще “умно-сердечной”, делает сердце местом Его присутствия, ибо “Бог вложил в человеческое сердце жажду Себя”[214]. Найти в Боге абсолютно желанное, в Н ем положить сердце свое – так открывается поразительная близость к Богу. Действительно, поверх этики рабов и наемников Евангелие утверждает этику друзей Божиих: “Я уже не называю вас рабами… но вас Я назвал друзьями”, – говорит Христос (Ин 15:15). Более того, Бог просит человека исполнять Свою волю так, как будто бы это была его собственная воля. Если я произношу: “Да будет воля Твоя”, значит я желаю этого, т. е. моя воля в том, чтобы осуществилась Твоя. Такое согласие двух доверий поднимает человеческую личность до уровня Божьего сердца.
Латинское слово persona, так же как и греческое prosopon, означает “маска” (личина) и содержит глубокую философию человеческой личности. Существовать – значит принимать участие в бытии или небытии. Человек может создать из самого себя “икону Божию”, но может стать и демонической гримасой, обезьяной Бога. “Кто близок ко Мне, близок к огню”, – говорит древняя аграфа[215], и тот, кто понимает это, “не перестает прилагать огонь к огню”[216]. Но человек может пробудить как огонь любви, так и пламя геенны; он может обратить свое “да” в бесконечность единений; но может также своим “нет” расколоть собственное бытие на адскую разлуку и одиночество.
Человеку, созданому по образу и подобию Божию, непременно присуща определяющая его поведение устремленность. Богоподобие обретается через личную реализацию объективной сообразности. Это вызывает epectasis, напряженное стремление к вышнему, к Всевышнему. Подобно тому, как всякая копия стремится приблизиться к оригиналу, человек-образ хочет превзойти себя, чтобы войти в Бога и найти в Нем успокоение своей тоски. Святость – не что иное, как неутолимая жажда, интенсивность желания Бога. В ее свете аскетическая культура духовного внимания научается бесценному искусству видеть во всяком человеке образ Божий. “Истинный монах, – говорит прп. Нил Синайский, – всякого человека почитает как Бога после Бога”[217]. Такой навык – смотреть на каждого человека как на икону – объясняет удивительный оптимизм великих аскетов, их поразительную радость, наивысшую и подлинно евангельскую оценку человека и неизменное и бесконечное уважение к “вместилищу Бога” – человеку.
Отсюда становится ясна вся глубина того Ave в приветствии, с которым прп. Серафим Саровский обращался ко всякому встречному: “Радость моя!"’ Он видел Самого Бога шедшим ему навстречу, читал Его любовь в каждом лице и радостно приветствовал Его Присутствие[218].
Созданный как воплощенный дух, человек располагается между духовностью ангелов и вещественностью мира. Св. Григорий Палама видит в этом первенство человека над ангелами. Они суть “вторые светы”, отражающие свет Бога; человек же преображается в свет и просвещает мир: “Вы свет миру” (Мф 5:14) – об этом говорят нимбы святых. Космическая природа мира, равно как и собственное тело человека, есть сфера жизни человеческого духа; художник и творец, он призван создать из этих элементов ценности Царства, и потому ангелы служат ему.
IX. Аскеза духовной жизни
“Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы могли вы противостать” (Еф 6:11). Апостол Павел увещевает каждого верного готовиться к битве за веру и говорит об аскезе в терминах войны и спорта: солдат и атлет.
Слово “аскеза” происходит от греческого askesis и означает упражнение, усилие, подвиг. Можно говорить о спортивной аскезе, поскольку она стремится сделать тело гибким, послушным, способным сопротивляться любому препятствию. Аскеза ученых и врачей демонстрирует исключительное усилие, доходящее до самопожертвования, подчас даже до отдачи жизни.
Монашеская традиция придала этому термину строго определенное техническое значение, он означает внутреннее борение с целью добиться господства духовного над материальным.
Среди первых монахов некоторые, называемые “мессалиане”, грезили созданием аристократии супер-христиан. Предание, в особенности в лице св. Василия, всегда отвергало эту ложную концепцию. В своих произведениях он избегает употреблять слово “монах” по причине мессалианских притязаний. В своих “Правилах” он настойчиво утверждает, что монах есть просто всякий верный, стремящийся быть христианином всем своим существом без остатка, он не желает слышать о монашестве как о некоем высшем сословии. В одном из изречений Макария превосходно выражена та же мысль: “Монах назван монахом по следующей причине: он беседует с Богом днем и ночью”[219], – а эта благодать дана каждому христианину.
Христианская аскеза в этом широком смысле слова защищает дух от всякого порабощения, исходящего от мира, и призывает побеждать Зло деланием Добра, т. е. аскеза – не более чем средство, определенная стратегия. Евагрий дает совет никогда не делать страсти из аскетических средств против страстей: “Не превращайте в страсть защиту от страстей”[220]. Он, таким образом, предвидит аскетический обскурантизм, рассматривающий себя как самоцель и происходящий от чрезмерного сосредоточения на грехе и умерщвлении плоти, так что средства и цели смешиваются: “Многие плачущие о грехах своих забыли о цели слез и, впав в безумие, сбились с пути”[221]. Человек может создать вокруг себя болезненную, фантасмагорическую атмосферу, в которой он не в состоянии различить ничего кроме зла и греха, живя в окружении одних лишь бесов и в постоянном страхе перед адом. Надо признать, что определенный сорт аскетической литературы способствует такому духовному состоянию, но подобную литературу от Евангелия отделяет пропасть. В Евангелии говорит Бог; в посредственных учебниках разглагольствует заблудший человек, так и не постигший евангельского духа. Христос – совершенный аскет, но Он живет среди людей и сходит в их ад, дабы принести туда Свой свет. И вот, в миг покаяния благоразумный разбойник видит перед собой открывающиеся врата Царства, и может случиться, что презренные мытари и грешники опередят на дороге спасения “истинных аскетов”.
Евангелие имеет мессианский и взрывной характер, его отрицание мира очень своеобразно – оно не аскетично, но эсхатологично: это чаяние конца, итога и перехода в плерому. Во время Литургии перед анафорой мы слышим возглас, требующий затворить двери храма. В действительности же затворяются двери времени и открывается вход в вечность, но вся история входит в него и оказывается в “брачном чертоге Христа”[222].
Образ евангельского аскета – апостол и свидетель. Вот почему монашеская традиция, следующая за традицией пустыни, развивает идеи посланий апостола Иоанна и утверждает любовь к ближнему и “хранение сердца”. Она поражает избытком – но не страха, а преизбыточествующей любви и космической нежности “ко всякой твари, даже к пресмыкающимся и демонам…”[223]
Практика “индивидуального спасения”, озабоченная спасением одной лишь собственной души, есть опасное искажение. Мы никогда не сможем оказаться перед лицом Божиим в одиночку, спастись можно только всем вместе, “соборно”. Как говорил Соловьев: тот будет спасен, кто спасает других. Авва Дорофей [224] дает прекрасную и наглядную картину спасения в виде круга, где центром является Бог, а люди находятся по окружности. Направляясь к Богу, каждый следует по радиусу круга, и чем ближе к центру, тем более радиусы сближаются, – т. е. самый короткий путь между Богом и человеком проходит через ближнего. Поборникам активных действий должно быть понятно, что отшельники своей непрестанной молитвой активно вторгаются в историю. Успех всякого человеческого действия опирается на ходатайство их веры, на пламя их молитвы, посылаемой в сердце мира. Они знают, что человек не может ответить на мольбы земли, и потому становятся отшельниками. Св. Исаак Сирин (в “Поучениях”) так говорит ученику: “Вот, брат мой, заповедь, которую даю тебе: пусть сострадание всегда перевешивает на твоих весах до тех пор, пока в себе самом ты не почувствуешь то сострадание, которое испытывает Бог к миру”. Достигнув такой зрелости, затворник может вернуться в мир.
Аскеза сообщает исключительную ясность взгляду, позволяющую видеть себя как есть. Искомое равновесие сопровождается ясным видением своего реального состояния, хотя чрезмерный самоанализ на этом пути также весьма нежелателен. Бесконечное всматривание в себя как в зеркало может привести к болезненно-чрезмерным угрызениям совести. Более чем где-либо здесь необходимо чувство меры, равно как и помощь опытного наставника, и благотворный климат живой общины.
Самолюбие и присущая ему тираническая воля возводят стену между душой и Богом, искусство же послушания разрушает ее.
У Оригена есть замечательное определение служения старцев: “Везде, где находятся учителя, Иисус Христос посреди них, однако при условии, что учителя пребывают в Храме, никогда не покидая его”[225]. “Храм” для Оригена означает непрестанное созерцание Иисуса.
X. Аскетическое усилие
Подвижники Духа всегда стоят на уровне реально возможного максимального усилия, дабы открыть душу и сделать ее восприимчивой и деятельной. Для них речь никогда не идет о доктринальных абстракциях, поисках каких-то заслуг или фармацевтических дозировок благодати и свободы. Оставляя это занятие богословам, они изъясняются в терминах опыта: “Бог совершает все в нас… нам же принадлежит доброе расположение воли”[226]. Если они говорят о “труде и поте”, это означает человеческое действие внутри действия божественного. Можно было бы выразить это так: Бог “трудится”, а человек “потеет”.
Аскетика не имеет ничего общего с морализмом. Греху противопоставляется не добродетель, но вера святых. Морализм развивает природные силы, присущий ему волюнтаризм подчиняет человека нравственным императивам. Однако известно, до какой степени хрупка и малоэффективна всякая автономная и имманентная этическая система, не содержащая никакой животворящей силы. Можно уважать закон, но его невозможно любить как личность, как Иисуса Христа, например. Христос – не принцип блага, но воплощенное Благо. Вот почему в трагических экзистенциальных конфликтах, на пределе глубочайшего страдания или одиночества, нравственные и социологические “принципы” оказываются бессильны. У них нет власти сказать расслабленному: “Встань и ходи!” Они не могут ничего простить или отпустить грехи, сделать преступление небывшим или воскресить мертвого. Возведенный в систему суровый облик безличного и всеобщего скрывает фарисейство “гордыни смиренных”, и эта ее разновидность опаснее всего, ибо “гордыня, принятая однажды за смирение, становится болезнью неизлечимой”[227].
Совсем иное звучание имеет “добродетель” аскетов, она есть человеческий динамизм, приведенный в движение присутствием Божиим. Здесь речь идет не о каком-то деле, “достойном награды”: “Бог – наш Творец и Спаситель, Он не тот, кто измеряет и взвешивает цену дел”[228].
Никакое юридическое понятие награды тут не применимо. “Сын мой! дай сердце твое мне, и остальное Я дам тебе с избытком”[229]. Эти слова Ветхого завета уже предвосхищают Евангелие: “Наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам” (Лк 12:31).
Ища единого на потребу, человек становится созвучен ему и приносит свое сердце в дар. То, что от Бога, Царство, есть безвозмездный дар: “Если бы Бог смотрел на заслуги, никто не вошел бы в Царствие Божие”.
Сердце духовного человека, ищущее спасения, никогда не бывает осквернено своекорыстными расчетами духа, слишком заинтересованного собственной участью. Смирение не позволяет чувствовать себя “спасенным” – напротив, оно заставляет неотступно думать о спасении других. Душа обеспокоена прежде всего судьбой Бога в мире, тем ответом, которого Бог ждет от человека. В видении мистиков Бог предстает как существо покинутое и страждущее в Своей раненой любви. Если что и необходимо спасти в этом мире, то прежде всего не человека, но любовь Божию, ибо Он возлюбил нас первым и Его сила несет и поддерживает ожидаемый Им ответ. Во взаимодействии благодати и греха, которое формулируют богословы, духовный человек видит взаимодействие двух доверий, встречу нисходящей любви Бога и восходящей любви человека.
Если “человек осужден и спасен одновременно”[230] и если “вся Церковь есть Церковь погибающих”[231], то речь может идти только о полном проявлении нашей веры. Это свободный выбор – не “дел”, но непреодолимого желания быть чадом Божиим. От меня зависит открыть двери моей души, чтобы Он вошел. Я могу лишь броситься к Его ногам и закрыть лицо, подобно ученикам на горе Фавор, ослепленным блистанием Его пришествия. Насилие, о котором говорит Евангелие (Мк 7:21), исходит из сердца человека, и поэтому: “Бог будет судить сокровенное людей” (Рим 2:16), Он будет судить его, потому что человек – хозяин своего сердца.
XI. Возрастание духовной жизни
Увиденная снизу, духовная жизнь представляется беспрерывной борьбой, называемой “невидимой бранью”, где любая остановка оказывается шагом назад. Но увиденная сверху, она есть стяжание даров Святого Духа. Это двойное движение наглядно раскрывается в молитве Св. Духу: “Очисти нас от всякой скверны”, но также и “приди и вселись в нас”.
Это очищение начинается с трезвого видения своего состояния. “Познай самого себя”, – приглашает аскетический сократизм, ибо “никто не может познать Бога, если не познает прежде себя самого”[232]. Мужественное всматривание в тьму собственных глубин, даже если они оказываются ужасными, развивает способность судить самого себя: “Познавший грех свой – больше воскрешающего мертвых”, и “увидевший самого себя – больше узревшего ангелов”[233]. Следует произвести погружение в аскетическом скафандре, вооружившись даром различения духов, дабы исследовать населенные призраками бездны самого себя, живо ощутить извращенность воли и надвигающуюся смерть, т. е. неисцелимое несовершенство природы. Таков тройной барьер – природы, греха и смерти, который Господь преодолел за всех нас. Взгляд должен быть кратким, мгновенным, – дабы избежать всякого самолюбования в страдании или отчаянии. Никогда грех не может быть предметом созерцания, надо направлять взгляд на то, что его покрывает, – на благодать. Но душа может прямо сейчас возопить: “Из бездны моего беззакония я взываю к бездне Твоего милосердия”.
Восхождение постепенно. Так, “райская лестница” прп. Иоанна Лествичника описывает восхождение как последовательность ступеней или этапов, расположенных в соответствии с порядком возрастания человека, в совершенстве изученного преподобным. Любовь, например, находится в самом конце, она венчает подъем и располагается на вершине лестницы. Мудрое наставление предупреждает об опасности всякой эмоциональной любовной игры, ибо речь идет о любви распятой. Великие подвижники покидают уединение и возвращаются в мир в момент совершенной зрелости. Мудрость Лествичника позволяет избегнуть стольких промахов и разочарований душам чересчур нетерпеливым и забывающим слова Евангелия: “Врач, исцели самого себя” (Лк 4:23).
Уделяя особое внимание покаянию, духовная жизнь берет начало в смирении. Живущий Духом – это святой, сознающий себя грешником. “Антоний вопрошал со стоном: “Кто же избегнет?”, и глас отвечал ему: смирение”[234]. Авва Сисой на смертном одре, уже окруженный сиянием, смиренно исповедует: “Я даже и не начинал моего покаяния”[235]. Этим он хотел сказать, что покаяние есть все более и более пронзительное осознание любви Бога и неадекватности человеческого ответа. Это не некое конечное действие, но постоянное состояние души, углубляющееся по мере приближения конца.
Для аскетов смирение означает искусство находиться точно на своем месте: “Человек, достигший познания своей меры, достиг совершенства смирения”[236]. Если людьми мира сего владеет жажда безмерного, из ряда вон выходящего, если каждый желает быть Учителем и Женихом, то Евангелие показывает нам сияющую картину смирения: св. Иоанн Креститель обретает полноту радости в том, чтобы быть другом Жениха, а Дева – в том, чтобы быть Рабой Господней. Они умаляются, чтобы другой, настоящий Жених и Учитель возрастал: одно есть следствие другого. Занять Свое место среди людей Богу становится возможным лишь потому, что Он встретил совершенное Себе соответствие. Он пришел “к Своим” и Он принят Другом и Рабой. Их смирение отвечает на смирение божественное, на кенозис Раба Яхве, “мужа скорбей”. Оно является отражением и следствием “переоценки ценностей” небесных. Вседержитель становится Человеколюбцем, и Царь – распятым Рабом.
“Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя” (Мф 11:11), – эти слова содержат в себе противоречие, поскольку достигают границы Заветов. “Большему” соответствует загадочное: “меньший в Царстве Небесном больше него”. Св. Иоанн оказывается одновременно большим и меньшим, и он больший потому, что он меньший. “Слышать голос Жениха, в этом моя радость” (Ин 3:29). Радостное самоустранение настолько глубоко, что на этом уровне Жених и Друг Жениха сближаются в едином и несказанном величии: Бог стал человеком и человек стал богом, так что люди спрашивают об Иоанне: “Не Христос ли он?” Бог возводит Иоанна и Деву в высшую степень Всеобщего священства, чтобы для всех людей они служили “путеводным образом” самого подлинного служения Его Церкви, – это ясно прочитывается в иконографической композиции Деисус[237].
Ницше допускает очевидную ошибку, называя христианство религией восставших рабов. В противоположность всякой плебейской мстительности и обидчивости, христианин берет вину на себя – так ведет себя рыцарь. Смирение нельзя путать с унижением, бессилием и малодушной покорностью. Смирение есть величайшая сила, ибо оно радикально упраздняет всякий дух мстительности и только оно берет верх над гордыней. Вернее всего было бы сказать, что оно помещает стержень человеческого существа в Боге.
С точки зрения психиатрии эгоцентризм есть симптом всякого истерического невроза, он заставляет весь мир вращаться вокруг человеческого “эго”: “Я, я, ничего кроме меня”. Это желание равенства, которое, по замечанию св. Григория Назианзина, послужило к падению Люцифера. Согласно св. Григорию Нисскому, Сатана был оскорблен, узнав о сотворении человека по образу Божию, также и согласно исламской традиции, он восстал, отказавшись поклониться Адаму. В “Легенде”[238] Соловьева Антихрист осознает свою демоническую природу в тот момент, когда понимает, что не может пасть ниц и поклониться чему-либо кроме собственного “я”. Мы подходим здесь к истоку греха, объясняющему цель аскезы, – сокрушить гордыню и сделать из смирения неколебимое основание человеческого духа: “Дать перемолоть себя в жерновах смирения, чтобы стать хлебом мягким и приятным нашему Господу”[239].
“Золотая легенда” повествует о жизни смиренного человека, у которого “обе руки были правыми”. Все свои радости он клал в правую руку, а все горести – в левую. Левая рука его всегда была полна. Но вот, по духу смирения, все, что попадало в левую руку, было переложено в правую, и вся его жизнь стала светом и радостью.
XII. Страсти и механизм искушения
Библейский рассказ о “запретном плоде” подчеркивает силу внушения: его вид возбуждает желания одновременно чувственные и эстетические: “Дерево было хорошо для пищи и приятно для глаз, вожделенно” (Быт 3:6). Формальному непослушанию предшествует стрела искушения, которая, достигая человеческой свободы, заставляет ее сделать ложный выбор. Сущность грехопадения становится очевидна: запретный плод, чувственно вожделенный, погружает человека в чувственную жизнь, которую он предпочел духовному углублению общения с Богом. Человек оказывается виновным не столько негативно – непослушанием, сколько позитивно – тем, что не обогатился близостью Божией. “Если бы он прилепился к Богу с первого движения своего бытия, то тогда же достиг бы совершенства”, – говорит св. Григорий Нисский[240].
Притягательные чары запретного плода символизируют скрытое желание обладать свойствами Бога. Любовь человеческого сердца, изначально направленная на Существо Бога, оказывается отклонена от своего объекта, сбита с пути и направлена единственно на Его атрибуты, источник наслаждения. Благодать “подобия” уступает место магии равенства: “будете как боги”.
Мифологический образ вкушения плода не случаен, его природа определенно евхаристична. Элемент, первоначально внешний невинному человеку, зло, через вкушение вошло внутрь человеческого существа. Зло, таким образом, становится для него внутренним; Бог же, напротив, становится внешним человеку. Порядок вещей нарушается; биологическое животное оказывается чуждым истинной природе человека, поскольку животное было воспринято до его одухотворения, до того, как человек достиг главенства духа над материей. Общение с природой, хорошей самой по себе, оказывается дурным, ибо преждевременным. Ошибка исходит от чересчур поспешной самоидентификации. Климент Александрийский видит первородный грех в том, что “прародители наши предались произведению потомства до срока”[241].
Из-за извращения иерархии ценностей добрая сама по себе, животная природа представляет теперь постоянную угрозу вырождения для человека. Аксиологическая способность оценки, различения духов, оказывается пораженной: “Ум, отступивший от Бога, становится скотоподобным или демоноподобным и, выступив за пределы естества, вожделевает вещей, ему чуждых”[242]. Незаконное вожделение противоестественно, человеческое существование оказывается под властью страстей, жизни чувств. Поэтому в первую очередь аскеза нейтрализует страсти, дабы объективировать, выявить те внутренние устремления, которые удаляют от Бога.
Можно увидеть эту терапию в жизни, обратившись к таинству исповеди. “Утаенный помысел разрушает сердце. Кто его скрывает, становится больным”, – констатирует св. Кассиан [243]. Действие зла восходит к страшнойphilautia – самолюбию, замыкающему человека в самом себе. Напротив, раскрытие души предотвращает возникновение помыслов, разоблачает их и исцеляет болезненные угрызения совести[244]. Поэтому исповедь включает признание вины, за которым следует отпущение грехов. Принимающий исповедь, согласно Клименту Александрийскому, подобен “ангелу покаяния”, способному проникнуть и открыть души грешников, он “врач Божий”. “Придя к врачу, да не уйдешь неисцеленным”, – говорится в молитве перед исповедью. Так же в определениях Трулльского собора (692 г.) содержится хорошее предписание: “Принявшие от Бога власть вязать и решить, да поступают как внимательные врачи, дабы найти особое средство, требуемое каждому кающемуся и каждому греху кающегося”[245].
Тысячелетний опыт ясно свидетельствует об опасности вытеснения из сознания и об освобождающем значении исповеди. “Многие страсти сокрыты в нашей душе, но ускользают от внимания”, – говорит Евагрий [246]. Грех пускает корни в душе и отравляет внутренний мир, он требует хирургической операции, чтобы отрезать эти корни и извлечь грех. Здесь необходимо присутствие внимающего свидетеля, дабы разрушить одиночество и вернуть кающегося в причастие Телу. Психоанализ вновь открывает ценность исповеди; он по-своему пытается привести пациента к тому, чтобы тот стал открыт к диалогу, преодолел неспособность вести диалог и страх, мешающий идти навстречу другим.
Созомен (V в.) решительно заявлял: “Чтобы просить прощения, необходимо исповедать свой грех”[247]. Исповедание греха облегчает душу, но как сделать его несуществующим? Ведь неспокойная совесть – это не только угрызения из-за совершенного преступления, но и тоска по утраченной невинности. Человек ищет прощения, но в самой глубине своего сердца он хочет упразднения зла, и это-то столь желанное уничтожение и требует отпущения грехов в таинстве. Грех, выведенный на поверхность, даже высказанный и таким образом объективированный, как бы выброшенный, может еще мучить человека извне. Только отпущение грехов в таинстве покаяния разрушает его безвозвратно и приносит полное исцеление. Верующие психиатры знают это таинственное действие полного освобождения и часто отправляют своих больных для завершения лечения в церковную “врачебницу”. Огромное значение исповеди состоит в этом последнем освобождении. Снова стать свободным – значит уметь употребить свое прошлое, даже если оно греховно, на созидание настоящего, свободного от греха; это способность трансцендировать пассивную восприимчивость души и ее свойства, подверженные действию непроизвольных причин, к творчеству духа, вновь ставшего девственным через отпущение грехов. Быть в состоянии впредь избегать действия этих причин – значит стать хозяином своей судьбы, открыть ее освобождающему действию божественных энергий.
Акт прощения вводит нас в самое сердце отношений между Святым Богом и грешным человеком, и необходимо понимать его бесконечную важность. Дело не в том, что Бог всемогущ и потому может изглаживать и делать несуществующим, – речь идет о Христе, Который, как говорит апостол Павел, “стер рукопись, которая была против нас… пригвоздив ее ко Кресту” (Кол 2:14). “Агнец заклан до сложения мира” – значит, сотворение мира оказывается укорененным в заклании Творца, и потому власть прощать куплена ценой крови, пролитой распятым Агнцем. И поскольку Христос берет на Себя все беззакония и преступления мира, оставаясь из-за этого в агонии до конца, и за нас отвечает Своей невыразимой любовью на любовь Отца, постольку Он имеет нравственное право изглаживать, прощать грех и делать нас невинными чадами Божьими. Молитва Господня “И оставь нам долги наши, как и мы оставляем…” ставит наше прощение в зависимость от нашего “подражания” Богу: мы призваны вслед за Христом сойти во ад всеобщей виновности, где все заслуживают наказания; всякий верный православный исповедует перед причастием: “Грешники… из которых первый – я”.
Молитва перед исповедью, предваряемая чтением 50-го псалма, имеет огромное значение, она свидетельствует о примирении, о предварительном воссоединенни грешника с Церковью. По молитвам священника кающийся как бы берется под опеку Церкви, ею он поддерживается и представляется пред лице Божие. Лишь находясь в материнском лоне Церкви, человек может действительно раскрыть свою душу и получить исцеление, ибо любой грех ставит человека вне Тела Христова. Воссоединенный с Церковью, человек может плакать слезами своего духа. Слезы покаяния, говорит прп. Симеон Новый Богослов, “очищают и даруют второе крещение, о котором говорит Спаситель, возрождение водою и Духом”; и добавляет: “…крещение слезами есть уже не образ истины, но сама истина”[248]. Никакой автоматизм в отношении таинств недопустим, возрождение Духом требует полного осознания со стороны того, кто “с трепетом” перешагивает через бездну.
Аскеза в духовной жизни продолжает путь, намеченный раскаянием и покаянием. Она прежде всего стремится освободить человека от власти страстей; для того, чтобы достичь этой цели, она культивирует духовное внимание, хранение сердца. “Я сплю, но сердце бодрствует”, – даже в состоянии сна дух остается на страже. Постоянная бдительность позволяет распознать зло прежде, чем придет искушение его совершить.
Аскеты дают подробнейшее описание распространения зла, обнажают самую технику или механизм искушения, в общем довольно простой.
Первое движение “заразы” исходит от представления, образа, идеи, желания, возникающих в уме; что-то очень мимолетное, что внезапно появляется и привлекает наше внимание. Из подсознания помысел поднимается в сознание и пытается там закрепиться. Это еще не грех, далеко нет, но присутствие внушения. Именно в этот самый первый момент немедленная реакция нашей бдительности имеет решающее значение: останется искушение или же оно уйдет. Подвижники пользуются образом, привычным для пустыни, и говорят: “Порази змею в голову”, прежде чем она проберется в келью; если же змея вползла целиком, то борьба будет неизмеримо труднее.
Если внимание не реагирует, то искушение переходит в следующую фазу – потворство. Внимание, доброжелательное к искусительному помыслу, затевает шуточную игру, превращается в двусмысленное и уже пособническое отношение. Св. Ефрем Сирин говорит о “шутливой беседе” души с настойчивым помыслом.
Предвкушение наслаждения от заранее воображаемого обладания отличает третью фазу. Молчаливое согласие, бессознательная уступчивость склоняют сознание к тому, что желаемое исполнимо, ибо до страсти вожделенно. В принципе решение уже принято; в таком вожделении грех уже мысленно совершается. Об этом говорит Евангелие: в нечистом взгляде прелюбодеяние уже пред-совершено.
На четвертом этапе деяние воплощается в действие. Закладывается начало страсти, жажды отныне неутолимой. Став привычкой, страсть нейтрализует всякое сопротивление. Смиряясь со своим бессилием, личность разлагается; как заколдованная, она направляется к неминуемому концу: это отчаяние, страшная acedia[249], отвращение или смятение сердца, безумие или самоубийство, в любом случае – духовная смерть.
Часть третья Харизмы духовной жизни и мистическое восхождение
I. Эволюция духовности на Западе и на Востоке
На Западе, после введения ирландскими миссионерами одного из самых суровых уставов – устава св. Колумбана[250]: “maxima pars regulae monachorum mortificatio est”[251], все-таки продолжает доминировать духовность св. Бенедикта, восходящая к древней традиции, главным образом к св. Василию и св. Кассиану. Это аскеза очень уравновешенная, рассчитывающая и распределяющая время между lectio divina[252], псалмопением, постом и ручным трудом. Но такое равновесие не продлилось долго. Реформа аббатства Клюни придает большую торжественность богослужению и удлиняет его, дабы таким образом сократить ручной труд, не слишком привлекавший монахов. Орден цистерцианцев, возникший как реакция против Клюни, возвращается к максимальной строгости устава, поражая суровостью, простотой образа жизни и нарочитой бедностью монастырей: cum Christepauperepaupers[253].
Кальмадолийцы св. Ромуальда и картезианцы св. Бруно[254] наряду с общежитием практикуют затворничество и анахорезу. С начала средних веков в этой среде суровых отшельников покаяние начинает включать в себя крайние формы дисциплины, самобичевания и самоистязания. Это попытка, возможно опасная, возвращения к пустыннической аскезе, к которой прибавляется совершенно новый элемент – умерщвление плоти, практикуется не только ради искупления содеянных грехов, но и ради возмещения греха мира. Здесь достаточно упомянуть Петра Дамиани.
В XI в. становится очень популярной практика паломничеств к св. местам – Иерусалим, Сант-Яго-де-Компостелла, Рим – множество нищенствующих паломников пускалось в путь, направляясь к этим святыням. Крестоносцы привели западных людей на палестинскую землю, это открытие стало решающим для западной мистики и, оказав сильнейшее влияние на творческую мысль, вызвало к жизни страстное подражание человечности исторического Христа Евангелий. В XII в. аскеза и духовность обращаются к образу Иисуса нищего, униженного и распятого: св. Франциск обручается Бедности и обретает стигматы, позднее Генрих Сузо[255] предается крайнему умерщвлению плоти в подражание бичуемому Иисусу.
В XIII в. доминиканцы, уделявшие особое внимание ученым занятиям, сделают и из них форму аскезы. С другой стороны, св. Бернар и св. Бонаветура утверждают значение монашеских обетов и возвращаются к классическим этапам духовности св. Дионисия: purgatio, illuminatio, perfectio (очищение, освящение, совершенство).
Конец средневековья – время, когда духовная жизнь начинает задыхаться и оскудевать. Схоластические штудии обращаются к рассудку, подменяя собой lectio divina и молитвенное созерцание; сама молитва становится формальной. То, что называют devotio moderna[256], увеличивает разрыв между духовной жизнью и богословием, становящимся все более спекулятивным. Голландская школа Геерта Гроота вдохновила Фому Кемпийского, чье “Подражание Иисусу Христу” подытоживает тенденции недавнего прошлого и закрепляет этот печальный разрыв. Единение с Богом сопровождается здесь определенным антиинтеллектуализмом, реакцией против схоластического богословия и науки. XV век в попытке уйти от сухости и одеревенелости формальных норм предается эмоциональному переживанию боли и страдания. Усиленное поклонение страждущему человечеству Христа превращается в культ долоризма с его явно сомнительными формами умерщвления плоти.
Ренессанс делает акцент на человеческом измерении аскезы, приспосабливая ее к своему всеохватывающему, но еще благочестивому гуманизму. Духовная жизнь дробится на множество практик благочестия. В XVI в. Игнатий Лойола делает из аскезы метод и технику обращения, а Франциск Сальский в начале следующего столетия создает психологическую аскезу внутренних состояний. Эти практики уже выходят за пределы монашества и дают начало аскезе секулярной.
Аскеза психологизируется, поскольку все больше внимания начинает уделяться состояниям сознания. Уже св. Фома, анализируя восхищение Павла, проявляет живой интерес к отношениям между душой и телом и к методам познания. Точно так же и испанский мистицизм, особенно св. Тереза и св. Иоанн Креста, углубляются во внутренний, психологический аспект мистического восхождения.
Аскеза Сен-Сирана, Пор-Рояля и янсенизма[257] не доверяет природе. Сотериологические и пастырские предубеждения усиливают ригористическую строгость покаянной дисциплины, предписываемой верным. В XVIII в., на фоне общего упадка нравственности, суровость XVII в. в каком-то смысле еще продолжается, но уже кажется интеллектуально оскудевшей и несколько застывшей, лишенной былого полета и порыва.
Совершенно особая реакция проявляется в квиетизме[258]. Но только с Маргаритой-Марией Алакок[259] новая практика почитания Святого Сердца являет аскезу возмещения. На место самосовершенствования приходит умерщвление плоти ради удовлетворения божественной справедливости за грехи всех людей.
Шок революции усиливает эти практики возместительного покаяния и искупительной аскезы. Психологизм и рационализм XIX в. еще сильнее отдаляют духовную жизнь от догматики и богословия. В настоящее же время мы являемся свидетелями широкого и плодотворного обращения к святоотеческому наследию и изначальному монашескому опыту.
Если мы теперь обратимся к Востоку, то увидим, что он остался верен общей для Востока и Запада духовности прошлого. Процесс формирования восточного монашества завершился уже в V–VI вв. При Юстиниане оно было объявлено “вещью священной” и “таинством”, ибо в сжатой и образцовой форме выражает всеобщее призвание священства верных, призвание, которое каждый способен сделать своим и осуществить по-своему. Духовенство лишь входит в него как помощник в совершении таинств, не являясь его самостоятельным элементом.
Органическая часть Церкви, монашеская духовность синтезировала тот религиозный идеал жизни, который в общих чертах предлагается всем. Догматические определения исихазма, относящиеся к XIV в., лишь зафиксировали то, что существовало с самого начала, выявив однородный характер восточной духовности. Она неотделима от “мистического богословия”, богословия тайны, уже полностью сформировавшегося в золотой век патристики.
В настоящее время обе духовности – восточная и западная – дополняют друг друга, к ним приложимо двустишие Евагрия: “Гностик и практик встретились, и посреди них был Господь”[260]. Они встречаются в поиске сущности опыта прошлого, дабы обрести духовность уравновешенную, очищенную от крайних форм, характерных для аскетики того времени; духовность, сосредоточенную на эсхатологии и в полноте осознающую современное состояние мира, обеспокоенную в первую очередь его судьбой.
II. Переход от Ветхого к Новому Завету
Во времена Ветхого Завета духовная жизнь выражалась в трех формах: милостыне, молитве и посте. Она находит исполнение и завершение в Нагорной проповеди, ставящей ее на службу Евангельской любви к ближнему. Послеапостольская эпоха добавляет к ней мученичество и безбрачие, что, впрочем, уже не было новостью. Действительно, уже в позднем иудаизме верующие запечатлевают кровью исповедание веры. С другой стороны, в лице св. Иоанна Крестителя нашла отражение духовность ессеев, да и безбрачие Господа и апостолов не воспринималось как что-то исключительное. В целом духовная жизнь отвечала призыву к “единому на потребу”, ища освобождения от уз мира сего, дабы с большей радостью идти навстречу Грядущему.
Великое ликование и оптимизм первых духовных учителей исходят из их неколебимой веры в образ Божий. Именно это соответствие божественного и человеческого, полное благодати уже по самой своей природе, являет и делает актуальным для всех Христос. Как движущий фактор оно выступает в роли “путеводного образа”, ведущего к полноте-исцелению. В Библии особо подчеркивается терапевтический смысл спасения, чем определяется христианская духовность в самом ее истоке.
В свете Откровения спасение не есть что-то юридическое, это не приговор трибунала. Глагол yacha по-еврейски означает “жить в достатке”, в довольстве, в более же широком смысле слова – освобождать, спасать от опасности, от болезни, от смерти; здесь можно выявить и зафиксировать вполне определенное значение: восстанавливать жизненное равновесие, врачевать. Существительное yecha, спасение, означает полное освобождение и окончательный мир – шалом. В Новом Завете греческое слово σωτηρια происходит от глагола σωζω, прилагательное σως соответствует латинскому sanus и означает вернуть здоровье потерявшему его, спасти от смерти – естественного конца всякой болезни. Поэтому выражение “вера твоя спасла тебя” может быть также переведено как “вера твоя исцелила тебя”, оба слова являются синонимами одного и того же акта Божьего прощения, которое касается души и тела в их единстве. В соответствии с таким представлением таинство исповеди понимается как “врачебница”, а св. Игнатий Антиохийский называет Евхаристию farmacon – врачевство бессмертия[261].
Иисус Спаситель предстает таким образом божественным Целителем, Он говорит: “Не здоровые имеют нужду во враче, но больные… Я пришел призвать не праведных, но грешных” (Мф 9:2—13). Грешники – больные, им грозит духовная смерть, более страшная, чем телесная. Если конкретизировать терапевтический смысл спасения, то оно есть исцеление самого бытия, удаление самого семени смерти, вот почему Спаситель называет Себя Жизнью и спасенный получает жизнь вечную. Конец вновь претворяется в то начало, когда человек, получив дыхание жизни, жил общением в Духе Святом Животворящем. Аскеза ищет именно возвращения к этому глубокому и точному соответствию человека его собственной истине, его норме, столь же естественной для него, как плодородие для земли или красота – для женщины. Аскеза стремится сделать человека “преподобным” замыслу Бога о нем. В этой перспективе “дела веры” не есть ни средства, ни “заслуга”, но признаки здоровья-спасения.
О размерах зла можно судить по силе противоядия. Лечение, потребовавшееся больному, под стать только одному врачу – Богу, который вместо пациента проходит через смерть и так начинает свое всеобъемлющее исцеление: “Если зерно пшеничное, упав на землю, не умрет, оно останется одно; если же умрет, приносит много плода” (Ин 12:24). Крест вкопан на пороге vita nova[262], и крещальные воды обретают таинственную ценность крови Христовой. С этого времени аскеза учит участию в “здоровье” Спасителя, которое включает победу над смертью и требует очищения. Только испытание страданием углубляет и очищает жизнь, доводя ее до сознательного и подлинного ликования. Церковь возвещает: “Ибо вот, пришла Крестом радость всему миру”, указывая таким образом совершенный и надежный путь. Если всякая судьба находится под знаком “несения креста”, то это “крест животворящий”, и его радость превосходит всякое упоение страданием и душераздирающей чувствительностью. Аскеза выводит за пределы психики, ее духовное искусство воспитывает крайнюю сдержанность чувств.
Уже ветхозаветное ожидание мессианских времен формирует тип странника. Его новозаветное исполнение еще сильнее акцентирует состояние homo viator[263], но также и возлагает на него очень конкретную человеческую задачу.
Согласно Евангелию, время близко, образ мира сего проходит (1Кор 7:29–31), и теперь, когда Жених взят от нас, невозможно более наслаждаться этим миром, живя предпоследними ценностями бытия. После Пятидесятницы мы живем уже в качественно последние времена, и это подвигает нас максимально отрешиться от забот мира ради того, чтобы сделать ожидание более деятельным. Подобный аскетический “активизм” отвечает запросам нашей эпохи, противопоставляющей квиетизму изобретательность и социальную заинтересованность. Если подвижники неуклонно настаивают на необходимости работать руками, то не для того, чтобы просто занять свободное время, – аскет должен заработать себе на жизнь, дабы иметь возможность творить милостыню[264]. Истинное бесстрастие, согласно Евагрию, “сопровождается бескрайней любовью к Богу и безмерным рвением в делах милосердия”[265]. Ангел открывает Пахомию, что “воля Божия в том, чтобы отдать себя на служение людям”. Позже Пахомий скажет: “Любовь к Богу состоит в том, чтобы мы трудились друг для друга”[266]. Так аскеты не уходят от стоящих перед людьми проблем, но открывают в них измерение Царства и видят совершенство в страхе “хоть чем-то оскорбить любовь”[267].
Отцы прекрасно сознавали, что формы аскезы могут меняться. В “Апофтегмах” есть такой рассказ: “Св. отцы пророчествовали о последних временах. «Что же мы сами сделали?» – спросили они себя однажды. Тогда один из них, великий авва Исхириен сказал: «Мы соблюли заповеди Божии». «А те, кто последуют за нами, – снова спросили остальные, – что они сделают?» Исхириен ответил: “Те же достигнут лишь половины того, что мы совершили». Отцы продолжали настаивать: «А что станет с теми, кто придет после них?» «Люди того времени никогда не будут богаты делами; время великого искушения поднимется против них, и те, кто в том веке будут найдены достойными, будут больше чем мы и наши отцы»”[268].
В наше время “эффектные” практики прошлого становятся внутренним деланием. Подвиг скрывается под повседневной одеждой. Сверхчеловеческое очеловечивается, становится соразмерным современному миру, его ментальности, его нуждам. Духовная жизнь стремится, ни от чего не отступая, адаптироваться к эволюции человеческой психики. Так, если в самом начале аскеза была направлена на строгое умерщвление плоти, то теперь всеобщая нервозность и отсутствие сопротивляемости скорее требуют избегать всякого явного насилия. Медицина в меру своих возможностей справляется со страданием, но одновременно делает человека более уязвимым, более чувствительным к физической боли, – и именно потому, что она становится более редкой.
Аскеза перемещает центр своего внимания и соприкасается с основным вопросом всякого свободного философского размышления. Психология после Юнга хорошо знает, что недостаток свободы вызывает страх, а избыток свободы излечивает от него. В этом и состоит цель аскезы – трансцендировать всякое ограничение, расширить сердца величайшим дерзновением любви и способствовать возрастанию личности через дары и харизмы.
III. Харизмы в духовной жизни
1. Различение духов, бесстрастие, безмолвие, бодрствование, покаяние и смирение
Св. Иоанн Лествичник описывает духовную жизнь в утешительном образе scala paradisi[269]. Небесные силы поддерживают человеческое усилие. Ангелы, восходящие и нисходящие по “лестнице Иакова”, сопровождают человека на этом пути, где он получает харизмы. Св. Кирилл Иерусалимский перечисляет некоторые из них: “Одного Дух укрепляет в целомудрии, другого научает милосердию, еще иного наставляет в посте и, наконец, в практике духовного делания”[270].
Здесь важно то, что духовная жизнь с самого начала носит характер всецело харизматический. Первым среди этих харизм должен проявиться дар различения духов, научающий не путать цели и средства; Евагрий проницательно замечает, что было бы величайшей ошибкой сделать из борьбы со страстями новую страсть[271]. “Молитва, пост, бдения и всякое другое делание… суть лишь средства, необходимые для стяжания Святаго Духа Божия”, – учит св. Серафим [272]. Вот оно – ясное указание цели. Св. Исаак[273] добавляет, что простота Бога собирает, а сложность зла рассеивает.
Шестой вселенский собор, обращая внимание на это рассеяние и утверждая, что “грех есть недуг души”, прямо обращается к терапевтической аскезе.
Потому апостол Павел, молясь особо о даре различения духов (Флп 1:10), имеет в виду именно аксиологическую функцию диагностики, предупреждения духовного заболевания, позволяющую его распознать и сделать решительный выбор. Однако здесь и возникает препятствие. Дело в том, что всякий сознательный императив вызывает немое сопротивление подсознания, парализующее волю. Апостол Павел констатирует: “Я не знаю, что совершаю… творю не то доброе, которого хочу, но то злое, которого не хочу, это делаю”. Он открывает внутренний закон, “который воюет с законом ума” (Рим 7:15–23), и формулирует закон иррационального сопротивления, исходящего из подсознательного.
Библии хорошо известно непроницаемое подземелье человеческого существа: “Лукаво сердце человеческое… кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности” (Иер 17:9—10), то есть человеческое “я” и темную область, его окружающую. Евангелие судит человека по содержанию его сердца, по предмету его желаний, по его эросу. “Из сердца своего человек выносит доброе и худое” – возможности неисчерпаемы как в одном, так и в другом направлении.
Великие учителя аскезы прекрасно понимали значение подсознательного. Евагрий учит: “Многие страсти сокрыты в нашей душе, но ускользают от внимания, внезапно проявляясь во время искушений”[274].
“Глубинная психология” удачно подкрепляет аскетическое искусство средствами науки, помогая человеку понять себя. Она анализирует динамику эмоционального, темную зону подсознательного, иррациональный корень души, где действуют инстинкты “воли к жизни”. Подавленный реальностью, подверженный социальной цензуре, этот внутренний мир перекраивается, часть его жизненной силы оказывается вытеснена, у него вырабатываются рефлексы подавления и компенсации. Истинная, скрытая жизнь протекает ниже порога сознания, постоянно оказывая свое давление; от равновесия между сознанием и подсознанием, от способности духа проникать его своим светом, объять его “тьму”, зависит здоровье человека.
Темные, враждебные человеку силы используют его психические начала. Именно в этом смысле Юнг говорит о сходстве комплексов с демонами. Аскеты советуют развивать внимание и различать во внутреннем хаосе души природу действующих там начал: животную, рациональную или эмоциональную, а также их причины: внешние и внутренние, чисто биологические или более сложные и нравственные. Так, Евагрий (в “Antirrheticos”) выявляет соматическую причину чревоугодия и сладострастия, показывая, что они суть извращения инстинктов жизни и выживания. Для св. Григория Паламы страсти, исходящие от плоти, наименее тяжки и свидетельствуют лишь о том, что материя обернулась тяжелым бременем, ибо так и не была одухотворена. Задолго до Фрейда, в XIV в., он говорит о проявлениях сексуальности у совсем маленьких детей, как о естественных проявлениях. Грех и куда более опасные страсти исходят от духа.
Извращенная воля отвращает сердце от его изначальной направленности, заставляя его искать абсолют в идолах (смертных пороках, гипостазированных страстях) и предаться культу своего “я” с его самолюбием, волей к власти, сделав из всего этого адского само-идола. Переоценка ценностей (Umwertung), метод, используемый Венской школой, разоблачает таких идолов, чтобы раскрыть подлинный абсолют.
Психология согласна с аскезой, считая чересчур подробные воспоминания о прошлом, слишком продолжительную остановку внимания на нем опасными, могущими принести больше вреда, чем пользы. Фрейдовский метод интроспекции и редукции настоящего в прошлое отчуждает человека. Он дополнен и превзойден юнговским методом проспекции, направленным на построение будущего. Юнг учит тому преодолению себя, которое мы находим в словах апостола Павла: “Забывая то, что позади, и устремляясь к тому, что впереди, спешу к цели” (Флп 3:13–14).
Реальное значение имеют сегодняшние склонности, позволяющие узнать самого себя и свою действительную меру. Бдительность ума, хранение сердца, призывание имени Иисуса суть те харизмы, которые задерживают и прерывают всякий диалог с пагубным внушением до того, как оно станет молчаливым согласием, страстью и пленением души. Надо добраться до иррациональных корней души, до чистого или замутненного источника воображения, раскрыть его настоящую природу.
Осознав это, психоанализ и аскеза стали искать обходные пути к тому, чтобы свет разума мог туда проникнуть. Дело в том, что на подсознание ни в коем случае нельзя действовать императивами, оно сопротивляется всякому прямому приказу. Именно через воображение возможно наиболее эффективное проникновение в эту область; оно открывает нам, как велика сила образов[275].
Действительно, перед лицом естественной неспособности человека исполнить ветхозаветный Закон и подчинить себя запретам десяти заповедей, Новый Завет дарует благодать заповедей блаженства; более того, чтобы пробудить и укрепить действия людей, благодать действует через положительные внушения в форме приглашений и призывов. Эти внушения усилены “прекрасными образами” “абсолютно желанного” – Нового Иерусалима, разворачивающимися перед нашим взором в грандиозном описании Апокалипсиса.
Речь идет прежде всего о воссоздании imago Dei[276], изначальной формы, которая стремится приблизиться к Богу подобно копии, стремящейся приблизиться к оригиналу. Здесь становится очевидным значение библейского понятия “образ”. По самой своей природе образ есть такая структурная форма, которая может быть воспринята лишь воображением и, следовательно, одно воображение может проникнуть в подсознание и структурировать его по ”образу Божию”.
Воображение всегда склонно к воплощению своих образов. К впечатляющей силе Искусства прибавляется живой язык символов Священного Искусства. Согласно Юнгу, “только религиозный символ всецело сублимирует”, мы говорим: “Символ веры”, ибо Credo, исповедуемый литургически, проводит нас над образами и даже символами и ставит как призванных там, где разворачиваются реальные отношения между человеческим “я” и божественным “Ты”. Если категорический императив Канта бессилен, поскольку абстрактен и имперсонален, то Евангелия, напротив, открывают живую личность Христа, источник императивов харизматических.
Уже Ориген, обращаясь к словам апостола Павла: “Пока не будет изображен Христос в вас” (Гал 4:19), видит в них акт “воображения” Христа в сердцах его учеников. Немецкое слово ein-bilden очень выразительно передает суть совершающегося. Единожды воображенная, изображенная в душе личность Христа, в ответ формирует саму эту душу, трансформирует ее по своему образцу: “И уже не я живу, но живет во мне Христос” – и в конце пути душа предстает воистину христоподобной.
Аскеза, таким образом, представляет собой обширный план сублимации[277], которую следует понимать в смысле стремления к sublimissimum, к высшему, к Всевышнему. Она формирует утонченную культуру воображения, учит духовному посту зрения и слуха. Человек непрестанно сталкивается с бесчисленными образами, окружающими его или вторгающимися изнутри. Он испытывает постоянное внушение от разговоров, научных формул, политических лозунгов, художественных форм[278], человеческого лица, космического пейзажа. Если все сущее одинаково стремится внушать, оказывать давление на душу, ее впечатлять, то “наученные Богом”, “теодидакты”[279] получают самое сильное впечатление: ведь Сам Бог внушает им через творческие образы Своей Премудрости. Здесь требуется особое духовное внимание; авва Филимон напоминает нам: “Воображением твоим обратись вглубь сердца твоего”, ибо – “чистое сердце зрит в себе, как в зеркале, Самого Бога”[280].
Очищение сердца и воображения исходит прежде всего от Литургии, где обряд, догма и искусство теснейшим образом переплетаются. Ее образы суть символы, которые поднимают взгляд на уровень невидимого присутствия. Согласно св. Иоанну Дамаскину, икона не есть изображение видимого, но апокалипсис, откровение сокровенного. Ее сила максимальна, поскольку она открыта в трансцендентное, не имеющее образа. Очищенный и ставший внимательным взгляд способен теперь проникнуть, исследовать и выявить внутреннее содержание души: “Кто открывает свои помыслы, тот скоро излечивается, кто же скрывает – становится больным”, – “Верный признак того, что мысль от бесов, если мы краснеем, открывая ее брату”[281].
Иоанн Лукопольский следует преданию, непрерывно возвращаясь к необходимости неусыпного внимания: “Различай мысли твои благоговейно, перед Богом; если не можешь этого сделать, обратись к способному их различить”[282].
Подобная открытость души и харизматическое внимание к происходящему в ней предотвращает возникновение комплексов; язвы души, если их выявить и признать, не усугубляются.
Внешнее поведение – всегда показатель внутреннего состояния, эта тесная сопряженность обусловливает и объясняет телесную аскезу; но она также и ограничивает аскетические требования, позволяя им быть лишь строго необходимым инструментом, предохраняющим от расслабляющего комфорта и освобождающим от тирании привычек. Идеальное состояние получает парадоксальное название apatheia, означающее “бесстрастная страсть” и выражающее состояние максимально страстное, ведь речь идет о том, чтобы вывести дух из оцепенения, сделав человека бодрствующим, neptikos. Чтобы воплотить в жизнь то, что вера утверждает однажды и навсегда, требуется целая жизнь, и ради этого дух бодрствует. Св. Тереза Аквильская говорила, что нельзя “ни ползти, ни прыгать как лягушка, ни семенить цыплячьим шагом”. “Чем надо быть? Надо быть пламенем”, – говорит Сент-Экзюпери[283].
Аскетическое бесстрастие вовсе не означает бесчувствия. Здесь не стремятся уподобиться тем, кого Бернанос назвал “стоиками с сухими глазами”, и не культивируют опьянения кровавым умерщвлением плоти в стенаниях: и в том, и в другом случае скудость или чрезмерность нарушают равновесие, делают аскезу чем-то иллюзорным и “бесплодным”[284]. Для аскетов способность проникаться страстью говорит о внутреннем динамизме, который следует не подавлять, а направлять. Его значение зависит от цели, которой он служит, что упраздняет искусство для искусства, науку для науки, и в первую очередь – аскезу для аскезы. “Та душа совершенна, чьи страсти обращены к Богу”, чьи энергии участвуют в божественном человеколюбии и поэтому: “Горе познанию, которое не обращается в любовь” (Диадох). Страстное состояние концентрируется на единственной истинной страсти, на евангельском милосердии, “онтологической нежности” ко всякой твари Божией, и это основополагающая харизма. “Что есть сердце милующее? – вопрошает Исаак Сирин. – Это сердце, которое возгорается любовью ко всему творению, к людям, к птицам, к животным, к демонам, ко всем тварям… движимое бесконечным состраданием, которое пробуждается в сердце тех, кто уподобляется Богу”[285]. Одержимый такой страстью “не осуждает более ни грешников, ни детей века сего… он желает любить и почитать всех без всякого различия”; ибо он “после Бога всякого человека чтит как Самого Бога”[286]. Св. Симеон говорит, конечно, о себе, когда вслед за апостолом признается: “Я знаю человека, который так страстно желал спасения своих братьев… что даже не хотел войти в Царство Небесное, если для этого ему пришлось бы с ними расстаться”[287].
На определенном уровне словесная молитва уступает место молитве созерцательной, в которой сердце раскрывается в молчании перед Богом. “Когда Дух благоволит посетить нас, надлежит перестать молиться”, – учит св. Серафим. Это “молчание духа”, исихия. Чем более душа бодрствует, тем более она умиротворена. Когда св. Серафим советует искать прежде всего внутреннего мира, он имеет в виду исихию, в которой человек становится обителью Бога. Если “Слово изошло от Отца в молчании”[288], то человека молчание отучает от праздной болтовни, молчащий становится “источником благодати для слушающего”[289].
Распространенное противопоставление принадлежности к миру уходу из мира – пространственное, суть же проблемы лежит в вертикальном измерении. “Когда молишься, войди во внутренний покой свой; и, затворив дверь, помолись” (Мф 6:6). Речь идет не о месте, но о затворенной двери. Так Эль Греко искал цвета в глубине души и, чтобы обрести вдохновение, задергивал все шторы в мастерской и в своей душе. Надо уметь давать место молчанию, сосредоточению; без этих внутренне насыщенных моментов духовная жизнь рискует раствориться в бесплодной суете. По достижении определенной зрелости Иисусова молитва научает достигать такого состояния даже среди городского многолюдья и своим молчанием быть полезным для другого.
В этих паузах сосредоточения учителя настойчиво предостерегают от экстатических состояний, свойственных только неопытным новичкам. В своем последовательном развитии душа должна стремиться к постоянному сознанию невидимого присутствия Бога и безжалостно изгонять всякие визуальные или чувственные явления, всякое любопытство, всякий поиск “таинственного”. Евагрий обращает на это особое внимание: “Во время молитвы не старайся различить какие-либо образы или лица… дабы не впасть тебе в безумие”[290]. Григорий Синаит (XIV в.) в свою очередь дает такой совет: “Будь бдительным, друг Бога. Если ты видишь свет, или огонь, или какой-то образ, или ангела – откажись принять их… Когда кажется тебе, что дух твой влеком к высотам непреодолимой силой, – не поддавайся этому и заставляй себя трудиться”[291]. Если пришедшему можно сопротивляться или противоречить – это знак, что явление не от Бога. Исходящему от Бога сопротивляться невозможно. Все учителя особо настаивают на крайней трезвенности и отказе от всякой материализации.
“Если вы видите новоначального, своевольно поднимающегося на небо, схватите его за ноги и сбросьте на землю, потому что это ему не полезно”[292]. Сатана, приняв вид ангела света, пришел к одному отшельнику с целью уверить его в духовных успехах; отшельник ограничился лишь тем, что заметил тому не без юмора: “Ты, должно быть, ошибся, тебя посылали к другому, я же ничего не достиг”.
Необычайные явления потрясают новичков, но не имеют никакого отношения к духовной жизни, поскольку она всегда ориентирована вовнутрь: “Если ты чист, то небо в тебе, и в самом себе ты увидишь свет, ангелов и Господа ангелов”[293].
Такое возвращение души в себя противоположно, однако, всякому пассивному квиетизму. Св. Иоанн Лествичник утверждает крайний динамизм духа: “Тот, кто сохранил свое рвение до конца, не перестанет до конца своей жизни прибавлять огонь к огню, рвение к рвению, усердие к усердию, желание к желанию” [294]. “Господь всегда празднует победу, когда ведет борьбу вместе с христианскими атлетами. Если же они оказываются побежденными, то потому, что лишились Бога из-за безрассудного своеволия”[295]. Динамизм воли совершенно необходим, ибо “Бог ничего не делает в одиночку”, – утверждает св. Макарий[296]. Одному монаху, просившему молиться за него, авва Антоний ответил: “Ни я не сжалюсь над тобой, ни Бог, если ты сам серьезно не встанешь на усиленную молитву”[297].
Таким образом, в духовной жизни нет ничего бессознательного или пассивного. Внимание развивает восприимчивость к знамениям и предостережениям. Если оцепеневший разум не замечает постоянных призывов, то бдительность, напротив, питает покаяние, которое есть постоянное и деятельное внимание к словам: “Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный”.
Отход от покаяния говорит об остановке в духовной жизни и сопровождается таким ужасным состоянием, как “окамененное нечувствие”, которое необходимо отличать от “богооставленности”, “опустошенности”, через которые Бог воспитывает в душе смирение. Покинутость целительна, отмечает Ориген, а св. Макарий говорит: “Благодать отходит, дабы мы сильнее искали ее”[298]. Область испытания – не есть ли она и область свободы? Однажды, поборов отчаяние, св. Антоний спросил: “Где Ты был, Господи, в это время?” – и Он отвечал: “Ближе к тебе, чем когда-либо”[299].
“Мы не будем осуждены, – говорит св. Иоанн Лествичник, – за то, что не творили чудес… но без сомнения дадим Богу ответ в том, что не плакали непрестанно о наших грехах”[300]. Покаяние есть непрестанное размышление об отказе человека от распятой Любви, и слезы, о которых здесь идет речь, – это слезы не души, но духа. Они равноценны дару благодати и, смешиваясь со слезами радости, омывают подобно водам Крещения: “Блаженны плачущие, ибо они утешатся”. Такое покаяние, по словам св. Иоанна Дамаскина, есть “возвращение из пленения к Богу”[301], и “спасительный трепет души перед вратами Царства”[302].
Очевидно, что покаяние есть форма смирения; причем они являются не “добродетелями”, но постоянными состояниями души; только их силой можно побороть эгоцентричное идолопоклонство, самолюбие, претензии или комплексы неполноценности. Смирение учит “быть, как будто тебя нет”, и “не знать, что ты есть”. “Склоняться перед величием Божиим – вот высочайшая победа”, – глубоко замечает св. Бернард[303]. Любовь к Богу исключает всякое самолюбование. В ответ на просьбу св. Антония показать ему образец благочестия ангел отвел его к человеку, который был весь – смирение. Человек этот, представляя в своей молитве пред лице Божие всех людей, находил, что нет никого, кто был бы худшим грешником, чем он сам. Авва Сисой на смертном одре, уже в сиянии, окруженный ангелами, скорбит духом: “Я даже и не начинал своего покаяния”[304]. “Совершенство, – по точному слову св. Исаака, – есть глубина смирения”[305].
В “Письмах в Ашрам” Ганди очень верно противопоставляет смирение инерции: “Истинное смирение требует самого неустанного и изнурительного усилия”. По мнению одного психолога, смирение имеет биологическую значимость и выполняет адаптационную функцию: оно возвращает нас на наше действительное место[306].
Смирение позволяет состояться “общению грешников”, неотделимому аспекту “общения святых”. Один безумный во Христе, умирая, произнес лишь следующее: “Да будут спасены все, да будет спасена вся земля”[307]. Другой, быв всю жизнь до крайности презираем и гоним, утверждал, что никогда не встречал по-настоящему злого человека.
Сегодня в тех странах, где жизнь оказывается под знаком креста и молчания, смирение приобретает черты мученичества. Его величие изливается в удивительных славословиях. Оно воздает благодарность Богу даже за страдания и гонения и предает демонов в руки Божии. На пределе того, что способен вынести, человек только и может сказать: “Слава Богу”, усугубив молитву за живых и мертвых, за жертву и за палача. И тогда он сочетается сердцем со Христом и постигает несказанное.
Христос пришел, чтобы “разбудить живых и заменить смерть сном ожидания”, бодрствованием духа. Живые – вне смерти и мертвые живы – таково радостное откровение христианской веры, ее царственная харизма.
2. Дар “радостного умирания”
Если верно, что, как говорит Платон, “о смерти ничего не известно”, если будущее действительно готовит нам печаль и радость, события непредвиденные и проблематичные, то единственное, что ожидает нас совершенно точно, – смерть, явление всеобщее и неоспоримое.
Хайдеггер имел мужество поставить ее в центр своего размышления. Она одна радикально ограничивает человеческую свободу; следовательно, именно на ее фоне человек должен познать себя.
Современная же педагогика, что весьма симптоматично для ее ментальности, вообще не говорит о смерти – как будто она обращается к “бессмертным” детям. Она боится прикоснуться к тайне смерти без лжи и прикрас.
Забвение смерти характерно для мира, вся жизнь с большим искусством и ловкостью подчиняется этому принципу, словно современный человек не в силах вынести этого чересчур грубого вопроса, словно за утверждением “все люди смертны” скрывается невысказанная мысль, безумная, смутная надежда, что есть, быть может, исключения, что конец ожидает меня не сию секунду и что, в любом случае, сейчас не подходящий момент об этом думать. Мертвых хоронят с нечистой совестью, почти тайком, быстро, незаметно. Мертвые – помеха веселью, они беспокоят тех, кто наслаждается жизнью. Некоторые кладбища в их почти отвратительной монотонности наводят на страшную мысль об индустриализированной смерти, забвении в анонимности общей участи. Воспоминания тех, кто еще хранит воспоминания, относятся к несуществующему, их поэтическая печаль обращена к мертвому прошлому. Память же, напротив, обращена к жизни, она сохраняет прошлое всецело настоящим. Каждый умерший есть существо единственное и незаменимое, вечно живущее в памяти Божией. Церковь в молитвах об умерших просит этого у Бога, как просит и благодати памяти смертной[308]; правило св. Бенедикта предписывает всегда иметь ее перед внутренним взором.
В экзистенциализме смерть обусловливает знаменитую “трансцендентность”, но та оказывается бессильной, не трансцендирует смерти; наоборот, живое существо оказывается трансцендируемым к смерти (Sein zum Tode). Конечно, подобная диалектика мужественно видит проблему, но в то же время она показывает и свою недостаточность: конец и небытие утверждаются, но в отношении смерти не вносится никакой ясности. Подобное сужение и пробел в рассуждении может привести самое большее к тому выводу, что стремящийся к небытию обретает его. Симона де Бовуар напрасно пытается “заговорить смерть”[309]. Истинная трансцендентность должна утверждать противоположное: не жизнь есть событие смерти, но смерть есть эпизодическое и проходящее событие жизни. Только при таком взгляде смерть получает ясное и полное смысла значение.
Глубокий пессимизм Фрейда или Хайдеггера неизбежно возникает, когда начинают размышлять о жизни в перспективе ее конца. Признать и принять этот конец есть уже философское отношение, глубокое и верное, ибо, как заметил Жюльен Грин, “никто не говорит о жизни так хорошо, как смерть”. Действительно, бесконечное продление земной жизни, время, попросту отрезанное от своего конца, лишило бы существование всякого смысла. Симона де Бовуар в книге “Все люди смертны”, присоединяясь к Бердяеву, приводит верную интуитицию: неопределенный срок биологического существования обернулся бы в конце концов бесконечной скукой. Можно добавить, что ужас предстоящего ада исходит именно от этой скуки, ставшей вечной. Для отцов Церкви бесконечная жизнь на земле – не что иное, как сплошное бесовское наваждение, и только любовь Бога к Своему творению препятствует увековечиванию такой жизни, которая есть не более, чем отсроченная смерть.
Смысл Истории, даже сама ее возможность, находятся в прямой зависимости от ее конца, ее итога, ее трансцендирования, более неизбежного, чем сама смерть, к “совершенно иному”. “Как последний враг, упразднена будет смерть”, – уверенно утверждает апостол Павел (1 Кор 15:26). Крайнее зло оказывается единственным выходом из того положения, в котором оказался человек. “Царь ужасов”, согласно книге Иова, смерть вызывает вполне законный страх, делает более невозможной обыденную профанацию забвением и непосредственно располагает человека на том уровне глубины, который в любом случае поражает величием ее тайны. Бл. Августин, оплакивая в начале своей жизни кончину друга, признается: “Стал я сам для себя великой загадкой и спрашивал душу свою”[310].
Достоинство человека познается по его отношению к смерти. Платон учил философии как искусству хорошо умирать. Однако философия не знает победы над смертью, она может ее постулировать, но не может научить, как надо умирать, чтобы воскреснуть. Она лишь утверждает – и в этом все ее величие, – что время не может содержать в себе вечность, что если оно не имеет конца, оно более абсурдно, чем смерть, и что этот мир, убивающий праведного Сократа, – не настоящий мир. Более того, преступления этого мира свидетельствуют о существовании иного, где царит справедливость и Сократ пребывает вечно молодым и прекрасным. Для Иустина участь Сократа прообразует судьбу Христа, Который умер и воскрес, и в Котором Сократ возвращается для вечности.
Смерть – не мгновение, она сосуществует человеку, сопровождает его в течение всей его жизни. Она присутствует во всех вещах как их очевидный предел. Время и пространство, исчезающие мгновения и разделяющие расстояния суть те же вторжения смерти. Всякое прощание, забвение и изменение, тот факт, что ничто и никогда не может быть точно воссоздано, вносят дыхание смерти в самое сердце жизни и ввергают нас в мучение. Уход любимого существа, конец страсти, следы времени на лице, последний взгляд на город или пейзаж, который уже больше никогда не увидишь, даже просто увядающий цветок порождают глубокую меланхолию, непосредственный опыт еще не наступившей смерти.
Природа не знает личного бессмертия, ей доступно только выживание вида. Атеисты могут мечтать лишь о том, чтобы жизнь их продлилась в делах или памяти будущих поколений: унылое бессмертие словаря, не более.
Жало смерти может быть обезврежено лишь ее собственным отрицанием – умерщвлением, поэтому в центре земли возвышается Крест, и Жизнь добровольно соглашается пройти через смерть, дабы заставить ее расколоться и сойти в небытие: “Смертию смерть поправ”, – поет Церковь в пасхальную ночь. Ориген приводит предание, по которому тело Адама было погребено там, где Христос был распят[311]. Другое предание возводит происхождение древа Креста к Эдемскому древу. Крест Христов стал Древом Жизни. Библия не знает естественного бессмертия, ее откровение – это воскресение, исходящее свыше, от смерти и воскресения Богочеловека. Таким образом, только христианство принимает трагедию смерти, смотрит ей прямо в лицо, ибо Бог проходит этим путем и все следуют за Ним.
Если философия дает знание о смерти, то христианская аскеза сообщает искусство преодолеть ее и предвосхитить воскресение. Действительно, смерть всецело принадлежит времени, она датирована только для тех, кто окружает умирающего, но для него самого она не имеет даты, ибо он находится уже в совершенно ином измерении. Подобно тому, как конец света не имеет земного завтра, смерть ни для кого не является днем в календаре, и потому смерть каждого, подобно концу света, наступает сегодня; так же как не когда-то, но в самый день евхаристической трапезы мы входим в Царство.
Для того, чей дух обрел бессмертие, очевидно, что смерти не существует, поскольку она – по эту сторону, он же – по ту сторону. Как элемент времени смерть расположена позади нас; перед нами же находится то, что уже пережито в крещении, – “малое воскресение”, и в Евхаристии – жизнь вечная. Тот, кто следует за Христом, “на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь” (Ин 5:24), “ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную” (Ин 6:54). Последняя реальность нас самих живет на пороге этого перехода-пасхи, его открывает акт веры, дающий, по слову апостола Павла, “уверенность в вещах невидимых”.
“Если кто приходит ко Мне и не ненавидит… и души своей, не может быть моим учеником” (Лк 14:26). “Ненавидеть” означает здесь восставать против преграды, состоящей в чрезмерной привязанности к здешней жизни и страхе смерти, порабощающих дух. Внимательному человеку смерть, лишенная страха, открывает его собственное величие и благородство. Она обнажает и очищает жизнь умершего от второстепенного, призывает сохранить о нем “добрую память”, восстанавливает иерархию ценностей, судит о человеке непредвзято, поверх времени, перед лицом вечности. Порой лицо усопшего отражает духовную красоту, мирную и величественную, “непроницаемую улыбку усопших, которая так гармонирует с их неземным молчанием”[312]. Присутствие смерти заключает в себе нечто царственное, оно облагораживает чувства, делает всякого праведнее и выше. Смерть другого человека есть испытание; тот, кто его выдерживает, становится достойным приготовиться и пережить таинство собственного конца.
В нормальном случае смерть должна быть естественным временем жатвы жизни, “насыщенной днями”, созревшей для вечности. По прекрасному выражению древних мартирологов, она есть dies natalis – день рождения, и один Бог “знает день и час”. Слова Паскаля: “Умирают в одиночку”, или Кьеркегора: “То, что я умираю, для меня не общее понятие”[313], означают, что каждый берет свою смерть целиком на себя; человек – священник своей смерти, он есть то, что он делает из своей смерти. Предсмертное соборование (елеосвящение) вводит в это последнее священство, даруя “елей радости” и восхищение сердца там, где тело уже находится в предсмертной агонии.
Диадох[314] отмечает, что тяжелые болезни вменяются в мученичество. Более того, каждому дана благодать, харизма мученичества, поскольку перед лицом смерти, занимающей место палача, человек может назвать ее “сестра наша смерть” и исповедать Символ веры – это очевидное свидетельство того, что он уже перешел от смерти в жизнь (Кол 2:12, Ии 5:24). Великие подвижники ложились в свои гробы как на брачное ложе и имели родственное общение, близость со смертью, которая есть лишь переход и определяющая отправная точка. Эразм отмечает эту близость у святых и считает, что она составляет вторую природу, которая вытесняет ветхую. Св. Серафим Саровский учил “радостному умиранию”: “Для нас умереть будет радостью”, – говорил он ученикам. Поэтому каждого он встречал словами пасхального приветствия: “Радость моя, Христос воскресе”, – смерти нет, и жизнь царствует.
В послании к коринфянам (1 Кор 3:21–22) апостол Павел доходит до удивительного видения: “Все ваше… или жизнь, или смерть”, – обе в равной степени суть дары Божии, харизмы.
3. Молитва
Состояние молитвы
“Непрестанно молитесь” (1 Фес 5:17), – настаивает апостол Павел, ибо молитва – источник и одновременно самая сокровенная часть нашей жизни. “Войди во внутренний покой твой, и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне” (Мф 6:6), т. е. войди в себя самого и там создай святилище; это “втайне” значит в человеческом сердце. Жизнь молитвы, ее насыщенность, глубина, ритм – это мера нашего духовного здоровья, открывающая нас самим себе.
“Иисус утром вышел, встав задолго до рассвета, и ушел в пустынное место, и там молился” (Мк 1:35). “Пустыня” у аскетов приобретает внутренний характер, означая сосредоточенность собранного и безмолвного духа. На этом уровне, когда человек научается умолкать, открывается настоящая молитва, и человека таинственным образом посещает Бог. Поль Клодель замечает, что Слово есть приемный сын молчания, ибо св. Иосиф (обручник) проходит по страницам Евангелия, не проронив ни слова. Чтобы услышать голос Слова, надо уметь слушать Его молчание, и, в первую очередь, учиться ему. Опыт учителей однозначно свидетельствует: если не научиться отводить в жизни место сосредоточению, безмолвию, невозможно достичь более высокой ступени и суметь молиться на людях. Эта ступень дает сознание того, что в то время, когда одна часть нашего существа поглощена настоящим моментом, находясь постоянно в заботах или рассеянии, другая наблюдает ее с удивлением и состраданием. Беспокойный человек смешит ангелов, говорит Шекспир[315].
В этой тишине, куда человеку необходимо отступить, дабы понять себя, по капле собирается утоляющая жажду вода.
Сосредоточение открывает душу горнему миру, но также и другому человеку. Св. Серафим замечательно говорит об этом: в противопоставлении созерцательной и деятельной жизни есть что-то искусственное, не в этом вопрос, настоящий вопрос – это вопрос сердца, его меры: является ли оно тем огромным ларцом, который, как говорит Ориген, способен вместить Бога и всех людей, и если это так, говорит св. Серафим: “Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся”.
В мире есть вещи, реальность которых очевидна, – Царство, например; есть их материальные символы: “Царство Небесное подобно…”; и наконец – их идеи, теории, которые их всегда в какой-то степени обедняют. Поэтому поэзия ближе к истине, чем проза, а еще ближе – молитва. Лао-Цзы говорил, что если бы он обладал абсолютной властью, то прежде всего восстановил бы изначальные поэтические значения слов. В наше время, когда инфляция слов обостряет дурное одиночество, только человек молитвенного мира еще может обращаться к другим, являть слово, ставшее лицом, взгляд, ставший присутствием. Его молчание прозвучит там, где проповедь бессильна, его тайна направит внимание к откровению, ставшему близким и доступным. И все же тот, кому ведомо молчание, говорит, легко обретая вновь девственную свежесть всякого слова. Его ответ на вопрос жизни или смерти приходит как аминь его непрестанной молитвы.
Св. Тереза говорила: “Молиться – значит по-дружески обращаться к Богу”. “Друг Жениха стоит и внимает Ему” (Ин 3:29). Самое существенное в молитве есть именно “стоять подле”: слышать присутствие другого, Христа или встречного человека, через которого Христос обращается ко мне. Голос Его слышен мне во всяком человеческом голосе, Его лицо многоразлично: это и лицо идущего в Эммаус, и садовника Марии Магдалины, и моего соседа по улице. Бог воплотился, дабы человек созерцал Его лик в каждом лице. Совершенная молитва ищет присутствия Христова и узнает Его во всяком человеке. Единственный образ Христа есть икона, но они бесчисленны, и это значит, что каждое человеческое лицо – также икона Христа. Это открывается нам через молитвенное отношение.
Ступени молитвы
Сначала молитва суетна, а молчание оборачивается внутренней болтовней. По выражению Пеги, в молитве не следует уподобляться гусям, ждущим корма! Человек эмоционален, он стремится излить все, что у него на душе, и прежде, чем он почувствует утомление от такого монолога, учителя дают совет занять время молитвы псалмопением и чтением.
Св. Иоанн Лествичник осуждает многословие: “Никакой изысканности в словах вашей молитвы. Сколько раз простой и бесхитростный лепет детей смягчал их отца! Не пускайтесь в длинные рассуждения, дабы не рассеивать ума в поиске слов. Единственное слово мытаря умилостивило Бога; одно слово, исполненное веры, спасло разбойника. Многословие, болтовня в молитве наполняют разум образами и рассеивают его, в то время как одно слово может собрать его”[316]. “Нет никакой нужды употреблять множество слов, достаточно просто держать руки поднятыми”, – говорил св. Макарий[317]. В гл. 20 своего “Устава” св. Бенедикт утверждает: “Не в изобилии слов мы будем услышаны, но в слезном сокрушении”.
Молитва Господня очень кратка, однако один отшельник с горы Афон начинал ее с заходом солнца, а заканчивал, говоря “Аминь”, с первыми лучами восхода. Речь идет не о словах, но о том, чтобы в полноте проживать целые миры, открывающиеся в каждом слове молитвы. Великие подвижники духа ограничивались произнесением имени Иисуса, но в этом Имени они созерцали Царство.
Если человек правильно понял это наставление, он изменяет свое отношение к молитве, согласуя его с литургическим вдохновением: “Сделай из моей молитвы таинство Своего присутствия”. Человек преклоняет ухо к гласу Божию: “Надобно молиться до тех пор, пока Бог Дух Святой не сойдет на нас… и когда благоволит Он посетить нас, то надлежит уже перестать молиться”, – наставляет св. Серафим[318].
Для современного человека препятствием является разделение ума и сердца, знания и оценочных суждений. Древняя традиция советует: “Утром помести ум твой в сердце и оставайся весь день с Богом”, собери воедино разрозненные части твоего существа, обрети целостность духа. В одной древней молитве звучит просьба: “Любовью Твоею свяжи душу мою” – из совокупности различных состояний возникает единая душа.
Механическое повторение формул и заученных текстов серьезно искажает молитву. Настоящая же молитва становится постоянным отношением, состоянием духа, структурирующим и литургически оформляющим все наше бытие. Здесь утверждается та глубокая истина, что иметь – это еще только символ, реальность же – быть. Духовные подвижники учили, что недостаточно иметь молитву, правила, привычку, – надо стать, бысть воплощенной молитвой [319]. В самой своей структуре человек видит себя существом литургическим, человеком Sanctus'а, тем, кто всей жизнью своей и всем своим существом преклоняется и поклоняется, тем, кто может сказать: “Буду петь Богу моему, доколе есмь” (Пс 104:33). Сделать из своей жизни литургию, молитву, славословие – значит сделать из нее таинство непрестанного общения: “Бог нисходит в душу в молитве, и дух переселяется в Бога”[320].
Восхождение человека соответствует снисхождению Бога. Леон Блуа рассказывает о старике, который всегда ходил с непокрытой головой, так как постоянно ощущал себя в присутствии Бога. Какая выразительная картина молитвенного состояния, ставшего жизнью! Апостол Павел соединяет его с актом веры: “Проверяйте самих себя, в вере ли вы, самих себя испытывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?” (2 Кор 13:5).
Чтобы стать действенной, вера должна отвергнуть всякий формализм, который так легко вкрадывается в поверхностную “обязательную” молитву, где человек отсутствует, равно как и всякое молчаливое потворство мистическим играм, где он чересчур присутствует. “Молитва несовершенна, если человек сознает себя самого и замечает, что молится” [321].
Вера призывает следовать за нагим Христом вплоть до участия в Его священнической молитве, литургическом ходатайстве “о всех и за вся”.
Формы молитвы
В Нагорной проповеди Господь учит подлинной молитве; ученики просят Его: “Научи нас молиться”, и Христос дарует им “Отче наш”.
Всякая молитва вытекает из одной из трех форм обращения: прошения, приношения или восхваления; мы находим их и в молитве “Отче наш”: “Хлеб наш насущный дай нам сегодня, прости нам долги наши, избавь нас от лукавого”; затем: “Да будет воля Твоя и на земле, как на небе, и да придет Царство Твое”, что означает: прими для этого нашу жизнь как приношение, прими наше прощение других и сделай нас Твоими свидетелями и служителями; и наконец: “Да святится имя Твое, ибо Твое есть Царство и сила и слава”.
Св. Василий в “Монашеских правилах” говорит: “Начни смиренно говорить: «Грешник, я благодарю Тебя, Господи, что терпеливо сносишь меня…» Затем проси Царствия Божия и вещей достойных, и не прекращай, пока не получишь их”.
Эти три формы можно узнать в ответах народа в богослужебных ектеньях[322]. В рассказе о кожевнике, научившем смирению св. Антония, он точно следует им в описании своей молитвы, показывая, каким образом просьба, приношение и хвала обращаются в молитву и способны освятить всякое мгновение жизни даже у того, кто не располагает особым временем для молитвы. Утром, представляя всех жителей Александрии перед лицом Божиим, он говорил: “Милостив будь к нам, грешным”. Днем, во время работы, душа его неизменно ощущала все, что он делал, как приношение: “Тебе, Господи”; и вечером, радуясь, что еще оставлена в живых, душа могла только сказать: “Слава Тебе!”
У иудеев Закон высечен в сердце, он всегда перед глазами, он написан на руках; существование изнутри структурировано Законом; взгляд узнает Закон в жизни мира, творении божественной Премудрости; и, наконец, Закон исполняется руками, делами каждого дня.
Молитва следует тому же универсализму; все освящено и благословлено ею, все становится одной из ее форм. Таково молитвенное понимание жизни, когда самый скромный труд и творение гения в равной степени являются приношением пред лице Бога, принимаются как задача, доверенная Отцом.
Это также решающий переход в духовной жизни от ’’Иисуса перед глазами” к “Иисусу в сердце”, согласно исихастской традиции Иисусовой молитвы.
Иисусова молитва[323]
Молитва, называемая Иисусовой, или умно-сердечной, получила развитие на Синае и на горе Афон. Связанная с именами св. Макария, Диадоха Фотикийского, Иоанна Лествичника, Симеона Нового Богослова и всех великих подвижников, она уходит своими корнями в библейское понимание Имени.
Согласно Библии, Имя Бога есть один из Его атрибутов, место Богоявления, место Его присутствия. Совершенно особым образом призывание имени Иисуса делает одинаково доступной для всех благодать Его воплощения, позволяет всякому человеку приобщиться к ней лично, так что в сердце он ощущает Господа. Сила божественного присутствия в Его имени раскрывает свое величие: “Вот, Я посылаю перед тобою Ангела (Моего)… блюди себя перед лицем Его. ибо имя Мое в Нем” (Исх 23:20,21).
Имя вложено в ангела, и с этого момента он – грозный носитель божественного присутствия. Когда Имя Божие произнесено над страной или личностью, она входит в особо близкие отношения с Богом. Призыванию Имени Бога сопутствует Его непосредственное явление, ибо Имя есть форма Его присутствия. Вот почему Имя Божие могло быть произнесено только первосвященником в день Йом-Кипур в “Святая святых” Иерусалимского Храма. Воплощение делает из всякого человека такого священника, с тем лишь различием, что человек является хранителем имени постоянно. Имя Иисуса – Иешуа – означает Спаситель. Nomen est omen[324], оно сокровенно содержит энергию спасения: “Имя Сына Божия поддерживает целый мир”, – говорит Ерм[325], поскольку Он в нем присутствует и мы поклоняемся Ему в Его имени.
“Молитва сердца” очищает и расширяет его, привлекая в него Иисуса непрестанным призыванием: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного”.
В этой молитве, молитве мытаря из евангельской притчи, – вся Библия, все, что она возвещает, сводится к этой столь содержательной простоте: сначала исповедание Иисуса Господом и Сыном Божиим, что есть уже исповедание Троицы, затем – бездна падения, призывающая бездну Божественного милосердия. Начало и конец заключены здесь в одну фразу, исполненную таинственного присутствия Христа в Его имени. Эта молитва непрестанно звучит в глубине души даже помимо воли и сознания; наконец имя Иисуса начинает звучать само по себе, обретая ритм дыхания, как бы сливаясь с ним, даже во сне: “Я сплю, а сердце мое бодрствует” (Песн 5:2).
Иисус, привлеченный в сердце, – это внутренняя литургия, это Царство в обретшей мир душе. Имя наполняет человека как свой храм, превращает его в обитель божественного присутствия, делает христоподобным. В свете этой молитвы можно лучше понять опыт апостола Павла: “И уже не я живу, но живет во мне Христос” (Гал 2:20).
В настоящее время множество верующих всех конфессий находят действенную помощь в этой, в сущности библейской, практике, которая во всем мире начинает служить местом встречи и единения в имени Иисуса.
“Есть сильные, подобные архангелу Михаилу, нам же, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса”[326], – исповедует св. Варсануфий. Св. Иоанн Лествичник добавляет: “Порази противника твоего именем Иисуса, нет оружия могущественней ни на земле, ни на небе”[327].
Призывание имени Иисуса доступно любому человеку и в любых жизненных обстоятельствах. Оно ставит Имя как божественную печать на всякую вещь, делает мир Его жилищем, через эту молитву человек приобщается к богатейшей традиции исихазма, в нем оживает тысячелетний опыт величайших учителей, делая из него “человека-дере-во”, “человека-источник”, свидетеля бодрствующего и единого со всеми.
“Молитесь за тех, кто не умеет, не хочет, и особенно за тех, кто никогда не молился”, – сказал патриарх Юстиниан в 1953 г. в Румынии, и его призыв прозвучал на высоте Иисусовой молитвы.
Литургическая молитва
Различие между молитвой “про себя” и вслух – чисто теоретическое. Для древних псалмопение было естественным выражением внутренней молитвы, “псалмопением души”.
Молитва Церкви формировалась в монастырях, внося необходимый ритм в дни и ночи монастырской общины. Народ же участвовал в ней лишь частично, по воскресеньям и праздничным дням, что требовало от мирян особого внутреннего усилия ради сохранения того же молитвенного ритма среди мирских трудов и забот.
Сначала Евхаристия совершалась лишь по воскресеньям, в день Господень, а в будние дни, следуя молитвеному уставу синагоги, совершались утрени, вечерни и часы. Это была молитва хваления, распространяемая на все дни недели, благодарение, вдохновленное созерцанием mirabilia Dei[328].
Благословение наступающего дня означает, что каждое утро человек возвращает всем вещам их библейское значение: быть творениями Божиими, чье назначение – хвала Ему: “Благословляйте, потому что вы к тому были призваны” (1 Петр 3:9).
Вечернее благословение ночи также выражает восхищение человека: несмотря на свои немощи, он еще жив, он еще может благодарить Бога, ибо Бог пришел ему на помощь. Прожитый день представляется, таким образом, как частичка Священной истории, божественного домостроительства спасения, где человек исполнил задачу, доверенную ему Богом. Он отражает черты вечности и, подобно колосу, заключает солнце в каждом зерне, сгибаясь под собственной тяжестью.
Третий, Шестой и Девятый богослужебные часы отмечают соответственно 9-й, 12-й и 15-й часы дня и служат для троекратного обращения к Богу среди человеческих дел, позволяя сделать паузу, открывающуюся в литургическое и небесное измерение времени. Начинают и завершают день службы Первого часа и Повечерия, а заключительным аккордом среди ночи является Полунощница, суть которой в бдении сердца, в ожидании дев разумных: не забыться сном, не потерять память о Женихе, уже грядущем и стоящем при дверях.
Св. Иоанн Златоуст высказывает глубокую мысль о доме христианина как о месте молитвы, которая превращает его в ecclesia domestica[329]: “Да будет дом твой церковью. Поднимись ночью. Ночью душа чище, легче. Восхищайся Владыкой. Если имеешь детей, разбуди их, и да соединятся с тобою в общей молитве”[330].
Даже тот, кто растрачивает и убивает время, не забыт и помянут в этих молитвенных бдениях. Они приносят в своих поминовениях пред лице Божие заботы людей и их беззаботность, их страдание, печали и радости. Всякий миг нашей жизни омолаживается и освежается, соприкасаясь с пламенем этих горящих молитвой душ. Безумный бег стрелок останавливается на недвижном полдне Любви, на циферблате литургических таинств время предстает обновленным, искупленным, устремляясь к своему исполнению и завершению. Каждое мгновение, подчиняясь этому ритму, оказывается осмысленным, творящим абсолютно новое, оно возвещает и воспевает Царство.
Литургическая молитва, образец всякой молитвы
Молитва Церкви хранит трепет библейского откровения. Она идет от полноты Истины и находит в ней свое исполнение. Поэтому всякое молитвенное правило начинается с призывания Св. Троицы и включает исповедание Символа веры.
Если сиюминутные нужды естественным образом вдохновляют индивидуальную молитву, то молитва литургическая, напротив, преодолевает обособленность и вводит в соборное сознание, что согласуется со смыслом слова литургия, т. е. “общее дело”. Она учит подлинным отношениям между “я” и другими, заставляет понять слова: “Возлюби ближнего твоего, как самого себя”, помогает нам освободиться от себя и сделать молитву человечества своей молитвой. Через нее судьба каждого становится нам памятной.
Ектеньи возводят молящегося от себя к собранию, затем к отсутствующим, к страждущим, и наконец – к умирающим. Молитва охватывает город, народ, человечество и просит мира и единства для всех. Всякая отчужденность, всякий индивидуализм звучат фальшивой нотой в этой совершенной симфонии: всякий дух, прошедший формирование литургией, узнаёт на опыте, что он не может предстоять Богу в одиночку, что он спасается для других, с другими, литургически. Местоимение в литургии никогда не стоит в единственном числе.
Литургия, таким образом, устраняет все субъективное, эмоциональное, временное; она исполнена здорового чувства и богата переживаниями, ее форма приобрела законченность, будучи доведена до совершенства многими поколениями, чья молитва на протяжении долгих веков сохраняла неизменную форму. Как стены храма несут отпечаток всех молитв, хвалений, ходатайств, так и слова литургической молитвы сквозь тысячелетия дышат бесчисленными человеческими жизнями. Я слышу голос св. Иоанна Златоуста, св. Василия Великого, св. Симеона и стольких других, молившихся теми же молитвами, и они, запечатлев в молитвах свой поклоняющийся дух, помогают мне обрести их огонь, приобщиться их молитве.
Однако если литургическая молитва дает меру и образец всякой молитве, то она же вдохновляет и молитву спонтанную, личную, в которой душа поет и говорит свободно к своему Господу. Этому литургия учит, называя каждого по имени как единственного; и каждый призван исповедовать Символ веры: “Я верую…” Такое исповедание – даже в рамках литургии – ставит акцент на личном акте, который никто не может совершить за меня. Слова молитв вносят согласие в душу и побуждают ее к разговору прямому и откровенному, сохраняющему всю свою значимость.
Трудности и препятствия
Наиболее распространенная трудность, известная каждому по собственному опыту, – это очень тонкое искусство согласовать наш зыбкий, неспокойный, отягощенный сиюминутными заботами душевный мир как с литургической молитвой, так и с нашим личным молитвенным правилом. Но за этим вполне реальным напряжением поиска сложного согласия часто скрывается немое сопротивление, род очень изощренного искушения. Обычно оно выдвигает аргумент искренности: мы не находимся в данный момент в молитвенном состоянии, а если будем заставлять себя, то рискуем профанировать святыню, поскольку в любом случае останемся рассеянными, внешними, отсутствующими и в конце концов скука и душевная отягощенность восторжествуют!
Нужно ли в этом случае ждать минуты вдохновения, рискуя не обрести его никогда?
Чтобы уничтожить в зародыше эту форму искушения и избежать сомнений, важно хорошо усвоить, что молитва включает предварительное состояние, аскетический аспект усилия.
Вот опыт одного отшельника: “Думаю, нет вещи более мучительной, чем молитва. Когда человек хочет приступить к молитве, тут же враги его, бесы, ищут помешать ему… молитва требует борьбы до последнего вздоха”[331].
Есть также сопротивление природы, исходящее от лености и отягощенности души. Эта темная сторона человеческого существа позволяет понять, что, как говорит Ориген, “один святой своей молитвой сильнее в борьбе, чем тысяча грешников”[332]. В другом месте тот же автор замечает, что восхождение на крутую гору утомительно[333].
В молитве есть особого рода борьба; она не чужда той “силы”, которой берется Царство, – силы над человеком, повергающей его на землю в поклонении, силы над Богом, заставляющей Его склоняться к земле и человеку в молитве[334].
Господь “смертию смерть попрал”, поэтому и любая молитва несет свой собственный крест, усилием она преодолевает усилие, чтобы, наконец, хлынуть свободно и легко. Очень важно и участие тела: пост, коленопреклонения, земные поклоны помогают концентрации духа, настраивают его подобно музыкальному инструменту.
Учителя говорят, что надо преодолеть самый первый трудный момент внимательным чтением псалмов, т. е. поступать так, “как будто” нет недостатка во вдохновении, и чудо благодати свершится. Старец Амвросий Оптинский говорил: “Читайте… ежедневно Евангелие по главе или более; а когда нападет тоска, тогда читайте опять, пока не пройдет тоска; опять нападет и опять читайте Евангелие” [335].
Святые отцы учат, что Дух есть дар и просьба о его ниспослании – единственная, никогда не остающаяся без немедленного ответа. Это эпиклеза молитвы, призывание, достигающее самой природы Того, Кто отдает Себя, и побуждающее Его явиться.
С другой стороны: “Зачем молиться? Разве Бог не знает, что нам надобно?” Возражение касается молитвы-прошения, ходатайства. Однако Евангелие не делает никакого различия между формами молитвы и ясно утверждает: “О чем бы ни попросили вы Отца во имя Мое, дал Он вам” (Ин 15:16), и еще: “…если двое из вас согласятся на земле просить о чем-либо, будет им от Отца Моего…” (Мф 18:19).
Невозможно по-настоящему согласиться, иначе как в чем-то третьем, в воле Бога, желающего единства, и Евангелие говорит нам, что такое согласие способно умолить волю Отца. Бог внимает нашей молитве, и, очистив ее, прилагает к Своему решению. Решительная настойчивость вдовы в Евангелии исторгает ответ, наглядно показывающий могущество веры. Апостол Павел трижды умолял Господа вынуть жало из его плоти. Житие св. Серафима содержит рассказ о молитве святого за душу одного осужденного грешника: день и ночь святой пребывал в молитве, борясь с божественной справедливостью, и, хотя он и был поражен молнией, его огненная, даже дерзкая молитва заставила восторжествовать милосердие Божие, и грешник получил прощение. Возможно, что ад также зависит от силы милосердия святых и что apokatastasis'а Бог ожидает от нашей молитвы…
Но есть ли у нас время, чтобы молиться? Конечно, и гораздо больше, чем мы думаем. “Сколькие минуты бесчувствия и безразличия могут стать минутами молитвы, так что мы станем бдительными, присутствующими в существах и вещах. Даже озабоченность, если она растворяется в диалоге с Богом, в споре, в самозабвении. Богу можно принести даже не дающую молиться опустошенность, даже саму неспособность молиться”[336].
В частые минуты одиночества, усталости имя Иисуса может стать внутренним призывом среди беседы, светом, освещающим однообразную работу, звуком реальности, отодвигающим мечтания, наконец – простым благословением над существами и вещами[337]. “Память о Боге, еще даже без всяких слов, уже есть молитва и помощь”, – говорит св. Варсануфий[338].
Однако “в часы, когда разум блуждает с предмета на предмет, предпочтительнее предаться чтению, нежели молитве”, до того момента, когда “разум наставит самого себя в сердце”[339]. Вот почему, поясняет св. Исаак, “молитва есть ключ, открывающий понимание Писания”.
IV. Lectio divina, чтение Библии
“Пусть восходящее солнце застает тебя с Библией в руках”[340]. Это восклицание Евагрия хорошо выражает предание отцов. 19-й канон Трулльского собора предписывает священникам побуждать верных к наибольшей близости с Библией. Св. Иоанн Златоуст решительно настаивает: “Я не монах, – говорят некоторые из вас… Но вы ошибаетесь, полагая, что читать П исание подобает одним только монахам, тогда как оно еще более необходимо вам, живущим в миру. Еще хуже, чем не читать Писания, – считать такое чтение излишним”, – вот “сатанинский обычай!” – восклицает он[341].
“Возвратясь из церкви, муж пусть повторит то, что было прочитано в храме; и приготовьте два стола: один – с трапезой из яств, другой – с трапезой духовной”[342]. Святой также советует изучать дома тот отрывок, который будут читать в церкви, и заботиться о том, чтобы дети были приучены к внимательному и ежедневному чтению Священного писания [343].
Согласно Оригену[344], чтение не прилагается к жизни как простое упражнение, но составляет органическую часть духовной жизни, претворяя обыденность в живое чтение Слова, в место, где Глагол звучит непрестанно. Оно дает направление подвигу и возрастанию души, которая через это чтение становится anima ecclesiastica[345], и человек, по слову Климента Александрийского[346], становится theodidact’ом.
В “Уставе” св. Пахомия говорится, что Писание должно питать ум монахов весь день. В часы работы они поют и читают из него наизусть, а вечером все собираются вместе для слушания толкований. Чтение Писания наизусть было обычным делом. Для св. Нила жажда Писания есть мера нашей духовной жизни[347], а для св. Исаака “постоянное размышление над Словом есть свет для души”[348].
Но от всех подвижников исходит согласное предостережение – не профанировать Слова, делая из него объект спекуляции или познания ради познания, ведь “понимать читаемое есть благодать Божия”[349]. Ерм учит, что аскеза и молитва подобны вопрошанию, на которое Господь отвечает откровением смысла Писания[350]. Тропарь Девятого часа гласит: “Между двух разбойников Крест Твой возвышается как весы правосудия: один склоняется ко аду под тяжестью хулы, другой же, освобождаясь от грехов, возносится к познанию божественного слова” [351].
Чтение предполагает “молитвенное состояние”, в котором созревают слова: “Молитва приводит к тому, что Бог озаряет разум, дабы позволить ему постичь читаемое”. Бог стал человеком, “чтобы быть нам ближе самой души”, чтобы мы “имели мысли Христовы” (Флп 2:5), дабы мы могли внимать Его собственному, единственно верному, прочтению Евангелий. Вот почему, согласно Николаю Кавасиле, “Евангелие изображает Христа”[352], т. е. позволяет Христу
Самому говорить о Себе, побуждая нас насытить глаза и сердца “Тем, Кто влечет к Себе одному и с Собой одним соединяет”[353]. По св. Иустину[354], Писание производит решительную встречу, и всякий мученик свидетельствует о верном прочтении своей смертью.
Основной метод чтения Писания, согласно Никодиму Святогорцу, – это идти “от слова писанного к Слову воплощенному”, и в этом переходе, решающем в духовной жизни, святоотеческие комментарии предстают надежными проводниками.
Отцы Церкви жили Библией, думали и говорили Библией с тем восхитительным проникновением, которое идет до отождествления бытия с самой сущностью Библии. Если пройти их школу, быстро понимаешь, что Слово, прочитанное или услышанное, всегда ведет к живой Личности Глагола. Св. Иоанн Златоуст так молится перед чтением Писания: “Господи Иисусе Христе, открой очи сердца моего, дабы я понял и исполнил волю Твою… просвети очи мои Твоим светом”, а св. Ефрем советует: “Прежде чем читать, молись и проси Бога, чтобы Он открылся тебе”. Св. Афанасий утверждает: “В словах Писания находится Господь, присутствия Которого не могут терпеть бесы”[355].
Можно сказать, что для святых отцов Библия есть Христос, ибо каждое ее слово знакомит нас с Ним: “Его ищу я в книгах”, – признается бл. Августин[356].
Уже Климент Александрийский учит, что надо питаться семенами жизни, заключенными в Библии, подобно тому, как мы это делаем в Евхаристии[357]; но только Ориген впервые определенно говорит о вкушении Писания[358], и это вошло в предание: мы “евхаристически” вкушаем “слово, таинственно преломленное”[359]. Так и бл. Иероним утверждает: “Мы едим Его Плоть и пьем Его Кровь не только в Божественной Евхаристии, но и в чтении Писания”[360].
Св. Григорий Назианзин уподобляет чтение вкушению пасхального Агнца.
Это евхаристическое отношение к “вкушению” Слова подразумевает эпиклезу[361] при каждом чтении. Слово живо пребывающим в нем Духом, снисшедшим на Сына в Богоявлении, и читать Слово следует в измерении Параклета (Утешителя), измерении Тела Христова, Церкви, Предания, в котором говорит Слово. Бог пожелал, чтобы Христос составил Тело, в котором Его слова звучали бы как слова жизни, и значит – во Христе, в Его глубине, в Церкви, следует читать и слушать. Только Церковь хранит Слово, ибо в ней живет Дух, его продиктовавший, – учит Ориген[362].
Народ собирается на Литургию, чтобы сначала слышать, а затем вкушать присутствующее Слово. Слушание созидает народ Божий, формирует евхаристический синтаксис, готовит к вкушению Слова, вхождению в сущностное общение с Ним.
В Евангелии от Луки говорится, что Христос “отверз ум” (Лк 24:45) Своих учеников, показывая, как следует читать Библию, чтобы находить в ней “все, написанное о Мне”: “И начав от Моисея и от всех Пророков, истолковал им во всех Писаниях то, что относится к Нему” (Лк 24:27). Так Господь “раскрыл смысл Писаний”, открыв нам, что Библия – вся целиком – есть словесная икона Христа.
Читая Писание, можно различить смыслы: прообразовательный, типологический, и исполнение пророчеств в мессианские времена пришествия Христова. Можно также уловить смыслы исторический и эсхатологический и исполнение Истории, ведущее к Царству. Но именно литургия дает церковный подход к размышлению, где Слово возвещено, воспето, вымолено и пережито. Литургия продолжается в жизни верных в виде ежедневного lectio divina, которое остается формой молитвы и причастия. Здесь Бог говорит, входя в жизнь каждого человека, приглашая его отправиться в путь в сопровождении ангелов и апостолов. Это чтение лежит у истока бытия и является его исполнением. Согласно св. Иоанну Златоусту, чтение Писаний есть священнодействие мирян, ведущее их к святости.
Вот почему во всяком чтении и размышлении над текстом следует избегать иссушающего умствования, но также преодолевать и всякую эмоциональную мечтательность. Легко сделать труп из текста, но мы не можем сами дать ему жизнь, она исходит от присутствия Божия.
Можно читать Библию последовательно в течение года, можно выбрать одну книгу или прослеживать какую-то тему во всех книгах; можно размышлять над стихом, над одним-единственным словом. Любой способ хорош, если только чтение питает нашу духовную жизнь. К пониманию прибавляется созерцание. Описание затрагивает исторические события, в созерцании же открывается их безмолвная глубина. Отталкиваясь от Истории, всякое настоящее чтение созерцает Икону Царства.
Так чтение открывает доступ к жизни Божией [363], но оно также обязывает передать другим полученное откровение[364]. Lectio divina ведет к апостольству, ибо “слово, – согласно апостолу Павлу, – в явлении Духа и силы” (1 Кор 2:4).
V. Всеобщее священство мирян в восточной традиции
Греческий перевод еврейских текстов Ветхого Завета (как и версия Аквилы), употребляет слово laikos, лаический (букв. “народный, мирской”. – Ред.), по отношению к вещам, а не к людям: “дорога…”, “земля…” (1 Цар 21:4), “хлеб…” (ßeßhloj в Септуагинте, laices panes в Вульгате) суть вещи “профанные” (несвященные), т. е. не пригодные к употреблению в храмовом богослужении (1 Цар 21:5–6, Иез 48:15).
Первый христианский текст, где встречается слово “лаик” (член народа, “мирянин”. – Ред.), – это Послание к коринфянам, приписываемое св. Клименту Римскому (ок. 95 г.). В нем говорится о руководстве церковным народом согласно “правилам лаиков”. Начиная еще с III в., с Тертуллиана и св. Киприана, в северной Африке термин “лаик” входит в употребление наряду со словом “клирик”. Здесь уже в зародыше та правовая интерпретация, которая противопоставляет “лаика” – “клирику”. Наконец, у бл. Иеронима (нач. V в.) мы находим не определение, но констатацию факта, причем явно уничижительную: отделенные, в противоположность клиру, от дел божественных[365], лаики суть те, кто занят делами мира сего, кто женится, торгует, возделывает землю, воюет и ведет тяжбы в суде…
Хотя само слово “лаик” в Библии встречается редко и значение его довольно расплывчато, в ней, тем не менее, содержится самое полное и ясное понятие о laos’е, народе Божием. Наряду с функциональным священством, священнической кастой левитов, Писание утверждает всеобщее священство народа Божия в целом. Со времени дарования Закона Моисею Господь говорит: “Вы будете у Меня царством священников (mamleket kohanim) и народом святым” (Исх 19:6). В греческом тексте это переведено как ßaoileiov lepateupa, царское священство, т. е. “народ священников”, служащих Царю Небесному. В Новом Завете апостол Петр вновь употребляет это выражение: “Вы народ избранный, царское священство” (1 Петр 2:9). Отделенный и собранный некогда в Иерусалимском Храме, теперь народ Божий приобщен к acta etpassa Christi in carne[366]. Народ, собранный в Церковь, перестает жить пророчествами, но входит в саму реальность полученных им откровений; отныне он собран во Христе и участвует в Его единых Священстве и Царстве. Христос всех христиан “соделал царством и священниками, и они будут царствовать на земле” (Откр 5:10).
Идея народа профанного, непосвященного, не находит себе места в Библии, она в ней просто немыслима. Писание постоянно и недвусмысленно учит о священном и священническом характере каждого члена народа.
Первые тревожные признаки появляются уже в конце IV в. – это ядовитый плод константиновской эпохи. Сами миряне оказываются не на высоте своего достоинства царственного священства, и потому епископы неизбежно все больше и больше становятся средоточием священного, священнического, “посвященного”. Дистанция увеличивается прогрессирующим охлаждением, оскудением лаиката, его страшным отказом от даров Духа Святого. Это настоящее “отпадение мирян”, предательство ими своей священнической природы. Два полюса laos'а, народа Божия, – христианский царь, защищающий Церковь и именующийся “епископом внешним“ и “вселенским дьяконом” (титул византийских императоров), и монах, чья жизнь целиком проходит в делах божественных, – охраняют харизматическое достоинство мирян, но то, что находится между этими двумя полюсами, падает в пустоту, на этот раз действительно профанную; большинство, хотя и крещеное, отождествляется с делами мира сего, возвращается к ветхозаветному смыслу слова laic, который прилагался к вещам, и таким образом само становится одной из профанных вещей мира сего. Во время этого стремительного упадка и появляются пренебрежительные названия: ßiWTLKoi и äviepoi, т. е. живущие в миру, чуждые вещам священным и святым. Отсюда и негативное определение: лаик – это тот, кто способен лишь на пассивное восприятие, ему нечего делать в Церкви (кроме денежного пожертвования), поскольку у него нет церковной функции, нет служения, нет харизмы…
Однако в “Послании к Диогнету” (нач. III в.) говорится: “Живут они в своем отечестве, но как пришельцы; для них всякое отечество есть чужбина, и всякая чужбина – отечество. Находятся на земле, но суть граждане неба”. Этот текст лишь развивает учение апостола Павла: верные, лаики – сограждане святым и свои Богу, они не имеют постоянного жительства на земле. Очевидно головокружительное падение этого достоинства “святых” (призванных к святости) до профанного состояния тех, кто занят лишь вещами мира сего. Это крайняя профанация святыни.
Но даже в условиях такого упадка истинное Предание остается неизменным; мы находим его в догматах, в сакраментальном и литургическом сознании, в богатом и ясно выраженном учении отцов Церкви.
Всеобщее священство никак не противопоставляется священству клира. Однако это священство не является и производным от лаиката, представительством конгрегационалистского типа[367]. Церковь, в соответствии с Божественным замыслом, получила свое иерархическое устройство через установление коллегии Двенадцати. Народ дифференцирован Богом по “священническому принципу” посредством харизматических служений. Епископат избран из народа, взят от его священнической плоти и крови, но он не составляет особой структуры над ним, поскольку он есть органическая часть Тела, онтологического единства всех членов. Его установление – божественное, он существует через преемство от апостолов. Всякий кандидат поставлен Богом: “Я избрал и утвердил вас” (Ин 15:16). Священное право совершать таинства и, прежде всего, быть апостолическим свидетелем Евхаристии, право утверждать вероучительные определения – charisma veritatis certum [368] – принадлежит епископату в силу апостоличности Церкви; так же как и пастырская харизма вести Тело, Царство священников, к Парусии во славе. У живого образа Христа, епископа, единственная истинная власть – любовь, единственная истинная сила убеждения – мученичество. Как прекрасно сказано: “Мы не учителя вашей веры, мы рабы вашей радости”.
Суть восточной традиции ясна, это не анти-иерархи-ческий эгалитаризм и не клерикалистский разрыв единого Тела надвое, но священническое участие всех в единственном божественном Священстве посредством двух священств. Каждое утверждено Богом, и это божественное происхождение изымает их из мира и из всякой профанной перспективы.
Что сконцентрировано в Одном, во Христе, единственном Священнике, то развернуто в Его Теле: Священник направляется к Царству и ко всеобщему Священству священников. П асха и Парусия еще не совпали, и поэтому сосуществуют два священства: без смешения, но и без разделения или какого бы то ни было противопоставления: в различии харизм и служений являет Себя единый Христос.
Таким образом, предание никогда не смешивает, но решительно утверждает одинаковость природы: прежде всего все равны как члены народа Божия. Через “второе рождение” – крещение – все уже священники, и именно вследствие этого глубинного равенства в священстве становится возможной и функциональная дифференциация харизм. Это не новое “посвящение”, но поставление на новое служение того, кто уже был посвящен, раз и навсегда изменен в своей природе, уже получил свою священническую сущность.
Таинство миропомазания (конфирмация на Западе) утверждает всех крещаемых в одной и одинаковой для всех священнической природе иереев. Из этого полного равенства некоторые избраны, взяты и утверждены божественным действием в качестве епископов и пресвитеров[369]. Именно такое функциональное различие в служениях преодолевает какое бы то ни было онтологическое различие природ и делает невозможным разрыв между клиром и мирянами. Вальсамон, канонист XII в., приводит существовавшее мнение, будто посвящение в сан епископа включает полное отпущение грехов – становясь как бы “вторым крещением”, и следовательно, изменяя природу. Доктрина эта, однако, не была принята Преданием, поскольку таким образом утверждалась бы разность природ между епископами и остальными верными. Возможность низложения священника в мирянина с разрешением супружества показывает прямо противоположное: в этом случае клирик слагает с себя функциональное служение, оставаясь священником всеобщего Священства, – ни до, ни после с ним не происходит никакого онтологического изменения. Это положение очевидно подтверждается сосуществованием двух традиций, каждая из которых по-своему отражает понимание “отцовства в Боге”. Одна восходит к св. Игнатию Антиохийскому[370], для которого епископ есть отец по своей литургической функции; водою и Духом он восстанавливает сыновство Богу (Откр 2:17). Другая восходит к “отцам-пустынникам”. Эти великие носители Духа – миряне, харизмы которых не функциональные, но личные. Pneumaticos pater, духовный отец, – это теодидакт, наученный Богом и ведомый Духом. Простые монахи, они для всех были “духовными отцами”.
Таким образом, если епископ участвует в Священстве Христа своей священной функцией, то всякий мирянин делает то же самое самим своим бытием: он участвует в едином Священстве Христа своим освященным существом, своей священнической природой. В силу этого достоинства – быть священником в самой своей природе – всякий крещеный запечатлен дарами, помазан Духом в самой своей сущности. Надо особо подчеркнуть сущность, онтологию, священническую природу всякого верного. Каждый мирянин – священник своего бытия, он приносит в жертву всю свою жизнь и свое существо.
Подтверждением тому служит множество параллелей между “посвящением” верных (крещение и миропомазание) и рукоположением священников. Действительно, молитва восьмого дня после крещения упоминает “возложение руки Божией”, которое утверждает крещаемого в “достоинстве высшего и небесного призвания”. Белый цвет крещальных одежд есть цвет священства в обоих Заветах; понятно, что из практических соображений его сохранил только клир. Обряд пострижения выражает всецелое посвящение на служение в Церкви; т. е. все, как клирики, так и миряне, отделены как святыни Божьи, все посвящены. Согласно древней традиции, ребенка мужского пола проводят вокруг престола, что соответствует достоинству священника всеобщего Священства. Ипполит Римский [371] пишет, что новокрещеный, подобно епископу, получает целование мира, как тот, кто признан достойным своего нового состояния – degnus effectus est. По поводу “белого камешка”, на котором “написанное новое имя” (Откр 2:17), Ипполит[372] утверждает, что это то имя, которое произносится на Евхаристии, оно есть символ принятия в Царство, имя новой твари, члена Царского Священства. Удивительное литургическое родство этих обрядов с рукоположением клира особо подчеркивает священническое достоинство всякого крещеного.
Посвящение (три великих таинства верных) вводит всех и каждого в ἱερα διακόσμησις порядок или священную иерархию Народа, различаемого только по функциональным служениям.
Это совершенное равенство всех членов Церкви отвечает глубоко однородному характеру православной духовности. Так же как не существует никакого разделения Церкви на учащую и учащуюся, но Церковь в своей целостности учит Церковь, так и Евангелие обращается ко всем и к каждому во всей полноте своего учения. Молитва, пост, чтение Писания, аскетическая дисциплина относятся в равной степени к любому, поэтому лаикат, строго говоря, образует сословие внутреннего монашества. Его мудрость заключается главным образом в том, чтобы, живя в мире (и возможно – именно по причине этого призвания), перенять у монахов их эсхатологический максимализм, их радостное и нетерпеливое ожидание Парусии.
Как пример общего для всех внутреннего монашества можно упомянуть старую традицию, видевшую во времени между помолвкой (обручением) и свадьбой соответствие периоду послушничества у монахов, служащее для подготовки к супружеству как к священству. Согласно восточному обряду таинства венчания, венцы не снимались со вступающих в брак в течение семи дней, и только после этого священник давал благословение на разрешение брачного ложа. Также и в старой России бывало, что после венчания в приходской церкви молодые отправлялись прямо в монастырь, где некоторое время приобщались монашеской жизни, дабы лучше понять свое новое супружеское призвание, супружеское Священство.
Николай Кавасила, великий литургист XIV в., мирянин, озаглавил свой трактат о таинствах “Жизнь во Христе Иисусе”; священник о. Иоанн Кронштадтский, человек святой жизни, в начале XX в. описывает свой евхаристический опыт в книге, озаглавленной “Моя жизнь во Христе”. Все это показывает, что истинная родина православной души есть Церковь литургических таинств. Николай Кавасила даже перефразирует текст “Деяний”: “Ибо Таинствами мы живем, движемся и существуем”.
Таинство миропомазания есть таинство всеобщего Священства. На возрожденного в крещении человека сходит Святой Дух, дабы сообщить ему дар дел веры. Миропомазание есть таинство силы, вооружающее нас как “солдат и атлетов Христовых”, чтобы мы принесли ”свидетельство без сомнения и слабости”, исполнили апостолат харизматической любви. Св. Кирилл Иерусалимский говорит катехуменам: “Дух Святой вооружает вас для борьбы… Он позаботится о вас, как о собственном солдате”, и “вы будьте стойки против всякой противной силы”[373]. Всякий мирянин – прежде всего воин.
Восточная традиция запечатления всех частей тела миропомазанием символизирует языки пламени Пятидесятницы. Оно сопровождается сакраментальной формулой: “Печать дара Духа Святого”, т. е. во всем своем существе всякий мирянин запечатлен дарами и является существом всецело харизматическим.
Молитва, стоящая в сердце таинства, раскрывает назначение этих даров: “Да благоугодит Тебе всяким делом и всяким словом”. Это посвящение всей жизни служению лаиката, служению в основе своей церковному.
Всеохватывающий, абсолютный характер посвящения выявляется в обряде пострижения, идентичном обряду принятия в монашеский чин. Молитва обращается: “Благослови раба Твоего, пришедшего принести Тебе как начатки пострижение волос головы своей”. Символический смысл здесь ясен: это принесение всей своей жизни в дар.
Эсхатологический акцент молитвы усиливает этот смысл: “Да прославит Тебя во все дни жизни своей и да видит блага Иерусалима”. Так, всякое мгновение открывается в его эсхатологическом измерении, все дела и слова служат Царю. Принимая пострижение, всякий мирянин становится монахом внутреннего монашества, послушного всем абсолютным требованиям Евангелия.
На эпиклезу таинства, на испрашивание Духа Святого, Отец Небесный отвечает Его ниспосланием, облекая крещеного во Христа, делая его “христоподобным”. В молитве над св. миром епископ просит: “О Боже, отметь их (будущих помазанников, “христов”) печатью чистого мира; да носят они в сердцах своих Христа, дабы быть им троической обителью”[374]. Здесь отчетливо выявляется троицецентризм Православия, где особенно подчеркивается троическое равенство: человек, запечатленный Духом, стал христоносцем, дабы быть обителью Св. Троицы.
Выбор определенного чтения из Писания для конкретного богослужения есть уже его толкование. По совершении таинства миропомазания читаются последние стихи Евангелия от Матфея: “Итак, идите, научите все народы” (Мф 28:19). Тем самым повеление Господа адресуется каждому миропомазанному христианину, всякому мирянину, и для того, чтобы он мог его исполнить, в таинстве ему подается благодать: “Он должен проповедовать другим то, что сам получил в крещении”. Наравне с поставленными миссионерами, всякий миропомазанный есть своего рода “муж апостольский”. Всем своим существом, запечатленными в нем дарами, всей своей жизнью он призван к непрестанному свидетельству.
Идея бездействующего народа очевидно противоречит святоотеческой экклезиологии: всеобщее Священство верных принимает участие в трех аспектах власти – управлении, учительстве и освящении.
На первом апостольском соборе в Иерусалиме были представлены все составляющие части Церкви: “Апостолы, пресвитеры и братья”. Фраза “изволилось Духу Святому и нам” (Деян 15:28) становится сакраментальной формулой вселенских соборов, и это “мы” есть соборное “мы” Тела в Его целостности. Собор составляют епископы, но они заключают в себе все Тело, и их верховная власть осуществляется лишь на уровне тайны всеобщего согласия; епископы действуют ex consensu ecclesiae – с согласия Ц еркви (ср. Деян 15:25). Об этом прекрасно сказано в догматическом послании восточных патриархов 1848 года: “У нас нововведения не могли быть приняты ни патриархами, ни соборами; ибо у нас защита[375] веры возложена на все Тело Церкви, т. е. на сам народ, который хочет сохранить неповрежденной свою веру”[376]. Миряне не судьи (kriteis) веры, утверждение вероучительных определений есть чисто епископская харизма; но миряне суть ее защитники. “Щит” – это Церковь в ее целостности, и поэтому способность отличать ложь от правды, “испытывать и свидетельствовать” (1 Фес 5:19–21) дана всем. Более того – такая защита есть святой долг каждого мирянина. Эта роль известна по арианскому кризису IV в., и позже – в XV в., но особенно – в XVI–XVIII вв. на юго-западе России, когда православные братства спасли чистоту веры и составили настоящий оплот Истины при полном бессилии епископата. В том случае, если собрание епископов оказывается бессильным, согласие всеобщего Священства призывает созвать такое собрание епископов, которое было бы освящено Духом Святым.
В богослужении такие моменты, как возглас народа аксиос[377] во время епископского рукоположения или заключительный аминь, можно уподобить священной подписи Тела в его целостности под всяким актом Церкви. Во время литургии каждый верный со-предстоит с епископом; народ активно участвует в евхаристической анафоре, в эпиклезе всегда употребляется множественное число; священник возглашает от лица всех: “Мы молим Тебя”, а затем он, подобно апостолам, становится свидетелем совершившегося чуда. Общение Духа соединяет предстоятеля и собрание в одно целое, отвечающее смыслу слова литургия, что значит общее дело.
В области учительства – и это специфическая черта Православия – учителя богословия чаще всего – миряне. Служение слова как правило связано с харизмой “начальствования”, но епископ может передать избранным мирянам, как имеющим харизму всеобщего Священства, власть учить и проповедовать. В сакрализованном византийском обществе император имел власть созывать соборы, и слово императора воспринималось на них как норма. Хорошо известны восхитительные гомилии Николая Кавасилы, мирянина и великого литургиста XIV в. Можно привести также имя Кирилла Филейского, который, имея жену и будучи отцом семейства, был ревностным исихастом. В современной Греции миряне посылаются Синодом на апостольское служение, они учат и проповедуют в церквах; так проявляется их священническая харизма.
“Мирскими” делами епархии управляют советы и консистории. Епископ – духовный отец, пастырь и литург. Если случается, как, например, в современной Греции, что государство главенствует над материальной организацией Церкви, то государство в принципе представляет здесь христианский народ.
В области освящения монашеское сословие совершенно независимо от всякого посвящения[378]. Духовная власть старцев не связана со священством. “Духоносцы”, подвижники, монахи или миряне, те, кого народ называет “человеками Божиими”, и “юродивые Христа ради” имеют огромный духовный авторитет, народ признает их как духовников; простые монахи часто были духовными отцами епископов и патриархов. Это чисто харизматическое служение, не всегда совпадающее со служением клириков, никогда в Церкви не прекратится.
Миряне формируют такую духовную среду, которая является одновременно и миром, и Церковью. У них нет власти предоставлять средства благодати – это сакраментальная власть клира; напротив, их область – “жизнь по благодати”, “состояние благодати”. Простым присутствием в мире своих “освященных”, “священников” в самой их сущности, “троических обителей”, всеобщее Священство лаиков сохраняет силу космического освящения, космической литургии: за стенами храма миряне продолжают литургию Церкви, своим активным присутствием они вносят пережитую ими истину догматов в общество и человеческие отношения, низлагая таким образом бесовские и оскверняющие начала мира.
Кроме активного участия мирян в трех аспектах власти Церкви, отцы также подчеркивают тройное достоинство мирян в ней самой. Св. Макарий Египетский говорит: “Христианство не есть что-нибудь маловажное; оно – великая тайна. Познай же свое благородство… Помазуемые становятся царями, священниками и пророками небесных тайн”[379].
Царственное достоинство имеет аскетическую природу; это господство духовного над материальным, над инстинктами и космическими ритмами плоти, освобождение от всякой обусловленности, идущей от мира. Св. Икумений говорит: “Мы – цари превосходством над нашими страстями”[380], а св. Григорий Нисский утверждает: “Душа являет свою царственность в свободном распоряжении своими желаниями, что присуще лишь царю, ибо властвовать надо всем есть свойство царской природы”.
Царское достоинство есть, таким образом, comment (“как”) существования, это присущее царю свойство владычествовать, быть хозяином и господином. Его “что” (quoi), его содержание, заключается в священническом достоинстве. Апостол Павел призывает предать тела наши в “жертву живую”, что есть “духовное служение” (Рим 12:1); сделать из нашего существа и его бытия богослужение, литургию, славословие. Ориген замечательно объясняет это: “Все те, кто принял помазание, стали священниками… Если я люблю братьев моих так, что отдаю за них жизнь, и сражаюсь за истину даже до смерти… если мир распят для меня, и я – для мира, то я приношу жертву, став священником своего бытия”[381]. В том же смысле св. Григорий Назианзин обобщает: “Мы, как священники, приносим самих себя как духовную просфору”[382].
Чтобы дать определение пророческого достоинства, св. Икумений соединяет все достоинства: “Цари – как господствующие над своими страстями, священники – через принесение в жертву наших тел, пророки – ибо нам открыты великие тайны”[383].
Св. Феофилакт добавляет: “Пророк – ибо видит то, чего не увидел глаз”[384]. Согласно Библии, пророк – это тот, кто внимателен к “промыслу Божию” в мире, тот, кто чувствует провиденциальный ход Истории под взглядом Бога. Евсевий Кесарийский в “Доказательстве в пользу Евангелия”[385] пишет: “Мы воскуряем пророческое благовоние во всяком месте и посвящаем Ему благоуханный плод практического богословия”. Вот прекрасное определение лаиката: всем своим существом, во всем своем бытии стать таким богословием – живым, теофаничным, сияющим местом присутствия, парусии Бога.
Обозревая святоотеческую традицию, можно в общих чертах обрисовать некий “тип” мирянина. Прежде всего это человек молитвенный, существо литургическое: человек Sanctus'а и Трисвятого, он может кратко описать свою жизнь словами псалма: “Пою Богу моему, доколе есмь”. Авва Антоний[386] рассказывает о человеке подлинной святости, который в миру был врачом: все лишнее он раздавал бедным и весь день пел Трисвятое, соединяясь с хором ангелов. Это заставляет вспомнить о типе святых, называемых anargyre, “бессребреники”; такой человек относится к медицине как к форме Священства, как священник. Напоминает он и “доброго врача” Камю, но такого, каким он, наверное, видит его теперь.
Сейчас в коммунистических странах жизнь Церкви, как никогда, сведена только к богослужению, и это тяжелое обстоятельство рождает мощнейший призыв вновь собраться вокруг единого на потребу. Совсем недавно русский епископат призвал мирян, за отсутствием регулярной богослужебной жизни, самим стать храмом, продолжать литургию в своей жизни, саму жизнь сделать литургией, показать людям, не имеющим веры, литургическое лицо, улыбку… В трагических условиях крайнего подавления Церковь учит прежде всего как молиться, как участвовать в борьбе безмолвным свидетельством, как “внимать безмолвию Слова”, дабы сделать его более могущественным, чем любое скомпрометировавшее себя слово.
Согласно древнему преданию, Архангел Михаил полагает на алтарь Всевышнего “огненных агнцев”, т. е. души мучеников. Их свидетельство совсем не обязательно зрелищно. Священник мира, мирянин различает духи и говорит “нет” всякому бесовскому начинанию. Другие, те, кто “под алтарем” (Откр 6:10), кричат: “Доколе, Владыка…” Церковь может взять все богатства человеческой культуры, дабы создать из них сияющую икону Царства Божия, но она может также быть обнажена вплоть до мученичества и “нагая следовать за нагим Христом…”
Во время Литургии епископ собирает воедино молитву и дары верных и, предлагая это приношение Отцу, возглашает эпиклезу от лица всех. Подобно этому и присутствие мирянина в мире есть постоянная эпиклеза, оно освящает каждую частицу мира, содействует евангельскому миротворчеству, жаждет литургического “целования мира”.
По примеру прошений Церкви в ектеньях, молитва мирянина распространяется на наступающий день, на землю и плоды, на труды всякого человека. В бескрайнем соборе, каким является Божий мир, человек, священник своей жизни, будь он рабочий или ученый, делает из всего человеческого приношение, хвалу, славословие.
Мирянин есть очевидец Воскресения Христова – таково литургическое учение и смысл богослужения Пасхальной ночи. Литургическое таинство больше простого воспоминания, оно “вновь представляет” событие, становится самим этим событием. Христос Воскресший является перед народом, даруя каждому верному апостольское достоинство свидетеля Воскресения.
Поэтому мирянин и есть своего рода “муж апостольский”[387]. Согласно великим подвижникам, он тот, кто отвечает на призыв, которым оканчивается Евангелие от Марка: тот, кто наступает на змей, исцеляет всякий недуг, движет горы и воскрешает мертвых, если такова Божья воля. Если он просто живет целиком по вере, он пребудет непоколебимым до конца.
Состояние сосредоточенного безмолвия, смирения, но насквозь пронизанное страстной нежностью, – именно об этом говорили св. Исаак, св. Иоанн Лествичник: надо любить Бога, как любят невесту, и быть влюбленным во все творение Божие, дабы раскрыть во всякой вещи замысел Божий. Согласно Мерло-Понти, “человек приговорен к смыслу”[388], мы бы сказали – призван воплощать свою веру в жизнь: видеть невидимое, созерцать премудрость Божию в кажущейся абсурдности Истории, становиться светом, откровением, пророчеством.
Восхищенный существованием Бога, тем, что “мир полон Троицы”, мирянин также немного безумен тем безумием, о котором говорит апостол Павел; только парадоксальный юмор “безумных Христа ради” способен разбить напыщенную серьезность бесчисленных доктринеров.
Мирянин – это также человек, которого вера освобождает от “великого страха XX века” – страха бомбы, рака, коммунизма, смерти; чья вера есть всегда особый способ любить мир, способ крайний – следовать за своим Господом до сошествия во ад. Очевидно, что не из богословской системы, но, быть может, единственно из глубин ада может родиться и утвердиться сияющая, радостная надежда.
Христианство в величии своих исповедников и мучеников, в достоинстве всякого верующего имеет мессианский характер, оно революционно и взрывоопасно. В Царстве Кесаря нам заповедано искать и найти то, чего в нем нет: Царство Божие. Это значит, что мы должны изменить образ мира, его лицо, которое должно быть преображено в икону Царства. Изменить мир – значит перейти от того, чем мир пока не располагает – и потому он еще мир сей, – к тому, во что он преображается, тем самым становясь чем-то иным: Царством.
Главный призыв Евангелия предлагает христианину обрести ту силу, которой только и берется Царство Божие. Господь указывает на силу, говоря об Иоанне Крестителе. Таким образом, Иоанн – не только свидетель Царства, но в нем мир уже побежден и Царство присутствует. Он не просто глас вопиющего, но Его голос. Он друг Жениха – тот, кто умаляется, чтобы Другой, божественный Человеколюбец, возрастал и явился. Быть настоящим мирянином – значит быть тем, кто всей своей жизнью, всем, что в нем есть, возвещает Грядущего; быть тем, кто, по слову св. Григория Нисского, полон “трезвенного опьянения”, кто говорит всякому встречному: “Приди и пей”, тем, кто произносит вместе со св. Иоанном Лествичником эту окрыленную радостью фразу: “Любовь Твоя ранила мою душу, и сердце мое не может вынести Твоего пламени, итак, спешу, воспевая Тебя…”[389]
Евангелие рассказывает о неистовых, силою берущих Царство. Один из верных признаков его приближения – единство христианского мира. В этом ожидании окончательного исполнения обретает жизнь надежда, великая христианская надежда. Молитва всех Церквей возносится, чтобы составить вселенскую эпиклезу, призвать Духа Святого в надежде на его сошествие, на возможное чудо единства. Таково наше горячее желание, наша горячая молитва. Участь мира зависит от ответа Отца, но ответ этот, в свою очередь, зависит от нашей прозрачной искренности, от чистоты нашего сердца.
Иисус Христос в полноте дара Самого Себя явил совершенное священство. Образ всякого совершенства, Он есть единственный верховный Епископ, Он есть также единственный высший Мирянин. Потому Его священническая молитва объединяет желание всех святых: славить Святую Троицу единым сердцем и единой душой, собрать всех людей вокруг единой и единственной Чаши.
Божественное Человеколюбие ждет нас, чтобы разделить эту радость, которая есть радость не только этого мира; она уже открывает Пир Царства.
VI. Мистическое восхождение
Апостол Павел очень кратко упоминает собственное восхищение до неба, но в связи с этим раскрывает самую суть христианской жизни: “Знаю я о человеке во Христе" (2 Кор 12:2). Это восхищение – лишь особая благодать, никак не необходимая и никогда не искомая, и наоборот – любой крещеный есть подобный “человек во Христе”.
Считается, что это выражение апостола Павла изображает мистическое состояние, а это значит, что оно открыто для всех, что христианская мистика неразрывно связана с таинствами[390]: мистическая жизнь невозможна вне Евхаристии. Действительно, крещение начинает ее рождением Бога в душе: “Когда рождается Искупитель, день наступает среди ночи”[391]. Он вступает в обладание этой душой, непрестанно ее углубляя. В “Послании к Диогнету” говорится: “Логос, Который всегда рождается в сердце святых”, рождается и возрастает. Св. Григорий Нисский развивает эту мысль: “Младенец Христос растет различным образом, следуя мере каждого; Он являет Себя как ребенок, как подросток или же как зрелый муж”[392]. Согласно св. Максиму Исповеднику, мистик – тот, в ком лучше всего проявляется рождение Господа. Так же и для св. Амвросия: “Всякая возрастающая душа зачинает и рождает Слово Божие… Если по плоти одна мать у Христа, то по вере Христос есть плод всех нас”[393], и именно так апостол Павел определяет свою пастырскую задачу: “Пока не будет изображен Христос в вас!” (Гал 4:19).
В соответствии с возрастанием, о котором пишет св. Григорий Нисский, Христос становится “зрелым мужем” в человеческой душе, когда крещение переходит в Евхаристию, охватывающую всю жизнь верующего: “Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, Я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною” (Откр 3:20). Это более, чем рождение, это причастие, в котором человек “во Христе” становится частицей Его Тела, Его живым членом: “Равное достоинство у этой и у той трапезы (земной и небесной), и тот же сотрапезник в обоих мирах; там – брачный чертог, здесь – приготовление для этого брачного Царства и, наконец, Жениха. “Тайна сия велика”, – пишет апостол Павел, воздавая славу такому соединению; ибо в этом мистический брак: Божественный Жених соединяется с Церковью”[394] и со всякой человеческой душой.
Образ “главы”, используемый апостолом Павлом, Кавасила заменяет на “сердце ликующее и преисполненное”, неиссякаемый источник агапических сокровищ. Поэтому Евхаристия служит драгоценной оправой библейской темы мистического брака. “Муж скорбей” открывается как “муж желаний”, вечный Возлюбленный, божественный Человеколюбец. Христос – единственный магнит, притягивающий любовь, и Он проникает в нас, дабы мы могли возродиться в Нем. Кавасила раскрывает здесь простую и прозрачную очевидность: “Человеческая душа жаждет бесконечного. Глаз был создан для света, ухо – для звуков, всякая вещь – для своей цели, а желание души – отдать себя Христу”[395]. Любовь Божия склоняется к земле и обручается восходящему стремлению человека.
В своем восхождении “человек во Христе” открывает для себя литургическое измерение Истории, лишающее смысла любое бегство от нее и возвращающее человека к сокровенной реальности. На слова апостола Павла: “Бог выкупил народ Свой для хваления славы Его”[396] – отвечает Апокалипсис, где, как кажется, единственное серьезное занятие людей есть “поклоняться и восхвалять”, т. е. всякое славословие, евхаристия, благодарение, действие благодати “искупает время”, что значит – открывает его к “вечному настоящему”. “Хлеб наш насущный дай нам сегодня”[397] означает: да будут нам дары спасения, Царства, дарованы уже сейчас, уже здесь, уже сегодня. Это не упование на будущее, но требование настоящего, здесь и теперь. “В Рай входят сегодня, когда бедны и распяты”, – говорит Леон Блуа[398].
Евангелие от Матфея, говоря о Страшном суде, подчеркивает решающий характер настоящего момента. Как только вечность вступает во время, всякая рассеянность уходит, а с ней – и шизофрения прерывистого времени.
Мы начинаем понимать бесконечную значимость этого открытия, как только констатируем, что человек Истории не живет в настоящем времени. Действительно, из-за очень страшного отчуждения человек мира сего живет в прошлом, в воспоминаниях, или в ожидании будущего; что до настоящего момента, то он ищет, как бы сбежать от него, тренируя свою изобретательность, чтобы лучше “убить время”. Такой человек совершенно не живет здесь и теперь, но в мечтаниях, сам того не понимая. Аскетическое же присловье гласит: “Час, который ты проживаешь, дело, которое делаешь, человек, которого встречаешь в настоящий момент, – суть самые важные в твоей жизни”. Они являются таковыми, поскольку прошлое и будущее в их абстрактном измерении не существуют и не имеют доступа к вечности, которая совпадает лишь с настоящим моментом и открывается лишь тому, кто становится полностью присутствующим в этом моменте. Только в эти мгновения и можно ее достичь, живя в ней, как в вечном настоящем. Литургическое “воспоминание” ясно учит нас этому. Закрывая завершившееся прошлое и делая реальной целостность Истории, оно приносит ее пред лицо Отца, переводит в измерение настоящего, в котором актуальны все “до” и “после”. В “памяти” Отца все – настоящее, все актуально и трепещет жизнью.
Литургия, освобождая нас от тяжести времени, тяжести, вызванной его несуществующими измерениями, рождает в человеке присутствие Бога и позволяет узнать его. Оттого, что Мария Магдалина искала Бога, следуя образу, застывшему в ней, окостеневшему и потому – несуществующему, она не сразу узнала Господа во гробе.
Недавно один монах написал книгу, озаглавленную “Присутствие Христа”[399]. Он рассказывает о дне, проведенном с Иисусом, – о простом дне, так, однако, отличающемся от обычных человеческих дней. В этом видно своего рода взаимопроникновение и преемственность человеческих дел Господа и наших собственных дел. Живя по Евангелию в самых малых вещах будничной жизни, удивительно приближаешься к Иисусу и одновременно – к людям. Спонтанно изливается молитва: “Не дай, чтобы Слово Твое уподобилось в моей жизни святилищу, отделенному решеткой от дома и от улицы”[400].
Ясно ощущается, что речь идет отнюдь не о “правилах жизни”, часто так плохо согласованных с жизнью реальной, но о “стиле жизни”, о духовности, внимательной к таинственному и многообразному присутствию Христа, Который ожидает нас и надеется, что мы проявим какой-то гений находчивости, дабы Его узнать и последовать за Ним в ад и еще дальше. Такой день равноценен евангельской притче, пережитой на собственном опыте, открывающей нескончаемый ряд, целую вечность мгновений настоящего. Если подвижники так много говорили о “лествице”, то потому, что по лестнице спускаются к людям, дабы для всех найти пути восхождения к Тому, Кто ожидает нас.
Слова о Страшном Суде поражают своей простотой, но это делает их еще более грозными. Единственное обвинение – в невнимании, в бесчувствии к присутствию Христа во всяком страждущем, в каждом человеке. Именно такого узнавания ждет Христос от человека.
“После Бога считай всякого человека за бога”, – говорили подвижники, и они умели – вместо обычного приветствия – приветствовать во всяком человеке, в первом встречном незнакомце, человеческое лицо Бога. Авва Аполлос говорил ученикам: “Когда странник или гость приходит к вам, распростритесь перед ним. Не перед человеком – перед Богом. Ибо сказано: «Ты видишь брата своего – ты видишь Бога своего»”[401]. Подобное отношение – не рецепт и, конечно, не правило, но стиль, формирующий человека изнутри и свидетельствующий о неутолимой жажде Христа. Тот, кто каждому может сказать: “Радость моя”, обращается к человеку как месту присутствия Бога, и потому радость его совершенна. Человек тут не исчезает, но раскрывается как нечто большее, чем человек, – как живое общение, как человеко-Бог.
“Пастырь” Ерма напоминает, что если кто по небрежению не поможет человеку в беде, то будет ответствен за его потерю[402], а св. Максим Исповедник предупреждает, что мы дадим ответ “за содеянное нами зло, но в первую очередь – за то добро, которое пренебрегли сделать, и за то, что не любим ближнего”[403]. Если Евангелие осуждает всякое праздное слово, то аграфа, процитированная Дидимом Александрийским, идет дальше: “За всякое доброе слово, которого не скажут, дадут ответ в день суда”[404]. “На закате жизни мы будем судимы по Любви…” – замечает св. Иоанн Креста.
Известно, что основу благочестия евреев Ветхого Завета составляло слышание: “Слушай, Израиль”. Слово структурирует Историю. Но для тех же евреев время мессианского обновления, эсхатология, заменяет слышание видением. Это уже не “слушай”, но “подними глаза твои и увидь”. Так же и Евангелие, передавая слова Иисуса, приглашает к их слушанию, но когда История трансцендирована, “чистые сердцем узрят Бога” (Мф 5:8). В момент мученической смерти дьякон Стефан видит небо отверзающимся у него перед глазами и “славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога” (Деян 8:55).
Г. Киттель[405] подчеркивает, что в момент Воскресения слышание переходит в видение, что знаменует начало Парусии и вхождение в эсхатологическое время. Сияющее облако сопутствует Исходу, покрывает жертвенник, наполняет Храм, открывает местонахождение Шехины – славы Божией, места Его явленного присутствия. Поэтому именно великие боговидцы Ветхого Завета – Моисей и Илия – окружают преображенного Христа, дабы свидетельствовать о том же самом божественном свете. Фаворский свет предвосхищает свет Парусии и будущего века.
Духовная жизнь ведет к неизреченному созерцанию, где свет есть одновременно и его объект, и его способ. Нимбы святых на иконах указывают на светозарность тела как на онтологическую норму. Они явлены на иконах, при жизни же подобные внешние проявления редки, это совершенно особые дары. Духовный человек пребывает сосредоточенным в глубине своего сердца, живет в восхождениях духа, видимых одному Богу.
Сверху святой уже видится сотканным из света; но снизу видно, что он никогда не перестает сражаться: “Мы не будем осуждены за то, что не творили чудес, – говорит св. Иоанн Лествичник, – но, без сомнения, дадим Богу ответ за то, что не плакали непрестанно о грехах наших”[406]; и св. Исаак: “Покаяние есть трепет души перед вратами Царства”[407].
Человек следует за Христом и, избегая какой бы то ни было имитации, внутренне воспроизводит Его образ: “Чистота сердца – это любовь к слабым, которые падают”. Мистическая душа расцветает и расширяется до космической любви, она берет на себя вселенское зло, проходит через агонию Гефсимании и восходит к иному видению, избавляющему ее от всякого осуждения: “Тот, кто чист, видит душу ближнего”. Подобное видит подобное: “Если человек видит всех людей добрыми и никто не представляется ему нечистым, то можно сказать, что он подлинно чист сердцем”. “Если ты видишь брата своего согрешающим, набрось ему на плечи накидку своей любви”[408]. Подобная любовь действенна, ибо “изменяет саму субстанцию вещей”[409].
Это уже не переход от страстей к воздержанию, от греха – к благодати, но от страха – к любви: “Совершенный отбрасывает страх, и, пренебрегая воздаянием, любит от всего сердца”[410].
Душа поднимается выше всякого определенного признака, всякого представления и всякого образа. Множественное уступает место единому и простому. Душа, образ и зеркало Бога, становится обителью Бога. Мистическое восхождение обращает ее к Царству: “Если мудрость состоит в познании реальности, то никто не может быть назван мудрым, если не охватит также и дел грядущих”[411]. “Духовный человек последних времен, – говорит св. Исаак, – получит благодать, соответственную ему”. Это иконографическое видение “божественной литургии”. Небесный хор ангелов, в котором находится место для “овцы потерянной” – человечества, предстоит мистическому Агнцу Апокалипсиса, окруженному тройным кольцом сфер. На белизне небесного мира запечатлевается царственный пурпур Страстей, отливающий блеском незакатного Полдня, иконографический цвет божественной любви, облеченной человечеством. Это возвращение человека к его небесному достоинству. В момент Вознесения Христа оно уже вызвало возгласы ангелов: “Кто есть сей Царь славы?” Теперь же ангелы пребывают в удивлении перед глубочайшей тайной: заблудшая овца становится едина с Пастырем. Песнь Песней воспевает брак Слова и Голубицы. Любовь – это магнит, и наиболее сильно притягиваемая им душа бросается в сияющий мрак Бога. Чувствуешь бессилие слов: сияющий мрак, трезвое опьянение, источник воды живой, неподвижное движение.
“Ты стала прекрасна, приблизившись к Моему свету, твое приближение привлекло к тебе часть Моей Красоты”. – “Приблизившись к свету, душа становится светом”[412]. На этом уровне речь отнюдь не идет о том, чтобы изведать Бога, но о том, чтобы принять Его и претвориться в Него. “Познание, ставшее любовью”, имеет чисто евхаристическую природу: “Вино, веселящее сердце, после Страстей называется кровью винограда”, и “мистический виноград изливает трезвое опьянение”[413].
“Любовь – это Бог, Который пускает стрелу, Сына Своего Единородного, омочив три края ее острия Животворящим Духом: острие есть вера, вонзающая не только стрелу, но и Лучника вместе с ней”[414].
Душа, превращенная в голубя света, всегда движется вверх. Всякое достижение становится новой отправной точкой: “Благодать на благодать”. “Однажды поставив ногу на лестницу, на которую опирался Бог, не переставай подниматься… каждая ступенька всегда есть шаг к той, что выше”[415]. Это лестница Иакова.
Навстречу человеку выходят “не только ангелы, но и Господь ангелов”. “Но что сказать о несказанном; чего глаз никогда не видел, ухо не слышало, что никогда не приходило на сердце человеку – как может это быть выражено в словах?”[416]
Всякое движение прекращается, сама молитва меняет природу. “Душа молится вне молитвы”[417]. Это исихия, молчание духа, его покой, который превыше всякой молитвы, мир, превосходящий всякий мир. Это встреча лицом к лицу, простирающаяся сквозь вечность, когда “Бог приходит в душу и душа переходит в Бога”. В этой личной встрече с Тем, кто уже грядет, человек наконец становится таким, каким сделала его божественная вечность. Дойдя до конца, до “предела всех желаний”:
“Он отделен от всего и со всем соединен;
Бесстрастный и преисполненный чувствительности,
Обо́женный, он считает себя сором мира.
Более всего он счастлив,
Божественно счастлив…” [418]
О Павле Евдокимове Оливье Клеман
…Павел Евдокимов принадлежал к тому же поколению, что и Лосский[419]. Но если жизнь последнего оборвалась преждевременно, то Евдокимов смог завершить свои труды, которые оказывают ненавязчивое и вместе с тем глубокое влияние на тех христиан Запада, которые ищут глубины. Евдокимов хорошо знал людей: свои главные книги он написал (тоже по-французски[420]), когда ему было уже за пятьдесят, они явились плодом долгого конкретного служения. Гражданская война – о ней он говорить отказывался, если не считать истории, рассказанной с улыбкой, о лошади, которая ложилась в снег, чтобы его согреть. Константинополь, Париж, одиночество и лишения. Евдокимов сначала повар, потом рабочий на автомобильном заводе, затем он работает в метро в ночную смену, чтобы днем иметь возможность учиться. Так он становится одним из первых студентов Свято-Сергиевского института, основанного в период между двумя войнами русскими богословами и религиозными философами с целью объединения свободного поиска и Предания. Во время второй мировой войны Евдокимов вступает в ряды христиан-участников Сопротивления, без остатка отдает себя помощи беженцам, основывает вместе с друзьями-протестантами “Симад”[421]. Став по окончании войны ответственным за центр для “интернированных лиц”, он умеет найти с ними общий язык и вернуть к жизни самых обездоленных. Затем в течение долгого времени он руководит студенческим общежитием, в которое стекаются беженцы из Восточной Европы, Португалии и ее колоний, Бразилии, а также стипендиаты из Африки. Здесь, в окружении молодежи, приехавшей со всего мира, он разрабатывает самую суть своих произведений, стараясь вместе с ними разгадать смысл истории в свете Духа.
Страницы, связанные с его русским происхождением, были для него перевернуты окончательно. Разумеется, он хранил в себе, как некую тоску по раю, воспоминания о монастырях, куда мать возила его ребенком. Сады, созвучие колоколов, сладостность службы, ликующая толпа… И в один из самых тяжелых моментов гражданской войны – благословение старца. Об этом он рассказывал мне в самом конце жизни, под средиземноморскими соснами и небом, когда мы вместе проводили отпуск… Но служение свое он видел только во Франции, на пути к той встрече, которая должна вернуть христианству равновесие и полноту.
Лосский, Евдокимов – два моих учителя, один из них скорее богослов, другой – религиозный философ. Первый строил конструкции, но не замкнутые, а открытые, чтобы взрывать готовые концепции изнутри, проводить их через распятие: различие-тождество, антиномии без синтеза, человеческое и божественное во Христе “нераздельно и неслиянно”, “метаматематика” Единицы-Троицы, сущности и энергии…
Евдокимов же был скорее музыкантом, и нужно уметь его читать. Он весь в нюансах, повторах, которые вначале приводят в замешательство, а потом оборачиваются симфонией. Его творчество не похоже на хрустальный и подчас тяжеловесный замок души, выстроенный Лосским; оно движется, как приливы, волнами, которые находят, откатываются, возвращаются, и тогда замечаешь, что они подступают все ближе и ближе. С Лосским учишься по-другому думать, с Евдокимовым – по-другому чувствовать. Его “Этапы духовной жизни”, по замечанию одного молодого писателя, изменили не одну судьбу.
При сопоставлении отрицательного богословия, с такой силой выраженного Лосским, с темой безумной любви, ставшей центральной у Евдокимова, вырисовывается то, что можно было бы назвать апофатической антиномией. Слово “апофатическая” означает здесь восхождение разума к Непознаваемому, подобное восхождению Моисея на Синай. Слишком часто этот апофатический подход путают с отрицательным методом, отбрасывающим всякое постижение тайны, всякое определение, которое могло бы привести к ограничению. “Концепции создают идолов Бога, – говорит один из отцов, – лишь внезапное удивление позволяет предчувствовать нечто”. Бог находится вне наших образов, наших концепций, даже нашего понятия о Боге: υπέρθεος – недоступная бездна. Но незнание превращается в волнующее ликование пред лицом “безумной любви” Бога к нам. Антиномия бездны и креста составляет безмерную меру этой любви. Самое имя Божье открывается в полном самоотвержении креста.
Величие этих людей было в том, что они показали, что оплодотворить историю можно лишь через углубление литургической и духовной жизни, через умножение смиренных людей и проявлений святости, через “иконное доказательство” бытия Божьего, как говорит Евдокимов: святой ничему не служит, но все озаряется его светом, “стяжи дух мирен, и тысячи подле тебя спасутся”. Через умножение смиренных и лучезарных церковных общин, в которых евхаристия становится дружбой, взаимопомощью, бескорыстным гостеприимством в нежности и красоте. Через осуществление в истории аскезы творческой любви. Страницы Евдокимова о “внутреннем монашестве”, о необходимости ограничивать свои потребности, о самоотрешении, умиротворении – не для бегства от мира, а для служения жизни – кажутся сегодня пророческими.
Слова и примеры, выходящие за рамки какой бы то ни было конфессиональной исключительности, – Православная церковь в силу исторических условий, в которых она находится, может соответствовать им лишь частично[422], – в самом сердце Западного мира призывают всех христиан к всеобщему углублению, всех людей – к тому, чтобы открыть для себя молодость христианства и то, что ничто не чуждо Богочеловечеству.
В Евдокимове я открыл для себя русскую религиозную философию – один из самых плодотворных контактов христианства и современности, принесший свои последние плоды во Франции, в среде, близкой к Свято-Сергиевскому институту, между 1925 и 1950 годами. Эта философия пыталась раскрыть смысл современной культуры в свете Пятидесятницы, по-христиански определить смысл эроса, вселенной, красоты, творческой свободы, личности в общности…
Религиозный философ не является философом в том смысле, который мы обычно вкладываем в это слово в Западной Европе. Но он и не богослов, задача которого углублять понимание Откровения. В религиозном философе есть скорее нечто пророческое: он стремится раскрыть смысл всего в свете Откровения. Всего: будь то высшая математика у Флоренского, или аграрная экономика у Булгакова, или смерть кошки у Бердяева под конец жизни! Религиозный философ озаряет иным светом все сферы бытия. Он не является узким специалистом, и специалисты охотно обличают в нем поэта и авантюриста от духа. Лучше всего сказать о нем: он – живущий. Бердяев и Булгаков прошли через марксизм, революционную деятельность и тюрьму. Булгаков был депутатом Думы, Бердяев в 1917 г. – членом эфемерного Предпарламента, потом окунулся в самую гущу советской жизни (я говорю это с намеренным упрощением), два раза сидел в тюрьме при старом режиме, два раза – при новом, и, наконец, был выслан.
Мать Мария, в прошлом – социал-революционерка, много раз бывшая замужем, приняла в эмиграции постриг. Она избороздила всю Францию, помогая униженным и оскорбленным, писала в поездах поэмы и статьи. Получила от своего епископа разрешение проповедовать в храмах. Во время войны спасла не одну еврейскую жизнь. Арестованная, заключенная в лагерь, она, как говорят свидетели, по дороге в газовую камеру заняла место другой…
У этих людей не было страха перед жизнью. Они не были покоренными. Один из них увидел в восстании доказательство бытия Божьего. Вместе с Достоевским каждый из них мог сказать: “Через большое горнило сомнений прошла моя Осанна!”
Евдокимов был для меня живым синтезом этой религиозной философии, византийской и святоотеческой традиции и французской мысли. Однажды он сказал мне: “У нас, православных, принимая во внимание историческое положение нашей церкви, не так много возможностей высказывать свои мысли. И несмотря на это, наши труды подчас отмечены тем, чего не найти у других христианских мыслителей. Это не сочинения деревенских батюшек. На них царская печать”. Он имел в виду духовную Византию. Орла. Орла солнечного и Иоаннова.
Величие Евдокимова в том, что он включил в Предание неделимой Церкви интуицию русской религиозной философии, порой буйную и невзвешенную, проложив тем самым путь к современному пересмотру ее наследия. Эту услугу он оказал, в числе прочих, и “софиологии”, которая, гранича с ересью, была одним из самых плодоносных исканий в христианстве XX века. (Я иногда мечтаю о “православии” – “истинном прославлении” Бога – таком всеобъемлющем, что ересей для него существовать больше не будет: лишь только концепции, частные и не всегда высказанные к месту. Или, скорее, это была мечта патриарха Афинагора…)
Полагаю, что Павел Евдокимов был особенно близок к Бердяеву, концепцию которого о свободе он смог прояснить. Вершина всемогущества Божьего – творение – несет в себе (и это то, о чем западное христианство, как мне кажется, никогда не отваживалось сказать) риск для Творца, как ограничение Его всемогущества для наделения другого пространством свободы. Евдокимов обобщил эту тайну в двух фразах: “Бог может все, кроме как заставить человека любить Себя” и “Всякая великая любовь обречена на распятие”. Евдокимову было особенно близко то видение Бога, которое мы находим у Николая Кавасилы, византийского мирянина XIV века, гуманиста, литургиста и духовного мыслителя: высшее доказательство любви – страдать и умереть за тех, кого любишь; положить жизнь за друзей своих, как сказано в Евангелии; но Бог, заключенный в Свою трансцендентность, не мог предоставить нам этого доказательства Своей любви, и Он “изобретает” совершенно немыслимое уничтожение на кресте, дабы привлечь к Себе тех, кто бежит от Него в отчаянии и страхе. “Безумная любовь” Бога к человеку стала центром мысли и молитвы Евдокимова. А также то, что вначале от человека не требуется любить Бога, но лишь помнить о том, что Бог его любит, что Он возжелал сотворить из человечества матерь Свою, дабы сделаться “высшей обителью человеческих любовей”. А также то, что Божье молчание равнозначно Его любви, ибо этот нищенствующий Бог смиренно ждет пред дверью нашего сердца, чтобы мы отворили Ему в царственной свободе. И вот тогда пробуждается человеческое сердце, и жизнь, более просторная, чем его собственная, начинает расти в нем. Спасение любовью – это были, наверное, последние слова Евдокимова на пороге молчания.
Из книги “Другое солнце. Духовная автобиография”[423]
Содержание
Иллюстрации (фрески церкви Успения Пресвятой Богородицы на Волотовом поле близ Новгорода[424], XIV в.)
Стр. 14 – Нерукотворный образ на убрусе (над восточной подпружной аркой).
Стр. 22 – Богоматерь Знамение (замок западного свода).
Стр. 74 – Архангел Михаил (замок южного свода).
Стр. 154 – Пророк Давид (южная подпружная арка).
Стр. 217 – Сошествие Святого Духа (фрагмент). Изображение голубя на небесах (восточный люнет).
Стр. 220 – Крест (западная подпружная арка).
П. ЕВДОКИМОВ “ЭТАПЫ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ”
Павел Николаевич Евдокимов (1901–1970) – виднейший представитель русского зарубежного православного богословия “второй волны”, профессор Свято-Сергиевского богословского института в Париже. В своих книгах Достоевский и проблема зла (1942), Женщина и спасение мира (1958), Православие (1959), Таинство Любви (1962), Богословие красоты (1970) синтезировал лучшие достижения русского религиозного возрождения и, опираясь на обширное наследие православного предания, обобщил их в свете духовных проблем и поисков современности.
Этапы духовной жизни (1964) – одна из наиболее известных книг Павла Евдокимова. Согласно Евдокимову, каждый человек в своем духовном пути должен повторить духовный путь всего человечества. В своей книге он делает попытку сделать доступными современному человеку главные вехи этого пути.
Отталкиваясь от современной ситуации в мире, объятом атеизмом, он начинает с того, что показывает, что есть вера и напоминает основные составляющие духовной жизни. Жизнь эта требует от человека постоянного усилия для преодоления себя и аскетической практики, которая касается не только монахов, но предполагает существование единого призвания к “внутреннему монашеству”. Несколько страниц об истории развития духовности на Востоке и на Западе предваряют рассказ о “харизмах духовной жизни”, где основное место отведено молитве. Благодаря Павлу Евдокимову мы лучше узнаем православную традицию, представленную здесь с искренней убежденностью, красноречием и ясностью.
Книга Этапы духовной жизни – лучшее введение в соцветие великих духовных течений Византии, Сирии, Египта и России. Средоточием книги является попытка наметить некий духовный метод – аскезу, которая была бы одновременно традиционна и созвучна нашему времени.
“Этапы духовной жизни – возможно, самое важное произведение Павла Евдокимова, наиболее способное своей напряженностью по-настоящему взволновать ищущего читателя, повернуть к Богу сомневающееся сердце. Евдокимов достигает здесь вершины мастерства. В свете поисков и тревог современного Запада он показывает самое устойчивое и плодотворное в православной духовности, можно сказать, самую её суть”.
Оливье Клеман
Примечания
1
По-французски книга называется Les Âges de la vie spirituelle. Слово Âge может означать как определенный возраст в жизни человека, так и историческую эпоху, век. Русское “возраст”, которым обычно переводят это слово, не передает того диапазона, на котором и основано заглавие книги. Поэтому мы переводим его нейтральным словом “этап”. – Прим. пер.
(обратно)2
О. Виталий Боровой. Свидетельство в Русской церкви //SOP. 1979. Sept.-okt. № 41. P. 18.
(обратно)3
Прп. Иоанн Лествичник. Лествица XXX, 5.
(обратно)4
PG 44, 801 A.
(обратно)5
PG 44, 377 B; 1028 D.
(обратно)6
PG 6, 1025 B
(обратно)7
Прп. Макарий. Духовные беседы.
(обратно)8
Каллист. PG 147, 860 B.
(обратно)9
См. R. Otto. Le Sacre. Paris, 1929. P. 22.
(обратно)10
Динамическое существование или действие, вызванное непроизвольным актом воли. Этот термин ввел Рудольф Отто, впоследствии его использовал Юнг и др. – Прим. ред.
(обратно)11
Человек, объявляющий себя Богом, – соблазн для евреев; Бог, ставший человеком, – безумие для эллинов. Ветхий завет знал Бога, но он закрыт для идеи Бога страждущего; эллинские мистерии знали образ бога страждущего, но не знали Бога. Новозаветное откровение включает и то, и другое.
(обратно)12
“Мы послушаем тебя об этом еще раз” (Деян 17:32).
(обратно)13
Имеется в виду, что в западной традиции средние века называются “темными” (ср. напр. англ. “dark ages”). – Прим. ред.
(обратно)14
Термин “атеизм” “соответствует скорее религиозной полемике, нежели философской дискуссии, из которой он вскоре исчезнет” (Voc.phil. / De Lalande. P. 88). В неопозитивизме не существует никакого знания, соответствующего слову “Бог”, метафизические проблемы тут вообще лишены смысла.
(обратно)15
Telos по-гречески одновременно означает и “цель”, и “конец”, т. е. достижение цели воинствующим атеизмом означает и завершение его собственного существования. – Прим. ред.
(обратно)16
Можно предположить, что люди, утверждающие, что человек произошел от обезьяны, – действительно происходят от нее, а те, что заявляют себя рожденными от Отца Небесного, являются детьми Божьими. Можно также предположить, что в самой низкой точке своего падения человек породил обезьяну.
(обратно)17
“Из всех тел, взятых вместе, нельзя выдавить малейшей мысли: это невозможно и принадлежит к другому порядку. Из всех тел и всех умов нельзя извлечь малейшего движения истинной Любви: это невозможно и другого порядка – сверхъестественного” (Цит. по: Арсеньев Н. О жизни преизбыточествующей. Брюссель, 1966. С. 241–242). – Прим. пер.
(обратно)18
P. Frank. Einstein, sa vie et son temps.
(обратно)19
X.L. de Broglie. Continu et discontinu. P. 98.
(обратно)20
Presence Totale.
(обратно)21
Obstacle et Valeurs; Le Devoir.
(обратно)22
Габриель Марсель.
(обратно)23
Т.е. переход в превосхождение, трансцендирование. – Прим. ред.
(обратно)24
См. диалектику Кириллова в Бесах Достоевского.
(обратно)25
См. Holzwege. Ist Gott tot?
(обратно)26
Phenomenologie de la perception. P. XIV (Феноменология восприятия). Согласно Евангелию, именно Истина, Смысл, делает человека свободным.
(обратно)27
Die Beziehungen der Psychotherapie zur Seelsorge. P. 16.
(обратно)28
“…Для того, кто им владеет, это великое сокровище, источник
жизни, смысла и красоты… вы можете спокойно сказать: «Это была милость Господня»” (Юнг К. Психология и религия // Архетип и символ. М., 1991. С. 192–193). – Прим. ред.
(обратно)29
Гомилии на книгу Левит VII, 2.
(обратно)30
Ответ Иову. 3 Autour de ma foi. 1948. P. 56.
(обратно)31
Св. Иустин видит в процессе Сократа прообраз суда над Иисусом.
(обратно)32
Мысли 225.
(обратно)33
“У святого Бог говорит из глубины души” (Добротолюбие).
(обратно)34
См. Peguy. Porche du Mystеrе de la deuxiеme vertu. (Euvres competes.
P. 175.
(обратно)35
См. мою работу L'aspect apophatique de l'argument de saint Anselme.
//Spicilengium Beccense. 1959 (Апофатический аспект аргумента св. Ансельма).
(обратно)36
См. Св. Иустин. О Воскресении. – Прим. ред.
(обратно)37
Lettre a Mlle de Roannez. Oct. 1656.
(обратно)38
Николай Кавасила. Семь слов о лсизни во Христе IV, 17–21.
(обратно)39
Выражение св. Григория Назианзина, который созерцает Агнца, закланного прежде Воплощения, и настойчиво говорит о страсти бытия, бесстрасстной по определению.
(обратно)40
О покрывале Моисея.
(обратно)41
Пророк из Пепузы – Монтан; здесь – образ сектантства. – Прим. ред.
(обратно)42
“О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои
голубиные” (Песн 1:14). Уже очень рано этот библейский образ стали относить к Св. Духу, сошедшему на Христа в виде голубя. – Прим. ред.
(обратно)43
Догматические поэмы.
(обратно)44
Ангелиус Силезиус; ср. Пс 41: “Бездна бездну призывает…”
(обратно)45
Бл. Августин. Исповедь I, 1, 1.
(обратно)46
Николай Кавасила. Цит. соч. II, 160–163.
(обратно)47
Тропарь деве-мученице.
(обратно)48
Иоганн Таулер из Страсбурга (1300–1361). Немецкий мистик и проповедник, последователь Мейстера Экхарта. Делал акцент на проявлении христианского духа в повседневной жизни. – Прим. ред. Цит. по: Arnold. La Femme dans l’Eglise. Paris, 1955. P. 59.
(обратно)49
Исповедь III, 6, 11.
(обратно)50
См. L. Massignon. La passion d'Al Hallaj. Paris, 1922.
(обратно)51
Св. Симеон. Начало божественных гимнов (PG 120, 509).
(обратно)52
L. Lavelle. La Parole et L'Ecriture. P. 133, 144.
(обратно)53
Die Beziehungen der Psychotherapie zur Seelsorge. P. 16.
(обратно)54
“Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога»” (Пс 13:1).
(обратно)55
Ср. в синодальном переводе: “Вот, я кричу: обида! и никто не
слушает; вопию, и нет суда” (Иов 19:7). – Прим. пер.
(обратно)56
Учение о пользе и нравственной ценности страдания. – Прим. ред.
(обратно)57
Ср.: “…Чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближне
му своему” (Иер 34:17). – Прим. ред.
(обратно)58
Начало божественных гимнов.
(обратно)59
Revue Contacts. 35–36. P. 248.
(обратно)60
Собеседования египетских подвижников. Авва Моисей VII.
(обратно)61
Николай Кавасила. Цит. соч. II, 42.
(обратно)62
Прп. Исаак Сирин. Поучения XLI.
(обратно)63
См. Изречения египетских отцов 253.
(обратно)64
Ср. Рим 12:5. Апостол подхватывает здесь слова беса: существо,
разъятое злом на части, на легион, – дурное множество.
(обратно)65
Esse (лат.) – бытие, существование.
(обратно)66
1 Кор 16:22; Откр 22:20; Дидахе XVI.
(обратно)67
См. O. Culmann. Le Culte dans l’Eglise primitive. Paris, 1945.
(обратно)68
Св. Игнатий Антиохийский. Послание к римлянам VII, 3; По
слание к ефесянам XIV, 1.
(обратно)69
Послание к ефесянам XX, 2.
(обратно)70
J. DaniElou. Eucharistie et Cantique des Cantiques. Irenikon, 1950. P. 275.
(обратно)71
Hиколай Кавасила. Цит. соч. IV, 4.
(обратно)72
Св. Иоанн Златоуст. Беседы на Ефес I, 3, 2–3 (PG 62, 26).
(обратно)73
Дидахе X, 2–3.
(обратно)74
Дидахе XIV, 1.
(обратно)75
Ф.М. Достоевский. Бесы. Это слова Кириллова из разговора с Петром Степановичем (ч. III, гл. 6); последняя фраза – его же разговора со Ставрогиным (ч. II, гл. 1).
(обратно)76
Группу аскетов называли synodia, караван.
(обратно)77
О лсизни Моисея Законодателя II, 45.
(обратно)78
Достоевский. Бет. Глава “У Тихона”.
(обратно)79
Соф 2:15 (ср. Ис 47:10), Иез 28:2.
(обратно)80
Ин 8:44. Самаритянский кодекс читает в Быт 3:2 вместо “змей”
– “лжец”, что согласует его с Ин 8:44.
(обратно)81
Выражение Афанасия Великого, повторенное бл. Августином
в Исповеди (VII, 10 и 16), – см. Л. Успенский. Богословие иконы Православной Церкви. Гл. Смысл и содержание иконы. Прим. 10.
(обратно)82
Св. Варсануфий. Письма. См. Преп. отцев Варсануфия Великаго и
Иоанна руководство к духовной глсизни, в ответах на вопрошения учеников 786 (М, 1995. С. 463).
(обратно)83
См. Св. Андрей Критский. Великий покаянный канон.
(обратно)84
Проницательный ум Дизраэли различал три степени лжи: ложь,
отъявленную ложь и статистику. (Дизраэли (1804–1881) – премьер-министр Великобритании, писатель. – Прим. ред.)
(обратно)85
Т.е. вывел за Собою пленных. – Прим. ред.
(обратно)86
См. Непорочны Великой субботы, статия первая.
(обратно)87
Стихиры на хвалитех.
(обратно)88
См. Непорочны Великой Субботы.
(обратно)89
Св. Григорий Нисский. Большое огласительное слово XXIV (PG
45, 65 A).
(обратно)90
Навечерие Богоявления, стихира на Шестом часе.
(обратно)91
1-й ирмос 2-го канона на Утрене Богоявления Господня.
(обратно)92
Трехдневный промежуток, трехдневие (лат).
(обратно)93
Св. Кирилл Иерусалимский. PG 33, 1079.
(обратно)94
Св. Кирилл Иерусалимский. Поучения огласительные III, 8 (PG 33, 441 B).
(обратно)95
Homelie sur la vision de Jacob a Bethel n. 95.
(обратно)96
Гимн XI, 2.
(обратно)97
Из службы поклонения Кресту.
(обратно)98
Pseudo-Hyppolite, n. 55.
(обратно)99
Descensus и ascensus (лат.) – нисшествие и восшествие.
(обратно)100
См. J. Danielou. Theologie judeo-chretienne. P. 312.
(обратно)101
Ориген. Толкование на Ев. от Матфея.
(обратно)102
Деян 2:35; Пс 109 (“подножие ног Твоих”).
(обратно)103
См. великопостные тропари Девятого часа.
(обратно)104
Евангелие ничего не говорит о моменте Воскресения.
(обратно)105
Вечерня Пятидесятницы, молитва коленопреклонения.
(обратно)106
Евангелие Никодима VII (XXIV), 1, 2.
(обратно)107
“Ибо из гроба днесь, яко от чертога, возсияв Христос” (стихиры Пасхи). – Прим. ред.
(обратно)108
Толкование на 1 Послание к коринфянам XL, 15, 29.
(обратно)109
Св. Иустин. Апология I, 61 (PG 6, 421).
(обратно)110
Подобия IX, 16, 5—17.
(обратно)111
Строматы II, 9, 43.
(обратно)112
Вечерня Пятидесятницы, коленопреклоненные молитвы.
(обратно)113
Кенозис – смирение, уничижение, покров смиренномудрия, скрывающий божественность Слова в Его Воплощении (Фил 2:7).
(обратно)114
Прп. Исаак Сирин. Поучения XVIII (PG 34, 5440). Ср.: Ориген.
О началах III, 6, 5; Св. Григорий Нисский. Большое огласительное слово XXVI, 5, 9; Толкование на Послание к ефесянам III, 10 из Амврозиастра. (Амврозиастр – сборник толкований, в средние века приписывавшийся св. Амвросию Медиоланс-кому. – Прим. ред.)
(обратно)115
Толкование на 118-й псалом (PL 15, 1502).
(обратно)116
Rene Khawam. Propos d’amour des mystiques musulmans. P. 1960.
(обратно)117
Архим. Софроний. Старец Силуан. Москва – Минск, 1991. С. 41.
(обратно)118
См. Arch. Spiridon. Mes missions en Siberie. Paris, 1950. P. 44. (Так
же: Архим. Спиридон. Из виденного и перемситого. Рига, 1993. – Прим. ред.)
(обратно)119
Увещание к мученичеству.
(обратно)120
Прп. Максим Исповедник. Послание к Иоанну Кубикуларию о любви
(PG 91, 401 D).
(обратно)121
“Ныне силы небесныя с нами невидимо служат…” – тропарь входа
Литургии преждеосвященных даров. – Прим. ред.
(обратно)122
См. Von Balthasar. Dieu et l’homme l’ aujourd’ hui. Paris, 1958.
(обратно)123
Цит. по: Von Balthasar. Op. cit. P. 245.
(обратно)124
Кафолический – всеобщий, относящийся ко всему. В Символе
веры переведено словом “соборный”. – Прим. ред.
(обратно)125
Мелкобуржуазный, мещанский (нем.). – Прим. ред.
(обратно)126
Олсидание Бога (L’Attente de Dieu. P. 87).
(обратно)127
Sommes-nous en revolution. 1958. P. 45.
(обратно)128
“Все вещи – под залог огня, и огонь – под залог всех вещей”
(Гераклит). – Прим. ред.
(обратно)129
Таково мнение св. Ефрема, св. Иоанна Златоуста, св. Амвросия,
св. Августина, св. Иеронима.
(обратно)130
См. Lelong. Saint Jean parmi nous. Paris, 1961. P. 138.
(обратно)131
Ин 1:5. Вульгата переводит: “тьма не приняла его” – non compre-
henderunt; Восток же, следуя Оригену, переводит “тьма не победила его”. Оба перевода верны: сопротивление тьмы и непобедимость света.
(обратно)132
Чудесная тайна (лат.). – Прим. ред.
(обратно)133
Прп. Максим Исповедник. Вопросоответы к Фалласию XLII (PG
90, 408 D).
(обратно)134
Митр. Филарет Московский.
(обратно)135
Т.е. Парусит, Второе пришествие Христа.
(обратно)136
О девственности LV.
(обратно)137
Странник (лат).
(обратно)138
Гомилии XVIII, 7.
(обратно)139
Лествица XXIX.
(обратно)140
“Пасущиеся” (boskoi) – одна из форм первоначального сиро-месопотамского отшельничества. – Прим. ред.
(обратно)141
Лествица XVIII, 6.
(обратно)142
A.J. Wensinck. Mystic treatises by Isaac of Nineveh. P. 115.
(обратно)143
A.J. Wensinck. Цит. соч. P. 343.
(обратно)144
Apophtegmata Patrum. Josephus VII (PG 65, 229 C D).
(обратно)145
Высказывание П. Руссело по поводу книги Ж. Лакарьера Люди,
опьяненные Богом. Автор книги представляет неоценимый подбор фактов и текстов, однако сам остается в стороне и не дает никакого “современного” комментария к этой драматичной главе христианской духовности. Он не высказывает никакого суждения, будучи строго “объективным”, однако подобная позиция двусмысленна, и за ней читается молчаливое осуждение. В этом вопросе всегда поучительно вникнуть, например, с Алдусом Хаксли в биохимическое воздействие ограничений, упражнений типа “я убиваю свою плоть, потому что она убивает меня”, повышенной температуры или отсутствия света или сравнить христианских исихастов с индийскими йогами, практикующими дыхательные упражнения: уменьшая дыхание, они снижают износ сердца. Все эти феномены встречаются как в Гималаях, так и в Фиваиде, основываясь на одних и тех же методах, которые, однако, не могут служить объяснением сами по себе. Биохимические процессы являются естественной реакцией организма: использованные в аскезе, они могут максимально облегчить проявления духа. Но всякий освоенный технический прием останавливается на пороге трансцендентного; такова “Иисусова молитва”. Критический разум может описать этот порог, но он не властен пройти дальше – туда, где он более неприложим и ничего не объясняет.
(обратно)146
Название превосходного издания P. FestugiEre.
(обратно)147
Послание к ефесянам XV, 2.
(обратно)148
Духовным беседы!..
(обратно)149
Они суть живые комментарии к Мк 1:13.
(обратно)150
О прескрипции (против) еретиков VII.
(обратно)151
Диадох Фотикийский. Главы о духовном очищении XXXIII.
(обратно)152
Лествица VIII, 25.
(обратно)153
Прп. Исаак Сирин. Sentences L.
(обратно)154
Проекция (от projectio (лат.) – бросание вперед, выбрасывание) в психологии – восприятие собственных психических процессов как свойств внешнего объекта. – Прим. ред.
(обратно)155
Прп. Макарий. Духовные беседы XLIII, 2 (PG 34, 776 D).
(обратно)156
Св. Филофей Синаит. Главы о трезвении I, 4.
(обратно)157
Евагрий. Слово о молитве 113.
(обратно)158
Ed. de dom Butler. P. 31, 40.
(обратно)159
Кассиан. Собеседования египетских подвижников II, 16.
(обратно)160
I. Hausherr. Saint Syme'on le N.T. / Orientalia Christiana, XII. P. XXX.
(обратно)161
О созерцательной жсизни X (PG 150, 1324).
(обратно)162
Евагрий. Слово о молитве 114–116.
(обратно)163
Евагрий. Слово о молитве 61.
(обратно)164
Прп. Максим Исповедник. Слово о подвижнической жизни XXX
(PG 20, 936 A В).
(обратно)165
Подобия Х, 3,4.
(обратно)166
Духовные беседы VIII, 6.
(обратно)167
PG 35, 593 C.
(обратно)168
Послание к римлянам V, 3; VI, 2.
(обратно)169
Послание к филиппийцам I, 1.
(обратно)170
Октоих.
(обратно)171
Le Corps du Christ vivant // La Sainte Eglise universelle. P. 56.
(обратно)172
Беседы на Евр VII, 4.
(обратно)173
Ср. Pourbat. La Spiritualite chretienne I, IX.
(обратно)174
Евагрий. PG 79, 180 D.
(обратно)175
Послание I, 167, 169.
(обратно)176
Беседы на Евр VII, 4; ср. Беседы на Ефес XX.
(обратно)177
Беседа прп. Серафима с НА. Мотовиловым о цели христианской
лсизни.
(обратно)178
Анна Гиппиус. Свт. Тихон Задонский. Париж. С. 15. (Именно
это выражение свт. Тихона П. Евдокимов перевел как внутреннее монашество. – Прим. ред.)
(обратно)179
Граду и миру (лат).
(обратно)180
Диалог с Трифоном иудеем CIII, 6.
(обратно)181
Увещание к мученичеству XXXII.
(обратно)182
Против ересей V, 20, 2.
(обратно)183
Последнее слово (лат).
(обратно)184
Т.е. получить “хлеб без пота”.
(обратно)185
Этот аспект трех искушений находится в центре Легенды о Великом Инквизиторе Достоевского.
(обратно)186
Antirrhetique. Ed. Frankenberg. P. 472.
(обратно)187
Крестоносец (греч.).
(обратно)188
Духоносец (греч.).
(обратно)189
PG 150, 1228.
(обратно)190
См. Рим 8:21.
(обратно)191
Согласно Клименту Александрийскому, таинство брака содержит “райскую благодать”. Строматы II, 23 (PG 8, 1096).
(обратно)192
На Числа XX, 2 (PG 12, 728 C).
(обратно)193
Бл. Августин. Enarr. in ps. 147.
(обратно)194
Беседы на 1 Кор XXXII, 6–7 (PG 61, 273).
(обратно)195
См. H. Corbin. Terre celeste et corps de resurrection. P. 161.
(обратно)196
Лестеица XV, 59.
(обратно)197
Песн 8:6. Здесь французский перевод не совпадает с синодаль
ным. По-русски: “Она пламень весьма сильный”. – Прим. пер.
(обратно)198
Destin de l’homme. Paris, 1931. P. 260 (О назначениии человека).
(обратно)199
Трактат Беракот из Вавилонского талмуда (т. 55) содержит сле
дующий отрывок: “Кто во сне поднимается на крышу, поднимется до высот; кто сходит с крыши – сойдет с высоты величия”. Тайное желание Сатаны – свести Сына с вершины Его божественного величия.
(обратно)200
Такое название в латинской литургической традиции имеет песнь серафимов “Свят, Свят, Свят…” – Прим. ред.
(обратно)201
Apophtegmata Patrum.
(обратно)202
PG 65, 363; 65, 564.
(обратно)203
PG 65, 224.
(обратно)204
Directeur de conscience (фр.) – так в западной традиции называют духовника. – Прим. ред.
(обратно)205
См. Recherches de science religieuse. T. 41. 1953. P. 526.
(обратно)206
Авва Пимен Великий говорил: “Воля человека (падшего) есть медная стена между ним и Богом”. – Прим. пер.
(обратно)207
Добротолюбие. Т. 3. С. 379–380.
(обратно)208
Vitae Patrum VII, 19, 6.
(обратно)209
У Марка Подвижника есть такие слова: “Подвиг христианина после крещения состоит единственно в делах веры и свободы” (PG 65, 985).
(обратно)210
Ориген. In Ioann I, 1, 25 (Толкование на Иоанна).
(обратно)211
Человек душевный (лат.)
(обратно)212
Человек духовный (лат.)
(обратно)213
Об устроении человека XI (PG 44, 155).
(обратно)214
Прп. Максим Исповедник. PG 91, 1312 A B (Ambiqua).
(обратно)215
A. Resch. Agrapha. 150. (Это изречение приводит без ссылки Ориген в Гомилиях на Иеремию III, 3, оно же дословно повторено в хемобоскионском Евангелии от Фомы 86. – Прим. ред.)
(обратно)216
Лествица I, 27.
(обратно)217
Евагрий. Слово о молитве CXXII.
(обратно)218
См. нашу работу Saint Seraphim of Sarov //The Ecumenical Review. 1963. Avr.
(обратно)219
Paul Evergetinos. Synagoge Rematon. Const. 1861. I. P. 75, c. 2.
(обратно)220
Слово о молитве VII.
(обратно)221
Там же. VIII.
(обратно)222
Прп. Максим Исповедник. Мистагогия XV.
(обратно)223
Св. Исаак. Слова подвижнические XLVIII.
(обратно)224
Добротолюбие. Т. II. С. 617 (Подвижснические наставления аввы Дорофея XLII).
(обратно)225
Ориген. Hom. in Luc 20 (Гомилии на Лк).
(обратно)226
Прп. Максим Исповедник. Вопросоответы к Фалассию I, 54 (16);
PG 90, 512 D.
(обратно)227
Еп. Игнатий Брянчанинов. Творения. Т. 1. С. 619.
(обратно)228
Марк Подвижник. PG 65, 929.
(обратно)229
Так в Септуагинте. – Прим. пер.
(обратно)230
Св. Амвросий. PL 15, 1502.
(обратно)231
Св. Ефрем Сирин. Цит. по: Г.В. Флоровский. Восточные отцы IV в. С. 232.
(обратно)232
Добротолюбие. Т. 5. С. 121–122.
(обратно)233
Св. Исаак. Поучения XXXIV.
(обратно)234
PG 65, 77 B.
(обратно)235
PG 65, 396.
(обратно)236
Добротолюбие. Т. 5. С. 330. Каллист и Игнатий Ксанфопулы в Наставлении для безмолвствующих цитируют св. Исаака.
(обратно)237
См. нашу работу Женщина и спасение мира.
(обратно)238
В Трех разговорах.
(обратно)239
Аскетическая поговорка, восходящая к св. Игнатию Антиохийскому (Послание к римлянам IV, 1).
(обратно)240
О девстве XII (PG 46, 373).
(обратно)241
Строматы III, 17.
(обратно)242
Свт. Григорий Палама. Гомилия LI, 6.
(обратно)243
PL 49, 162.
(обратно)244
Авва Дорофей. PG 88, 164 °C (Поучения I).
(обратно)245
102-е правило.
(обратно)246
Евагрий. Сотницы VI, 52.
(обратно)247
Церковная история VII, 16 (PG 67, 1460).
(обратно)248
Chap. theol. I, 35–36 (Главы богословские, умозрительные и практические).
(обратно)249
Acedos (лат.) – мрачный, угрюмый. – Прим. ред.
(обратно)250
Знаменитый ирландский миссионер VI в. Основатель монасты
рей в Галлии. – Прим. ред.
(обратно)251
Главная часть монашеского правила есть усмирение плоти (лат.)
(обратно)252
Молитвенное чтение Священного писания (лат.)
(обратно)253
Бедные с бедным Христом (лат.)
(обратно)254
Орден кальмадолийцев (кальмадулов) возник в Италии в X в., а кар
тезианцев — в XI в. во Франции, во многом под влиянием первых. – Прим. ред.
(обратно)255
Немецкий мистик XIV в., ученик Мейстера Экхарта. – Прим. ред.
(обратно)256
Новое благочестие (лат.). – Прим. ред.
(обратно)257
Янсенизм – течение в католицизме, порожденное книгой Августин епископа Янсения (1585–1638), развивавшей идеи бл. Августина о порочности человеческой природы, предопределении и спасении благодатью. Главой янсенистского движения стал Дювержье де Оран, аббат Сен-Сиранского монастыря, организовавший янсенистскую общину при женском монастыре Пор-Рояль, куда входили Блез Паскаль, братья Арно и другие видные люди Парижа. Движение вызвало резкую реакцию со стороны иезуитов, которые добились того, что янсенизм был объявлен ересью. – Прим. ред.
(обратно)258
Квиетизм (лат. quies – покой) – направление в католицизме кон. XVII – нач. XVIII вв. Связывается с именами испанского каноника Мигеля Молиноса, г-жи Гюйон и аббата Фенелона. Цель духовной жизни в квиетизме – совершенное мистическое молчание и покой души, в котором Бог беседует с душой и сообщается ей. – Прим. ред.
(обратно)259
Маргарита-Мария Алакок (1647–1690) – учредительница культа “Святого Сердца Иисуса”, канонизирована в 1864 г. – Прим. ред.
(обратно)260
К монахам, лсивущим в киновии (Зерцало иноков и инокинь) 121.
(обратно)261
Послание к ефесянам XX, 2.
(обратно)262
Новой жизни (лат).
(обратно)263
Путник, паломник (лат.)
(обратно)264
См. св. Василий Великий. Правила, пространно изложенные в
вопросах и ответах XXXVII (Asceticon magnum, fus.).
(обратно)265
Слово о духовном делании (Практик) II, 57.
(обратно)266
Коптское жситие св. Пахомия.
(обратно)267
Кассиан. Собесеедования IX.
(обратно)268
Apophtegmata Patrum. PG 65, 241. См. Dom Stolz. L’ascese chre-
tienne. Р. 8.
(обратно)269
Райской лестницы (лат).
(обратно)270
Поучения огласительные XVI, 12.
(обратно)271
Слово о молитве.
(обратно)272
Беседа о цели христианской жизни.
(обратно)273
Wensinck. Op. cit. P. 202.
(обратно)274
Сотницы VI, 52. См. Юнг. Психологические типы, параграф 174. Юнг цитирует Синезия, епископа Птолемаиды, для которого воображение есть среднее между вечным и временным и мы живем главным образом благодаря ему.
(обратно)275
Аскеза очищает воображение и затем направляет его на то, что находится за пределами образа. Таково высшее назначение православной иконы – она поднимает духовный взгляд до собственного апофатического предела.
(обратно)276
Образ Божий (лат). – Прим. пер.
(обратно)277
См. Kristian Schjelderup. Die Askese. Berlin, 1928.
(обратно)278
См. Baudouin. Psychanalyse de l’Art.
(обратно)279
Прп. Макарий. Духовные беседы XV, 20.
(обратно)280
Добротолюбие. Т. 3. С. 372.
(обратно)281
Кассиан. О постановлениях киновитян. PL 49, 161–162.
(обратно)282
См. Revue des Scienses Religieuses. 1963. 41. Р. 526.
(обратно)283
Военный летчик.
(обратно)284
Прп. Макарий. PG 34, 761; Авва Дорофей. PG 88, 1780.
(обратно)285
Wensinck. Op. cit. P. 341.
(обратно)286
Евагрий. PG 79, 1193 C.
(обратно)287
Огласительные слова VIII, 56–64 (Sourses chretiennes 104).
(обратно)288
Св. Игнатий Антиохийский. Послание кмагнезийцам VIII, 2. (Так у Евдокимова. В греческом тексте у Миня (и в русском переводе): “Слово изошло от Отца не в молчании”. – Прим. ред.).
(обратно)289
Св. Василий Великий. Правила, кратко изложенные в вопросах и ответах CCVIII (Asceticon magnum, brev.).
(обратно)290
О молитве 114–116.
(обратно)291
О созерцательной жизни X.
(обратно)292
Vita patrum. PL 73, 932 BC.
(обратно)293
Прп. Макарий. PG 34, 776.
(обратно)294
Лествица I, 27.
(обратно)295
Прп. Исаак Сирин. См. Wensinck. Op. cit. P. 340, 187.
(обратно)296
PG 34, 757 A.
(обратно)297
PG 65, 8 °C.
(обратно)298
Духовные беседы XXVII (PG 34, 701 D).
(обратно)299
Apophtegmata Patrum.
(обратно)300
Лествица VII, 70.
(обратно)301
PG 94, 976 A.
(обратно)302
Св. Исаак. См. Wensinck. Op. cit. P. 310.
(обратно)303
Lettre 185.
(обратно)304
PG 65, 396.
(обратно)305
Слова подвижнические XLVIII.
(обратно)306
Baudoin. Etudes Carm. 1947. Р. 183.
(обратно)307
Цит. по: O. Clement. L’Eglise Orthodoxe. Paris, 1961. Р. 122.
(обратно)308
Т.е. постоянной памяти о смерти. – Прим. ред.
(обратно)309
La Force de l’ age.
(обратно)310
Исповедь IV, 4.
(обратно)311
PG 13, 1777. Икона Распятия представляет череп Адама у подножия Креста. В приделе Адама в храме Гроба Господня в Иерусалиме есть надпись: “Место черепа стало раем”.
(обратно)312
Бернанос. Дневник сельского священника. М., 1993. С. 144.
(обратно)313
Постскриптум II.
(обратно)314
Capita centum XCIV (Сто глав о духовном совершенстве).
(обратно)315
Мера за меру. Акт II.
(обратно)316
Лествица XXVIII, 9-10.
(обратно)317
PG 34, 249.
(обратно)318
Беседа с Мотовиловым о цели христианской жсизни.
(обратно)319
Ориген. PG 11, 452 C D; Свт. Василий. PG 31, 244 A.
(обратно)320
Св. Иоанн Дамаскин. PG 94, 1089.
(обратно)321
Кассиан. Собеседования IX. 31.
(обратно)322
В Великой ектенье на дьяконские прошения народ отвечает: “Господи, помилуй”, в Просительной – “Подай, Господи”, а на возгласы: “Сами себя и друг друга Христу Богу предадим” и “Главы ваши пред Господом преклоните” – “Тебе Господи”. – Прим. ред.
(обратно)323
См. La priere de Jesus / Un moine de L’Eglise d’Orient (Иисусова
молитва / Монах восточной церкви) Chevetogne, 1951; а также: Рассказ русского паломника. Neuchatel, 1948.
(обратно)324
Имя есть знамение (предзнаменование) (лат). – Прим. ред.
(обратно)325
Пастырь. Подобия, IX, 14.
(обратно)326
Преп. отцов Варсануфия и Иоанна руководство к духовной жиз
ни 301.
(обратно)327
Лествица XXI, 7.
(обратно)328
Чудес Божиих (лат.'). – Прим. ред.
(обратно)329
Домашнюю церковь (лат).
(обратно)330
Св. Иоанн Златоуст. Беседы на Деяния XXVI, 3–4.
(обратно)331
Apophtegmata Patrum.
(обратно)332
In Num. hom. XXV, 2 (Беседы на книгу Чисел).
(обратно)333
PG 12, 743 B.
(обратно)334
“Но Сам Он склонился к земле и нашел свой образ” (Николай
Кавасила. Цит. соч. I, 39).
(обратно)335
Собрание писем оптинского старца иеросхимонаха Амвросия. Ч. I. 88.
(обратно)336
О. Clement. Temoignage de la foi // Contactes. 1961. № 35–36. P. 246.
(обратно)337
Там же.
(обратно)338
Добротолюбие. Т. 2. С. 584.
(обратно)339
Св. Исаак. Wensinck. Op. cit. P. 299, 62.
(обратно)340
Зерцало иноков и инокинь IV (Увещание к девственнице).
(обратно)341
Беседы на Мф II, 5.
(обратно)342
Беседы на Быт VI, 2.
(обратно)343
Беседыы на Ефес XXI, 2–3.
(обратно)344
P.G. 13, 166.
(обратно)345
Душой церковной (лат.) – Прим. пер.
(обратно)346
Строматы I, 20.
(обратно)347
PG 19, 213.
(обратно)348
Поучения XXX.
(обратно)349
Св. Симеон. Беседа о Писании. PG 120, 385.
(обратно)350
Пастыерь. Видения II, 1–4.
(обратно)351
“Посреде двою разбойнику мерило праведное обретеся Крест
Твой: овому убо низводиму во ад тяготою хуления, другому же, легчащуся от прегрешений, к познанию богословия. Христе Боже, слава Тебе” (великопостные тропари Девятого часа). – Прим. пер.
(обратно)352
Изъяснение Божественной Литургии XX, 1; XXII, 2.
(обратно)353
Семь слов о лсизни во Христе. PG 150, 501 A.
(обратно)354
Диалог с Трифоном иудеем XCI, 94.
(обратно)355
Послание к Марцеллину об истолковании Псалмов 33 (PG 27, 45).
(обратно)356
Исповедь II, 2.
(обратно)357
Строматы I, 1.
(обратно)358
PG 13, 130–134. См. также: Св. Иоанн Златоуст. На книгу
Бытия VI, 2; Св. Григорий Назианзин. Oratio XLV, 16.
(обратно)359
Толкование на Мф LXXXIV (P.G. 13, 1734).
(обратно)360
In Eccles III, 13.
(обратно)361
См. например, молитву перед чтением Евангелия в литургии
апостола Марка: “Фимиам приносим пред святою славою Твоею, Боже, принимающий (его) на святой и вышенебесный Твой жертвенник. Воздай нам ниспосланием благодати Святого Твоего Духа; ибо Ты благословен. Ты пошли славу Твою…” – Прим. пер.
(обратно)362
На Матфея XIV.
(обратно)363
Ерм. Пастырь. Подобия VIII, 6, 7.
(обратно)364
Там же. X, 4.
(обратно)365
Дела (вещи) божественные и дела человеческие – термины юстиниановской теории “симфонии”. – Прим. пер.
(обратно)366
Дела и страдания Христа во плоти (лат).
(обратно)367
Конгрегационализм – течение в протестантизме, возникшее в Ан
глии в конце XVI в. Делая акцент на всеобщем священстве, упраздняет епископат, исповедует принцип полной вероучительной и организационной независимости каждой общины-конгрегации, которая сама выбирает и смещает клир. – Прим. пер.
(обратно)368
Дар утверждения истины (лат). – Прим. пер.
(обратно)369
В Новом Завете термины EploKOPOj и ppeoß^tepoj употребляются
для обозначения особого служения (клир), а слово ieperij сохранено для обозначения священства верных. Это греческое слово обозначало иудейское священство. Христос упразднил священство как особую касту, все христиане стали иереями, священниками царского и всеобщего Священства.
(обратно)370
Послание к магнезийцам III, 1.
(обратно)371
Апостольское предание XXII.
(обратно)372
PC, 33, 1012 A В.
(обратно)373
PG 33, 996, 1009.
(обратно)374
Так у Евдокимова. В Чине миропомазания и мироосвящения, из данном московским Печатным двором в 1624 г., эта часть молитвы звучит так: “…да будут Тебе люди изрядны, царско священие, язык свят, знаменаны пречистым Ти миром сим и имеющим Христа Твоего в сердцах своих в жилище Тебе Бога и Отца о Святем Дусе”. – Прим. пер.
(обратно)375
Действие предохранения, защиты; употребленное здесь греческое слово ('илераолшф;) выражает идею несения щита.
(обратно)376
Гл.17 (Mansi 40, 407, 408). См. другой перевод в кн.: Догматические послания православных иерархов XVII–XIX вв. СвятоТроицкая Сергиева Лавра, 1995. С. 233. – Прим. пер.
(обратно)377
Достоин (греч). – Прим. пер.
(обратно)378
Епископство, согласно каноническому праву, совершенно не совместимо с монашеской степенью “великой схимы”.
(обратно)379
Духовные беседы XXIV, 4; XVII, 1 (PG 34, 624 B C).
(обратно)380
PG 118, 932.
(обратно)381
PG 12, 521–522.
(обратно)382
PG 44, 1149 C.
(обратно)383
PG 118, 932 C D.
(обратно)384
5 PG 124, 812.
(обратно)385
6 PG 22, 92–93.
(обратно)386
PG 65, 84.
(обратно)387
Прп. Максим Исповедник. PG 90, 913. Ср. Лк 10:19.
(обратно)388
Феноменология восприятия. (Морис Мерло-Понти (1908–1961) —
французский философ, представитель феноменологии. – Прим. пер.)
(обратно)389
Лествица XXX, 36.
(обратно)390
Николай Кавасила назвал свой трактат о таинствах Жизнь во
Христе Иисусе (рус. пер.: Семь слов о лсизни во Христе. М., 1874).
(обратно)391
Кьеркегор (Papiers. 1849. Р. 122).
(обратно)392
На Песнь Песней. Or. III (PG 44, 828).
(обратно)393
На Евангелие от ев. Луки II, 26.
(обратно)394
Николай Кавасила. Семь елов о лсизни во Хриете IV, 153, 43.
(обратно)395
Там же. II, 162–163.
(обратно)396
“В нем и вы… были запечатлены обещанным Духом Святым… для
искупления достояния, в похвалу Славы Его” (Еф 1:13–14).
(обратно)397
Точнее: “Хлеб наш завтрашний”, см. Jeremias. Paroles de Jesus.
(обратно)398
La femme pauvre (Бедная женщина).
(обратно)399
Presence du Christ / Un moine de L’Eglise d’Orient. Chevetogne,
1960.
(обратно)400
Там же. P. 36.
(обратно)401
Apophtegmata Patrum.
(обратно)402
Подобия X. 3, 4.
(обратно)403
PG 90, 936 A B.
(обратно)404
Resch. Agrapha 13.
(обратно)405
Die Religiensgeschichte und das Urchristentum.
(обратно)406
Лествица VII, 70.
(обратно)407
Св. Исаак. Поучения.
(обратно)408
Св. Исаак. Поучения CXV (Слова 21 и 89 рус. пер.).
(обратно)409
Св. Иоанн Златоуст. Толкование на 1 Кор XXVIII, 3–4, (PG 61,
273).
(обратно)410
Св. Исаак.
(обратно)411
Григорий Нисский. Против Евномия III (PG 45, 58 °C).
(обратно)412
Григорий Нисский. На песнь песней V (PG 44, 869 A).
(обратно)413
Там же. III (PG 44, 828 B C).
(обратно)414
Св. Григорий Нисский. На песнь песней IV (PG 44, 852 A B).
(обратно)415
Св. Григорий Нисский. О жсизни Моисея (PG 44, 401 A B).
(обратно)416
Св. Симеон Новый Богослов. Действие благодати I, 231—234
(Source Chretiennes 113. P. 324).
(обратно)417
Св. Исаак. (Слова подвижнические 21).
(обратно)418
Евагрий. О молитве. Заключение. См. J. Hausherr. Les lecons
d’un contemplatif. Paris. 1960. P. 187.
(обратно)419
Речь идет о Владимире Николаевиче Лосском (СПб. 1903 – Па
риж 1958), авторе книг Очерки мистического богословия Восточной церкви, Догматическое богословие и др.
(обратно)420
Как и В.Н. Лосский.
(обратно)421
“Симад” – экуменическая организация, созданная во время второй
мировой войны для помощи беженцам.
(обратно)422
Не забудем, что эти строки написаны в 1975 г. – Ред.
(обратно)423
O. Clement. L'Autre Soleil. Autobiographie spirituelle. Paris: Stock, 1976.
(обратно)424
Церковь была разрушена в годы Второй мировой войны.
(обратно)



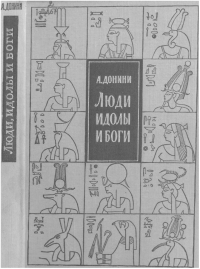
Комментарии к книге «Этапы духовной жизни. От отцов-пустынников до наших дней», Павел Николаевич Евдокимов
Всего 0 комментариев