УРОКИ СЕКТОВЕДЕНИЯ. ЧАСТЬ 2
Предисловие
«Есть две добродетели, созидающие спасение человека: вера и любовь. Если бы я видел, что вы погрешаете в чем-либо о вере, то о ней и слово повел бы я к вам, стараясь всячески направить вас на православное мудрование. Поскольку же благодатию Христовой, ваша вера здрава, то, оставя веру, поговорю с вами немного о деятельной жизни, двигателем которой должна быть любовь». Так обращается к монахам преп. Феодор Студит[152].
Я же обращаюсь не к монахам, но совсем к иным читателям. Те люди, ради которых написана эта книга, болеют именно верой — точнее, суеверием. В порыве своей совести возжаждав истины, они обратились не к Евангелию, а к мишурным книжкам карма-колы. Их души, вскормленные на тощих хлебах «атеистической духовности», и прежде были не слишком здоровы (да и «деятельной любви» их учили не так уж настойчиво). Прельщенные же оккультизмом, они лишь плотнее затянули повязки на своих глазах. Атеизм сменился язычеством. Насколько выветрилось представление о Боге из сознания людей, можно судить по такому высказыванию женщины, занимающейся вышиванием золотошвейных икон: «Я чувствую — если энергетика из Космоса сильна (я так называю вдохновение), значит, пора за работу».
Поэтому и приходится вести к таким людям слово о вере. И не просто о вере — о христианской философии.
Немало поколений подряд несется над Европой и Россией клич: сделайте христианство понятнее, говорите проще, объясните все рассудочно и без ваших «таинств» и «благодатей». Но едва только выйдет очередной катехизис, излагающий веру Церкви в популярной форме, как интеллектуальные гурманы заявляют: фи, как примитивно.
Итак, две устойчивые формулы вращаются в сознании современных людей, оправдывая их неоязыческие страсти: «Христианское богословие слишком сложно, поэтому пойдем лучше к колдунам». И — «в христианском катехизисе все слишком примитивно, поищем лучше глубину философии на Востоке».
Но есть, есть в христианстве философия. Она и глубока и логична. Но нужно приложить труд, чтобы понять как логику философии, так и логику богословия.
У языческих синкретистов есть один очень любопытный аргумент. Они заявляют, что разница между религиями — это не более чем расхождение в обрядности, а потому эзотерическая философия, уважительно относящаяся к любому символическому обряду, может быть совмещена с любым культом, то есть с любой религией. Так проповедовал еще древний гностик Валентин, который преподавал собственную авторскую мифологию, но при этом считал возможным формально оставаться христианином и участвовать в христианском богослужении[153]. По схеме гностиков, обряды — для толпы, для народа. Церковь и существует для народа. А философии в ней быть не может. Философия есть только у «посвященных». Спорить с профанами — значит унижаться. Лучше из снисхождения к толпе соблюдать ее ритуалы, и при случае выискивать среди обычных прихожан кого-нибудь, кого можно было бы посвятить в «тайны гнозиса». Исходя из таких рассуждений, «гностики не столько отрицали церковь, не столько противополагали себя ей, как заблуждающейся, сколько ставили себя над ней, признавая у себя высшие истины, а в церкви только низшие… Для них кафолическая церковь была не столько погрешающей, заблуждающейся, сколько церковью отсталой»[154].
Так думает и великое множество сегодняшних неоязычников. Уязвимость этой позиции заключается в уравнивании религии и культа. Христианство, православие — это не только обряд. У нас есть своя философия. И христианская мысль (философская и богословская) достаточно самостоятельна, достаточно разработанна, достаточно богата, чтобы отстаивать свою, целостную и продуманную систему понимания мира, человека и Бога.
Именно для того, чтобы загасить попытки разумного осмысления богословских проблем, церквеборцы заверяют своих слушателей, что у православия нет никаких аргументов, с помощью которых мы могли бы обосновать свою веру. Они с такой безапелляционностью говорят, что в Церкви нет ничего, кроме обрядности, что человеку и в голову не придет после презентации очередной карикатуры на православие обратиться к церковной литературе или к церковным богословам и спросить их: вы действительно столь примитивно понимаете Бога, мир и Писание, как нам рассказали?
Так действовали марксистские агитаторы, так работают оккультные проповедники и сектантские миссионеры. Мол, у них в Церкви только обряды, а философия — у нас. Так рождаются формулы типа «Да, в обрядоверие, в которое выродилась Русская православная церковь, Л. Толстой точно не верил»[155].
Кстати, именно в это Л. Толстой и верил. Он истово верил в обрядоверие Православной Церкви. Он глубоко верил в то, что Православная Церковь выродилась в обрядоверие. Сами же христиане верят не в обрядоверие. Они верят в благодатность обрядов; в обрядоверие же верят только журналисты (они верят в то, что Русская Церковь поражена этой болезнью)[1].
В самой же Православной Церкви времен Льва Толстого были не только нелюбезные ему «попы-требоисправители». В ней были старцы, были миссионеры, были свои мыслители. Не на обрядной же почве разошелся Лев Толстой с Владимиром Соловьевым — а именно на философской (и как разошелся: в последней книге Соловьева Толстой предстает как прямой делатель Антихристова дела!). И В. Кожевников ушел из толстовства в Церковь не потому, что храмовые обряды понравились ему больше кружковых чаепитий, а потому что философия Толстого оказалась слишком пресной и мелководной по сравнению с глубинами христианской мысли. Булгаков, Бердяев, Франк, Струве пришли из материализма в православную Церковь не потому, что не были знакомы с толстовством и не потому, что затосковали по «обряду». Они искали философию, которая могла бы объяснить человека лучше, полнее, чем марксизм иил толстовство. И нашли эту философию в Евангелии и в церковной традиции.
Различие теософии и христианства в области философии — это различие пантеизма и монотеизма. Обе традиции имеют за собой многие века и даже тысячелетия, много ярких имен (достаточно вспомнить полемику, которую вишнуиты, шиваиты, вайшнавы воспевающие личную любовь личного Бога, вели с безличностно-пантеистическим пониманием Божества).
Теософия при всей своей декларируемой терпимости, на деле не признает за религиозными традициями права на разно-мыслие. Разно-обрядность — да. Но не разно-мыслие. И это означает, что теософы просто не готовы к ведению серьезного диалога с религиями.
Диалог предполагает признание того, что мы разные, признание за собеседником права быть другим, чем я. Диалог интересен тогда, когда в собеседнике я вижу не собственное отражение, а что-то иное. И обратно: я интересен собеседнику, если говорю нечто пережитое, собственное, а не поддакиваю его тезисам. Русский богослов, живущий во Франции, Н. В. Лосский (внук философа Н. О. Лосского и сын богослова В. Н. Лосского) однажды сказал: «Я участвовал в собеседовании с иудеями, а также с мусульманами. Я спрашивал: «чего вы ожидаете от нас в диалоге?». И каждый раз получал ответ: «Чтобы вы были самими собой, чтобы вы не ставили в скобки то, что действительно является вашей надеждой, вашей верой»»[156]. Диалог есть не только умение подметить в другом что-то свое, только выраженное на другом языке, но и умение подметить и обсудить разницу.
Синкретический же путь к объединению религий — это или взаимное обеднение их всех через сведение к общему знаменателю (который оказывается равен максимуму безверия), или подгонка всех религий под некий идеал «мировой религии», рожденный в чьей-то голове. В таком случае историческое многообразие религий должно уступить место навязчивой и горделивой утопии.
Кроме того, диалог предполагает умение корректировать свою позицию и умение отвечать на вопросы собеседника. Теософы, уже более столетия занимаясь критикой церковно-христианского учения, никак не реагируют на ответы со стороны христианских мыслителей.
Уже Владимир Соловьев задал Е. Блаватской ряд очень серьезных философских вопросов[157]. Покажите мне хоть один теософский текст, серьезно отвечающий Владимиру Соловьеву.
Русские философы первой величины — о. Сергий Булгаков, С. Франк, Н. Лосский, Н. Бердяев, Л. Карсавин, о. Василий Зеньковский, А. Лосев и другие весьма критически отзывались о теософии и антропософии (их тексты приведены в главе «Невежды о теософии» в первом томе). Где серьезный ответ на приведенные ими аргументы?
Несмотря на то, что крупнейшие христианские философы выступали с критикой теософического пантеизма, теософы ни разу не заметили этой критики (точнее говоря — защиты христианского верования в Личного Бога) и ни разу не ответили. Уж жестче Бердяева никто не критиковал теософию. Вместо ответа со стороны рериховцев следует воздушный поцелуй: «крупнейший русский философ Бердяев»[158]. Так, — а если «крупнейший», то отчего же тогда рериховцы никак не реагируют на его критику теософии?[2] Как возможен «диалог», если теософы бросают обвинения в адрес христианства, но не выслушивают наших ответов.
В мире науки при защите диссертации принято, выдвинув некий тезис, выслушать возражения оппонентов и ответить на них. Ответ должен быть обоснованным и должен включать в себя реакцию на все услышанные возражения. Не со всем нужно соглашаться. Но на всё нужно отреагировать и привести научные доводы в поддержку своей позиции.
Апологеты теософии просто не замечают критических возражений, ибо по их инструкциям — «все нападки не имеют значения»[159]. Ведь они исходят от «двуногих»[3] и «космических отбросов»[160].
Как видим, за собой теософы и иные полемисты с церковью оставляют право на почти площадную ругань в адрес христиан и христианского мировоззрения[4].
Но любая попытка ответа, попытка защиты христианства вызывает у них возмущение: «как вы смеете не соглашаться с нашей критикой вас?! Почему вы так нетерпимы?!»
Терпимость и в самом деле — безусловное нравственное требование. Нельзя только путать два типа терпимости: терпимость к человеку — носителю каких-либо взглядов, и терпимость как готовность молчать при встрече с тем, что мне представляется ложью. Никто не должен принуждаться скрывать свои взгляды, нельзя человека лишить права на дискуссию. Христианин обязан терпимо относиться к атеисту, но это не значит, что он не имеет права критиковать атеистические доктрины. Христианин может терпимо относиться к оккультисту, но это не значит, что он не имеет права вступить в полемику с оккультной философией.
Итак, если действительно приступать к диалогу религий, то надо признать за каждой из них право на самозащиту, на отстаивание собственной идентичности, право отвечать на критику в свой адрес. Ни одна группа людей не может быть лишена этого права — в том числе и христиане.
Стоит сразу предупредить, что не следует ждать слишком многого от этого полемического диалога. Не следует ожидать, что его итогом будет полное и доказательное опровержение пантеизма и триумф логики, всем своим авторитетом поддержавшей христианство.
В области философии вообще не могут быть достигнуты абсолютно убедительные результаты: философия не знает аргументов, обладающих математической очевидностью. Но на философской почве можно показать, что христианство внутренне логично, что оно может оправдать свое понимание Бога, мира и человека.
Есть разные интеллектуальные операции: одно дело — доказать, другое — объяснить. Доказать — значит силой логики понудить своих слушателей к принятию именно моей позиции. Объяснить — значит привести те аргументы, которые сделали эту позицию приемлимой для меня. Объяснить — значит показать, что то или иное верование (и именно в качестве верования) значит в моей жизни, в мире моей традиции. В религии много недоказуемого, но нет ничего бессмысленного. Религиозная традиция наделяет смыслом каждый жест, каждую деталь своего обихода. Так что не всецелая доказательность разговора о религии не означает, что здесь вообще неуместен рациональный подход: поиск и изъяснение смысла того или иного религиозного установления тоже есть вполне рациональная деятельность религиоведа, философа, богослова.
И как в философии есть чередование доказуемого с тем, что только обяснимо или даже только описуемо, так и в богословии. В области богословия очевидности может быть еще меньше, чем в философии: Божество выше наших слов и формул. И путь православного богословия — это путь апофатический, отрицающий; это не столько серия неких утверждений о Боге, сколько чередование отрицаний, направленных против суждений, которые слишком примитивно понимают тайну Высшего Бытия. Никто не знает формулы жизни, но формулы веществ, которые несовместимы с жизнью, знают все. Трудно дать формулу счастья, но как причинить человеку горе, увы, общеизвестно. Невозможно постичь Божество и найти вполне верные (богоприличные, как говорят Отцы) слова, но можно сказать, что то или иное выражение или суждение все-таки слишком поспешно. Хоть и нельзя выпить океан, но все же вкус океанской воды можно отличить от вкуса воды родниковой или от болотной жижи.
Так что сопоставление богословских формул возможно, возможно размышление о Боге. Еще преп. Иоанн Дамаскин пояснял, что применительно к человеческому познанию в Божественной тайне можно выделить три области: есть в Боге нечто, что непознаваемо человеком в принципе; есть нечто, что человек может познать сердцем, опытом, но не может выразить словами; наконец, есть нечто, что человек может и познать, и выразить своим разумом и словом[161]. На грани последних двух сфер и стоит православное богословие, сопоставляя с полнотой сердечного опыта те формулы, что рождает рассудок, и отвергая многие из них.
Кроме того, православная традиция всегда признавала, что у разума есть свои права в сфере богомыслия. «Можно сказать, что христианское богословие, верное святоотеческому преданию, не знает прыжков в «сверхлогику»: оно постоянно ставит нас перед лицом антиномий, но всегда пытается разрешить их через различение, позволяющее мыслить и говорить о металогическом, не нарушая законов тождества, противоречия и исключенного третьего. Св. Григорий Палама, великий православный мистик, которого трудно упрекнуть в «рационализме», пишет: «Утверждать то одно, то другое, когда оба утверждения верны, есть свойство всякого благочестивого богослова; но говорить противоречивое самому себе свойственно совершенно лишенному разума»»[162]. Богословие признает правомочными в своей сфере все законы логики, и в православии действует та же этикетная норма, которую Честертон подметил в католической традиции: «Вы нападали на разум: у священников это не принято!».
Слишком часто оккультные оппоненты христианства при встрече с человеком, способным развернуть серьезную философско-логическую аргументацию, убегают от критики своего мифа в «апофатику»: мол, это несказанно, это наше ощущение, мы верим нашим сердцам и нашим махатмам. Но, по мнению православной традиции, у логики, у мысли, у разума есть в сфере религии свои неотъемлемые права. Да, у разума есть свои пределы, далее которых он пройти не может. Но то, что разум не может позитивно решить все проблемы религиозной жизни, никак не означает, что он не способен помочь в решении хотя бы некоторых. Поэтому и дискуссия с теософией может вестись не на уровне «мистических переживаний», а на уровне аргументов, работы с источниками и апелляции к логике.
Религия не сводится к молчанию перед лицом Непостижимого. Религию нельзя свести к благомолчащему пиетизму просто потому, что человек сложен. Атеистам мы говорим: у человека есть не только рассудок, но и сердце, и «у сердца есть собственные доводы, как у разума есть свои» (Паскаль). Но оккультной мистике мы говорим: человек есть не только чувство, у разума есть свои потребности и свои права. Поэтому религиозная жизнь человека должна быть жизнью человека, а не просто чередованием «чувств» и «ощущений». Думать человек и может, и должен. А сравнивать плоды своей мысли с плодами мысли других людей — так и просто обязан. Итак, господа теософы, пожалуйте к барьеру. К диалогу. К философскому дискурсу.
Свои цели в этой дискуссии я формулирую так: во-первых, показать, что христианство имеет свою философскую традицию и что христианское представление о Боге, мире и человеке является внутренне целостным и продуманным. Во-вторых, показать, что в христианской философии есть традиция философской критики пантеизма, который выступает как философская основа теософии. В-третьих, продемонстрировать, что из двух философских систем, претендующих на целостное осмысление мира, христианство оказывается способным представить такую внутренне целостную метафизическую модель, которая способна учесть, «спасти» и по-своему объяснить большее число «фактов бытия», чем это делает теософская модель. В частности, христианство более логично объясняет самостоятельность мира, проблему человеческой свободы и проблему происхождения зла, чем это делает теософия.
Вновь подчеркну, что здесь не может ставиться вопрос о доказательстве того, что именно христианство право. В таких дискуссиях задача состоит не столько в том, чтобы опровергнуть оппонента, сколько в том, чтобы показать: христианская мысль может самостоятельно, достаточно логично и глубоко продумывать ту или иную проблему, не превращаясь при этом в оккультизм и не нуждаясь в подсказках теософии. Речь идет о демонстрации интеллектуальных возможностей христианской философской традиции (естественно, лишь о частичной демонстрации, ибо здесь свои пределы налагает ограниченность способностей самого автора), о том, что христианская мысль как минимум ничуть не ущербна по сравнению с теософским пантеистическо-кармическим мировоззрением.
Да, православие — это не только обряд и не только «вера», это еще и мысль. «Я знаю, в Кого уверовал» (Тим. 1,12). Вера узнает и опознает свой предмет. Она отличает его от иных реалий. Христианская философия в состоянии различить, какое суждение о Боге и человеке является несовместимым с Евангелием.
И поэтому не нужно думать, что если в комнате, увешанной православными иконами, начать проповедовать языческую философию, то это и будет идеал «примирения религий». Ни православие, ни язычество не сводятся к ритуалам.
Глава 1. УЧИЛИ ЛИ ОТЦЫ ЦЕРКВИ ПАНТЕИЗМУ?
«Я был молод и высокомерен, и моей гордыне очень польстило, когда я узнал от Гегеля, что вовсе не тот Господь Бог, который, как считала моя бабушка, пребывает на небесах, а что я сам здесь, на земле, и есть Господь Бог», — когда-то честно сказал Гейне[163].
Вот он — жизненный нерв оккультизма. Гордынька, серая банальная гордынька, а отнюдь не потребности высокой философской логики склоняют оккультистов к пантеизму. Напротив, все абсурды и тяготы пантеистического мировоззрения (мы вскоре их увидим) теософы готовы вынести ради этого одного результата. Ради того, чтобы вслед за скороговоркой «все есть Бог» твердо заявить: «а, значит — и я — тоже Бог»!. Именно жажда самообожествления понуждает принимать довольно сомнительные концепции мироздания. Ведь за столь вроде бы возвышающее человека утверждение приходится платить слишком серьезную цену. Чтобы гордое стремление считать себя богом было оправдано, человек, обоготворяющий себя, создает соответствующую философскую картину мира: искомая формула «я есть Бог» включает в свое содержание просто аннигиляцию самого субъекта — я. Но уж очень хочется принять первый тезис, не слишком задумываясь о тех последствиях, которые он повлечет при серьезном отношении к себе — потом.
Теософы уверяют, что человек призван найти «себя, своего скрытого Бога»[164]. «Бог, или Ом, есть Высшая Личность в вашей внутренней сущности»[165]. По мнению Блаватской «прекрасно выразился Эмерсон: «Я — несовершенство, поклоняюсь своему собственному совершенству»[166]. По правилам теософского лексикона, Ангела-Хранителя «следует понимать не как какое-то отдельное Существо из высших сфер, но как наш собственный дух»[167], а «Христос есть наше очищенное и высшее Я»[168].
«Молитесь, чтобы Бог, который внутри вас, помог вам хранить чистоту»[169]. «Все исцеления возможны тогда, когда болящий воспрянет духом или уверует в исцелителя, иначе говоря, если он настолько поднимет вибрации своей сердечной энергии, что она сможет принять магнетический поток, идущий от целителя. В этом смысле нужно понять речение, что «Сын человеческий имеет власть прощать грехи»»[170]. «Не введи нас во искушение — в этих словах молитвы подразумевается обращение слабого духа к своему Руководителю, или к высшему Я, чтобы Он или оно удержало его от проступка»[171].
Итак, я должен просить самого себя и об укреплении в искушениях, и о прощении моих грехов, и об исцелении… Религиозная жизнь становится бесконечным романом с самим собой. Студенты психфака МГУ в 70-х годах ставили диагноз шизофрении словами из популярной тогда песенки: «Тихо сам с собою я веду беседу»…
В свое высшее «Я» я должен уверовать, ему я должен служить, в нем находить отраду и утешение, и от себя же самого, единственного, горячо и оккультно любимого, я должен ждать и прощения грехов: человек, ощутивший себя Христом, может «простить самому себе за грехи, содеянные против самого себя; и прощение это может быть достигнуто лишь при полном слиянии и единении с Высшим Я»[5].
О мере логичности этого тезиса теософов мы поговорим позже. Пока же отметим одно: это тезис оккультизма, но не тезис христианства. Хотя теософы свое самообожествление желают представить в виде исконно христианского учения.
Это вынуждает нас прежде всего представить те суждения раннехристианской богословской традиции, которые рассматривали вопрос о соотношении Божества и человека.
Да, по христианскому воззрению человек есть образ Божий. Но, по постоянному разъяснению Отцов, образ есть отпечаток одной природы в другой природе.
Языческая мысль слишком поспешно уравняла нематериальность и божественность. Герой цицеронова «Сна Сципиона» наставляет: «Да, дерзай и запомни: не ты смертен, а твое тело. Ибо ты не то, что передает твой образ; нет, разум каждого — это и есть человек, а не тот внешний вид его, на который возможно указать пальцем. Знай же, ты — бог, коль скоро бог— тот, кто живет, кто чувствует, кто помнит, кто предвидит, кто повелевает, управляет и движет телом, которое ему дано, так же, как этим вот миром движет высшее божество. И подобно тому, как миром, я некотором смысле смертным, движет само высшее божество, так бренным телом движет извечный дух»[172].
Христианство, безусловно соглашаясь с первой частью этого рассуждения («ты — не тело»), не видит оснований к тому отождествлению, что проводится во второй его части. По законам логики подобие двух реалий в одном отношении не означает их тождества. То, что человек может владеть своим телом — лишь черта, делающая его подобным Богу, но не доказательство его тождественности Ему.
Для нашей темы этот текст Цицерона очень значим — и именно своей типичностью, хрестоматийностью. Причисление человека к лику богов, как ни странно, помешало познанию того, что есть сам человек. «Это далеко не случайность, что великие языческие мыслители античности, прежде всего Платон и Аристотель, а также историки, не имели понятия «личности». Специфически человеческое для них было просто причастностью к чему-то божественному, из-за чего уникальность личности не получила выражения. Например, Аристотель мог — он это делал не очень явно — защищать бессмертие души или хотя бы ее наивысшей части — нус, но этот нус был не «я», а нечто, что излучалось из человека из мира божественного, «как через некие врата»…. Учение о причастности божественному могло обосновать то, что человек есть высочайшее из всех существ на земле, но без учения о творении — которое было неизвестно грекам и римлянам в иудейско-христианском виде — нельзя строго обосновать, почему человек не имеет права использовать другого человека, осуществлять над ним насилие или же убивать. Он может считаться наивысшим, но оставаться при этом только экземпляром некоего рода; равным образом как уникальность или неприкосновенность каждой личности можно обосновать только в том случае, если быть убежденным в том, что этот уникальный индивидуум сердечно дорог Господу всего мира»[173].
Ничего подобного оккультному уравниванию вершин (или глубин) человеческой души и Бога нельзя встретить в мире патристики, для которой Божественное в человеке — это «благодать»: дар, которого в человеке не было, но который извне дан ему. Чтобы принять дар, надо иметь смирение: познание того, что я нищ в самом главном, что мне — надо приобрести нечто несвойственное мне: «Прежде чем искать чего-нибудь, нужно быть убежденным, что того не имеешь» (Климент Александрийский. Строматы, VIII, 1). Поэтому «приходит же благодать Божия в человека, хотя нечистого и скверного, но имеющего сердце благопризнательное, а истинная благопризнательность есть, чтоб сердцем признавать, что благодать есть благодать», — как пишет величайший мистик православия преп. Симеон Новый Богослов[174].
Наставники Агни Йоги, напротив, утверждают, что благодать есть собственно психическая энергия человека, есть результат его собственной деятельности, а не Божественный дар: «Благодать вполне реальное вещество высшей психической энергии. Психическая энергия, конечно, проистекает от каждого организма, ее имеющего, но нужно, чтобы получить прямой эффект, собрать и фокусировать ее сознательно» (Иерархия, 229). «Психическая энергия есть синтез всех нервных излучений»[175].
В христианском же опыте благодать истекает не от человека, а от Бога, — и именно потому она нужна человеку. Именно потому, что она берет свое начало вне человека, вне космоса, в Боге, она является той реальной связью с Творцом, которая может вывести за пределы Вселенной, подверженной разрушению.
«Горе телу, когда оно останавливается только на своей природе, потому что разрушается и умирает. Горе и душе, если останавливается она на своей только природе, не имея общения с Божественным Духом, потому что умирает, не сподобившись вечной Божественной жизни. Как отчаиваются в больных, когда тело их не может уже принимать пищи, так Бог признает достойными слез те души, которые не вкушают небесной пищи Духа»[176].
Даже телу необходима подпитка извне. Неужели же душа, которая обычно столь жадно впитывает в себя все, приходящее к ней извне, не нуждается в добром Хлебе?
При сильном жаре исчезает чувство голода. В околосмертном состоянии человек не чувствует голода. Но так и душа — она не чувствует голода, не чувствует жажды Бога, только если она страшно больна. Значит, в перспективе православной мистики восточный отшельник, достигший того состояния «просветленности», когда он ощущает себя тождественным с Высшим Духом мироздания и всю Вселенную готов рассматривать как свое порождение, — в перспективе христианской мистики смертельно болен. Болен — ибо сыт… Болен — ибо замкнул себя от того, что выше Вселенной…
Вряд ли поможет врач, советующий у изголовья больного, погруженного в жар: «это правильно, это хорошо, что он не хочет есть. Он нашел внутренний источник энергии и питания. Ничего ему больше не давайте и не пытайтесь его кормить». Но и оккультист, советующий материалисту (сознательный христианин слушать оккультиста не будет) отказаться от поиска Бога и искать «источник энергии в себе», тоже не сильно способствует духовному исцелению человека. Без Бога человеческая душа задыхается и тлеет, а ей говорят: «О, да вы великий архат, вы питаетесь самим собой. Да, да, никакой благодати не надо, выше Вас никого нет, Вы и есть Бог».
Оккультист, верующий в себя, может ощущать себя счастливым. Его «религиозные потребности» удовлетворены.
Евангелие, однако, стремится не к «удовлетворению» духовных потребностей, а к их пробуждению: «блаженны алчущие и жаждущие правды». Алкание и жажда все же не самые комфортные чувства…
И потому вполне резонно замечание К. С. Льюиса: «Какая религия дает наибольшее счастье? — По-моему, поклонение самому себе, пока оно держится. Я знаю человека лет восьмидесяти, который восхищался собой с самого раннего детства и, как ни жаль, живет на удивление счастливо. Я не ставлю так вопроса. Вы, наверное, знаете, что я не всегда был христианином, и обратился не для того, чтобы обрести счастье. Я понимал, что бутылка вина даст мне его скорее. Если вы ищете религию, от которой ваша жизнь станет легче и удобнее, я бы вам не советовал избирать христианство. Несомненно, есть какие-нибудь американские таблетки, они вам больше помогут»[177].
Свт. Афанасий Великий однажды сказал, что утратив память об истинном Боге, «люди впали в самовожделение»[178]. От этого самообожения защищает себя Иов: «прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего» (Иов. 31, 27–28).
Хоть и похож человек на Бога (ибо есть «образ Его»), но он не есть Бог. «Ты ведь не телесный образ, не душевное состояние, испытываемое нами, когда мы радуемся, огорчаемся, желаем, боимся, вспоминаем, забываем, и прочее; и Ты ведь не сама душа, ибо Ты Господь Бог души моей», — говорит блаженный Августин своему Господу (Исповедь. X, 25). И хоть именно в сердце своем человек должен познать Господа, но благоговеть надо «не перед сердцем, а перед Господом» (св. Феофан Затворник)[179].
Да, душа человека прекрасна и велика. Что ж, — говорит св. Златоуст, — «прекрасный и полезный член — глаза: но если бы они захотели видеть без света, то красота и собственная сила их нисколько не принесли бы им пользы, но еще причинили бы вред. Так и душа, если захочет видеть без Духа, то сама себе послужит препятствием»[180].
В душе можно заблудиться: она богообразна. В душе опасно заблудиться: она не есть Бог.
Здесь — важнейшая грань, непроходимо разделяющая христианский опыт и опыт языческий. Человек не есть частица Божества; Бог не есть высшая структура человеческой души.
То состояние души, в которое приводят себя подвижники пантеистического толка, «в мистически-аскетической литературе заклеймлено позорным именем «прелести», то есть духовного ослепления и утверждения результатов собственной капризной фантазии за подлинную и истинную реальность»[181].
Теперь мы можем понять одну из самых поражающих строк Евангелия — «Всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф. 12,31–32).
Отчего столь жесткое предупреждение? Неужели у разных личностей в Троице разные характеры, и Дух более обидчив, чем Сын? Почему столь резкое исключение? Оказывается, тот, знакомый нам по «Братьям Карамазовым», мерзавец, который бросил крепостную девочку на корм собакам, может быть прощен, а человек, сказавший лишь одно слово, не имеет уже никакой надежды?
С точки зрения нравственной подобное суждение не может быть понято. Означает ли это, что Христос проповедовал безнравственные вещи? Очевидно, что нет. Значит, надо искать иную перспективу, в которой слова Христа обретают свой смысл. Если этой перспективой не может быть моралистика, значит, речь идет о религии.
Да, потребности и мерки этики и религии не всегда совпадают. Как не всегда совпадают правила хорошего тона и правила поведения спасателя. Нехорошо мужчине класть руку на грудь незнакомой женщине и, не спросив ее позволения, касаться своими губами ее уст. Но будем ли мы с этих позиций оценивать спасателя, который делает искусственное дыхание потерявшей сознание горе-пловчихе? Будем ли мы звать милицию, чтобы она остановила хулигана?
Вот также и та трудность, к разрешению которой направлена Священная история, — это трудность религиозная, а не нравственная. Главная проблема человечества не в том, что оно склонно забывать нравственные прописи. Самая страшная неудача человечества, как она осознается религиозной мыслью — это то, что мы смертны.
Наверно, все религиозные мыслители согласятся со словами апостола Павла: «Господь — един имеющий бессмертие» (1 Тим. 6,16). Все остальное имеет жизнь лишь по причастию к Богу. Источник бессмертной жизни один. Туда, куда добрызжут капли той струи бытия, что бьет из этого Источника, там тоже будет жизнь. Но что же будет с теми, кто отворачивает свое лицо от этих капель? Если Бог есть жизнь, а человек отвернет от Него лицо — куда же будет устремлен его взор? В пустоту. Помните переделку[6] слов Гамлета Высоцким: «Я повернул глаза зрачками в душу, а там сплошные пятна черноты»?..
Всем, кто летал самолетом, знакома та боль, что возникает при резком перепаде высоты и, соответственно, давления. Бог создал нас для Себя, для жизни в Вечности. Поэтому Он насытил нас таким богатством жизни, чтобы мы чувствовали себя хорошо, будучи окруженными Вечной Жизнью. Но мы отпали в пустоту, в разреженные слои бытия. И эта пустота начала отсасывать из нас давление, ставшее избыточным. От этого перепада начались наши боли. Мы начали разрываться изнутри. Другие существа в мире не были созданы для Вечности, и потому мера их боли в нашем мире несравнима с человеческой.
Но люди выпали из Богообщения. Люди не смогли сами вернуть себе Бога. Что ж, тогда Бог вышел на поиски человека.
Бог ищет человека не для наказания. В притче о потерявшейся овце пастырь ищет овечку не для того, чтобы в наказание содрать с нее три шкуры, но чтобы избавить от опасностей. В притче о блудном сыне отец вернувшемуся грешнику устраивает пир, а не головомойку.
Итак, Бог протягивает человеку руку помощи. Точнее — две руки: Сына и Духа[7]. Но предстают эти две руки в поле зрения человека по разному. Сын приходит «в образе раба» (Фил. 2,7). Он приходит под «завесой плоти» (Евр. 10, 20). «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20,28).
Служение Сына сокровенно. Тайна Его может быть познана только тем, кому ее откроет Дух: «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12, 3). Поэтому, если человек не узнал в Иисусе Господа — это не его вина. Ему не было откровения, посвящающего его в «великую благочестия тайну: Бог явился во плоти» (1 Тим. 3,16). Человек, не знавший о тайне, не виноват, что идет по жизни, не оглядываясь на нее… Поэтому «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему».
Но иначе действует Дух. Сын Человеческий скрывает Свою Божественность. Дух Свою Божественность открывает (и вместе с тем открывает и Божественность Сына). Одно из библейских значений слова Дух — это проявление Бога в мире, вторжение Творца в нашу обыденность. И если Бог нескрываемо стоит на пороге твоей души, а ты Его отгоняешь — значит, ты вновь прошел мимо Жизни.
Тот, кто не замечает протянутой ему спасающей руки или в помрачении молотит по ней — останется один на один со своей бедой. Только Бог может вновь наполнить нас Своей Вечностью. Только Он может вновь так уравнять давления внутри нас и вовне, чтобы при возвращении в Вечность мы не были сплюснуты. Если внутри нас давление упало (ибо наши былые внутренние силы были высосаны из нас той пустотой, в которой мы привычно плавали), а Дух, готовый вновь исполнить нас Полнотой Наполняющего все (Еф. 1,23), мы отвергли, то эту пустоту мы пронесем в себе в вечные обители. В Вечности окажутся те, кто не приспособлен к жизни в ней. И тогда — «Ты будешь есть, и не будешь сыт, пустота будет внутри тебя» (Мих. 6,14).
Чтобы человек мог спастись, точки соприкосновения «мира сего» с Вечностью помечены печатью Духа. Человек мчится по шоссе, и регулярно встречает дорожные знаки, на условном языке предупреждающие его: столовая через полкилометра, и там двадцать метров проехать направо… Но тот, кто не обращая внимания на эти знаки, мчится вперед, не имеет потом права сетовать: мол, я был отправлен в длинный путь без всякой надежды на то, чтобы найти еду.
Дух касается человека, дает ему знамения и чудеса, доводы и свидетельства… Но человек отворачивается, делает вид, что не слышит стука в свою дверь. И не впускает Гостя, который на деле является Владыкой, Хозяином. Тот, кто не научился слышать голос Духа здесь, будет погружен в одинокое и безнадежное молчание там. Тот, кто не научился радоваться Богу здесь, не сможет радоваться Ему и тогда, когда Бог явит Себя как «все во всем» (Еф. 1,23).
Именно поэтому «если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Тот, кто не привык жить с Богом здесь, будет шарахаться и пугаться в непривычной новизне будущей жизни. Грех хулы на Духа — это не сомнение в неясном; это грех сопротивления явному.
Как же человек способен хулить Духа Святого?
Мне представляется, что есть два пути к этому греху.
Первый: когда человек видит явное чудо — и отторгает его. Однажды довелось мне беседовать с одним высокопоставленным чиновником. Он с ходу предупредил меня: «Я — атеист»… Ладно, продолжаем разговор. Но в ходе нашей беседы я вдруг замечаю, что на стенах его кабинета нарисованы «голгофки» — Кресты, начертание которых священник налагает на стенах помещения при его освящении. Заметив мой взгляд и мое недоумение, чиновник говорит: «А мой кабинет батюшка освящал!». Я, конечно, спрашиваю — зачем. И слышу в ответ: «Я, собственно, недавно здесь работаю. Но, понимаете, как-то я сразу плохо почувствовал себя в этом кабинете. Час-полтора посижу, и больше не могу. Как будто из меня кто-то всю силу высосал. Задыхаться начинаю. Надо выйти в коридор, зайти в соседний кабинет, уйти перекурить, выбежать на улицу… И тогда еще не намного хватает… Тут мне посоветовали: позови, мол, батюшку, пусть освятит. Ну, я и решил — что ж, хуже не будет… Да, так вот батюшка мне тут все освятил. И, знаете, я теперь тут хоть по 12 часов могу сидеть — и ничего…».
И как вы думаете, какой же была его последняя фраза, завершающая этот рассказ? — «Но я все равно атеист!».
Второй же путь хулы на Духа сегодня более распространен. В этом случае человек считает за дары Духа простые, вполне рукотворные человеческие переживания.
В первом случае человек, которому, например было дано пережить и ощутить благодатность Богослужения, окрадывается помыслами, которые твердят ему: «Да это тебе показалось: понимаешь, непривычная обстановка, необычные запахи, музыка, одежда, слова… Не было никакого чуда. Тебе просто показалось. Все дело в твоей непривычке…». Во втором же случае человек и в самом деле на чисто психическом уровне переживший новизну церковного обряда и малость воодушевленный своим подвигом захода в храм, уже не прочь считать себя облагодатствованным: «Когда батюшка мимо с кадилом проходил, я такую благодать почувствовала, такой запах был дивный!».
Человек сам себя горячит, сам в себе провоцирует «высокие переживания», а затем изготовленный им продукт объявляет Даром Неба.
Однажды мне довелось видеть такой рукотворный «Конец Света». Осенью 1992 года российские газеты оказались заполонены рекламой, оповещающей, что 28 октября 1992 г. в 18 часов состоится «Пришествие Иисуса на облаках» и «вознесение христиан на небеса». Это пророчество исходило от южнокорейских протестантов-харизматов[8]. Поскольку такие события происходят нечасто, я решил пойти посмотреть на «Конец света», организуемый вручную.
Что меня поразило на том собрании более всего — так это профессионализм того человека, который общался с залом со сцены. Нет, это не было профессионализмом проповедника. Это был профессионализм диск-жокея. Он очень ловко «разогревал» аудитории (живо пробудив во мне воспоминания моей университетско-дискотечной молодости). «Так, я буду говорить Аллилуйя, а Вы отвечайте «Аминь!». Громче отвечайте! Громче! еще громче, иначе Господь вас не услышит!.. Сидящие сзади, переходите в первые ряды — иначе Господь не возьмет вас на Небо!.. Теперь правая половина зала молчит, а левая отвечает: Аллилуйя! — Аминь! — Аллилуйя! — Аминь! — Аллилуйя! — Аминь! — Аллилуйя! — Аминь!.. Теперь левая половина зала молчит, а правая отвечает: Аллилуйя! — Аминь! Аллилуйя! — Аминь! — Аллилуйя! — Аминь!»… Через полчаса такой зарядки даже бабушки из соседних подъездов лишь по любопытству заглянувшие на это зрелище, стали подтягиваться к сцене, танцевать и трястись в ощущении того, что в них входит некий дух (проповедником почему-то называемый Святым).
Человек, который считает, что Дух уже пришел к нему или вообще всегда обитал в нем, захлопывает двери. Он тешится с порождениями своей фантазии. Он уже недоступен для Посещения истинного Бога. Он уже считает себя обоженным. Больной, считающий себя здоровым, не видит смысла в посещении врачей и приеме лекарств. Болезнь уже даже атрофировала ощущение боли (сгнивший зуб не чувствует боли). Человек принимает за Бога то, что не есть Бог. Он обожествляет самого себя, свои переживания и мысли… «Я есть То», «Я-Бог» — медитирует он, послушно повторяя заклинания йоги… Он крадет имя у Бога и у Духа. Он служит себе, а не Богу. Что ж, в таком духовном онанизме он и закончит свои дни. Без радости Встречи. Без мистического Брака, без духовного плода. Он утешался самим собой. Он был замкнут в себе и на себе.
Итог: ему предстоит одинокая вечность. Однажды его миражи рассеются. И обнаружится, что во время наводнения он пытался спастись с помощью медитации на тему «Мне сухо, мне сухо… Мне тепло… Мне радостно… Я бог… Мне сухо». Стук Спасителя в дверь он пропустил, поскольку ему не хотелось выходить из радостно-сухого мира своих иллюзий. Он не встретил Другого в веке сем. Что ж, придется ему быть без Бога и в веке будущем.
Если бы наш, человеческий, мир был безопасен, Богу не нужно было бы жертвовать Своим Сыном. В безопасном мире нет смысла идти на Крест. Если же путь Бога в нашем мире — это путь Креста, значит, наш мир болен. Христос предложил лекарство. Мы, распявшие его, обвинили Его за это в жестокости: «Почему Ты не спасаешь всех, даже неверов?». Просто потому, что спасти — значит соединить Бога и человека. Спасти — значит Богу войти внутрь человеческой души. Спасти — значит человеку научиться жить в Боге. Для этого надо принять явное свидетельство Духа о Сыне, таинственно соединившего Божественное и человеческое. Сын соединил в Себе Бога и человека затем, чтобы потом эту нерасторжимую соединенность передать нам. Не хотим? Что ж — в таком случае и будет Бог — отдельно, а мы — отдельно. Что же может быть более печальным, чем «будущий век», проводимый в отдельности от Бога? А, значит, Христос, предупреждающий, «если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» не жесток. Он просто честен.
Нет греха, который не мог бы быть отделен от души человека подвигом покаяния. Лишь тот грех, который запрещает человеку каяться, — лишь он неисцелим. Раскаяние — та дверь, которая распахивает согрешившую душу для исцеляющего помазания Духа. Покаянием человек говорит Богу: я был далеко от Тебя, Господи, я обезобразил и опустошил свою жизнь, но Ты же видишь те язвы моей души, которые я больше не скрываю ни от Тебя, ни от себя, ни от Твоей Церкви. Так Ты, вне Которого умирает мое сердце, Тот, Которого мне так не хватает — прииди и очисти ны от всякия скверны и спаси, Блаже, души наша.
Но если человек кощунственно утверждает, что его душа, слегка подчищенная постами и подновленная медитациями, — это и есть Дух Святой, если он убедил себя, что вне него нет Бога и потому неоткуда ждать помощи, если он поклонился хоть и высшей, но все же части себя самого — значит, он безнадежно запер себя в своем внутреннем мире, и освежающее веяние Внешнего (Трансцендентного) Духа уже не может прикоснуться к нему. «Тат твам аси»; ты (то есть я) есть То (Божество) — это и есть хула на Духа.
Евангелие честно предупреждает. И христиане честны, когда открыто говорят теософам: наши с вами взгляды разные, разные до противоположности. А вот теософы не устают вновь и вновь лжесвидетельствовать о том, что и в этом вопросе они едины с святоотеческой традицией.
Е. Рерих заверяет: «авторы «Добротолюбия» понимали под термином Христос высший божественный принцип в нас»[182]. Но отцы «Добротолюбия» утверждают нечто противоположное: «Сын Божий по послушанию и смирению вочеловечился и крестом и смертию спас человечество»[183].
Н. Рерих вроде бы ценит преп. Макария Египетского: «Многотомно можно выписывать из Отцев Церкви и из заветов пустынножителей и подвижников правила их, ими выношенные и примененные в жизни… Не отвлеченные символы, но реальное сознание отображал Макарий Египетский, когда писал…»[184]. Так почему же он не следует всему опыту этих Отцов, того же Макария? Тот ведь не был пантеистом, а даже прямо полемизировал с отождествлением Бога с глубинами человеческой души: «Душа — не от Божия естества, и не от естества лукавой тьмы… Он — Бог, а она — не Бог»[185].
Е. Рерих пишет: «После Оригена ложная вера христианства начала расти»[9]. Прочитав такое, можно подумать, что Ориген и христиане до него считали, будто человек и Бог одно и то же. А на самом деле Елена Ивановна просто слегка примаскировалась. Полагаю, она все же знала, что и до Оригена христиане не были оккультистами (а если не знала — так тогда тем более ей не стоило бы заниматься «синтезом религий»).
На самом же деле по убеждению Оригена «непорочность никому не принадлежит субстанциально, кроме Отца, Сына и Святого Духа, и святость во всякой твари есть случайное свойство; все же случайное может прекратиться» (Ориген. О началах. I. 5. 5). Бог, по убеждению Оригена, не просто Субстанция, но и Личность, обладающая желанием и разумом: «Сила и Божественное существо Бога пребывает там, где желает» (Ориген. Против Цельса. 4,5). Люди же, прельщенные пантеистическими проповедями, «призрачными доводами влекутся к самообоготворению» (Против Цельса. 3,37). Надо обладать изрядным невежеством или нечестностью, чтобы несмотря на эти ясные заявления Оригена, утверждать, будто «Ориген учил последнему преданию Христа — восточному Пантеизму»[186].
И все же ни совесть, ни познания не мешают Елене Рерих заявлять: «в христианстве я придерживаюсь веры первых отцов христианства»[187].
Почему Рерихи предпочитают действовать подлогами? Ведь теософский догмат, гласящий, будто «каждый человек по природе своей есть божественное воплощение»[188] есть именно, буквально то, против чего предостерегают Отцы Церкви даже до-оригеновской эпохи как против самой страшной ошибки.
Так, еще учитель Оригена Климент Александрийский неоднократно пишет о том, что «с Богом мы не имеем никакого сходства ни по существу нашему, ни по происхождению и ни по каким-либо особенным свойствам нашим, разве только по тому одному, что мы дело творческой воли Его» (Строматы, II, 16). «Не следует однако думать, что Дух Божий в каждом из нас пребывает как некая частица Божества» (Строматы, V, 13). «Дух Святый хотя и влияет на все части нашего существа, но прививается нам в меру места, нами уступаемого Ему в своей душе» (Строматы VI,15). «Это мнение нечестивое и составляет измышление мечтателей, будто свойства человека и Вседержителя одни и те же. «Нечестивец, — говорит Господь, — ты думал, что Я подобен тебе» (Пс. 49, 21)» (Строматы, VI, 14). «Несмотря на полнейшую чуждость Ему нашей природы, все-таки Он заботится о нас» (Строматы, II, 16). «Нет никакого природного родства между Богом и нами. Не понимаю, как познающий Бога человек может допустить это, если посмотрит он на нашу жизнь и на неправедность, в которую мы погружены. Будь мы частью Бога, Бог бы в этой Своей части грешил»[189].
Классические восточные святоотеческие авторы утверждают, что между творением (человеком) и Творцом нет природного, сущностного единства.
Говорить что человеки единосущны Богу — «явное сумасшествие»[190]. «Не ставь наряду с собой ни Единого из Троицы, чтобы не отпасть тебе от Троицы»[191]. «Ни один здравомыслящий не будет приписывать Божества твари»[192]. «Мы утверждаем, что тварь, и умопостигаемая, и вся принадлежащая к чувственному естеству, приведена в бытие из ничего… Мы говорим, что все существующее Божией волей приведено в бытие… Мы веруем, что не из сущности Сотворшаго — тварь и в ангельском и в этом мире»[193]. «Господь души моей, Который создал ее, не существовавшую»[194].
На Западе мыслили не иначе: «Всякая тварь как разумная так и телесная, создана не из Божественной природы, а Богом из ничего, и в ней нет ничего, относящегося к Троице, кроме разве того, что ее создала Троица. Поэтому говорить или веровать надлежит так, что вся тварь ни единосущна, ни совечна Богу»[195].
Первый Толедский собор 400 г. возгласил своим 11-м анафематизмом: «Если кто говорит или верует, что человеческая душа есть часть Божества и имеет одинаковую с ним субстанцию, анафема да будет»[196]. Брагский собор 563 г. предупредил о том же в своем 5-м анафематизме: «Если кто верует, что человеческие души и ангелы произошли (через эманацию) из Божественной субстанции, как утверждали Манес и Прискиллиан, анафема да будет»[197].
И это позиция не чиновников и книжников, не инквизиторов. Так мыслили величайшие мистики. Такие, как, например преп. Симеон Новый Богослов, который азы православия резюмировал так: «Есть пять видов познания о Боге. Первый, — что Бог не есть ничто из всего сущаго, видимого или мыслимого; второй, — что всякая вещь видимая, или мыслимая, от Бога получила бытие и прежде того не существовала; третье — что Бог все создал, приведши то из небытия в бытие не потому чтобы имел нужду в чем-либо из того, но по единой благости Своей, чтобы сделать твари причастными славы Своей, и силы, и благобытия; четвертый, — что Он естеством благ, и хочет всякого блага и добра, и ненавидит всякое зло и всякий грех; пятый, — что добродетельная и богоугодная жизнь справляется силою Божией, и другим способом она справлена быть не может, если, т.-е., не посодействует и не поможет сила Божия»[198]. Четыре из этих пяти тезисов отвергаются теософией…
Так что в очередной раз заметим, что представления теософов и патристической традиции вполне противоположны, и что теософы в рекламных целях не стесняются допускать подлог.
Е. Блаватская однажды искренне призналась: «Вы спрашиваете, верим ли мы, теософы, в Христа? В Христа безличного — да. Кришна, Будда — тот же Христос, но не в Иисуса Назаретского… В личного Бога, в Моисеевскую Иегову не верим, то есть не поклоняемся ему»[199]. В конце концов, это ее личное дело. Но зачем же выдавать свою радикально небиблейскую систему за собственно христианское и евангельское мировоззрение?
Вроде совершенно очевиден персонализм, проявляющийся в молитве Христа ко Отцу[10]. Но теософы и здесь готовы видеть пантеизм. «Не понимаю, почему кажется Вам невозможным, чтобы Христос называл «отцом Своим» Непознаваемую Причину?»[200]. — Да потому кажется невозможным, что во-первых, для Христа Отец — это отнюдь не «Непознаваемая Причина». Именно Он — знает Отца. «Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11, 27). Во-вторых, интерпретация Евангелия у Е. Рерих звучит особенно нетривиально, если вспомнить, что Сам Христос говорил: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня» (Ин. 4, 34). Ведь там, где есть воля — там нет несвободной безликости. Это понимает даже сама Е. Рерих и потому настаивает: «Я избегала бы церковных выражений, когда имеется в виду Великий Принцип. Понятия воли и завета уже связаны с личностью и потому не вяжутся с представлением всеобъемлющего Начала»[201].
Вообще все наоборот — пантеистические догматы «не вяжутся» с Евангелием. Возьмите любой момент из Евангелий и подставьте вместо «Бог» — теософские иероглифы типа «Непознаваемой Причины» или «Безличного Ничто». «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам безличным ничто: Я безличное ничто Авраама, и безличное ничто Исаака, и безличное ничто Иакова? Безличное ничто не есть безличное мертвых, но живых» (Мф 22,31–32).
И сколько же надо цензурировать Библию, чтобы в целях «всеобщего примирения» убрать из нее все, говорящее о Личности, Завете и Воле!
Впрочем, надо заметить, что не только христианам пантеизм казался странен. В начале нашего рассмотрения пантеистических догматов приведу два свидетельства язычников об этой вере, которая порой оказывалась странной и для них:
Говорят, что «Антигон Старший, когда некий Гермодот провозгласил его в стихах сыном солнца и богом, сказал: а раб, выносящий за мной горшки, так обо мне не думает» (Плутарх. Об Исиде и Осирисе, 24).
В Индии с пантеистами вел полемику Рамануджа — от имени традиции бхакти (пути любви)[11]. Ее отголоски можно встретить в современной кришнаитской литературе, с персоналистических позиций ведущей полемику с пантеистами. В ней вышучивается теория, согласно которой «Богу нужно медитировать и бороться с материальной природой, чтобы вспомнить, кто Он такой. Так что «Бог» у нас соблюдает диету, выполняет дыхательные упражнения, подпрыгивает на своей заднице в попытке пробудить кундалини и пытается очень многими способами вспомнить свою тождественность: Я Бог… Я Бог… Как это я забыл? Я Бог… Проклятый комар!!! Я Бог…»[202].
Глава 2. ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ ПЕРЕД ТАЙНОЙ ЛИЧНОСТИ
Главное расхождение теософии и христианства — это различие именно философий: философии пантеистической и персоналистической. Христианство полагает, что о Боге можно говорить как о Личности, теософия считает, что это недопустимо.
У слова личность долгая философская история. Христианская философия при своем зарождении приняла словарный запас, который был наработан греко-римской философией языческой.
Шесть слов в нем прилагались для обозначения «вот этого» человека. Это греческие слова просопон, ипостась, первая сущность, атом, гипокеймон. И латинские персона, индивидуум, субъект.
Начнем со слова «просопон». Позже, в христианском богословии это слово закрепится в значении «Лицо», причем будет подчеркиваться смысловое тождество этого термина со словом «ипостась». Первоначально же «Прос» — приставка, указывающая на направление к чему-то; «оп» — тот же корень, что и в слове «оптический», то, что «видно». «Просопон» — то, что бросается в глаза, что видно глазами, то, что имеет вид, наружность. «Почему нельзя этот термин переводить как личность? Потому что одному человеку свойственно несколько таких «просопонов». У Гомера читаем, что Аякс, смеясь, наводил своими «просопонами» ужас на окружающих. Значит, не личность? Личность-то у него одна! А что в таком случае «просопон»? Либо выражение лица, либо просто наружность. И позднее во всей литературе слово «просопон» имеет значение «наружность». Пиндар (V в. до н. э.) употребляет слово «просопон», когда рисует блеск наружный, внешний вид. Только у Демосфена, а это не ранее IV в. до н. э., я нахожу «просопон» в значении маски. Маска божества делает того, кто ее носит, самим этим божеством. Это уже ближе к понятию личности, но тоже еще только внешняя ее сторона. В позднейшей литературе уже говорят не о маске, а об актере, играющем роль; его называют «просопон», то есть действующее лицо. Затем, в I в. до н. э., я нахожу понимание термина «просопон» как вообще литературного героя. Собственно говоря, до христианской литературы не встретишь «просопон» в собственном смысле слова как личность»[203]. В обиходе просопон могло обозначать и морду, и клюв и фронт армейского построения, и просто поверхность (фасад здания или вид на город).
В латыни довольно точной калькой этого греческого термина стало слово persona. «Поскольку это слово в классической латыни обозначает «маску», которую, по греческому образцу, носили римские актеры, то уже в античности были попытка вывести это выражение от глагола реrsonare, обозначающего что-то вроде «непрерывно звучать» или «наполнять звуками». Основания для такой этимологизации (сторонником которой, в частности, был Боэций) заключены не только в фонетическом подобии двух слов, но и в том, что маска античного театра исполняла еще и роль резонатора, служащего для усилении звука голоса актера…[12] Конечно, современные исследователи не могут подтвердить такую этимологию; ведь в первом слове «о» долгое, в то время как во втором — краткое. В настоящее время предполагается, что рersona происходит от этрусского слова fersu, которое, подобно греческому ргоsороn, означает просто маску. И есть свой смысл в том, что исток понятия «личность» следует возвести не к тому, что «звучит через» человека, но только к социальному феномену: речь идет о роли, которую некто воплощает в театре или же в государстве и обществе. Помимо театральной сферы, в действительности есть еще два контекста, в которых это выражение применялось в классической латыни. Первый — это судебное словоупотребление. Судья, когда он рассматривал вопрос о виновности, должен был заботиться о том, кто таков допрашиваемый — из какого социального класса он происходит и каков его прежний жизненный путь. Так, наряду со словом homo, которое обозначало его как экземпляр некоего вида, и наряду с саput, схватывающим его как единицу, подлежащую сбору податей или военной обязанности, получило право на обозначение человека и выражение реrsona — человек как этот, конкретный индивидуум со своей единичной историей, будь он гражданином или рабом. В обществе или государстве каждый из нас играет определенную роль. по которой его можно распознать, если только достаточно точно описать ее. Второй контекст — грамматика. Мы тоже, как и латиняне, говорим о первом, втором и третьем лице. Здесь можно легко проследить связь с ролью актера: в каждом случае, в зависимости от того, говорим ли мы о себе самом, ком-то другом, или просто о ком-то третьем, мы указываем себе и другим ту или иную роль в языковом отношении. Римские авторы, такие как Цицерон и Сенека, уже ясно видели именно этот грамматический, равно как и юридический контекст понятия реrsona, когда они ссылались, в частности, на греческого стоика Панеция, который, как предполагают, написал во втором столетии до Р.Х. трактат о служебных обязанностях и при этом применял выражение ргоsoроn. У Сенеки есть текст, в котором он различает четыре «маски», которые носит человек: он обладает признаками рода, разделяемыми всеми людьми, относится к определенному типу характера, живет в конкретной среде в определенных обстоятельствах и избирает некую профессию или же образ жизни»[204].
Отсюда понятна мысль русского философа Льва Карсавина, который увидел большое несчастье для западного метафизика в том, «что ему приходится строить учение о личности, исходя из понятия «хари» (persona)»[205]. К просопону-персоне данного утюга относится царапина на его боку и привычка прижигать шелковые вещи… Если такое понимание античного «лица» мы попробуем попробуем отождествить с современным представлением о личности — у нас ничего не получится…
Только если помнить об этом различии античного и современного значений слова «лицо», «персона», можно согласиться с апостольским словом: «Бог не взирает на лице человека»[13]. Если прочитать эту фразу с помощью современного лексикона, то смысл получится такой, что способен повергнуть в отчаяние: Бог не обращается к нам; мы Ему не нужны и не интересны… Но в античном мире «лицо» (просопон-персона) обозначало скорее социальную маску, место в социальной иерархии[14]. И в таком случае слова апостола утешительны: взгляд Бога проникает через маску, Бог видит сердца, сокровенные мотивы действий и судит по ним, а не по пышности должностных облачений, и в этом смысле Бог не-лице-приятен.
Другая пара греко-римских понятий — это атом-индивидуум[15].
«Боже упаси переводить и латинское слово «индивидуум» как «личность»! Укажите хотя бы один латинский словарь, где говорилось бы, что слово «индивидуум» может иметь значение «личность». «Индивидуум» — это просто «неделимое», «нераздельное». Стол состоит из доски, ножек и т. д. — это делимое, а с другой стороны, стол есть стол, сам по себе он неделим, он есть «индивидуум». И стол, и любая кошка есть такой «индивидуум». Так при чем же здесь личность? «Индивидуум» — самый настоящий объект, только взятый с определенной стороны, и больше ничего»[206]. Индивидуум — то, что нельзя разделить без того, чтобы делимое потеряло какие-то свои существенные признаки, да и просто свое существование. Кошка, разделенная на лапки и хвостик — уже не кошка. Стол, разобранный на ножки и столешницу — уже не стол. А потому и стол, и кошка, и человек — в равной мере «атомы» (греч. atomon — неделимое), «индивидуумы». «Индивидуумом называют то существо, которому невозможно уже разделяться на другие, сохраняя при разделении свою природу» (Иоанн Грамматик)[16]. По мнению этого писателя, «иногда различные природы, сочетаясь в нераздельном единении, образовывают единое лицо в единую ипостась. Например, четыре элемента (стихии), будучи различными сущностями, создают единое тело либо конкретного дерева, конкретного камня, созерцаемого в своем своеобразии, что является ипостасью» (Апол. греч. IV, 134). «Сама возможность такого примера и применение к камню или дереву понятия «ипостась» показывает, что момент «сознания» не является обязательным в определении «лица» у Иоанна Грамматика», — резюмирует современный исследователь[207].
Еще пара: гипокейменон-субъектум.
«Гипокейменон тоже имеет свой смысл: «то, что находится под чем-нибудь», все равно — камнем или деревом. «Носитель» — это и есть «гипокейменон». Этот термин получил значение либо логическое, либо грамматическое. Грамматическое — это «подлежащее» в сравнении с другими членами предложения. В логическом смысле — это субъект суждения. Есть и юридическое значение — лицо, которое обладает известными правами и обязанностями. Конечно, это ближе к понятию личности, хотя и не вскрывает ее внутренней жизни, а затрагивает лишь внешнюю сторону. Все вышеназванные термины следует понимать по-античному, в космологическом смысле… Есть еще слово субъектум. Но можно ли переводить его на русский язык как «субъект»? Никакого отношения к нашему слову «субъект» этот термин не имеет. Что значит «субъектум»? То, что «суб» — под, что подброшено, подложено под конкретное качество и свойство, которым обладает данная вещь, то есть это не только совокупность определенных свойств, но и носитель этих свойств. Так это же объект, а не субъект! Поэтому переводить латинское «субъектум» русским «субъект» — безграмотно! Латинское «субъектум» соответствует русскому «объект». Вы спросите: ну а как быть с латинский «объектум»? А это то же самое, только с другой стороны. Приставка «об» указывает на то, что вещь находится перед нами, мы ее как бы глазами своими чувствуем и руками ощущаем. Так что «субъектум» — это вообще объект сам по себе, а «объектум» — это такой объект, который дан нашим чувствам. Где же здесь личность? Ни в латинском «субъектум», ни в латинском «объектум» никакой личности нет. Поэтому никакой личности при объективном описании античного космологизма я не нахожу. Я нахожу материю, прекрасно, предельно организованную в космическом теле, и больше ничего. Никакой личности здесь нет. В каком-то переносном смысле можно и цветок назвать личностью, и камень. Но как таковой ее нет. … В конце концов и античный человек стал чувствовать, что его система слишком далека от личности и в этом смысле слишком пустынна… Неоплатоники, глубоко понимавшие сущность античной философии, все-таки в конце концов пришли к выводу, что все это — пустыня. Почему? Нет никого, раз нет личности, а есть только что. Космос — это что, а не кто. Поэтому я бы так сформулировал печальный и трагичный колец этой замечательной античной внеличностной культуры, Я бы сказал словами поэта нашего века: «Я несусь и несу неизбывных пыланий глухую грозу и рыдаю в пустынях эфира». Так кончились те светлые дни, когда человек молился на звезды, возводил себя к звездам и не чувствовал своей собственной личности»[208].
Обратимся, наконец, к слову, которому суждено было стать главным в греческом богословии. В дохристианской литературе и это слово — ипостась — было далеко от того, чтобы служить указанием на тайну личностной уникальности.
Первичное значение слова ипостась — отложение, выделение (у Аристотеля), осадок, конденсат, возникновение туч и даже густая похлебка. Это отглагольное существительное от глагола в ионийском диалекте — ставить внизу, подставлять в качестве опоры, оседать, осаждаться, запор.
Прежде чем ипостась стало философским понятием, оно было естественнонаучным в значении гущи, осадка, осадочного отложения. У врачей это выделение, преимущественно в виде мочи. В рецептах ипостась значит сыр (как твердый осадок молока).
У Теофраста словом ипостась обозначается осадок при брожении и варении вина. В космогонии Зенона, Гераклита и Демокрита после первого смешения элементов земля как анибоеел тяжелая стихия выпадала в осадок. У стоиков материальным было все сущее, и соответственно слово ипостась с его конкретно-физическим, материально-тяжелым смыслом оказалось в их философии наиболее уместным. И именно стоик Посидоний (ум. в 50 г. до Р. Хр.) впервые вводит в философию термин «ипостась» в значении (единичного) реального бытия.
Так что св. Василий Великий (чья терминология в значительной степени ориентирована на стоиков — в отличие от аристотелевской ориентации его брата — св. Григория Нисского)[209] в слове «ипостась» слышал прежде всего значение «реально-существующее».
В греческом переводе книг Ветхого Завета (т. н. Септуагинте), выполненном за два столетия до Христа, словом ипостась передается 12 различных слов еврейского оригинала. Напр, в Иез. 26,11 «ипостась» — это памятник, статуя («и памятники могущества твоего повергнет на землю»). Во Втор. 1, 12 ипостась — это «бремя» («как же мне одному носить… бремена ваши»; в церковно-славянском переводе — «тяжести ваша»). Во Втор. 11, 6 это «имущество». В Иов 22,20 ипостась имеет значение «наследство»: «враг наш истреблен, а оставшееся после них пожрал огонь»; церковно-славянский перевод: «не погибе ли имение их и останки их пояст огнь» У Иеронима в Вульгате в этом месте употрябляется erectio (nonne succisa est erectio eorum et reliquias eorum devoravit ignis в смысле «безуспешно было восстание, сопротивление его». В Наум 2,6 возможно значение «фундамента» («дворец разрушился и «ипостась» открылась»; славянский перевод дает «имение открыся»; в русском переводе Библии эта часть стиха вообще отсутствует; английский перевод Септуагинты дает именно foundation). В Прем. 16,21 («Ибо свойство пищи Твоей показывало Твою любовь к детям) словом ипостась передано манна — пища — очевидно в значении опять же наследства, как чего-то прочного и оставленного детям. Также в Суд. 6,4 это «пропитание» («бытие жизненное» славянского перевода). В Руфь 1,12 — «есть мне еще надежда» — значение слова ипостась явно созвучно с тем, как его употребит ап. Павел в Евр. 11, 1 «Вера же есть уверенность в невидимом» («вещей обличение невидимых» — в церковно-славянском переводе). Наконец, в Пс. 38, 6 и 38,9 авторы Септуагинты поставили ипостась там, где современные переводчики ставят — «состав мой», «век мой» (как ничто пред Тобою)[17].
Общее значение всех этих «узусов» (случаев употребления) — когда нужно подчеркнуть нечто реальное, опорное. В результате слово ипостась стало восприниматься как противоположность чему-то «абстрактному», неопределенно-расплывчатому, быстротекущему и изменчивому.
Итак, с одной стороны, «в античности ни «просопон», ни «гипостасис» не имеют значения личности»[210]. С другой стороны, понятно, почему христианам, потребовался термин ипостась для изъяснения своей веры.
Три основания были к тому, чтобы из всего обилия «предличностных» терминов античной культуры выбрать для обозначения личностного бытия именно термин «ипостась». Альтернатива здесь, собственно, была в выборе между просопон (персона) — и ипостась (субстанция). То есть между словом, обозначавшим некий довольно случайный и переменчивый признак, маску — и словом, обозначавшим нечто прочное и неизменное, переходящее даже в наследство после ухода «персоны».
Та область мысли, нужды которой потребовали переосмыслить значение слова ипостась, была не антропология, а богословие. Во-первых, христианам нужно было обосновать реальность Бога своей веры. Ведь христианская проповедь утверждала, что Бог не-материален, не-космичен, не-изобразим в статуях и картинах. Для людей греко-римской культуры, привыкших к «скульптурной» явленности своих богов и к отождествлению границ бытия с границами космоса, эта христианская проповедь казалось проповедью некоей абстракции, игрой ума. Так что проповедь о Божестве хоть и внекосмическом, нематериальном, но при этом все же ипостасном уже самим подбором своих терминов не позволяла перетолковать христианство как проповедь чего-то иллюзорного.
Вторая причина, по какой именно слово ипостась прижилось в греческой христианской мысли, связано с тем, что Евангелие возвещает Сына как мысль Отца, а Дух есть Дух Отца. Очень легко было отсюда сделать тот вывод, что есть единое Божество, а Сын и Дух суть лишь некие процессы, происходящие в жизни Бога и в этом смысле есть лишь «субъективные» представления Отца, который лишь когда мыслит, то в этом своем процессе получает имя Логоса, Сына (к этому клонилось учение Павла Самосатского — ересиарха III века).
Третья аберрация, которая могла произойти в восприятии христианского учения, — это «модализм». В третьем веке Савеллий Птолемаидский говорили, что имена Отца, Сына и Духа Бог получает лишь в своих отношениях с миром. Эти три модуса, формы (схематизма в терминологии Савеллия), в которых Бог является миру. Когда действует одна из этих масок (Савеллий употреблял слово просопон), то исчезает предыдущая. Так что, когда действовал Отец, не существовало Сына, а когда Бог начал действовать с именем Сын, исчезла маска Отца. На самом же деле вне этой педагогики личности Сына, Отца и Духа не имеют никакого собственного, внутрибожественного бытия… Стоит отметить, что появление этих антитриниатрных движений в христианстве третьего столетия было, возможно, реакцией на учение Оригена, который порой слишком резко подчеркивал разницу между Отцом и Сыном[18].
Итак, богословам IV столетия предстояло отстоять два и в самом деле трудно совместимых тезиса. По собственнному самоощущению христиане считали себя строгими монотеистами: Бог один и един. Поскольку молитвенная жизнь христиан была обращена ко Христу, то именно Он и должен быть отождествлен с этим Единым Божественным Началом. Но со страниц Евангелий Христос предстает как Тот, Кто сам молится Богу и обращается к Нему — «Ты».
Ариане (непосредственные оппоненты свв. Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского) решили эту проблему просто и логично: приняв всерьез диалогическую дистаницию между Сыном и Отцом, они были вынуждены ради монотеизма отказать в Божественности Сыну. Этим путем позднее пойдут и проповедники ислама…
В глазах ариан защитники единосущности Сына и Отца (т. е. православные, сторонники Первого Вселенского Собора и св. Афанасия Великого) казались модалистами-савеллианами (тем более, что и сам термин «единосущный» был впервые введен в богословский обиход Павлом Самосатским — причем с таким толкованием, что между Сыном и Отцом снимались все различия).
Чтобы защититься от обвинения в савеллианстве («Савеллий утверждает не столько то, что Ипостаси суть одно, сколько то, что каждая — ничто»[211]) надо было найти способ утвердить реальность не просто Единой сущности Божества, но и каждого из Его Лиц… Перед православным богословием была поставлена задача — «не лишить самостоятельности прочие лица и не соделать Их силами Божиими, которые в Отце существуют, но не самостоятельны»[212].
В этих условиях тот, кто принимал термин «единосущный», не мог строить свою систему на термине «просопон» — слишком велик был в этом слове привкус субъективности и мнимости.
Поэтому каппадокийцы — даже прекрасно понимая ту иллюзию троебожия, которую может создать речь о трех именно ипостасях[19], - избрали именно этот термин[20] и причем с настоятельным акцентом на том, что слово ипостась надо понимать в том значении, которое Аристотель придавал термину «первая сущность».
У Аристотеля первая сущность — это единичное конкретное существование, например, отдельный человек (Категории 5, 2а11-14). В терминологии Аристотеля есть сильный антиплатоновский заряд. Для Платона по настоящему реальны общие идеи. Им принадлежит первенствующее бытие, а конкретные воплощения идеи вторичны (вот эта лошадь вторична по отношению к идее лошадиности). Для Аристотеля все наоборот: «первая сущность» — это конкретный предмет, а любые обобщения есть только наши обобщения и потому все родо-видовые отвлеченности оказываются «вторыми сущностями». И вне конкретно-воплощенных своих носителей никакие «природы», «виды» не существуют. Этот тезис аристотелевской философии — «нет природы без ипостаси» — стал важным философско-полемическим кредо в зрелой патристике…
Итак, когда в святоотеческих текстах мы встречаем рассуждения об ипостасности Божества, стоит помнить, что на их языке он прежде всего и ранее всего означал — конкретное существование, отличимое от любого другого. Под природой, «сущностью» понимался набор свойств, присущих данному классу предметов; под ипостасью — то, на что можно указать, что можно «взять в руки». Ипостась — это реальность, конкретность, не-абстрактность.
Для атеиста Бог не более, чем абстрактная идея: человеческий ум дарует право на существование идее Бога. Но для религиозного человека Бог обладает бытием: не Бог творится человеком, но Бог дарует человеку право со-участия в бытии.
В этом смысле буддийская философия не сможет, конечно, сказать о Боге как об ипостаси. В буддизме Божество есть именно и только абстракция, некая иллюзия, порожденная человеческой деятельностью.
Но христиане в отличие от буддийских философов, не атеисты. Ой, простите, забыл спросить: Господа теософы — вы хоть это разрешаете нам, христианам? Вы разрешите нам не быть атеистами? Вы не будете требовать от нас, чтобы мы отреклись от веры в объективное бытие Бога, то есть от веры в то, что Божие бытие не обязано Своим существованием человеческим иллюзиям? Но если вы будете настолько снисходительны и терпимы, то тогда вам придется признать за христианами и другое право — право христианских философов настаивать на бытии Бога, на Его конкретности, а, значит право мыслить о Боге как об ипостаси… Если Бог реален, конкретен, то Он превосходит все человеческие домыслы и Он не тождествен нашей идее о Нем. А, значит, все-таки можно сказать, что Бог есть ипостась.
Удивительно, что даже с таким пониманием Божественной «ипостаси» теософы вполне могут не согласиться. Может быть, обычная для Блаватской небрежность в обращении с терминами и фактами послужила причиной такой ее сентенции: «Я верю в незримого и всеобщего Бога, в абстрактный Дух Божий, а не в антропоморфное Божество»[213]. Что значит «абстрактный Дух Божий»? В смысле — «существующий лишь в нашей мысли»? «Абстрактный» — в смысле «нереальный»? Или — «неконкретный»?
А может, и действительно Блаватская считает Дух Божий «абстракцией», которая существует в умах недоразвившихся христиан, но не более. Честертоновский отец Браун однажды вступил в полемику с носителем таких «абстрактных» воззрений на Божество: «Нет, нет, нет! — сказал он чуть ли не гневно. — Никакой это не образ. Вот что получается, когда заговоришь о серьезных вещах. Просто хоть не говори! Стоит завести речь о какой-нибудь нравственной истине, и вам сейчас же скажут, что вы выражаетесь образно. Один человек — настоящий, двуногий, — сказал мне как-то: «Я верю в святого Духа лишь в духовном смысле». Я его, конечно, спросил: «А как же еще в него верить?» — а он решил, что я сказал ему, будто надо верить только в эволюцию, или в этическое единомыслие, или еще в какую-то чушь»[214].
Итак, ипостась означает первоначально нечто очевидное, прочное, неизменное. Затем — конкретно-единичное бытие. Затем — едичное в противоположность общему. Именно по этой линии идет мысль каппадокийцев (так называют четырех великих богословов IV столетия — свв. Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского и Амфмилохия Иконийского).
В их системе ипостась так относится к природе, как частное — к общему («И сущность, и ипостась имеют между собою такое же различие, какое есть между общим и отдельно взятым например, между живым существом и таким-то человеком» — св. Василий Великий. Письмо 228 (236) к Амфилохию).
На это налагается другое различие: необходимое-случайное: «сущность есть общее, а ипостась — частное. Однако оно — частное не потому, что одну часть естества имеет, а другую не имеет, но частным оно является по числу, как одно из неделимых, входящих в состав целого ряда… личности не различаются друг от друга по сущности, но по случайным принадлежностям, которые составляют отличительные свойства… Ибо ипостась определяют как сущность вместе с случайными особенностями» (преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры, Ill,6).
Отсюда понятен следующий шаг в осмыслении термина «ипостась»: «отличительные свойства», то, что выделяет из общего ряда, то, благодаря чему можно узнать именно этот предмет или этого человека. Это свойства, специфические именно для данного предмета и выделяющие его из круга вещей, с ним однородных.
Более того — это именно субъективное узнавание и вычленение этого выделяющего признака в объекте тем человеком, что смотрит на него. Тогда «Ипостась есть отличительный признак существования каждого» (св. Григорий Нисский); «Ипостась же умопредставляется в отличительном свойстве» (св. Василий Великий); «единая природа примышлением об особенностях каждой ипостаси разделяема» (преп. Иоанн Дамаскин. О ста ересях, 83) «Мы знаем единого Бога, но замечаем мыслию различия только по свойствам, т. е. отчеству сыновству, исхождению» (Точное изложение православной веры, I,8).
В этом случае ипостась оказывается признаком, по которому можно отличить одно Лицо от другого; но не само лицо. Но здесь — то и происходит нечто значимое для истории философии: начинается сближение слов ипостась и просопон. «Ипостасью же, т. е. лицом, называют самостоятельное существование каждой природы или, так сказать, описание, составленное из таких особенностей, которыми различаются между собой предметы одной и той же природы, индивиды» (Иоанн Дамаскин О ересях, 83).
Ведь ипостась теперь означает те черты, которые узнаются взглядом со стороны, то есть нечто внешнее: «усиа — сокровенное и исконное; ипостась — явленное и познаваемое» (Лосев о системе св. Василия)[215]. А эти, извне отличимые признаки раньше и выражались с помощью термина «просопон». Теперь же для этого подходит и слово ипостась. Два термина слилсь в своих обозначениях. Язык стал беднее? Нет — в итоге каждое из этих слов вобрало в себя прежние значения своего вновь обретенного синонима.
Дело в том, что слово просопон уже имело конкретный смысл «лица». Теперь же оказалось, что лицо это не просто некая внешняя маска, но и ипостась — то, на что эта маска налагается. В антропологии появилась глубина: под личностью стало пониматься не только то, что пред-стоит, но и то, что под-стоит (таков смысл слова ипостась и его латинской кальки — субстанция: под-стоящее, под-лежащее). Два Григория (Богослов и Нисский) отождествили просопон и ипостась. «В итоге понятие лица получило онтологическую нагруженность, которой ей раньше не хватало метафизическое обоснование, а термин ипостась наполнился персоналистическим содержанием»[216].
Поначалу ипостась понимается как подлежащее в смысле — то, что несет те или иные свойства и признаки. Но постепенно акцент смещается на подлежащее в смысле субъекта действия (подлежащее-сказуемое). Теперь «ипостасные признаки» уже не отождествляются с ипостасью[21], а лишь указуют на ее присутствие. «Характеристические свойства, это — акциденции, характеризующие ипостась» (Иоанн Дамаскин. Диалектика, 30). «Ипостасные особенности не суть ипостась, но они характеризуют ипостась» (св. Григорий Палама. Письмо к Даниилу Энийскому)[217]. В этом случае «Ипостась описывается разделяющими свойствами, но не они образуют ипостась. Можно сказать, ипостась есть образ существования, но это не есть индивидуализирующий признак»[218].
Более того, эти «характеристики» утрачивают свой содержательно-описательный характер и превращаются в имена «Ипостась — подлежащее (ипсестос) которое обнаруживается собственным именем» (св. Василий Великий. Письмо 38)[22].
К чему это приведет, мы увидим чуть позже. Пока же давайте вновь вспомним, что христианскую мысль мы сопоставляем с пантеистической. Сначала мы сказали, что Божественное бытие ипостасно в том смысле, что оно невыдуманно, не абстрактно. Теперь же ипостасность Божественного бытия раскрывается в своем значении тезиса о Божественной «узнаваемости».
Ипостась-просопон — это нечто узнаваемое, те признаки, по которым можно узнать собеседника. Благодаря «просопону» данная реальность «узнается» человеком, отличается им от опытов других «встреч» и прикосновений.
«Узнаваем» ли Бог? Может ли человек различить опыт встречи с кошкой и опыт встречи с Богом? — Очевидно, да. Значит, Бог все же как-то отличается от мира. Как заметил А. Ф. Лосев, вера действительно знает свой предмет. Ведь верят (в собственно религиозном, а не обыденном смысле) не во «что-то вообще». А в этом случае «или вера отличает свой предмет от всякого другого — тогда этот предмет определен и сама вера определенна, или вера не отличает своего предмета от всякого другого — и тогда у нее нет ясного предмета, и сама она есть вера ни во что, то есть не вера. Но что такое фиксирование предмета, который ясно отличен от всякого другого предмета? Это значит, что данный предмет наделен четкими признаками, резко отличающими его от всякого иного. Но учитывать ясные и существенные признаки предмета не значит ли знать предмет? Конечно, да. Мы знаем вещь именно тогда, когда у нас есть такие ее признаки, по которым мы сразу отличим ее от прочих вещей и найдем ее среди пестрого многообразия всего иного. Итак, вера в сущности своей есть знание»[219].
В утверждении инаковости Бога и мира состоит суть мистического богословия. Елена Рерих любит при случае цитировать пассажи из христианских апофатических трактатов и замечать: ах, если бы христиане всегда мыслили так же глубоко. Она при этом не замечает самого главного: христианские богословы для того говорили о том, что Бога нельзя мыслить по образу мира, чтобы ощутить безмерное превосходство Творца над миром и человеком. Рерих же в этих самых текстах пытается найти подтверждение своей уверенности в том, что вне мира Бога, собственно, и нет[23]. Христианское апофатическое богословие имеет своей целью отличить Бога от мира, а не растворить Бога в мире. Оно говорит, чем Бог не похож на мир, сверхкачествен. Ощутив сверхкачественность Бога, апофатическое богословие противится отождествлению Его с тем, что уже знакомо нам по иным опытам нашей жизни. Лишь зная Бога, можно сказать, что Он не похож на то, что мы встречали в нашем прошлом опыте.
И вновь вспомним дивное признание Блаватской в том, что она верит в Бога «в абстрактном смысле». Вот интересно — способна ли Блаватская отличить действие Духа Божия от мяуканья кошки? Если да — значит, она все-таки считает возможным конкретное Богопознание. Значит, Бог обладает «ипостасью». Нет, не в смысле внешних физических черт (хотя после воплощения Его в мире людей и внешние, физические черты появились у Богочеловека), но в смысле 1) «отличимости» того человеческого опыта, который порождает встреча с Богом в душах людей, от тех переживаний, которые там же образуются при иных ситуациях; 2) «отождествления» нынешнего опыта встречи с аналогичным опытом, который был раньше у этого мистика или же у других носителей той же духовной традиции прежде него («мой Бог» — это «Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог Иисуса Христа и Серафима Саровского»).
Да, Бог «непознаваем» в смысле неисчерпаемости Его бытия нашим умом. Но, как говорил св. Кирилл Иерусалимский: «Ужели потому, что не могу выпить целой реки, не брать мне и в меру полезного для меня?»[220]. И если я не могу выпить моря — это не означает, что я не могу отличить вкуса водопроводной воды от океанской.
Или Блаватская, говоря о вере в «абстрактный дух», имеет в виду, что идею Бога надо абстрагировать от мира, от всех земных представлений, от всего знакомого и привычного нам земного опыта? Но это значило бы как раз четко различать Бога и мир, то есть встать на путь именно христианской, антипантеистической мистики.
Так что когда антично-христианские авторы говорили о Боге как об ипостаси, они прежде всего имели в виду, что Бог — не «абстракция», не «образ», не «символ», но подлинное Бытие, реально сущее и отличимое от тварных частей мироздания. «Безипостасным называется то, что что никогда и никаким образом не существовало… Ипостась же должна иметь субстанцию с акциденциями, существовать сама по себе и созерцаться через ощущение, или актуально (energeia)» (преп. Иоанн Дамаскин. Диалектика, 30 и 31). «Ипостась есть такое понятие, которое показывает общее и неопределенное [т. е. сущность, природу — А.К.] в какой-либо вещи через ее очевидные особенные свойства», — говорится в тексте, известном как «38-е письмо св. Василия Великого»[24].
Еще одно новшество в понимании связки ипостась-просопон начало в IV веке лишь проступать. Новые значения этих слов начинают проявляться через сам образ их употребления. Теперь уже чаще всего они отностяся только к тем реалиям, которые являются «личностными» в нашем, современном понимании. «Некоторые западные исследователи отмечают, что в анализе «ипостаси» Григория Нисского отсутствует «личностный» момент: у него речь идет скорее о «вещи», чем о «личности». Подобное суждение не совсем верно, ибо, во-первых, Григорий, говоря об ипостаси, имеет в виду, главным образом, область «разумного бытия». Во-вторых, отсутствие глубинного анализа личности объясняется тем, что такой цели и не ставилось: для Григория основной задачей было установление соотношения бытия общего и бытия конкретного. В других своих произведениях он, как показывает Д. Линч, постоянно отождествляя «лицо» и «ипостась», всегда соотносит данное понятие с существами разумными и духовными, т. е. обладающими самосознанием. Тем самым: он вплотную приближается к современному понятию «личности» (= «центр сознания») Наконец, в-третьих, хотелось бы заметить, что брать западное представление о «личности» (с его преобладающим акцентом на рациональном начале ее) в качестве эталона и применять его к византийской системе мышления, представляется нам процедурой недостаточно корректной. Как показывают определения «ипостаси» Григория Нисского, Иоанна Грамматика и др. византийских писателей, их интересует в «личности» не столько момент «сознания», сколько момент «бытия» (хотя, конечно, и первый не остается без внимания). Подобная «онтологичность» представления о личности в Византии служит немаловажной чертой ее своеобразной культуры»[221].
Мы не знаем, кто же из греков дал в конце концов итоговую формулу ипостасного бытия. Но в V веке римлянин Боэций был убежден, что греческая терминология лучше подходит для обозначения личностного начала, нежели терминология латинская: «греки гораздо более четко обозначили индивидуальную субстанцию разумной природы, назвав ее ипостасис: у нас же не хватает слов для обозначения, и потому мы сохранили переносное название, именуя лицом (персона) то, что они зовут ипостась. Итак, более опытные в словесном выражении греки называют индивидуальную субсистенцию ипостасью. Субсистенция — это то, что само не нуждается в акциденциях для того, чтобы быть…»[222]. Августин также понимал, что персона латинского богословия не тождественна ипостаси богословия греческого: «Можно, в случае необходимости высказываний и споров, говорить о трех лицах… Итак, что же нам остается, как не признать, что произносим эти слова, вынуждаемые необходимостью, когда дело касается обильных рассуждений, направленных против нападок или заблуждений сектантов» (О Троице. PL 42, col. 941).
Эти признания, отметим, свидетельствовалось и другой стороной: «Римляне по бедности своего языка и по недостатку наименований не могут различать сущности от Ипостаси, и потому заменяют слово ипостаси словом лица, — из сего выходит нечто достойное смеха и сожаления». — считал св. Григорий Богослов[223]. А в послании Акакия, епископа Верийского, к свт. Кириллу Александрийскому подтверждается, что в эпоху Вселенских соборов считалось, что «Римский язык по своей скудости сравнительно с нашим греческим языком» малопригоден для передачи оттенков греческой мысли[224].
Научившись у кого-то из греков, или придя к такому выводу самостоятельно, Боэций делает шаг вперед в понимании ипостаси-персоны. Если «понятие ипостаси в античной и греческой мысли есть преимущественно физическое: оно распространяется и на предметы неодушевленные»[225], то Боэций уже прямо отказывается прилагать слово персона (а, значит и ипостась) к лошадям, быкам «или другим бессловесным животным, живущим только чувствами без разума. Но мы говорим о личности человека, Бога, ангела»[226]. Теперь уже не безразлично какие (одушевленные или нет) предметы, но объявляется, что «людей, которые узнаются каждый благодаря определенным чертам (форма), латиняне стали называть «лица» (персона), а греки — «просопон»[227].
Таким и стало определение личности на многие века вперед: «Личность есть индивидуальная субстанция разумной природы»; persona est naturae rationalis individua substantia (PL. t. 64, col 1343).
Очень важная мысль прозвучала у Боэция: личность не зависит от своих свойств («субсистенция не нуждается в акциденциях»); ипостась не тождественна своим отличительным чертам и ее бытие не сводится к существованию этих характеристических проявлений.
Три вывода следуют отсюда: 1) личность трансцендентна по отношению к своим внешне-узнаваемым признакам и не может быть через них определена. Следовательно, все эти признаки не более чем знаки, указующие в сторону личности, но не обнимающие собою саму личность. 2) Личность, нетождественная своим акциденциям, возвышается над ними и потому может их менять, что означает свободу личности от своих же собственных случайных признаков. 3) Эта формула не позволяет антропологии превратиться в маскарад: персона перестала быть маской.
В западной схоластике две первые линии были продолжены. По определение жившего в Париже Ришара Сен-Викторского (ум. 1173): личность есть «разумное существо, существующее только посредством себя самого, согласно некоему своеобразному способу»[228]. Иоанн Дунс Скотт (ум. 1308) соглашался: «Отвечая на вопрос, [говорю], что принимаю определение личнсти, которое предлагает Ричард [Сен-Викторский] («несообщаемое существование разумной природы») и которое разъясняет или исправляет деление Боэция, утверждающего, что личность — «индивидуальная субстанция разумной природы» поскольку [из определения Боэция] следовало бы, что личностью является душа, и божественность также является личностью; и это [определение] в собственном смысле не подходит Богу, поскольку нет индивида где нет делимого».[229]
Петр Ломбардский (ум. 1160) составил собрание цитат из авторитетных теологов (так называемые «Сентенции», породившие с XII по XVII века более 1400 комментариев) с таким итоговым определением личности: «индивидуальное существо, которое отличается благодаря своеобразию, относящемуся к достоинству»[230].
«Тем самым были собраны вместе все существенные черты того, что понималось под словом рersonа — это есть нечто самостоятельное, и таким образом не есть часть некоторого целого (как в случае души); одаренное разумом, однако совершенно индивидуальным и поэтому непосредственным образом; обладающее достоинством (dignitas)», — пишет западный исследователь[231].
Для западной христианской мысли всегда был более характерен интерес к вопросам антропологическим (в т. ч. этическим и социальным); в то время как восточно-христианской мысли был более присущ интерес богословско-метафизическим проблемам. И хотя именно на Востоке прозвучала великая формула, связующая антропологию и теологию — «итак, если ты понял смысл различия сущности и ипостаси по отношению к человеку, примени его к божественным догматам — и не ошибешься»[232] — все же всерьез Восток ею не воспользовался. Собственно, уже младший брат св. Василия — Григорий Нисский — эту формулу перевернул и попробовал о различиях в мире людей говорить с точки зрения единства Божественной Троицы. Схема у него получилась искусственная и не получившая никакого дальнейшего развития[25].
И все же именно этот взгляд из богословия в антропологию уберег православную мысль от излишне подробных и догматизированных формул о человеке и о личности как таковой. Ведь Бог непознаваем, а человек есть образ Непостижимой Троицы: «В человеческой личности мы видим тварный образ трансцендентности»[233]
И следствием апофатического богословия стали апофатические, осторожные нотки в антропологии. «Бог во свете живет неприступном», но и человек в глубине самого себя открывает «свет неприступный». «В этом состоит последний и высший мистический момент его богоподобия. Бог трансцендентен — и сам я трансцендентен; Бог сокровенен — и я сокровенен; существует сокрытый Бог и сокрытый человек. Существует негативная теология, указуюшая на последнюю тайну Божества; должна существовать и негативная антропология, указующая на тайну самого человека»[234]. «Наша духовная природа, существующая по образу Творца, ускользает от постижения, и в этом имеет полное сходство с тем, что лежит выше нас, в непостижимости себя самой обнаруживая отпечаток природы неприступной» (св. Григорий Палама)[235]. «О человек! узнай себя, кто ты, чтобы взирая на то, что вне тебя, не подумать, что видишь самого себя… Истинно мы то, что недоступно познанию посредством чувств» (св. Григорий Нисский)[236]. Уместно вспомнить и другое признание этого мыслителя: «Мы не знаем жизни, которою живем» [237].
Эта апофатическая осторожность означала, что православном богословии есть скорее икона Троицы, нежели учение о Ней. Есть несколько гениальных «мазков», есть интеллектуальная икона — скорее предмет благоговейного и мистического созерцания, нежели плод аналитического усилия.
Но инерция античного, безличностного философствования оказалась все же слишком велика.
По верному и печальному выводу прот. Сергия Булгакова, «Античная философия даже и в высших своих достижениях не знает проблемы личности как таковой, философски не замечает самосознающего я, не «удивляется» ему. Она знает и интересуется личностью не как я, но скорее как конкретной индивидуальностью, в которую облекается это я. Можно сказать, что она знает личность не в личном самосознании, не и образе местоимения первого лица, но лишь как он или оно, предмет или вещь, не подлежащее, а сказуемое. Но личность, хотя и имеет предикативное определение, однако им не исчерпывается и даже не установляется. Античная философия о личности спрашивает не кто, но что или каков… Основная особенность античной мысли та, что она проходит мимо личности, ее не замечая. Этот ее имперсонализм имеет последствием общую недостаточность средств патриотической философии для учения о троичности… И хотя античная патристическая философия практически всегда отличает, где идет дело об индивиде, как личности, и где как о предмете, однако философские средства античной и патристической философии дают ей возможность понимать личность лишь как особую вешь или индивид, атомон. Она знает личность лишь в свете противопоставления общего и особенного… [И даже в патристической мысли] основным и определяющим является это противоположение общего и особенного, но не личного и безличного… [А ведь] не всякий индивидуум есть личность. Все существующее имеет общие, родовые черты, и индивидуальные, особенные, и в этом смысле индивидуальна гора Монблан, река Волга, и т. д. Личность как таковая, совсем не охватывается этим противопоставлением. Между тем это есть единственная категория для установления ипостасного бытия, которое всецело приравнивается индивидуальному… Мысль св. отцев вращается в области имперсоналистических понятий, личный характер ипостасей, относительно которых они знают лишь gnоrismata, отличительные признаки, есть для нее факт, который она догматически приемлет, не давая однако ему места в своих богословских построениях… «Физический», предметный характер ипостаси делает это понятие совершенно неприменимым для того, чтобы вообще уловить понятие личности как таковой. Самое большое, оно имеет дело со свойством личности, ее признаком и проявлением, которое раскрывает или сопровождает личность, но не есть она сама»[238].
Здесь мы подходим к тому месту, когда при рассмотрении христианской философии надо — как это ни неприятно для ума, настроенного традиционалистски-консервативно (то есть православно) — честно сказать, что современная богословская мысль в определенном вопросе не ограничивает себя суждениями патристического корпуса, а в ряде случаев даже прямо не соглашается с некоторыми святоотеческими суждениями (считая их влиянием «школы», а не Духа Святого).
Вот вывод, сделанный крупнейшим русским богословом ХХ века Владимиром Лосским: «Я не встречал в святоотеческом богословии того, что можно было бы назвать разработанным учением о личности человеческой»[239].
Как же в этом случае быть православному человеку, желающему все же понимать слова своего вероучения (о Трех Лицах Болжества и Едином Лице Богочеловека Христа)? Профессор богословия Санкт-Петербургского Императорского университета Б. Мелиоранский формулировал этот вопрос так: «Веруя в непогрешимость церкви, как должно понимать ее догмат: категорически, т. е. в Боге одна сущность и три ипостаси, или — условно, т. е. если категории сущности и ипостаси (безотносительно к тому, избежимы они для ума или неизбежны) приложить к откровенному учению о Боге, то учение выразится так: в Боге одна сущность и три ипостаси. Кажется, принимая второе решение, мы будем вернее примеру св. Афанасия, который отнюдь не настаивал на слове «единосущный» ни до ни после Никейского собора, не отлучал Маркела Анкирского — хотя тот не хотел ничего слышать ни о «сущностях», ни об «ипостасях»… Авторизована она церковью именно как наиболее совершенное выражение догмата посредством понятий и терминов античной философии. Но значит ли это, что догмат нельзя выразить столь же точно и совершенно посредством категорий понятий и терминов другой философии (иного времени, и другой научной эпохи)?»[240].
Итак, некогда Отцы Церкви взяли терминологию и наработки античной, языческой философии и с их помощью попробовали переложить, что они услышали в Евангелии. Следование их примеру предполагает, что богословы других эпох и культур могут совершать аналогичные усилия по «переводу» с библейского языка на язык той или иной философии (и наоборот)[26]. Современным богословам совершать такие переводы с наследием европейской философии и легче и сложнее, нежели св. Василию Великому. Легче — потому, что освоению и переосмыслению подлежит не языческий материал, а наработки философии, развивавшейся в духовном или хотя бы культурном пространстве христианства. Сложнее — потому, что новейшая европейская философия не знает никакой единой «школьной философии», чьи термины, аксиомы и теоремы были бы известны всем более-менее образованным людям.
Что касается поиска новых терминов, перехода на новый язык, то в русском богословии он уже совершился. — Первый шаг был сделан в «Катехизисе» киевского митрополита Петра Могилы (изд. 1645 г.). Текст катехизиса был написан на церковнославянском языке, но тем знаменательнее, что традиционное греческое Ипостась или славянское Лицо в нем было заменено на Персона. Такая замена означала, что образованный (на польский, конечно, лад) западнорусский человек теперь в богословском тексте слышал всю гамму отзвуков, связанных уже с новоевропейским пониманием «персоны-личности».
Слово личность в русский язык приходит столетием позже — в XVIII веке (как калька с европейской персоны). И уже в начале XIX века его использует св. митрополит Московский Филарет. Смена языка означала в конце концов и новые смыслы в теории. Иконическая формула православной догматики осталась неизменной: слова Ипостась, Лицо, Личность объявлены синонимичными и взаимозаменяемыми. Переводчики, встретив слова ипостась, просопон и даже «личные черты» () в святоотеческих текстах, переводят их как личность[27]. Соответственно, формулы «Три Лица одной Природы» и «Одно Лицо Богочеловека Христа» остались неизменными. Но уже в XIX веке их понимание обретает новый оттенок, который не был ясно прописан в святоотеческих текстах.
Почти синонимом слова «личность» (точнее говоря, указателем на ее присутствие, то, по наличию чего опознается именно личностное бытие или, если вспомнить патристическое понимание ипостаси — ипостасью ипостаси) оказывается «самосознание».
«Личность заключается не в границах бытия, не в сформированности, ограничивающей известное существо и отделяющей его от других существ, а в чем-то другом. Это нечто — есть не что иное как самообладание, — частнее, самосознание, соединенное с самоопределением и самоощущением»[241]. Даже крупнейший знаток церковных древностей профессор В. В. Болотов склонен к такому определению[28].
В начале ХХ века определение личности через самосознание уже общепринято в богословских публикациях: «Троица — на философском языке нашего времени это значит: Бог есть абсолютная духовная субстанция, которую три отдельных самосознания сознают как свою…Смыслу слова ипостась вполне соответствует наше понятие самосознание»[242]. «Ипостась есть духовная личность, единое самосознающее я»[243]. «Главнейшим признаком личного бытия является сознание, или, лучше сказать, самосознание… Существо самоопределяющееся, действующее по своим собственным мотивам есть личность»[244].
Так и у современных богословов: «Св. Григорий Нисский, постоянно отождествляя «лицо» и «ипостась», всегда соотносит данное понятие с существами разумными и духовными, т. е. обладающими самосознанием. Тем самым он вплотную приближается в современному понятию «личности» (=«центр сознания»)»[245].
Как известно, богословская (софиологическая) система прот. Сергия Булгакова не была принята Церковью. И тем не менее по вопросу о том, какое значение приписать слову «личность» расхождения у Булгакова и его критиков не было. Вот позиция о. Сергия: «Отношения, так же как и личные признаки (notiones) не суть личности и не равны личностям. Личность есть прежде всего и после всего самосознающее, самополагающееся Я, которое только и может иметь индивидуальные черты или вообще признаки. Но сами по себе признаки, сколь бы они ни были реальны в силу своего бытия в Абсолютном, не становятся личностями, Я, если ему не было места в Абсолютном»[246]. «Природа всякого духа состоит в нераздельном соединении самосознания и самобытности или самоосновности, ипостаси и природы»[247].
В официальном документе нашей Церкви — в синодальном постановлении по поводу софиологии прот. Сергия Булгакова — употребляется то же самое уравнение: «Три Лица, то есть три сознания или три «я»… Ипостась, то есть самосознание… Человек не только живет, но и сознает, что живет и для чего, и притом сознает и принадлежащими ему — своими — все свои части и все их переживания. Думает не «телу больно», а «мне больно»; не «душа моя любит», а «я люблю» и так далее. Но также человек освещает своим самосознанием и присваивает себе, считает своим — и свой дух, почему и говорит не только «мое тело», «моя душа», но и «мой дух», или как Апостол: «Ваши дух, душа и тело» (1 Сол. 5,23). Это свидетельствует, что ипостась (самосознание) и дух не одно и то же… Нужно различать, с одной стороны, ипостась — самосознание, а с другой стороны — духовную природу, так сказать, предмет самосознания… В Лице Иисуса Христа человечество не имело отдельной ипостаси, человеческого самосознания… Человечество Христово, не имея своего самосознания — ипостаси, было «воипостазировано», т. е. введено во Ипостась Слова Божия или, грубо выражаясь, стало пользоваться Ипостасию — самосознанием Слова Божия за отсутствием отдельного человеческого самосознания»[248].
Нельзя не замечать, что это все же другое понимание ипостасного бытия, нежели то, что было в патристике. «Когда мы сегодня говорим о «личности», то имеем в виду, прежде всего, наше понимание того, что каждый человек является отдельным центром самосознания, чувствования и волеизъявления. В современном употреблении термина «личность» акцент делается на внутренней субъективности. Однако слова, употребляемые Отцами, — prosopon (буквально «лицо») и hypostasis (буквально «субстрат»; отсюда смысл: то, что прочно, что обладает стабильностью и долговечностью) — не имеют ясного и очевидного значения внутренней субъективности. Здесь акцентируется, скорее, объективная, чем субъективная сторона, содержится указание на то, как личность открывается стороннему наблюдателю. Так, греческие Отцы, говоря о Боге как трех «лицах» (prosopoi) и трех ипостасях, совсем не подразумевали, что в Боге существуют три отдельных центра самосознания. Скорее, они имели в виду, что каждое из Лиц — Отец, Сын и Дух Святой — являет Собой отличный от других «способ существования» (mode of existence; греч.: tropos hyparxeos)»[249].
Определение ипостаси как «иного способа существования» мы встречаем, например, у Иоанна Дамаскина (Точное изложение православной веры 1,8). Речь идет о причинных отношениях, складывающихся в отношениях Лиц Троицы: Нерожденность, Рожденность, Исхождение. Проблема в том, что эти «характеристики» (сходные с антично-средневековой манерой характеризовать человека по месту его происхождения: Филон Александрийский, Гераклит Эфесский, Кирилл Иерусалимский…) сами по себе ничего не говорят о личностном бытии. «Исходить» может свет; рождаться — безличностная идея или животное. Нерожденность Отца патристические проповеди традиционно сопоставляют с нерожденностью первого человека — Адама. Нерожденный Адам, конечно, отличается от своего рожденного сына Авеля этим своим свойством, указующим на образ его прихода в бытие, но все же, тким образом говря о личности, мы все еще остаемся в мире внешне-носимых и извне узнаваемых «ярлыков», масок, которые, конечно, позволяют отличить одного человека от другого, но не позволяют отличить личностное бытие от бытия безличного. Поскольку ипостась понимается как «определенное бытие, бытие чем-то, окачествованное сущестование»[250], то эта категория в равной мере приложима и к миру личностных существ, и к миру безличностному и в этом своем качестве такое определение ипостаси «слишком элементарно»[251].
«Ипостась» патристики — не столько современная «личность», сколько «особь»: «душа и тело образуют собою человека, одно неделимое конкретное существо, одну ипостась, особь»[252]. Поэтому богословы, желающие быть не толкователями и апологетами святых отцов перед современной культурой, а просто хранителями традиции, продолжают пользоваться определением ипостаси как «конкретного отдельного самостоятельного бытия»[253].
В то же время расхождение современного персоналистического богословия с патристической философией не означает ухода от Евангелия и разрыва с Отцами. Если бы в распоряжении Отцов были те термины, которыми пользуемся мы, они бы их использовали — ибо «никак нельзя сказать, что понятие о личности как сознательном субъекте полностью отсутствует в греческой классике, в Новом Завете и в патристических текстах. Когда в Евангелии говорится о том, что Иисус молится Отцу и Отец отвечает, без сомнения, речь идет о чем-то большем, чем о совмещении двух способов существования. И когда в четвертом Евангелии отношение между Отцом и Сыном истолковывается в терминах взаимной любви, не следует ли, читая об этом, вспомнить ту истину, что только личности способны к такой любви; движения или способы сущестования не любят и не могут любить друг друга»[254].
Слишком очевиден был мощный персоналистический импульс Библии, чтобы не заметить, что ее Бог есть личность: «Я подъемлю руку свою к небесам и говорю: живу Я вовеки» (Втор. 32, 40). А потому — «как бы далеко не заходили церковные писатели в абстрагировании понятия о существе Божием, сколь бы недоступным человеческому познанию и неопределимым они его ни считали, — они всегда признавали, что Божеству всецело присуще самосознание и самоопределение, всеведение и всемогущество. Три ипостаси, в которых проявляется Божественная сущность, — Отец, Сын и Св. Дух, — суть три самосознательные, разумные и самостоятельные Лица, — вот основной тезис христианского воззpения на Троицу, резко отделяющий его от метафизической триады неоплатонизма»[255].
Наиболее ясно из патристических текстов это явствует из следующих слов св. Григория Богослова: «Для того Дух именуется Другим (Другим Утешителем — А. К.), чтобы дать понятие о равночестности, ибо слово другой поставлено вместо другой я ()».
Теперь, когда мы знаем, как трудно и неуверенно шли поиски богословского определения личности, надо задуматься над причиной этой неуверенности.
Глава 3. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЛОВО ПЕРЕД ЛИЦОМ БОГА
Слово богословие начинено взрывчаткой. В нем сближены друг с другом понятия, которые несовместимы, понятия, готовые взорвать друг друга. Бог — и слова… Да какие же слова могут быть сказаны о Боге? Как можно говорить о Том, Кто выше слов?
Любой человек, который однажды прикоснулся хотя бы к частичному пониманию того, что за Беспредельность стоит за словом Бог, после этого изумленно озирается на стеллажи богословских библиотек. Разве наши, человеческие, слова подходят для разговора о Нем? Как можно с такой самоуверенностью, назидательностью, категоричностью говорить о том, что по сути своей Непостижимо? Здесь можно только изумленно молчать, бережно перекатывая от края до края своего сердца тот остаточек ощущения, стараться как можно дольше сохранить его вкус. Но — строить формулы, превращать это несказанное чувство в догматы, да еще и спорить о них, осуждать тех, кто с этими формулами не согласен… Неужели не понятно, что спорить с другими людьми о тех словах, в которые мы пробуем замкнуть Его Тайну — это значит отвернуться от Него? Не значит ли это потерять предстояние Ему ради сомнительного удовольствия доказывания другим людям преимущества моих высказываний о Нем? Не есть ли это самый верный путь к тому, чтобы утратить ощущение Присутствия и так и остаться при своих рукотворных формулах?
Бого-словие с самого начала — авантюрное предприятие: человеческие слова о не-человеческом. Есть ли у нас право так, по-нашенски, говорить о Том, что отнюдь не наше? Для человека, приближащегося к миру богословия очень важно осознать, что он вступает в мир бесправия. Здесь кончается «каноническая территория» наших грамматик и логик. У нас нет права на богословие — потому что не пристало человеческому уму влезать со своими привычками, верованиями и суевериями в тот круг Бытия, который нам неподвластен. Неподвластен ни технологически, ни магически, ни интеллектуально. Если уж и есть у нас богословие — то это не по праву, не по заслугам, а по дару.
Бого-словие, речь о Боге может быть оправдана только одним: если бы Тот, о Ком эта речь, Сам даровал бы нам и такую возможность, и сами слова… Но прав тут быть не может. И надо быть готовым к тому, что даже права нашей логики здесь будут нарушаться. Ведь при первой же Встрече нам было сказано: «Моисей! Моисей! Не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая… Моисей закрыл лицо свое; потому что боялся воззреть на Бога» (Исх. 3,4–6). Какие тут могут быть права у наших ожиданий и проекций, если «Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои» (Ис. 55, 8)?
Приступая к тем пространством, где можно встретить Бога, надо быть готовым к тому, что наши права могут быть поруганы самым дерзким образом — вплоть до откровения абсурда. Пред лицом Бога «вся праведность наша — как запачканная одежда» (Ис. 64, 6)[29]. В том числе — и праведность логическая, гносеологическая, методологическая… Она тоже обречена на то, чтобы оказаться в груде тряпок.
Этот первичный опыт обескураженности, опыт обесцененности слов и формул очень важно сохранить и не растерять при всех своих дальнейших странствиях по богословским библиотекам. Стеллажи богословской библиотеки вызвали твое недоумение? Но вот еще один повод для этого же чувства: авторы этих книг тоже начинали с такого же недоумения. Но явно смогли его перерасти. Значит, их опыт не ограничился опытом растерянности и Молчания. Этот опыт — необходимая часть религиозного опыта, но, оказывается, не исчерпывающая. В истории богословия сохранялись как раз лишь те книги, что были написаны людьми, которые сами пережили этот опыт растерянности.
Но прежде чем говорить о дальнейшем, постоим еще не пороге Богословия, на том пороге, имя которому — Молчание.
Максимилиан Волошин мысль о неизбежности религиозного безмолвия вынес в самое начало своей поэмы о преп. Серафиме, эпиграф которой гласит: «Когда я говорю о Боге, слова мои как львы ослепшие, что ищут источника в пустыне». Философ Людвиг Витгенштейн, напротив, этим же признанием завершает свой «Логико-философский трактат»: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать».
Почему невозможно говорить о Боге? Да ведь говорим-то мы понятиями. А «понятие есть вид ограничения» (св. Григорий Богослов[257]). И кто же решится накладывать ограничения на Бога?! Поэтому, чтобы не питать иллюзию о том, будто Беспредельное можно сделать пленником наших понятий и о-предел-ений, нам напоминают: Божество «превосходит всякое слово и всякое знание и пребывает превыше любого ума и сущности, все сущее объемля, объединяя, сочетая и охватывая заранее, Само же будучи для всего совершенно необъемлимо, ни воспринимаемо ни чувством, ни воображением, ни суждением, ни именем, ни словом, ни касанием, ни познанием» (св. Дионисий Ареопагит. О Божественных именах. 1,5)[258]. «Он есть все во всем, и ничто ни в чем» (св. Дионисий Ареопагит. О Божественных именах. 7,3)[259].
Впрочем, что это тут мы услышали? «Он есть»? Но ведь так можно сказать не только о Боге, но и о псе, и о камне, о сапоге… Да что же общего у Бога может быть с ними? Божество — то, что собою объемлет все и все превосходит. Но если Бог — «есть» и камень — тоже «есть», значит это «есть» объемлет собою и Бога и камень, и, значит, оно оказыватеся чем-то большим, чем Бог… И знаем ли мы в каком смысле Бог «бытийствует»? Точно ли Его бытийствование хоть чем-то сходно с нашим или с бытием камня? Можем ли мы, говоря «Бог есть» — это «есть» помыслить иначе, чем когда мы говорим то же самое о себе самих или наших сапогах?… Вот потому св. Дионисий находит, что даже слово «существует» слишком тяжеловесно — чтобы приложить его к Богу. «Его же Самого не было, не будет и не бывало, Он не возникал и не возникнет, и — более того — Его нет» (О Божественных именах 5,4)[30].
Ах, как точно сказал английский кардинал Ньюман в XIX столетии: богословствовать — значит говорить и тут же брать свои слова обратно (saying and unsaying). И все же — говорить, помня о хрупкости всех своих слов…[31] Помня, что мы знаем, что Бог есть, но не знаем, что Он. Или — в уже знакомой нам терминологии Аристотеля — нам известна его первая сущность, но остается непознанной его вторая сущность.
Все религиозные практики мира признают, что на грани нашего земного бытия и Горнего «дальнейшее — молчанье». Для человека, живущего в мире книг, это очень важное открытие: оказывается, Бытие полнее человеческих слов. «Изумевает всяк глагол». С этого опыта молчания начинается и наша Всенощная. Отворив Царские врата, священник молча совершает каждение алтаря… Это понятно: чтобы вымолвить первое слово к Богу, надо прекратить бесконечное внутреннее говорение, обращенное ко всему остальному.
Изначальная религиозная правда осознана в словах Рильке:
Умеешь, Боже, Ты неслышным быть.
Кто именами стал Тебя дарить,
С Тобой соседствовать не сможет он.[260]
Опыт молчания забывать нельзя. Но можно ли оставаться его пленником? И не нужно ли провести резкую границу между благоговейной апофатикой[32], бессильной вместить в слова преизбыток своего опыта — и ленивой агностикой[33], которая, понаслышке узнав о трудностях Богопознания, отказывается от всякого познающего усилия и заученной скороговоркой заявляет об «антиномизме» и о бессилии «словес»? Апофатика рождается от избытка опыта: агностика — от нежелания его приобретать[34]… Агностик просто не знает — есть ли в бытии то, о чем можно было бы говорить этими словами, или этого вовсе нет. Агностик не знает цены своих собственных слов, а тем более цены слов других людей. Но молчание в богословии — дитя знания, а не невежества. Человек встречатся с такой полнотой чувства и опыта, которую он не может разменять на слова — и потому молчит.
Нельзя путать эти два молчания. Нельзя путать то молчание, которым окружена буддистская нирвана и то молчание, которым окружено христианское Царство Божие. Христианин молчит из ощущения того, что то, с чем он встретился, полнее, выше, бытийственнее наших слов. Буддист молчит из страха наделить бытием то, что его не имеет, но что может принять призрак реальности — если наделить его словом. Результат вроде бы одинаковый: и там и там молчание, но христианин и буддист молчат о разном.
И все же — как можно выйти за пределы молчания и как можно передать другому опыт несказанного? Мы не в силах наше молчание превратить в слова — и при этом не предать полноты того опыта, что прежде заставил нас умолкнуть. Нет у нас права на речь. Но, может, то, что невозможно человеку, возможно Богу? Вот, собственно, главный вопрос религии: а не желает ли Бог быть познанным? Греческие писатели слово бог ) считали происходящим от глагола — бежать[35]. Единый Бог безымянен и недоступен. К Нему не стоит обращаться с молитвами.
Люди слишком малы и потому то, что они могут знать — тоже неизбежно мало. Малость человеческих познаний неспособна охватить Божество, и потому недостойна Его. Поэтому приходится признать, что то божество, которое людям известно, несравненно ниже того божества, которое от людей скрыто. Так китайская философия мыслит о Дао — «Великой Пустоте»: «Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Несколько хуже те правители, которых народ любит и возвышает. Еще хуже те правители, которых народ боится, а хуже всех те правители, которых народ презирает» (Даодэцзин, 17). Так что то Бытие, о котором не знают ничего, лучше и выше того Бога, которого люди любят…
На Западе языческий философ Цельс во втором веке по Р. Хр. свое недоумение по поводу того, как можно дерзать обращаться с молитвами к Высшему Богу, выражал так: Род христиан и иудеев подобен лягушкам, усевшимся вокруг лужи, или дождевым червям в углу болота, когда они устраивают собрания и спорят между собой. Они говорят, что Бог нам все открывает и предвозвещает, что, оставив весь мир и небесное движение и оставив без внимания эту землю, Он занимается только нами, только к нам посылает Своих вестников и не перестает их посылать и домогаться, чтобы мы всегда были с Ним (Ориген. Против Цельса. IV, 23).
Так полагал позднее и Мейстер Экхарт, полагавший, что Бог (тот Личный Бог, Который открылся в Библии и к Которому можно возносить человеческие молитвы) ниже безличностной и скрытой, безымянной Божественности.
Однако же все эти построения обесцениваются одним вопросом: а подлинно ли Бог желает быть вечным беглецом? Для Бога ничего не стоит увернуться от объятий наших силлогизмов. Но желает ли Бог лишь скрываться от людей, или же Он готов открыться им? Бог — не просто некий объект, который радар фиксирует на своем экране помимо всякой воли самого объекта фиксации. Бог сам ищет этот импульс: этот поисковый радар наконец-то заработал? Эта душа вышла на Мои поиски? — Так Я сам пойду к нему в ту зону, в которой Меня ищут, вмещусь туда, чтобы быть рядом с тем, кто начал Меня искать.
Этот поворот религиозной мысли некогда осознал Гераклит. По его словам, «Мудрое только одно. Оно хочет и не хочет называться именем Зевса» (Гераклит В 32/84 М).
Эта нерешительность, естественная для языческого мудреца, все же преодолевается решительностью христианского откровения.
Именно самая высокая и свободная мысль христианства открывает дорогу богословию и его догматам: «Бог есть любовь». Именно если однажды допустить (или опытно пережить), что Бог есть любовь, будет получено оправдание богословию. Ведь любовь не играет в пятки. Во всяком случае — она не сводится к этим играм. Любовь желает встретиться, открыться, она желает, чтобы о ней узнали. Вот и Бог не желает быть скрытым от людей. Он желает быть узнанным. А в Боге желания не отличны от реальности — они воплощаются в ней и тем самым творят ее. «Он выходит из Своей природной Сокрытости… Слово Божие желает всегда рождаться по духу в хотящих этого… Бог, будучи сверхсущностным, возжелал прийти к сущности и облачился в бытие», постижимое человеком (преп. Максим Исповедник)[261]. Бог выходит из своей непостижимости (хотя и не теряет ее) — «чтобы постигаемым привлекать к Себе (ибо совершенно непостижимое безнадежно и недоступно), а непостижимым приводить в удивление, через удивление же возбуждать большее желание»[262].
Как точно заметил Альберт Эйнштейн, объясняя свою уверенность в том, что человек может достигать верного познания: «Бог ухищрен, но не злонамерен». Да, Бог — это тайна. Но не секрет. Бог не желает оставить людей вообще без знания о Нем. Для обретения Бога «надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает» (Евр. 11, 6). Именно последняя часть этого апостольского стиха открывает нам основу библейской религиозности. Для того, чтобы философская апофатика переросла в живую религию, нужно убеждение, что Бог не только есть, но что Он еще и открыт к миру людей: «ищущим Его воздает». Нескрытость, непотаенность Бога — основа религии. Это своего рода анти-дао. Бог полнее Своей собственной непознаваемости. Он Сам придвигается к людям, ищущим Его.
У нас, у людей, нет такой технологии, которая могла бы заставить Бога повернуться к нам Лицом и открыть нам Его тайны. Нет у нас магии, которая могла бы уловить Бога и вовлечь Его в наш мир. Но Он Сам приходит к нам, потому что мы для Него — не чужие. Он «пришел к своим» (Ин. 1,11). Отсюда начинает развертываться все богословие: если Бог допускает Свое постижение, значит мы для Него не чужие. А почему для Него мы не чужие? — Тут начинается тема о творении, о соотношении мира, человека и Бога. И все эти темы должны быть проинтерпретированны так, чтобы на их гранях отражалось понимание того, что «Бог есть любовь». Без понимания этого религия невозможна, а понимание требует своей приложимости ко всем совершенно сферам религиозной практики и мысли человека.
А раз для Бога мы свои — значит, у нас есть право богословствовать. Есть право думать о Нем. Да и пожалуй, больше, чем право: долг. Но если Бог вошел в наш мир — значит, мы должны найти место Его прикосновения. Найти — и опознать, осознать и сохранить то, что в нем было нам передано.
Если бы религия была просто человеческим предприятием, то она венчалась бы неудачей. И перед лицом этой последней неудачи все религии и философии были бы равны. Все религии были бы уравнены в отрицательном: все они равно несостоятельны. Тут из идеи непостижимости Бога выводится идея равенства всех слов о Нем и запрещается серьезный разговор на религиозную тему.
Именно этот пессимизм сквозит в знаменитой притче Будды о слепцах, которым дали ощупать слона. Один схватился за бивень и кричит, что слон твердый и гладкий, другой ухватился за хвост и потому убежден, что слон похож на змею, третьему попалось ухо и он сравнил слона с куском лопуха. Вывод: «Вот на кого похожи все те отшельники и учителя. У них разные точки зрения, но они слепы и не могут видеть. В своем невежестве они склонны к ссорам, спорам, дракам, каждый со своей точкой зрения на действительность».
Это отнюдь не притча о веротерпимости. Напротив, это призыв к радикальному отвержению всех иных точек зрения. Все — слепцы. «Вцепился каждый из невежд лишь в мнение свое и видит только часть одну, а в целом — ничего». Это была бы притча о веротерпимости, если бы Будда завершил ее выводом: все по своему правы. Но вывод Будды совершенно противоположен: все невежды. Все, мыслящие иначе, чем Гаутама — невежды и слепцы.
И Будда был бы прав — но лишь при условии, что в религии действует только человеческая инициатива. Если предположить, что «слон» есть лишь предмет, пассивно пережидающий человеческие прикосновения к нему — то притча, придуманная Буддой, будет и верна, и безнадежна. Но вдруг слон не просто пассивен? А если он пожелает сам сказать нечто о себе? Если он сам предупредит мудрецов и скажет: «Я не лопух!»?
Слон-то, пожалуй, не сможет этого сделать. А Бог? Точно ли мы можем быть уверены в том, что Бог не в силах овладеть человеческим языком и никогда не говорит на нем? Скажете, что для Божества унизительно лепетать на нашем земном наречии? Ну, это уже как раз вопрос нашего подбора терминов. Мать, беседуя с младенчиком, совершает акт унижения или деяние любви? Можно при виде матери, коверкающей слова и лепечущей с малышом, возмутиться: «Смотрите, как унижена эта женщина! Она имеет диплом филфака МГУ — но до чего же она пала, забыв высокую литературную речь! Пора, давно пора разбить оковы старого быта и освободить женщину от этих унижений!..». Так и языческие философы склонны отказывать Высшему Богу в праве говорить на человеческом языке — объясняя это заботой о Его Непостижимости. По их пониманию Бога надо избавить от такого «недостойно-скандального» представления о Боге.
Христиане же в приближении Бога к миру наших слов и мыслей видят проявление любви. И любую критику этого нашего догматического убеждения мы встречаем вполне философским вопросом: почему Вы считаете себя вправе что-то запрещать Богу? На каком основании Вы считаете, что Бог не может обратиться к человеку? Бог может всё. Он может стать близким к людям.
Но все равно — «как Великому вместиться в малое»? Как Бесконечному стать вровень с муравьем? Ведь все равно человек не в силах познать Непостижимо-Беспредельное. Что ж, поставим два новых вопроса: Первый — тождествен ли Бог Своей непознаваемой сущности? И второй — может ли выйти наше познание Его за пределы неизреченности?
Да, светская философия, этика, наука не знают Бога, который любит мир и в Своей любви к людям переступает грань молчания. Но в евангельской традиции Бог не тождествен Своей собственной непостижимости. Библейский Бог не остается равен Самому Себе. Бытие Бога полнее бытия Его сущности, потому что оно включает в Себя энергии, истекающие из Его сущности. И поэтому Бог существует вне Самого Себя. Источник Богопознания дает нам то, что «окрест Бога».
Да, Бог — это покой, это Абсолют, это Плерома, находящаяся по ту сторону всякого движения, и «нет в Нем ни тени перемены». Но вот Дионисий Ареопагит вдруг говорит: «Благочестиво думать, что Он движется. Ведь Он всяческое ведет в сущность. Дозволительно славить и движение Бога… Бог движется, словно влагая неразлучное соединение дружествования и любви в приемлющих их, и движет, привлекая желание движущегося в Него; и снова движет и движется, словно жаждая, чтобы Его жаждали, и любя быть любимым»[263].
По любви Бог свободно выходит из Своей запредельности (трансцендентности). И тогда — «Мы познаем Бога нашего по действованиям» (Василий Великий[264]). Энергия (energeia — действование) — это действие одной сущности в другой, то есть — за своими собственными границами. Так и Бог действует «вне Себя». Луч — энергия солнца, протянутая к земле. Благодать — действие Бога, обращенное к человеку (разница прежде все в том, что солнце не свободно в своих излучениях-эманациях, а Бог свободен в их ниспослании). Энергия действует вне своего источника, действует в «ином», и по этому действию можно познать — откуда она к нам пришла. Луч — это не всё Солнце. Но по лучу все же можно понять — пришел ли он от Солнца, или от маяка, или от керосинки.
Итак, Бог может действовать в нашем мире, в глубине Своей оставаясь при этом Непостижимым. Существо Бога остается сокрытым. Но вне Своей Сути, в наш, тварный мир, Бог свободно и любовно радиирует лучики своей благодати.
В псевдо-богословии агностиков есть весьма распространенный софизм. Божество непостижимо? — Да. — Божество беспредельно? — Да. — Ну, значит, и никакое постижение Божества и никакая речь о Нем невозможна…
И тут мы должны уметь возразить: из того, что бесконечность непостижима, никак не следует, что мы не можем постичь хотя бы ту ее грань, которая обращена к нам. Даже если Полнота бытия Божия останется навсегда непознанной[36] — это не означает, что в Боге нет чего-то, что радо подарить Себя нам. Мы не можем обойти всю Вселенную. Но это не значит, что мы не должны ездить на лекции в университет. Один человек не может потребить все продукты, лежащие на склаждах мира, но это не значит, что на этом основании он должен отказать себе в завтраке. Точно также из того, что мы не можем вместить в себе всю полноту Божества, не следует, что богословие должно расцениваться в качестве интеллектуальной авантюры.
Бог открывает нам Себя так, что, по опыту преп. Иоанна Дамаскина, не все в Нем познаваемо, но не все непознаваемо; не все познаваемое выразимо, но не все познаваемое невыразимо[265]. Это значит, что есть три «сферы» Божественного: непознаваемое; познаваемое, но непередаваемое через слова; и, наконец, то, что не чуждо человеческому слову. Богословие и есть поиск таких слов, которые могут вынести близость с Божеством, могут вместить Его отпечаток.
Бог Сам говорит человеку Своим Словом, — и желает, чтобы человек не только слушал, но и ответствовал своими словами. У человека же при этом «изнемогает всяк глагол». Слова устают, слова не выдерживают близости с Неизреченным. И все же, если нельзя найти адекватные слова, это не значит, что можно оставить поиск таких слов, которые были бы наименее неподходящими. Богословие и есть поиск таких — наименее неподходящих слов.
Да, любое наше слово профанирует тайну Высшего. Но тем не менее одни слова это делают в большей степени, другие — в меньшей. Если я скажу, что «Бог есть разум» — будет ли это антропоморфизмом, уподоблением Бога человеку и нашим меркам? — Несомненно. Но это занижение меньшее, чем если я скажу, что Бог — это табуретка иил «космическое электричество». Вот богослов и взвешивает: какие слова терпимы вблизи с Богом (и не более чем терпимы), а какие — нет. И слова, и богословские теории, схемы, слагающиеся из этих слов. Мы не можем знать Троицу? Да, но мы можем понять что некоторые формулы унижают тайну Троицы, профанируют ее (к числу таких профанаций относится теософское истолкование христианской Троицы как вариации вишнуистской Тримурти и католический догмат о филиокве; и то и другое будет показано несколько позже).
Да, и те слова, что принимаются богословием, остаются именно человеческими словами. Среди них могут быть такие, которые совсем не приложимы к Богу, а есть такие, которые, скажем так, — терпимы. «Поскольку слово «единосущный» менее может быть извращаемо, стою за это слово», — открывает тайну бого-словия св. Василий Великий[266].
Думающий мистик — это человек, который, не отводя глаз от Бога, открывшегося в сердечной глубине, подносит к ним стеклышки слов и через них пробует смотреть на опыт своего сердца: достаточно ли это слово прозрачно? Довольно ли оно пропускает лучей и оттенков? Или оно слишком мрачно, слишком самодостаточно и самовольно, непослушно? Человек перебирает слова, сверяет их со своим сверхсловесным опытом и разочарованно откладывает: Нет, не то… Не то… Не то…
Молчащее, апофатическое, отрицающее богословие переходит в положительное тогда, когда оно не ограничивается работой с «идеей Абсолюта», а принимается осмыслять и воплощать в словах не только опыт разума, но и опыт сердца. Разум говорит: Божество не вместимо в категории человеческого рассудка. Сердце же подсказывает: но Он Сам вместился в меня, Он вошел в меня, коснулся меня… И тогда, если философ поверит не только таблице своих категорий, но и опыту сердца, он задаст себе вопрос Августина: «Что же люблю я, любя Тебя?»[267]
Уже вернувшись в мир обыденного опыта, человеческое сердце вспоминает о пережитом, и в привычном мире испытующе подходит ко всему и спрашивает: «Это с тобой я встретилось? Это в тебе причина моей тогдашней радости и теперешней неполноты?». Через эту тоску тоже совершается Богопознание. Тоска — это любовь, ищущая достойного предмета. Она подходит к вещам и испытывает: «Ты ли это? Можешь ли ты мне дать ту радость и исполненность моего бытия?».
Кого только не вопрошает человек об этом! К спорту и к семье, к работе и к искусству, к народу и к природе обращается он с тем же требованием: дай мне смысл, помоги мне считать тебя абсолютной ценностью. И все они должны признаться: нет, это не мы… «А что же такое этот Бог? Я спросил землю, и она сказала: «это не я», и все, живущее на ней, исповедало то же. Я спросил море, бездны и пресмыкающихся, и они ответили: «мы не бог твой; ищи над нами». Я спросил у веющих ветров, и все воздушное пространство с обитателями своими заговорило: «ошибается Анаксимен: я не бог». Я спрашивал небо, солнце, луну и звезды: «мы не бог, которого ты ищешь», — говорили они. И я сказал всему, что обступает двери плоти моей: «скажите мне о Боге моем — вы ведь не бог, — скажите мне что-нибудь о Нем». И они вскричали громким голосом: «Творец наш, вот кто Он». Мое созерцание было моим вопросом, их ответом — их красота» (Августин) [[268]].
Но порой слово само находит свое место. Подсказывается ли оно незаметно Извне. Или звучит прямо из уст Того, к Кому обращено сердце человека. Или вдруг срывается с языка как нечаянное любовное признание. Или подсказывается другим человеком, еще прежде пережившим подобное состояние. Но вдруг молчание кончается. Появляется слово, которое не заслоняет Бога, но направляет ум к Нему.
Так человек, пережив душевный опыт (красоты или сострадания, влюбленности или гнева), находит стихотворную строку, путь даже написанную другим, но в эту минуту воспринятую им как будто сказанную специально о нем. И затем, спустя дни и годы, повторяя эту строку, он приводит себе на ум и то переживание, с которым она была для него связана и хотя бы отчасти вновь впадает в то состояние «понимания». Паре, уже давно прошедшей через время первой любви и первых встреч, случайно встретившийся цветок, сорванный на первом свидании и засушенный в книге, может напомнить о том, что было когда-то. Сам высохший цветочек уже давно потерял все свои краски — но он дорог тем, что позволяет снова посмотреть друг на друга теми же глазами. Так и слова о Боге, хотя и не могут заменить само ощущение близости Бога, но могут направить душу к поиску этой близости. Они могут быть использованы в молитве, то есть — в призыве.
Мы — люди. И говорим ли мы о Боге — говорим по человечески. Молчим ли мы о Нем — молчим тоже по человечески. Не надо этим смущаться. В конце концов, вся философия началась с осознания этого обстоятельства. Оказывается, на человеке лежит «проклятие Мидаса». Этот фригийский царь однажды добился согласия Диониса исполнить его заветное желание: все, к чему ни прикасался Мидас, отныне превращалось в золото. Но вместо того, чтобы сделать златолюбца счастливым обладателем несметных богатств — этот дар богов сделал его несчастнейшим из людей. Ведь даже хлеб и вода, к которым прикасался Мидас, становились золотыми, а, значит, несъедобными…
Так все, чего ни касается человек, становится «человеческим». Оно перестает быть «в себе», оно становится чем-то «нашим». Каков мир без человека? Мы не знаем и не можем знать. С этого обескураживающего открытия начинается философия, с него начинается развитие методов научного познания и научной критики. Начинается — но отнюдь не кончается. И в итоге оказывается, что все не безнадежно. Человек может выработать методы, умеряющие его предвзятость и субъективность. Хоть и говорим мы обо всем человеческими словами, но мы можем различать эти слова между собой, отбрасывая одни слова и теории как слишком предвзятые и субъективные, а другие приемля (хотя бы на время) как такие, которые впускают в себя и нечто объективное.
В этом отношении богословие всего лишь обычная часть человеческой культуры, которая в своей сфере встречает ту же проблему, что и все остальные. Но встретить проблему не значит капитулировать перед ней. Как в познании мира и человека исследователь должен найти средства для того, чтобы вырваться из плена своей субъективности — так и в богословии. Аргументом о том, что «субъективность неизбежна», можно убить не только богословие — им можно убить и науку. Но в течение веков человечество создает технику контроля над своей неизбежной субъективностью, технику ее рефлексии, осознания. Тем самым оно учится вносить необходимые коррективы в свою картину мира.
Не надо бояться того, что мы люди. Разговоры о непостижимости и о молчании могут оборачиваться просто-таки терроризмом. Елена Рерих, провозгласившая лозунг «необходимо выдвинуть претворение буддизма в ленинизм»[269], так осаживает попытки заговорить прямо о Боге: «Восток запретил всякое обсуждение Неизреченного, сосредоточив всю силу познавания лишь на величественных проявлениях Тайны»[270].
Как видим, апофатика может быть воинственной. Однако, если предположить, что Бог есть любовь, то можно уйти из под этих запретов «Востока». Любовь ищет понимания. И потому Бог есть Слово, есть обращенность. Непостижимое само высказало себя — а потому уже нет нужды всегда и во всем соглашаться с тютчевским Silentium'ом[37]: «я не принадлежу к числу тех запуганных, которые все изреченное мнят ложью» (Вяч. Иванов)[271].
Да, наши слова человечны, а наши представления о Боге антропоморфичны (человеко-образны). Но разве кто-нибудь знает не антропоморфный сектор нашей культуры? Какими образами и словами должны мы заменить обруганный «антропоморфизм»? Какие представления должны придти на смену человеко-образным? — Амебо-образные? Жирафо-образные? Марсиано-образные? Поэтому не надо ругаться словом «антропоморфизм».
Мы не можем говорить на ином языке, нежели человеческом. Не можем говорить не по человечески ни о мире элементарных частиц, ни о Боге: «Мы часто в своих рассуждениях приписываем Богу человеческое, но это просто потому, что у нас нет другого языка»[272].
Задача культуры в целом — очеловечить мир, в котором мы живем. Путь очеловечивания — это путь расстановки ориентиров (ориентиры возникают как наложение человеческих интересов на не-человеческий мир). Эти ориентиры создаются через наречение имен. Человек своими, человеческими именами называет мир, в который он входит.
Антропоморфизм бывает разный. Он бывает неосознанным, когда человек действительно слишком наивно и слишком примитивно проецириует свои предпочтения и предположения в мир иной. Человек еще не осознал тайны своей субъективности. Он еще не отделяет себя от мира, считая себя всего лишь частичкой окружающего космоса, и потому, не понимая своей уникальной инаковости, своей неотмирности, не задумывается над тем, как его инаковость влияет на его восприятие того мира, который лежит совсем в ином измерении, чем он сам. Свои действия и свои мысли, свою речь он воспринимает как нечто «естественное», как нечто, что само собой разумеется. Весь мир для него естественно человечен, а сам человек естественно же космичен. Это антропоморфизм примитивного язычества.
Но есть антропоморфизм вторичный, отрефлектированный, осознанный. Он приходит тогда, когда человек прошел через критику понятий, через скептицизм, а затем снова научился ценить человеческие слова и образы. Человек, уже однажды потеряв свои слова и образы, теперь научился вновь их ценить.
Библейский антропоморфизм относится именно ко второму типу. Вышеприведенных цитат из Библии уже достаточно для того, чтобы избавить ее авторов от обвинений в банальном недомыслии и антропоморфизме. Не случайно Моисей предписывает соорудить жертвенник для Бога из камней, необработанных человеком: «И устрой там жертвенник Господу, Богу твоему, жертвенник из камней, неподнимая на них железа. Из камней цельных устрой жертвенник Господа, Бога твоего» (Втор. 8, 5–6). Здесь явное ощущение того, что человек должен быть очень осторожен при соприкасании со Святыней. Человеческий активизм должен быть умеряем, ограничиваем в религиозной деятельности. Человек понимает, что в религии он соприкасается с тем, что не он создал. Необработанный, природный, т. е. Богосозданный камень потому и может быть поставлен в алтаре, что он пришел не из человеческого мира. Иначе вместо живого и неожиданного Бога человек встретится с идолом, которого он создал своим металлом или менталитетом (порой — даже незаметно для себя самого).
Без антропоморфизма немыслимо богословие. Вопрос лишь в том, в какой именно части своего опыта человек опознает нечто «богообразное». Какую часть своего опыта человек будет умножать на бесконечность и проецировать на Небеса в своих попытках мышления о Боге? Будет ли подлежать этой абсолютизации опыт речи или опыт молчания, опыт эротический или опыт аналитический, опыт творчества или опыт власти, опыт, обретаемый в сфере телесной или интеллектуальной? Отсюда будет вытекать различие между религиозными традициями: какую часть в себе человек будет считать теоморфной.
Как осторожно надо бороться с «антропоморфизмом», видно из следующего случая: «Великий старец Серапион был антропоморфистом. Когда ему пояснили, что он неправ, он согласился с этим. Однако, когда после беседы все встали на молитву, «то старец в молитве смутился духом от того, что почувствовал, что из сердца его исчез тот образ божества антропоморфитов, который он привык представлять себе в молитве, так что вдруг горько заплакал, часто всхлипывая и повергшись на землю, с сильным воплем восклицал: о, несчастный я! отняли у меня Бога моего; кого теперь держаться, не имею, или кому кланяться и молиться уже не знаю» (преп. Иоанн Кассиан. Собеседования. 10,3). «Разъяснительная работа», проведенная со старцем Серапионом, была неумной провокацией со стороны философствующих оригенистов. По их мнению, Христос по вознесении на небеса «уже не во плоти». Материя растаяла в духе. И не стоит вспоминать о днях земной жизни Спасителя — надо молиться к тому Богу, который вновь на небесах. Ориген в своем философском ригоризме доходил до запрета молиться Христу: все молитвы должны быть обращены только к Отцу… Вот в чем причина Серапионова смятения, которое нельзя ни развеять, ни утишить экзегетическими разъяснениями. «Отняли у меня Бога моего», — восклицает он. Очевидно, его принудили отказаться при молитве от мысленного образа «Иисуса по плоти», который был ему необходим, чтобы молиться сосредоточенно и знать, «к Кому взывать»[273].
Человек не может жить в нечеловеческом мире. Мир человека должен быть таким, чтобы человек в нем мог ориентироваться. Для этого пространство бытия, в которое он включен, должно быть им поименовано. Очеловечивание мира, превращение хаоса в космос происходит через наречение имен. Чтобы религия была человеческим домом, чтобы человек мог войти в пространство религии и жить в нем (а ведь суть религии в призыве не только «заходить», но и всей своей жизнью пребывать в нем), те реалии, с которыми человек встречается в своем религиозном опыте, должны быть названы человеческими именами.
Итак, радикальная борьба с антропоморфизмом в религии: а) бесчеловечна; б) бессмысленна; в) кощунственна. Кощунственна потому, что она начинается во имя «идеи Бога», но не упреждается предварительным вопросом, обращенным к Тому, ради Кого война начинается: А Ты действительно не хочешь мараться о человеческие мысли и человеческие слова?
Конечно, слова для речи о Боге буквально приходится подбирать на улице. «Кто говорит, тот кроме имен, взятых с предметов видимых, ничем иным не может слушающим изобразить невидимого», — объясняет неустранимую немощь богословского языка преп. Ефрем Сирин[274]. И здесь нужна определенная воспитанность (культурная и сердечная), чтобы отобрать приемлемые слова. По глубокому замечанию В. Блейка, «ни один человек не может прямо от сердца говорить правду»[275]. Кроме сердца для со-общения требуется еще что-то: воспитанность в традиции, советующая облекать переживаемую правду в слова именно такого круга, а не другого.
Слова обступают память человека, пытающегося ословесить свой опыт. И у каждого слова есть свой «горизонт смыслов». У каждого слова слишком много оттенков, значений и обертонов — и потому ни одно из них не может быть вполне точным в приложении к Богу. В нашем мире нет слов, которые были бы приспособлены исключительно для приложения к Богу. Каждое из наших понятий мы привыкли видеть «ярлычками» на предметах нашего мира. И если слишком прямолинейно поставить знак равенства между любым из наших человеческих понятий и Богом — то Абсолют окажется вмещенным в тот ряд предметов, на которые мы привычно навешиваем ярлык этого слова.
Бог единичен[38]. Он — не представитель «класса богов». Он Один. И потому через различение «вид-класс» Его определить нельзя. А все наши слова абстрактны; все они изъясняют некоторое представление, которое может быть узнанным во множестве конкретных предметов. Единичных слов (то есть слов, которые относились бы строго только к одному-единственному феномену) в нашем языке нет (кроме личных имен). Наши «всеобщие» понятия слишком обширны, грубы и неточны, чтобы дать определения единичного бытия. И потому нужно помнить, что говоря о Боге, мы не «анализируем» Божие бытие, а — именуем Его, взываем к Нему.
Никакое слово само по себе, в своей отдельности и привычности не может точно попасть в цель. Но есть области бытия и жизни, где Он касается нашего мира и опыта — эти граничные соприкосновения и может описывать богословие. Среди тех значений, которые в своем горизонте смыслов несет каждое слово богословия, оказывается некое, которое не кажется слишком кощунственным, когда сквозь него пытаются опознать Творца.
И после опыта безмолвия песнословил Дионисий Аропагит. «Никакая буддийская литература, никакой греческий неоплатонизм, никакая западная мистика, средневековая или новая, не может и сравниться с Ареопагитиками по интенсивности трансцендентных ощущений. Это не риторика, но это какая-то мистическая музыка, где уже не слышно отдельных слов, но только слышен прибой и отбой некоего необъятного моря трансцендентности… Во-первых, тут перед нами не столько философия и богословие, сколько гимны, воспевание. Ареопагит так и говорит вместо «богословствовать» — «петь гимны». Во-вторых, несомненно, это воспевание относится только к личности — правда, абсолютно-транцендентной и ни с чем не сравнимой, но обязательно к личности. Вся эта необычайно напряженная мистика гимнов возможна только перед каким-то лицом, перед Ликом, пусть неведомым и непостижимым, но обязательно Ликом, который может быть увиден глазами и почувствован сердцем, котрый может быть предметом человеческого общения и который может коснуться человеческой личности своим интимным и жгучим прикосновением. Вся эта апофатическая музыка есть как бы упоение благодатью, исходящей от этой неведомой, но интимно-близкой Личности, когда человек испытывает жажду вечно ее воспевать и вохвалять, не будучи в состоянии насытить себя никакими гимнами и никакой молитвой. От буддийской жажды самоусыпления это отличается огромной потребностью достигнуть положительных основ бытия, положительных вплоть до того, чтобы общаться уже не со слепым становлением вещей, и даже не с самими вещами, живыми или мертвыми, но только с личностью, которая ясно знает себя и знает иное и способна к разумной жизни и к человеческому общению. Такое сознание уже не имеет нужды в отвлеченной философии. Дедукция категорий для него очень маленькое и скучное дело. Обладая колоссальной мощью антиномико-синтетических устремлений, оно нисколько не интересуется самими категориями, а просто только воспевает высшее бытие со всеми его антиномиями и синтезами в такой непосредственной форме, как будто бы здесь и не было никаких антиномий. В неоплатонизме самое бытие, в котором фиксируются антиномии, гораздо холоднее и абстрактнее. У Ареопагита абсолютная самость, в которой фиксируются антиномии, настолько живая, личная, богато-жизненная, что сознание философа занято только тихим же живым общением с нею, так что только кто-то другой может со стороны наблюдать и систематически размещать все возникающие здесь антиномии, но самому философу этим некогда заниматься. Как бы ни был близок Ареопагит к Проклу, но Прокл — это старая, престарелая философская мысль, а Ареопагит — это очень молодая, сильная и смелая мысль, которая еще не знает искушения абстрактных методов и которая как бы играет своими юными интуициями и сама забывает себя в музыке неожиданных откровений»[276].
Говорить о Боге нельзя. Но воспевать Его — должно. Права на богословие у нас нет. Но есть — дар.
Глава 4. БОГОСЛОВИЕ МЕСТОИМЕНИЯ
С оговорками, приведенными в предыдущих двух главах, теперь можно обратиться к тому, как же современная христианская мысль понимает тайну личности.
Уже понятно, отчего такая нерешительность была у Отцов, когда они приступили к изъяснению догмата о Троице (который и потребовал разработки понятия личность).
Догмат о Троице вошел в философскую мысль как факт, а не был сконструирован ею как вывод. И поскольку речь шла о сокровенной внутренней жизни Бога (хоть и приоткрытой Евангелием), понятно, что апофатическая осторожность сковывала инерцию человеческой философской логики. Сказанные слова надо было потихоньку брать назад. После первичного и резкого утверждения «ипостасности» как обособленности, как самобытной субстанции, как набора вполне узнаваемых и четких характеристических признаков нужно было отступить — чтобы оставить место Тайне.
Именно это апофатическое отступление оказалось главным мотивом (и философским инструментом) современной богословской мысли. Об этом с некоторой долей разочарования пишет казанский протоирей Игорь Цветков: «Важная попытка подхода к проблеме ипостасности в границах православного богословия была предпринята В. Н. Лосским, который хотел преодолеть как неопределенность святоотеческого понимания личности, так и ограниченность католического. Исходя исключительно из Халкидонского догмата и отрицательно отталкиваясь от эссенциальных схем Фомы Аквинского и неотомизма (Жильсон, Бальтазар), Лосский достиг, к сожалению, весьма ограниченного успеха. Ему удалось сформулировать лишь отрицательное определение личности как «несводимости человека к природе» (человеческой)»[277].
Напомню, однако, что в апофатическом богословии «отрицательный» результат есть именно искомый результат. «Не то, не то» — если оно получено в результате правильной мысли лучше, чем поспешное и недоброкачественное утверждение.
Так что же сделал Владимир Лосский? Он предложил перенести в богословие те различия, которые французская персоналистическая католическая философия (Э. Мунье, Г. Марсель, в свою очередь испытавших влияние Бердяева и Булгакова) использовала в антропологии: различение природы, индивидуальности и личности.
За словом индивидуальность были закреплены те смыслы, которые относились к ипостаси как «первой природе», а слово ипостась постепенно начало употребляться в строгом смысле — обозначать субъект действия.
Природа (сущность) — это те специфические качества, которыми обладает данный предмет. Скажем, природа человека в строгом смысле — это то, что отличает человека от животного и ангельского мира. В более широком смысле «человеческая природа» — это вообще все, что свойственно человеку (независимо от того, роднят ли эти черты человека с горним или низшим миром, или же отличают его от жителей этих миров). Попытки познать природу — это поиски ответа на вопрос «что есть человек».
Индивидуальность — это те особенности, которыми отличаются друг от друга носители одной и той же природы. Это различия людей между собой. Можно сказать, что каждый из нас лишь отчасти обладает человеческой природой — каждый на свой лад. Поэтому выявление индивидуализирующих черт — это познание того, как, в какой мере, каким образом данный человек осуществляет свою человечность. Индивидуальность — это и есть аристотелевская «первая сущность»: природа, явленная в конкретном многообразии.
Наконец, личность — это собственно тот субъект, который обладает всеми природно-индивидуальными свойствами. Само по себе личностное бытие бескачественно. Любые характеристики относятся к природе. Личность же — это тот, кто владеет этими качествами, свойствами, энергиями, кто развертывает их в реальном бытии. Природа отвечает на вопрос «что?», индивидуальность — на вопрос «как?», личность — на вопрос «кто?»
Уже во втором столетии «ранние Отцы Церкви создавали свое учение о Троице согласно схеме, использовавшейся в грамматике еще со II в. до Р.Х. — кто говорит, к кому он обращается и о ком он говорит — и поэтому обратились к понятию регsоnа»[278]. Но наиболее четко это выразил Ришар Сен-Викторский, который «с большой тонкостью отметил, что субстанция отвечает на вопрос что (quid), а личность — на вопрос кто (quis). На вопрос же кто мы отвечаем именем собственным, которое одно только и может обозначать данное лицо. Отсюда он выводит новое определения лица (для Лиц Божественных): Лицо есть несообщимое существование (incommunicabilis existentia) Божественной природы»[279].
Таким образом, личность — это субъект действий. Индивидуальность — способ осуществления действий. Природа — то, что действует, источник энергий, реализованных, воплощенных («ипостазированных») действием. Личность оказывается над-качественным, над-природным бытийным стержнем, вокруг которого и группируются природные качественные признаки.
К этому различению конкретного наполнения человеческой жизни от того, что (или, точнее — кто), собственно, наполняется, вновь и вновь возвращается христианская мысль. «Я не могу понять этой тайны, но мое сознание повторяет мне, что я — двое: есть моя душа и есть я», — писал Уолт Уитмен[280]. Одна из основных тем христианской поэзии — это диалог человека с душой («Душе моя, душе моя! Восстани, что спиши?»).
В слове мое выражается трансцендентность «я» по отношению ко всему содержанию психики. Вспомним знаменитое место из Паскаля: «Тот, кто любит кого-либо за красоту, любит ли его? Нет, ибо оспа, которая уничтожит красоту, не уничтожив человека, заставит его разлюбить этого человека. И если меня любят за мои суждения, за мою память, любят ли меня? Нет, ибо я могу потерять эти качества, не потеряв самого себя. Так где же это я, если оно не в теле и не в душе?»[281]. Я — обладаю разумом; я — обладаю религией; я — обладаю всей человеческой природой. Я — собственник всего, что может быть выражено, само же «я» невыразимо. Поистине — «Единственный и его собственность».
Даже самосознание не есть личность, а один из талантов которыми личность владеет. Поэтому лучше не говорити «личность, то есть самосознание», а сказать — наличие самосознания (сознания, свободной воли, памяти, целеполагающей деятельности, любви, творчества…) — это те признаки, по которым можно определить, что нам встретилось именно личностное существо.
Человек — метафизическое существо. Это выражение в данном случае надо понять буквально: мета-фюсисное. Личность находится по ту сторону фюсиса, природы. И из своей «мета» она должна войти в мир качественных характеристик. У человека есть миссия по отношению к самому себе. Моя природа не в обязательном порядке навязывается мне. Но — по мере употребления своей свободы — личность должна овладеть потенциями природы (преп. Макарий Великий называет это «приобретением души своей»[282]).
«В существе духа различается ипостась и ее природа или сущность, субъект и ее содержание, я, и мое. Я имеет мое, как свое достояние. Но это мое не принадлежит ему in actu, но лишь становится им. Поэтому для я его собственная природа, мое, предстает как некая, ему самому неведомая, нераскрывшаяся данность, как некое оно, в которое я погружено, будучи с ним нераздельно связано. В я постоянно присутствует и реализуется нечто «подсознательное», досознательное и сверхсознательное, светоч я освещает лишь ограниченное пространство вокруг себя, оставляя всю площадь в полутьме. Природа для я есть , потенциальность, осуществляющаяся во времени. В этом смысле можно сказать, что я не владею моим, своей природой и достоянием»[283], - говорит о ситуации человека С. Булгаков (подчеркивая, что в отличие от нас, Божественные Личности всецело владеют Своей природой)..
Человеческая личность должна овладеть предлежащей ей природой[39]. Перед ней стоит задача: воипостазировать свою природу, собрать себя воедино. «Личность, — по выражению о. Василия Зеньковского, — в своем развитии становится все более «хозяином» своей природы, но она все же не есть собственник ее»[284]. Так сначала ребенок учится владеть телом; в дальнейшем всю жизнь человек будет учиться владеть своей душой…
Поскольку же эта задача выполняема каждым из нас по своему, у каждого своя мера успеха и неуспеха; поскольку, вдобавок, любые успехи и неуспехи могут быть временными (и обретенное может быть растрачено, и нехватка может быть восполнена) — постольку мы оказываемся качественно различными и друг от друга и даже от самих себя в те или иные моменты нашей собственной жизни. Каждый из нас «человек» или «нелюдь» в разные минуты по разному и в разной степени.
Личностное наше многообразие — от Бога. А вот содержательное наполнение этого многообразия создается нами самими. Каждый творит свои вариации на тему нашей единой человеческой природы. И каждый упускает какие-то из возможностей, которые наша природа в себе таит.
Меняются те или иные качества, свойства человека. Те или иные грани человеческой природы то ярче проявляют себя в данном индивидууме, то начинают меркнуть. Но неизменно идентичным является субъект, который «от юности своея» владеет этим калейдоскопом проявлений.
Перемены происходят и проходят — личность остается. Личность оказывается не просто субъектом перемен. О личности можно сказать, что она есть внутренняя стяженность бытия. Это, — говоря философским языком, — трансцендентальное единство сознания[40].
Только потому человек и может войти в вечность, что его личность возвышается над любыми временными сочетаниями его природных характеристик. Но то, что соединяет воедино мгновения времени, само не может быть временем. Это было очевидно еще грекам[41]. «Диалектика гласит, что всякое становление вещи возможно только тогда, когда есть в ней нечто нестановящееся»[285]. Человек не сводится к своим состояниям, под ними есть некая трансцендентная (по отношению к самим временным переменам) подкладка[42].
И снова мы видим параллели богословия и антропологии. Бог Библии, не являясь частью космоса, свободен от космических законов и потому может свободно менять мировые комбинации (чудотворить). Так и человеческая личность в силу своей метафизичности свободна в своем распоряжении наличным психическим материалом и может его прелагать (покаяние как перемена ума)[43].
Поэтому так важно для православного богословия сохранить термин ипостась, не сводя его к персоне. Ведь слово ипостась не чуждо и тому смыслу слова субстанция, который выявляется в определении substantia est causa sui, то есть способность быть причиной и основой своих собственных действий («ипостась есть существование само по себе — преп. Иоанн Дамаскин. Диалектика, 66). Но именно свобода обычно определяется как возможность иметь источник своих действий в самом себе. А значит, свобода как самопричинение, как causa sui[44] есть не просто одно из свойств человека, но самая основа его бытия. Человек как ипостась не просто обладает свободой, он — есть свобода. Не просто «некая» целостность, но целостность, сознательно и свободно действующая из себя самой — вот что окажется «ипостасью»[45].
Именно чувствуя эту глубинность греческого термина ипостась, латинские авторы говорили о преимуществах греческого философского языка. Преп. Иоанн Дамаскин называет человека ''господином своих действий», который «скорее ведет природу, нежели ведом ею (Точное изложение православной веры 3,27).
Следуя этой традиции, и Фома Аквинский подчеркивал эту особенность личностного бытия: личность — господин своих познавательных и волевых актов и, таким образом, действует, а не «приводится в действие — аgit non agitur» (Cумма против язычников 2,48,2). При этом Фома развивает представление, которое он воспринял от неоплатоников: чем более высокое положение занимает некое существо в иерархии бытия, тем более оно может то, что исходит от него, удерживать при себе и для себя. Таким образом, личность становятся характеристикой высшего существа: только Бог, ангел и человек могут «удерживать при себе» свои действия, поскольку они выражают себя посредством своего разума и воли (2, 48, 4).
А свобода не может быть исчерпывающим образом описана и объяснена. Так что же в таком случае мы можем сказать о личности? — Ничего. О ней ничего нельзя сказать содержательного. Но можно — указать на ее бытие.
«Я может быть только названо, указано словесным жестом (местоимением). Самосознание я потому недоказуемо, а лишь показуемо… Пред лицом ипостаси приличествует молчание, возможен только немой, мистический жест, который не именуется, но «вместо имени» обозначается «местоимением» — «я». Неопределимость эта не есть, однако, пустота, логический ноль; напротив, ипостась есть предпосылка логического, субъект мысли… Подлежащее, ипостась, всегда открывается, высказывается в сказуемом. Ипостасное «я» есть субъект, подлежащее всяких сказуемых»[286]. Все, что может быть сказано — это «сказуемое», это содержательные и узнаваемые характеристики. Но я, ипостась — то, что под-лежит под этими вы-сказанными признаками, несет их на себе. Но именно потому и отлично от них.
Оттого современное православное богословие не столько дает определение личности, сколько настаивает на принципиальной неопределимости личности: «сформулировать понятие личности человека мы не можем и должны удовлетвориться следующим: личность есть несводимость человека к природе. Именно несводимость, а не «нечто несводимое», потому что не может быть здесь речи о чем-то отличном, об «иной природе», но только о ком-то, кто отличен от своей собственной природы, ком-то, кто, содержа в себе свою природу, природу превосходит»[287].
Именно здесь — главное различие каппадокийского богословия и современного. Для каппадокийцев ипостась есть еще нечто внешнее, есть свойство, признак по которому зритель может узнать, отличить эту реальность от единоприродной ей. У св. Василия Великого ипостась есть «очертание какой-либо реальной вещи по отличительному ее признаку (Письмо 38). Для св. Григория Богослова ипостась мыслится уже как свойство, присущее только разумному существу (такого ограничения нет у св. Василия)[46], но все равно это прежде всего узнаваемое со стороны и потому проявленное вовне свойство (к числу их могут быть отнесены у него и неимение волос рост и т. п.)[288]. И у св. Григория Нисского ипостасное бытие — «не существо Божие в себе самом, но то, как оно существует и выражается вовне»[289].
Теперь же считается, что все узнаваемое и выразимое, все обращенное вовне и содержательно отличимое от других свойств — принадлежит к миру свойств, индивидуирующих признаков, но это лишь признаки наличия ипостаси, но не сама ипостась.
Поскольку же признаки, в том числе индивидуирующие, могут повторяться (в мире людей, не в Троическом бытии), постольку указание на признак недостаточно надежно ставит нас лицом к лицу с ипостасью. В отличие от содержательной характеристики указующий жест имени, не описующий, а просто направленный на личность, неповторим. Эта идея личности как чего-то уникального, неповторимого была у св. Григория Богослова: «Личное свойство непреложно; иначе как оставалось бы оно личным, если бы прелагалось и переносилось?»[290].
В предстоянии перед личностью прямой указующий жест здесь уместнее — имя или местоимение. Имя не есть конкретная сущность или характеристика, имя есть указание, знак. Имя есть указание на некий субъект, находящийся за пределами тех конкретных действий и черт, что мы видим сейчас и лишь проявляющий себя в них.
Применение термина «ипостась» в сверхапофатической сфере — применительно к тайнам внутритроического бытия — учит несомненной апофатической сдержанности. В силу указанной св. Василием связи богословия и антропологии та же сдержанность должна быть характерна и для антропологических размышлений о личности. Именно с апофатическим богословием связана принципиальная открытость православной антропологии, ее несогласие редуцировать сущность человека к любому конечному ряду характеристик.
Вновь мы видим, что различие личности и индивидуальности выразимо лишь в категориях грамматических — как различие между «кто» и «что». «Отец и Сын не одно, а два, хотя по естеству — одно; потому что — иной и иной, хотя не иное и иное», — воспроизводит св. Николай Мефонский традиционную формулу византийского богословия[291]. Еще на Третьем Вселенском Соборе цитировались слова св. Григория Богослова: «В Спасителе есть иное и иное, но не имеет в Нем места Иной и Иной. Когда же говорю: иное и иное, разумею это иначе, нежели как должно разуметь о Троице. Там Иной и Иной, чтобы не слить нам ипостасей, а не иное и иное»[47].
Именно употреблением такого типа местоимений подчас определялась православность или еретичность богословской системы. Вот, например, литургическая молитва константинопольского патриарха Нестория — «Благословляем Бога Слова, Который принял образ раба и совокупил его с собой в славе, могуществе и чести»[292]. Если бы в этой фразе стояло не «его», а «ее» (природу) — все было бы православно… А так Несторий вошел в историю Церкви как ересиарх, рассекший надвое Христа[48]…
И вот этому апофатизму православного богословия, как оказалось, все же гораздо более соответствует слово ипостась, нежели просопон или персона.
То, что восточно-христианские богословы взяли как базовое слово ипостась, а латинские писатели — слово персона, означало многое в судьбе этих культур. Западная персона ведь соответствует именно греческому просопон, но не ипостаси: «Людей, которые узнаются каждый благодаря определенным чертам (форма), латиняне стали называть «лица» (персона), а греки — «просопон», — определяет Боэций[293]. В определении Боэция речь идет о внешнем узнавании; персона, соответственно, описуема и выразима. Это то, что замечаемо, те конкретные и качественно-определенные черты, по которым человека можно узнать в толпе.
Но греческое богословие, наделяя слово ипостась новыми смыслами, все же помнило и о его первоначальном звучании: ипостась-субстанция-подлежащее. Латинское персона есть «накладка», греческое ипостась, напротив — «подкладка». Лицо и ипостась не могут быть совсем одним и тем же хотя бы потому, что Библии чужда скульптурность античной эллинской культуры. В Библии лицо и сердце воспринимаются как антонимы: «человек смотрит на лице (просопон), а Господь смотрит на сердце» (1 Цар. 16, 7). Значит, выбор позднеантичными богословами Востока и Запада слов для обозначения личностности апеллировал к словам, этимологически антонимичным: латинское персона есть антоним сокровенного сердца человека, антоним ипостаси[49]. В Библии личность символизируется сердцем, и в этом символе чувствуется скорее ипостасная сокрытость, упрятанность, нежели латинская персоналистическая выявленность[50].
То обстоятельство, что субъект оказался обозначен в латинской культуре именно словом персона, а не субстанция (ипостась), очевидно, укоренено в гипертрофированно-правовом мышлении античного Рима. Римский юридизм, столь много значивший для становления западной богословской мысли, повлиял и на формирование базовых антропологических представлений позднеримской и средневековой культуры. Для права человек становится заметен только в том случае, если он выходит из своей сокрытости и входит в отношения с другими людьми, в те отношения, которые только и регулирует право. Право не замечает человека, когда он один и когда убеждения человека не проявляются в его действиях или когда внутренние переживания и события, происходящие в сердце человека, не касаются других людей. Право регулирует отношения, или, иначе говоря, те действия, через которые человек вступает в отношения с другими. Итак, в правовом пространстве человек представлен только одной внешней стороной своего бытия — той, которой он соприкасается с публичной жизнью общего. Но извне человек узнаваем и отличим только по своей проявленности вовне, по своей включенности в отношения с другими. Отсюда — устойчивая традиция западной мысли определять личность (persona) как отношение.
У Фомы Аквинского «название Лицо означает отношение»[51]. У богослова тюбингенской школы Мелера человек есть «сущее, полностью определяемое отношениями»[294]. Заметим, что слова эти, сказанные в 1830 году, более чем созвучны знаменитому тезису Маркса о «сущности человека как совокупности общественных отношений». И появление социалистической идеи в лоне католической святости (не будем забывать о святом социалисте Томасе Море) не случайно: раз человек есть совокупность отношений, то совершенно естественно задаться целью изменить человека, меняя его отношения[52]. Государственная власть призывает формировать новую ткань общественных отношений, и в этих отношениях родится «новый человек».
Но с другой стороны, из этого же различия в православном и католическом понимании личности следует то, что тема прав личности и не могла всерьез возникнуть в восточном христианстве. Здесь личность слишком потаенна и неотчуждаема, она апофатична и незрима, к ней никто не может прикоснуться. Как верно подметил о. Василий Зеньковский, «из факта наличности я во всяком переживании ничего нельзя извлечь для суждения о природе я»[295].
Напротив, внешние проявления человека есть нечто преходящее и изменчивое — их можно снимать с себя в покаянии или при насилии; свою личину и свои привилегии человек может стянуть с себя при нужде, как змея старую кожу, и уйти в потаенную свободу своего сердца. На Западе личность есть именно лицо, и прикосновение к лицу, пощечина есть дотрагивание до обнаженного нерва. Плохо или хорошо сказалось это различие — вопрос другой, но сама эта разница есть…[53]
Кардинал Рацингер, пользуясь модным философским жаргоном, говорит о «тотальной относительности экзистенции»[296]. Его триадология последовательна и вполне обнажает крайности томизма: «Сын как Сын и поскольку Он Сын, целиком и полностью не от Себя и именно поэтому полностью един с Отцом, ибо Он ничто помимо Отца. Логика неумолимая: если нет ничего, в чем Он есть только Он, если нет ничего, ограничивающего Его сферу, Он совпадает с Отцом, «един» с Ним. Слово «Сын» выражает именно эту тотальность зависимости»[54]. Вопрос о том, что же «со-относится» через «персону», остается неясен. Если личность есть только отношение, то сама по себе она есть «ничто». Если сам субъект есть отношение, то кто же является субъектом отношения? Греческая ипостась тут уже без остатка растворилась в персоне. По мысли кардинала «бытие Иисуса есть бытие всецело открытое, в котором нет места утверждению в самом себе и опоры на самого себя, это бытие есть чистое отношение»[297]. Если личность есть со-отнесенность, то тогда человек просто обречен на онтологический коммунизм, на вечное даже не со-бытие с другими, а бытие в других.
Это очень скудное представления о Лицах. Отношения — это не лица, но личностные характеристики. С точки зрения православной мысли, «ипостаси существуют не потому, что имеются ипостасные свойства, но эти свойства появляются, как выражение бытия само-сущих ипостасей. Другими словами, не существует некоего над-ипостасного или даже без-ипос-тасного бытия, в котором возникают ипостаси вместе с различительными свойствами, причем они якобы суть эти самые свойства или отношения, как это прямо учит схоластическое богословие. Учение о Св. Троице должно исходить из факта триипостасности, как соборности я в абсолютном, самодовлеющем субъекте, а не выводить ипостаси из признаков или внутрибожественных отношений»[298].
Для бл. Августина «в Боге только субстанция и отношение»[299]. Но тогда в рамках этой философии не найти ответа на вопрос: между Кем возникают эти отношения? Кто является субъектом, вступающим в отношения? Латинское богословие начинает живо напоминать буддизм с его фундаментальным тезисом: есть страдание, но нет страдающего. Есть мысль, но нет субъекта мысли. Есть личностные отношения, но за ними нет личностей, которые были бы субъектом этих отношений. Слыша такие размышления о «персоне» как «отношении», нельзя не согласиться с суждением выдающегося русского психолога А. Н. Леонтьева: «Идея прямого сведения личности к совокупности ролей, которые исполняет человек, является одной из наиболее чудовищных. Роль — не личность, а скорее изображение, за которым она скрывается»[300].
Но и спустя полтора тысячелетия после бл. Августина и Боэция католическая мысль повторяет: «В Боге есть Три Лица… Невозможно представить себе противопоставлений более сильных, чем эти три чистых Отношения, ибо противопоставления эти целиком образуют их. Однако не возникают ли они именно в единстве, единстве одной Природы?»[301]. С точки зрения православия, существование Лиц определяет собою их отношения, а не наоборот. Но в латинском богословии Личности есть отношения, возникающие в безличностной природе.
Если сама личность есть отношение, то кто же или что же вступает в это отношение, формирующее личное бытие? Если личность только возникает в отношении, значит, бытию личности предшествует бытие некоторой без-личной духовно-разумной природы. Субъектом личностного отношения становится без-личная субстанция, природа. И это есть не что иное как философская квинтэссенция пантеизма: Кто есть эпифеномен что. Первичен безличностный мир, вторична Личность.
Католическое богословие сделало европейскую культуру уязвимой для пропаганды пантеизма[55]. Филиоквизм и понимание личности как «проявленности вовне» помогли теософии декларировать язычество в качестве чего-то тождественного христианству. Католичество веками приучало людей к тому, что Безличностное Божество первичнее Божественных Личностей. Пантеизм же на этом тезисе, который был все же достаточно случаен и неорганичен для христианского богословия, сделал весь свой акцент. Образ, который в храме католического богословия звучал лишь приглушенно, фоново, теософия вынесла в качестве своего боевого знамени.
Именно опыт многих и многих веков религиозной мысли понудил Булгакова сказать — «Попытки заглядывать за личность, чтобы позади ее увидеть субстанцию, неуместны»[302]. Но все же для философии это слишком сильное искушение — понять Лица Троицы как какие-то «свойства» Абсолюта, моменты и фазисы Его развития.
Еще Августин (О Троице 8,14) писал, что Троицу составляют любящий (amans), тот, кого любят (quod amatur) и сама любовь (amor). Но в этом случае личности-субъекта оказывается только две. Отношение же между ними каким-то образом оказывается само по себе третьей личностью… (Кстати, августиновская формула — «Дух есть отношение любви, связующее Отца и Сына» — ставшая рекламным слоганом католического догмата «филиокве», получила звонкую пощечину от В. Лосского, отметившего «квазигомосексуальный» характер этой формулы)[303].
А средневековый кардинал Николай Кузанский предложил такую алхимию, с помощью которой из единой и простой субстанции можно выцедить Троицу личностей: «Итак, в одной и той же вечности оказываются единство, равенство единству и единение, или связь, единства и равенства… Называют некоторые единство Отцом, равенство Сыном, а связь Святым Духом, потому что пусть эти термины употребляются не в собственном смысле, однако они удобным способом обозначают Троицу»[304]. Способ и в самом деле очень «удобен»: так можно наделить «ипостасностью» (личностью) любое количество философских категорий. Гностикам удавалось их изготовлять сотнями (под именем эонов). Достаточно лишь «назвать эту силу троичной»: «Поскольку существует лишь одна божественная сущность, назвать эту силу троичной есть не что иное как признать троичность Бога». Естественно, что на эти слова «иудей» (литературный собеседник Николая Кузанского) отвечает: «превосходно объяснена преблагословенная Троица и отрицать ее невозможно».
Подобная алхимия, уравнивающая интеллектуальные системообразующие потребности очередного мыслителя с бытием Самого Бога, и тем самым вопиюще нарушающая принципы апофатизма, потом в европейской мысли встречалась неоднократно. Ее наличие есть один из критериев, по которому можно заметить, когда теология мутирует в теософию…
Путь же к такого рода мутациям расчистило именно филиоквистское богословие своим тезисом, согласно которому «подлежащим личности является природа»[305]. Но не логичнее ли сказать, что ипостась есть подлежащее природы и ее действий, что личности дается в обладание природа? В этом случае не природа проявляется в личности, но личность владеет природой. «Латиняне рассматривают личность как модус природы, греки — природу как содержимое личности», — замечает византолог прот. Иоанн Мейендорф[306].
Непонимание латинянами каппадокийского значения «ипостаси» заходило столь далеко, что бл. Иероним в письме папе Дамасию I обвинял каппадокийцев в кощунственном троебожии: «Они требуют от меня, римлянина, нового слова о трех ипостасях… Они не удовлетворяются тем же смыслом, они требуют именно слова… Да будет защищена вера римская… от такого кощунства… Да молчат о трех ипостасях, и пусть единственная будет сохранена»[307]. И хотя св. Иларий Пиктавийский указывал западным богословам на эволюцию богословской терминологии на Востоке, но с Filioque Запад вновь вернулся к докаппадокийским временам, полагая рождение и исхождение действиями не Личности, но Природы, и тем самым допуская возможность возникновения личного бытия из бытия безличного.
Византийская полемика с только что упомянутой филиоквистской добавкой к Символу веры была дискуссией не о словах, а о тайне Личности. Как оказалось (правда, с расстояния в несколько столетий), отстаивая свое понимание слова «ипостась», греческие богословы отстаивали такое понимание человека, при котором человек не сводится к своим состояниям и своим отличиям, но обретает под ними некую трансцендентную подкладку.
Filioque — латинская прибавка к общецерковному Символу веры, гласит, что третье Лицо Троицы, Святой Дух, берет свое начало не только от Отца, но «и от Сына».
С точки зрения православной мысли, филиокве раскалывает Троическое единство. Если Дух исходит и от Отца, и от Сына, то в этом случае у двух Лиц Божества оказываются одинаковые свойства, присущие им, но не Третьему Лицу.
Есть свойства, присущие всей Божественной природе. Но чтобы Бог был один и един, необходимо, чтобы Лица Божества были по настоящему, полностью во всем единосущны, а для этого свойства Божественной природы должны быть одинаковы у всех Лиц — носителей этой природы. Есть «личные свойства», точнее говоря — апофатические указатели на лично-различный характер бытия Ипостасей Троицы. Эти «свойства» не качественно-определенные и постижимые характеристики, а не более чем материал для имен, которыми наша молитва и мысль будет различать Лица Троицы: личные свойства — быть нерожденным, рождаться и исходить — «дают наименования»[308].
Мы не знаем, что в Боге означает «рождение» или «исхождение»[56]. Мы не знаем, чем отличается исхождение Духа от рождения Сына. Скорее всего, мы говорим «исходит» — чтобы не сказать «рождается», чтобы признак не повторялся. Это в принципе не категория соотношения, это апофатическая фиксация некой инаковости. Иначе у нас был бы другой индивидуальный признак, повторяющийся у двух личностей, а, значит, чуждый третьей — признак «быть рожденным». Кроме того, в этом случае в Духа и Сына возникали бы свои, сугубо внутренние отношения» — их объединяло бы друг с другом (и отличало бы от Отца) общее свойство — «быть братьями». Вновь подчеркнем — это имена, а не характеристики, не функциональные признаки. Именно поэтому Дух исходит «от Отца», а не «от Изводителя».
«Не должно понимать, что Отец Сына помимо отцовства еще и Изводитель Духа. Отношение Его к Духу определяется именно Отцовством, Он есть Отец для Духа, Который, однако, ему не Сын», писал о. Сергий Булгаков[309], подметив при этом, что формула «во имя Отца и Сына и Св. Духа» знает только Отца, но не знает еще и «Изводителя» — «иже от Отца, а не «иже от Изводителя исходяща». Чрез эти Имена Лица Троицы не соотносятся другу с другом, а различаются. В этих апофатических именованиях мы фиксируем не отношения, а их нетождественность друг другу, многоипостасность Троицы. «Изводить Дух» — это не второй ипостасный признак Отца, а все тот же: быть началом.
Мы не знаем в чем разница между «рождением», «исхождением» и «нерожденностью». Точнее, ответ может быть один — ничем. Свт. Григорий Нисский ясно показывает, что это — апофатические имена. Они не утверждают, в чем разница, но лишь фиксируют, что они — разные. Не «другое и другое», но «Другой и Другой». Это не индивидуализирующие характеристики, но личностные имена. Сын — Иной, а не инаковый.
И хотя мы не знаем, в чем различие рождения и исхождения, о Духе мы говорим «исходит» — чтобы не сказать «рождается» и не повторить в Духе личное свойство Сына. Сын уникален и единственен. У него нет братьев[57].
В конце концов все учение о Троице обращается к тайне Личности: есть три Личности Вечного Бога, которые никак не отличимы для «качественно-природного» анализа, но которые экзистенциально не тождественны («Сын не есть Отец, но Он есть то, что Отец есть» — свт. Григорий Богослов[310]). У Них все единое и общее, но сами Они — разные. Поэтому здесь нет «Тритеизма», «трех богов». Они неразличимы в нашей мысли, но они реальны в своем бытии — «ипостасны».
Если же мы настаиваем, что есть некий описуемый признак в Отце, который повторяется и в бытии Сына, но при этом отсутствует у Духа, это означает, что вместо апофатически-указующих Имен мы ввели катафатические индивидуализирующие признаки. Вместо того, чтобы просто различать Лица («Сын — значит не Отец» — такая формула приемлима, ибо апофатична) они начинают их катафатически характеризовать. Это значит, что в Троицу мы ввели различие не личностей, а индивидуальностей. Православное богословие говорит, что в Боге есть Три «кто». Все Три Субъекта одинаково, в равной полноте и безъизъянности владеют одним «что» — Божественной сущностью.
Филиоквистское же богословие предлагает ввести сюда дробность категории «как». Оказывается, Отец владеет божественной природой так, в такой полноте, что может сам (без участия других Лиц) давать бытие другим Личностям. Сын тоже обладает божественной природой так, что может давать бытие другим носителям этой же природы, но уже не самостоятельно, а лишь с поддержкой Отца (как Соисточника бытия Духа). Дух же не может использовать свою божественную же природу так, чтобы быть причиной бытия иной Ипостаси. Если три личности по разному владеют возможностями одной и той же природы, в разной полноте — значит они не вполне единосущны. Значит, единая природа все же расколота между ними. И тогда или отношения между Личностями Троицы подобны отношениям трех человеческих личностей — и это троебожие, политеизм. Или же мы сохраняем единосущие Отца и Сына, но отказываем в Божественности Духу.
Индивидуирующее «как» — это образ и мера присутствия единой природы в том или ином ее носителе. Индивидуальность — это особенность соучастия именно этой личности в обладании потенциями человеческой природы.
Всей полнотой человеческой природы обладал только Иисус. В Адаме также было тождество сущности и существования, но он еще не успел совершить подвиг всецелого овладения своей человеческой природой. Его же неудача означала разбиение единой природы на множество частных ее носителей. Если всечеловек — это Христос, то каждый из нас в определенной мере — недочеловек. Каждый из нас с большей или меньшей полнотой владеет регистром сущностных человеческих свойств[58].
Индивидуальность — это своего рода история болезни: у каждого из нас своя и тем самым делает нас непохожими друг на друга (личность делает нас нетождественными, а индивидуальные особенности именно непохожими). Например, одним из свойств человеческой природы, присущим каждому из нас, является способность в логическому мышлению. Но одному эта способность присуща в размере, скажем, 80 процентов от максимума, а другой достиг планки только в 30 процентов. Но даже наиболее одаренный из них — калека: да, на 80 процентов это создание Божие — гениально, но на 20 процентов этот сын Адама — идиот. С другой стороны, этот же интеллектуально одаренный индивид может уступать другим людям в нравственной сфере. Он в своей судьбе и в своей душе реализовал лишь 15 процентов от тех потенций любви и сочувствия, которые Творец заложил в нашу природу, в то время как человек, менее способный к теоретическим построениям, может быть нравственно более одаренным. Но тоже ведь — не до максимума, и у него тоже бывают минуты саможаления или совестного помрачения…
По этой, наиболее яркой черте (отрицательной или положительной) человек легко запоминается, узнается, характеризуется, описывается. Но тот, кто не болен, в ком природа никак не умалена, а просто есть — он не сможет быть «описан» в сравнении со столь же полными носителями этой природы[59].
Л. Зандер так реферирует булгаковские размышления об отношении личности и индивидуальности: «Личности различаются между собою как таковые просто как разные я, — лишь за этим различием и на его основе устанавливаются различительные признаки — качества, конституирующие индивидуальность… В этом смысле, можно сказать, что индивидуальность есть онтологическое воплощение правила omnis definitio est negatio, она определяет своего носителя тем, что противопоставляет, выделяет его из всего остального бытия. Поэтому, в качестве функции отрицания, она всегда вторична, производна, подчинена первообразным положительным определениям бытия. Индивидуальность не есть личность, но лишь ее возможность. Индивидуальна амеба, индивидуальны даже растения, индивидуален весь животный мир не только с его видами, но и индивидами, — в наибольшей мере индивидуален и сложен человек в психическом существе своем. Хотя человек стоит на вершине органической лестницы, он разделяет индивидуальное бытие со всеми ступенями. Однако, то, что является естественным и закономерным для всего органического мира, для человека, призванного к высшему ипостасному бытию, оказывается состоянием греховным, извращенным, недолжным. Человек, созданный по образу Божию, то есть как личность, как ипостась, не был индивидом, ибо безгрешный человек есть человек вообще, всечеловек, свободный от дурного, ограничивающего влияния индивидуальности. Человек разрушил целость человеческого рода, утратил его изначальное целомудрие, и на место многоединства выступило многоразличие, дурная множественность. Таким образом, возникла индивидуальность — отсвет Денницы на человеке, которого он захотел извратить по образу своего метафизического эгоизма — моноипостасности без любви… И с тех пор человек знает ипостась лишь в образе индивидуальности, и все человечество разлагается на индивидуальности, которые логика считает возможным объединить только в абстракции, мысленно выводя за скобки общие признаки. Отсюда становится понятным, что условием спасения христианского является погубление души своей ради Христа, то-есть освобождение от плена индивидуальности… что жизнь во Христе освобождает ипостась от индивидуальности, вводя ее в должное для нее многоединство любви, в Церковь»[311].
Как видим, индивидуальные качества, которыми мы отличаемся один от другого, не могут выразить тайну личности. Отличие личностно-указующих имен от индивидуирующих описательных качеств в том, что последние повторяемы. Если мы скажем, что отличительным свойством вот этой человеческой ипостаси является лысоватость, то ведь это свойство повторимо в тысячах других людей. То же касается и психологических или социальных характеристик. Любая конкретная характеристика, которую мы используем для отличения данного человека от другого, может быть повторена. Свойство «быть студентом» может отличать человека в вагоне поезда, но в университетской аудитории оно уже окажется нивелирующим признаком.
По мысли Владимира Лосского, «всякое свойство (атрибут) повторно, оно принадлежит природе и мы можем его встретить у других индивидуумов, даже определенное сочетание качеств можно где-то найти. Личностная же неповторимость пребывает даже тогда когда изъят всякий контекст, космический, социальный или индивидуальный — все, что может быть выражено»[312].
Быть индивидуальностью — значит, быть повторяемым. Свойство и их сочетания могут повторяться, их субъект нет. Поэтому и нельзя личность определять через индивид, хотя мы это постоянно делаем (Петр-студент).
Но вновь поясним: индивидуальность возможна лишь там, где есть умаление природы, где данная ипостась не вполне вобрала в себя все богатство предлежащей ей природы.
Это различение природы, индивидуальной характеристики и ипостаси оказалось очень значимо для осмысления православного неприятия Filioque.
Ведь если некое содержательное свойство мы приняли как характеристику, присущую не только вот этой личности, но и другой — мы вышли за рамки «именования» и приступили к содержательным характеристикам. Это может быть характеристика общей для этих личностей природы. Но если мы сказали, что это свойство присуще только этому множеству, но не свойственно другим носителям этой же природы — мы дали характеристику индивидуальностей. Это означает, что в реальном своем бытии эти индивидуальности не вполне «единосущны». Они единосущны в абстракции или в задании, потенции, но в реальности ряд природных черт по разному явлен в этих личностях, в разной полноте, а значит, в той или иной степени неполноты.
Если в Троице каждое из ипостасных свойств присуще только одному Лицу, то это — Личностное Имя. Если же некое свойство присуще нескольким Лицам, то это уже не имя, а свойство природы — но в качестве такового оно должно быть присуще всем Божественным лицам. Если же некое свойство окажется присущим не всем, а только двум Лицам, то это и не имя и не природная характеристика как таковая. Это уже — индивидуальная черта. И, значит, в Троицу мы ввели категории индивидуального бытия, то есть — идею умаленности Божественной природы в по крайней мере некоторых из Лиц. Поэтому православное богословие говорит, что филиокве разрубает Троицу: этот догмат делит Троицу на две группы: полностью Единых Отца и Сына — и противостоящего Им Духа, который не обладает всеми теми свойствами природы, что находятся распоряжении Первых Лиц. То есть Троица есть Божественная Двоица[60] плюс один полубог. Дух «признан ипостасью второго порядка»[313].
В коротком ряду личностных характеристик Троицы через Filioque появилось индивидуирующее свойство — «Быть Изводителем Духа». И у Отца и у Сына появляется это общее свойство, которое, конечно, отсутствует у Духа. Но если есть повторяемое свойство — то это уже индивидуальная характеристика, а не именование. А если есть индивидуальная характеристика, значит становится вопрос о неполноте обладания природой. Если свойство «изводить Дух» есть свойство божественной природы (а именно так это понимают латинские богословы), то этой сущностной черты оказывается лишен сам Дух — и в Троице уже появляется иерархичность и испаряется единосущие Лиц. Чтобы сохранить единство Троицы, надо признать, что То, что обще для Двух, обще и Трем. То есть — отказаться от Filioque.
Так византийская мысль, услышав о европейской догматической новости, поинтересовалась: не значит ли это, что вы, латиняне, отрицаете Божественность Духа? Конечно, к такому выводу западные богословы никак совсем не хотели придти. Но он оказывается неизбежным выводом из филиокве[61].
Вот еще одна логическая демонстрация того, что принятие филиокве лишает Св. Дух божественности:
Божественным может быть только такое бытие, которое обладает вечностью. Вечным может быть только такое бытие, которое бессмертно. Бессмертным может быть только то, что вообще недоступно смерти, то, в чем смерть просто никак не может найти себе пищу. Смерть есть распад, раскол, разрушение. Разрушиться — значит распасться на составные компоненты. Не может разрушиться только то, что вообще не имеет в своим составе никаких составных частей, то что в себе самом просто. Композитное (сложносоставное) существо неизбежно рано или поздно распадется. Простым и внутренне абсолютно единым может быть только то, что происходит из одного источника. Если же источника два — то в таком случае перед нами уже сложносинтетическое образование. Итак, Вечным может быть только то, что имеет одну причину, один исток своего существования. То же, что исходит из двух начал, уже несет в себе сложность и, соответственно, угрозу распада на те два первоначала, из которых оно составилось. Поэтому если сказать, что Святой Дух исходит и от Отца и от Сына, означает, что Он берет свое бытие от двух истоков, а потому не является простым, бессоставным, абсолютно единым, а, значит, в себе самом Он не имеет основания для собственного бессмертия. То же, что бессмертно не по себе самому, а по причастию чему-то другому — это не Бог.
Конечно, католики с таким выводом не согласились. Точнее, с самой логикой и они согласны. Но по их утверждению, Дух исходит от Отца и Сына не как от двух разных начал, а как от единого первоначала[62]. Но что может быть «общего» у двух личностей? — Только то, что принадлежит им обоим, что повторяется в обоих существованиях, что, соответственно, носит качественный содержательный характер. То есть — природное свойство. В итоге, по утверждению католического богословия, «единство сущности Отца и Сына изводит Духа»[314]: из Отца и Сына, как единого сущностного начала, изводится Дух Святый. «Эта очень ясная схема возможна лишь при допущении онтологического первенства Сущности перед Ипостасями в Божественном Бытии. В этом принижении личного начала и заключается основной порок филиоквистской богословской спекуляции»[315].
Filioque, полагающее, что Личность Духа исходит от безличной природы, общей для Отца и Сына, «сообщило Духу характер почти безличной пассивности»[316], неполноправного лица, а по существу прослойки между Отцом и Сыном. Согласно православной традиции, по выражению о. С. Булгакова, «Отец сообщает Сыну Свою природу, а не она сообщается через Отца и Сына как некая безличная субстанция, в которой лишь возникают ипостаси»[317]. Как нельзя сказать природа моей кошки родила вчера котят, так нельзя сказать, что Природа Божества родила Личность Сына.
Но в католичестве безликая субстанция оказалась выше живой Личности — и потому В. Лосский имел полное право сказать, что через Filioque Бог философов и ученых занял место Бога живого[318]. Вместо того Бога, который именно как Личность предстоял Аврааму и Давиду, Иову и Христу — появляется безликая и безъязыкая «субстанция» философов.
«Католическое богословие исходит из сущности, из некого безликого оно, unum, и в этом оно имперсоналистично, — резюмирует прот. Сергий Булгаков. — Личность в Божестве, именно три ипостаси, возникает в этой сущности, как имманентные божественные отношения… как модус, и следовательно, не составляет первоначального, абсолютного начала. Это релятивирование личности, сведение ее к симптоматике абсолютного означает метафизический савеллианизм, и даже нечто худшее, потому что и последний все же не был имперсонализмом… Самая мысль происхождения Духа от Отца и Сына — не в их ипостасном различении, но в их единстве и безразличии, — существенно имперсоналистична. Божество при этом понимании есть нечто, quaedam res, некое оно, в котором в различных направлениях возникают и пересекаются отношения… Отношения, так же как и личные признаки (notiones) не суть личности и не равны личностям. Личность есть прежде всего и после всего самосознающее, самополагающееся Я, которое только и может иметь индивидуальные черты или вообще признаки. Но сами по себе признаки, сколь бы они ни были реальны в силу своего бытия в Абсолютном, не становятся личностями, Я, если ему не было места в Абсолютном»[319].
Восточное христианство именно в этом вопросе — вопросе о том, что же первично в отношениях безличностной субстанции и Личности — оппонировало западным богословам, отрицая филиоквистскую догматику. Отец — не «причина» (aitia) Сына и Духа, а причинитель (aitios). Не «что» (причина) стоит у истоков бытия Лиц Сына и Духа, а «кто».
В перспективе православной мысли безличностная Божественная природа берет начало в Личности Отца[63]. «В рассуждении же Бога Отца и Бога Сына не усматривается такой сущности, которая была бы первоначальнее и выше Обоих… От одного происшедшие суть уже братья»[320], - так еще св. Василий Великий утверждал первичность ипостаси, а не сущности.
Отец есть источник Божества, но Его Божество не ограничивается Его личностью. Вне времени, в вечности, ипостась Отца разделяет Смвое сущностно-божественное бытие с ипостасями Сына и Духа, которые бытийствуют не «из природы Отца», а «от ипостаси Отца»: «Сын и Дух возводятся к одному Виновнику» — и именно не к безличностной «причине», но к «Причинителю», к личности Отца, — поясняет преп. Иоанн Дамаскин (преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. I,8).
«Не Сущий из сущего, а сущее из Сущего», — пояснял свт. Григорий Палама[64]; то есть не Тот, Кто есть (ипостась Отца) из того, что есть (из безличностной божественной природы), но то, что есть — из Того, Кто есть. То же мы встречаем в ареопагитских текстах: «Из Сущего — и вечность, и сущность, и сущее» (О Божественных именах 5,4).
Отнесенная именно к разумному бытию, ипостась означает не просто конкретность, но реальность, сознательно и свободно действующая из себя самой. Если в этом смысле слово «ипостась» прилагается к Богу, оно означает все ту же первичность бытия по отношению ко всякому качеству. «Кто» первичнее «что». Ипостась первичнее любых качеств. Быть — первичнее, нежели «чем быть» или «как быть». «Быть» первичнее, нежели «иметь». «Кто» первичнее «что». Вне времени, в вечности, ипостась Отца разделяет бытие с ипостасями Сына и Духа, которые бытийствуют не «из природы Отца», а «от ипостаси Отца»[65]. «Разделяет» — не в смысле «делит», но в смысле соучаствует. «Все предано Мне Отцем Моим» (Мф. 11, 27).
«Ипостась — особый образ бытия существа, но не часть его. Она есть субъект, тот, кто живет. Ипостась может возникнуть только от личности, хотя сама далее имеет жизнь в себе. Так и Христос говорит, что Он «имеет жизнь в себе», хотя и имеет ее от Отца (Ин. 5,26)»[321].
Католическая идея о том, что личность ниже природы, оказалась настолько привычна для европейской культуры, что сказалась даже в философских построениях Владимира Соловьева: «то, что мы обыкновенно называем нашим я, есть только носитель или подставка (ипостась) чего-то другого, высшего. Подставку жизни принимая за содержание жизни и носителя за цель, то есть отдаваясь эгоизму, человек губит свою душу, теряет свою настоящую личность, повергая ее в пустоту и бессодержательность. Эгоизм есть отделение личности от ее жизненного содержания — отделение подставки, ипостаси бытия от сущности (усиа)»[322]. Отсюда он делал вывод, что Божество сверхлично.
Конечно, и с точки зрения православия можно говорить о том, что Троица сверхлична, ибо Троичность — за пределами человеческого опыта моноипостасности человека. И все же православная мысль никогда не принимала, что ипостась есть то, что «ниже». Нет: это то, что глубже, основательнее, «фундаментальнее» (слово ипостась еще в Септуагинте используется в значении, например, фундамента дворца).
И евангельский материал (который Вл. Соловьев использует для обоснования своей концепции) предоставляет довод не в пользу решения, предложенного Соловьевым. Дело в том, что в Евангелии есть слово усиа. И означает оно в нем имение (см. Лк. 8, 43: о кровоточивой жене, растратившей состояние на врачей). Это значит, что слово усиа предполагает вопрос: а чье это имение? Не бывает «имения» без владельца; нет усии без ипостаси. Вот тезис, утвержденный еще Аристотелем в его анти-платоновской полемике и сыгравший столь значительную роль в истории православного богословия (и, увы, не принятый во внимание русским платоником Соловьевым). Соловьев не заметил, что в восточно-христианской мысли ипостась не перестает быть субстанцией, причем не в уничижительном смысле «подставки», а в возвышающем смысле «основы».
Личность может сублимировать, свободно преображать тот психический материал, который предоставляет ей природа. И в этом смысле она «выше» природы. Другое дело, что есть такая природа, которая бытийно выше человеческой личности — это Божественная природа. И человеческая личность должна раскрыть свою жизнь для принятия в свое бытие энергий, берущих начало в природе иного, надчеловеческого уровня. То, что человеческая личность отдает себя на свободное послушание миру надчеловеческих ценностей, означает, что она ниже этих сверхчеловеческих ценностей, но это обстоятельство нельзя трактовать как аргумент в пользу того, что сама личность ниже своей собственной человеческой природы. Напротив, именно над-природность, мета-физичность личности и позволяет человеку не оставаться пленником своей собственной природы, но преображаться в надчеловеческое, не-только-человеческое, обоженное бытие.
Для Соловьева «очевидно, что божество как абсолютное не может быть только личностью, только я, что оно более, чем личность»[323]. Акцент православного богословия иной: Божество как абсолютное не может быть только природой; Божество полнее своей природы, бытие Троицы более, чем божественная природа. Но по сравнению с пантеизмом это все же уже семейный спор: спор об акцентах. Оба этих утверждения исходят из того, что в самом Боге есть Личность и есть природа. Расхождение же — в понимании тех отношений, в которых находятся между собой Абсолютная Личность и ее Природа.
В то время как «латиняне в антипаламитской полемике представляли грекам именно греческое понимание Бога как сущности, на Востоке отказались от отождествления понятия Бог с понятием «простая сущность». Запад же усвоил эти греческие предрассудки»[324]. «Византийская мысль отказывается сводить бытие Бога к философской идее «сущности». Бог больше Своей сущности»[325].
… Поставь Восток в IX или даже XI веке вопрос о Filioque всерьез, у него хватило бы интеллектуальных и духовных сил переубедить Запад (конечно, при условии, что Запад признавал бы за собой возможность ошибки)[66]. Иоанн Скот Эригена (самый яркий западный мыслитель IX века и единственный западный богослов этого времени, действительно хорошо знавший восточное богословие), как сын Западной Церкви полагал, что отказываться от Filioque не стоит, но лишь в надежде, что отцы, внесшие эту прибавку в символ, смогли бы вполне разумно обосновать свое новшество, будь они об этом спрошены. «Может быть, они и были спрошены, а только нам не удалось встретить их» — говорит Эригена, свидетельствуя тем самым, что доводы Августина и его учеников в пользу Filioque он не смог признать удовлетворительными с точки зрения тех требований к богословской работе, которые предъявляло классическое греческое богословие[326].
Справедливости ради отметим, что в современном католичестве, есть попытки выйти за рамки традиции томизма: «Оригинальность капподокийцев, по замечанию Карла Ранера, заключалась в том, что окончательно онтологическое утверждение о Боге следует искать не в единой усиа Бога, но в Отце, то есть в Личности»[327]. Кроме того, в 1982 г. Смешанная международная комиссия по богословскому диалогу между Римо-Католической Церковью и Православной Церковью приняла текст, в котором католики согласились с правотой традиционно-православной формулы: «Мы можем сказать сообща, что Дух исходит от Отца как единственного источника в Троице». Этот текст был повторен и в 1996 г. в официальном разъяснении, которое по распоряжению Папы дал Папский совет по содействию единству христиан[67].
Разговору о византийской триадологии можно было бы дать подзаголовок — «у истоков европейского персонализма». Византийская мысль была более персоналистична, чем западносредневековая. Но Византии не было дано выстроить свою общественную жизнь вокруг своей самой ценной интуиции[68]. Историческая необходимость требовала превращения Византии в военизированное государство. Чтобы выжить перед напором арабов, крестоносцев и турок, византийцам пришлось сделать свое имя бранным — слишком много шантажа и лжи, дипломатических уловок и подкупов, битв и убийств было принесено ради выживания Константинополя… Но как бы ни были печальны последние дни Восточной Римской империи, ее мысль требует от философа — понимания (а от православного человека — согласия).
В полемике с католической добавкой к Символу Веры речь шла не о словах, а о все той же тайне Личности. Есть ли личность модус природы (латинская позиция), — или же правы греки со своим видением природы как содержимого личности? То, что это имело форму «спора о словах», почти неразличимых для необвыкшегося взгляда, не должно заслонять величия предмета дискуссии. В конце концов, как справедливо заметил Честертон — «Почему не будем спорить о словах? О чем же тогда спорить? На что нам даны слова, если спорить о них нельзя? Из-за чего мы предпочитаем одно слово другому? Если поэт назовет свою даму не ангелом, а обезьяной, может она придраться к слову? Да чем вы и спорить станете, если не словами? Движениями ушей? Церковь всегда боролась из-за слов, ибо только из-за них и стоит бороться»[328].
Отстаивая свое понимание слова «ипостась», греческие богословы отстаивали и такое понимание человека, при котором человек не сводится к своим состояниям и своим отличиям, но обретает некую трансцендентную подкладку под ними. Личность в своей не-чтойности отлична не только от общеприродного ее наполнения, но и от индивидуальных характеристик.
Это означает, что любая конкретная наполненность человеческой жизни может изменяться и разрушаться, а личность — нет. Может меняться, обогащаться или обедняться качественная характеристика, качественное наполнение личного бытия. Но ипостась как «самостоянье»[69] исчезнуть не может. Если личность есть эпифеномен природы — то разрушение природы есть разрушение личности. Если личность есть отношение, то с разрушением того, что соотносится через личность (все той же природы) — прекращается и «отношение». По сути в латинском релятивизме нельзя удержать идею бессмертия личности. Напротив, утверждение первичности личности по отношению к природе помогает понять и возможность и ужас вечной жизни ипостаси: если вечная и неразрушимая ипостась человека не успеет наделить атрибутом вечности свойства своей природы — она окажется голым самобытием в пустоте вечности. Личность должна овладеть предлежащей ей природой, и при этом таким образом, чтобы эту свою природу открыть для действия в ней природы единственно вечной — Божественной. Если этого не произойдет, если «скелет» личности не успеет обрасти онтологическим «мясом», не успеет стяжать такое онтологическое имение, которому не закрыт путь в вечность — то свою пустоту и замкнутость ипостась закрепит навеки и так и останется голым «само-стояньем», лишенным теплоты со-участия, со-бытия.
Так наш разговор о личности и природе обращает нас к магистральной теме православной антропологии: человек не может остаться тем, что он есть в данный момент, но должен принять участие в некоем онтологическом движении. Нетождество ипостаси и природы открывает возможным для человека участие его личности в действиях не его природы — обожение.
Теперь мы можем выделить несколько следствий «метафизичности» человеческого бытия.
Первое — онтологическое следствие: свобода личности человека по отношению к человеческой конкретно-ограниченной природе. Поскольку человек в своей личности не тождественен своей природе, поскольку бытие человека полнее бытия человеческой природы (человек = личность + природа), то человек не замкнут в свойе сущности и в принципе может воипостазировать в себя качества и действия иной, нечеловеческой природы. Какой? Очевидно, только той, которая сама открыта к такому воипостазированию. Значит, человек открыт к восприятию в себя иного, но тоже личностного бытия. С одной стороны, с этим связано чудо встречи, любви и соборного единения самих людей (ибо собор не есть тождественная неразличимость; и природное единство людей есть не то же, что природная идентичность камней). С другой — человек открыт для действия Божественной реальности в себе.
Овладение своей собственнойприродой означает не замыкание в себе, а реализацию сущностного стремления человека — стремления к превосхождению себя. Климент Александрийский недаром называл акт веры, движущейся к своему Предмету «tehni tis fisiki» (Строматы 2,6) — сущностным умением, умением действовать из сути своей природы. Мы говорили о некоей самодостаточности человеческой ипостаси. Но не самодостаточна человеческая природа. Человек — это некоторый ограниченный абсолют, для понимания которого одинаково важно и видение ипостасности, субстанциальности его бытия, и осознание его ограниченности. Парадокс человека, таким образом, оказывается в том, что личность — это субстанция, которая смертна. Поистине приложимы тут слова Марины Цветаевой: «Сей видимый дух, болящий бог». Субстанциированность нашего бытия в этом онтологическом горизонте, в «мире сем» (наша метафизичность в еще одном смысле — в несводимости и неподвластности нашей жизни миру физических процессов) подарена нам из другого горизонта. И потому свою несамодостаточность природа восполняет в акте трансцендирования — в участии в бытии за пределами себя самого и за пределами пространственно-временного мира. Итак: ипостась должна вобрать в себя полноту своей природы, а эта полнота требует, с одной стороны, чтобы душа овладела телом, а с другой стороны, уже собранную свою целостность человек должен открыть для Божия действия в себе.
Второе следствие — философское. Личность нельзя определить никаким «что», никакой качественной определенностью, ибо она есть — «кто». Если апофатическое богословие прежде всего озабочено различением Бога от мира, то апофатическая антропология старается пояснить несводимость личности к природным характеристикам, нередуцируемость категории «кто» к любой «чтойности». В патристике это стало особенно необходимым в контексте монофелитских споров, когда православная сторона настаивала на том, что нельзя отождествлять «личность» и «волю».
Европейская философия искала отождествить личность с какой-нибудь из высших сторон человеческой природы: личность — это разум, личность — это самосознание, личность — это воля, личность — это свобода, личность — это речь, наконец, (у Сартра) личность — это мое неприятие другого…[70] Но — «отождествление личности с ее свойствами приводит к тому, что личность оказывается или каким-либо актом ее жизни (например, самосознанием или свободным волением) или индивидуальным характером, или личность отождествляется с ее отношением к другой личности. Но отношение есть действие или состояние, но не ипостась. Личность — не выражение, а основа индивидуального бытия», — писал об этом же проф. С. Верховской[329].
Третье следствие — социологическое. Оно тесно связано с философским. Если мы не знаем, что есть богообразная личность в человеке — то у нас и нет ясного критерия для определения того, человек ли встретился нам. точнее, у нас нет никакой возможности отказать ему в праве считаться человеком. Все природные дефиниции человека, упускающие из виду апофатический мотив христианского персонализма, неизбежно носят сегрегационный характер. Жестко устанавливая определение личности, то есть человека — они именно о-пределяют, кто есть человек, а кто — уже (или еще) — нет. Если всерьез принять определение человека как «разумного» существа — то для психически больных людей не окажется места в жизни. Попробуйте разработать концепцию прав человека, не допускающую эвтаназию или медицинские опыты на людях с разрушенной психикой, исходя из просветительской «гуманистической» философии! Даже если ипостась еще не вступила в обладание всей полнотой своей природы или утратила это обладание — сама ипостась есть. Поэтому аборты и эвтаназия — убийство.
Если человек становится человеком, лишь обретя речь — убийство младенцев должно рассматриваться не строже чем «оскорбление общественной нравственности» (в одном ряду с истязаниями животных и осквернением национальных символов). Если быть человеком значит иметь развернутое самосознание — значит, вполне нормальны аборты. Ведь именно потому, что никто не может сказать — как человеческая личность соотносится и с нашей психикой и с нашей телесностью — Церковь не разрешает убийство еще нерожденных детей. Сама она, впрочем, основывается прежде всего на литургическом свидетельстве о самом начале жизни Христа. Если бы Мария руководствовалась современными «оправданиями» этого преступления, она имела бы более чем достаточно «жгучих причин» избавиться от Существа, Чья жизнь началась в тот самый момент, когда она сказала в ответ на слова ангела: «Да будет мне по слову твоему». Не будем забывать, что рождение ребенка угрожало ей не снижением жизненного уровня и не уходом из университета, но, в соответствии с законом о прелюбодеянии — смертью. И уже через несколько дней ничего не подозревавшая Елизавета приветствовала ее как «матерь Господа моего», и шестимесячный младенец, бывший в ней, узнал приход Того, Чьим Предтечей он был призван стать.
Грех, болезнь, увечье — это лишь ущербности в человеческой природе. Если мы не считаем возможным истреблять из жизни людей с ампутированными ногами или слепых — то нет никаких оснований отказывать в человеческих правах и людям, больным, например, болезнью Дауна.
В этим согласен и такой католический мыслитель, как Лобковиц: «Это представление, которое отождествляет «бытие-личностью» с самосознанием, имеет следствия, которые — конечно, неявно — имеют значение до сих пор, например, в дискуссии об абортах. Христианская традиция отвергает аборты потому, что она исходит из представления о том, что нерожденный ребенок имеет все права, поскольку Бог вдохнул ему душу; можно, конечно, спорить о том, происходит ли это уже в момент зачатия, или, как можно утверждать, основываясь на биологическом учении Аристотеля — только несколько недель спустя. Но если «бытие-личностью» конститутивно для человека, а человек все же становится личностью только тогда, когда он осознает самого себя, как «я», то аборт, действительно, может быть убийством человеческого существа, но не убийством личности… Этого следствия можно избежать, только если бытие личностью поставить в зависимость не от сознания или не состояния сознания, но видеть его в том, что лежит в основе сознания и делает его возможным, все равно — актуально ли сейчас сознание. или оно наличествует только в возможности. И в действительности мы мыслим и поступаем в согласии с этим представлением: иначе мы отрицали бы «бытие-личностью» у потерявших сознание и тот, кто из бессознательности больше никогда бы не пробудился, потерял бы. как только впал в бессознательность, те права. которыми он обладал как личность. Таким образом могли бы, например, начать вести споры о наследстве задолго до смерти завещателя, как если бы тот. о ком идет речь, как личность уже исчез бы со свету. То, что мы так не думаем, указывает, что в повседневности мы видим «бытие-личностью» не в действиях, но в чем-то, наличествующем в человеке, что только и делает возможным эти действия, а не исчезает все время, пока человек жив… Ложна здесь не точка зрения, но односторонность, которая ею привносится»[330].
Таким образом, личность — это не столько тот, кто обладает самосознанием (разумом, волей…), а тот, кто в принципе способен к этому.
Четвертое следствие различения природы и ипостаси- эсхатологическое. Именно потому, что любой грех и любая болезнь — мой грех и моя болезнь, они не могут уничтожить меня. Так как человеческая ипостась не сводится к своим проявлениям, никакая ущербность, никакая умственная болезнь, болезнь одной из способностей, которыми обладает ипостась, не разрушают ипостаси. Какой бы ущерб я ни наносил себе, как бы я ни «неантизировал» себя своими страстями — мое «Я» остается. И в случае полной опустошенности — оно продолжит свое бытие и после утраты такой части человеческой природы, как чистота и Богоустремленность, и после распада той части человеческой природы, которую составляет тело. Возможность ада, то есть вечного существования, лишенного вечной жизни, связана именно с этим.
Пятое следствие — аскетическое. Поскольку моя личность всегда — над любыми конфигурациями моих природных энергий и влечений, я всегда сохраняю свободу от моей собственной наличности, всегда не свожусь к ней. Отсюда — возможность покаянного изменения.
Шестое следствие — этическое. Такую же свободу и глубину я должен признать и за другим человеком. Несводимость человеческой жизни к вещным характеристикам означает налагание запрета на осуждение. «Порицать значит сказать о таком-то: такой-то солгал… А осуждать значит сказать, такой-то лгун… Ибо это осуждение самого расположения души его, произнесение приговора о всей его жизни», — предупреждал авва Дорофей[331].
Седьмое следствие — догматическое. Поскольку и в Боге Личность и природа не одно и то же, то Божественная Ипостась также свободна в своих решениях и может вобрать в себя другую природу — небожественную, сотворенную ею. По отношению к Богу ипостась означает несводимость к природе. Личный Бог может стать человеком. Личностный модус бытия открывает путь, не ограниченный естеством. Поэтому Бог может ипостазировать в своем Лице не только Свое бытие. Поскольку Бог также богаче Своей собственной природы — Он может делать нас «причастниками Божеского естества» (2 Пет. 1, 4). Что общего у человека с Богом? — Личность. Поэтому и возможна симметричная формула: Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Итак, именно персоналистическая структура высшей Реальности и бытия, созданного по Ее образу, делает возможным событие Боговоплощения и его следствие: обожение человека.
Таким образом перед нами догмат о пластичности человеческого бытия. Именно потому, что человек не тождествен своей природе, личность каждый раз заново устанавливает свои отношения со своей природой, каждый раз заново через свою свободу входит в те или иные отношения с ней. Каждая конкретная конфигурация и составляет определенную индивидуальность — и именно эта индивидуальность может меняться в человеке. Здесь вполне уместны слова Николая Гумилева: «Только змеи сбрасывают кожу, мы меняем душу, не тела». Это и делает возможным покаяние.
И в этом движении, вновь и вновь устремляющем полноту человеческого бытия к полноте Божией свершается восхождение от образа Бога в подобие Божие. Такое восхождение требует видеть личность в человеке и в Боге.
Глава 5. СПОСОБНО ЛИ ХРИСТИАНСТВО ВЫДЕРЖАТЬ КРИТИКУ ПАНТЕИЗМА?
После изложения христианского понимания личности можно приступить к рассмотрению того, как теософия критикует христианское учение о Личном Боге.
Обычно полемизирующие стороны расходятся в понимании базовых терминов — и потому их спор оказывается спором глухих: они просто не в состоянии корректно перевести речь оппонента на свой лексикон (и обратно) и понять, что мой знакомый темин употребляется другим человеком совсем не в моем смысле, а потому никакого особого кощунства он все же и не думал сказать…
Как это ни странно, в христианско-теософской полемике по вопросу о личностности Бога, таких «непоняток» нет. И теософы, и христиане исходят из достаточно близких представлений о том, что есть личность. В понимании Е. Рерих «я — личность, ибо я имею сознание, пропитанное сознанием этой личности»[332]. Христиане ведь также утверждают (при переложении терминов византийского богословия на язык современной философии) что ипостась, личность прежде всего характеризуется наличием самосознания. И для христиан, и для Е. Рерих «самосознание» есть способ и признак личностного бытия, то, чем прежде всего личность отличается от безличных предметов и процессов.
Странно, что теософы и христиане оказались едины в своем понимании личности? Но еще более странно то, что теософы этого не заметили. Свою критику христианского персонализма они строят на том, что приписывают христианам такое понимание личности, от которого сами христиане уже давно отошли[71].
Индивидуальность, говорят теософы, — это отличность одного предмета от другого. И если Абсолют должен вмещать в себя всё, всю полноту бытия, то он не может быть индивидуален. «Как великому уложиться в малое и космическому в личное?» — вопрошают Махатмы (Иерархия, 273). Для теософии «зеркало дьявола есть символ привязанности человека к своей личности или самости»[333]. Поскольку «Личность есть синоним ограничений»[334] — постольку нельзя прилагать это слово к Божеству.
Нельзя сказать, что эти рассуждения нелогичны или безосновательны. Но они действенны лишь при натуралистическом прееставлении о личности, точнее, лишь для такой философии, которая не смогла отличить личность от индивидуальности и те или иные содержательные знаки «инаковости», отличительности принимает за саму личность.
Теософы, всегда стремящиеся к возрождению доевангельских стереотипов мысли, естественно, не заметили отличий христианской мысли от антично-языческой и продолжали полемизировать с персоналистическим богословием так, как будто после Аристотеля действительно ничего нового в мире философии не происходило.
Мы видели, что христианская мысль предложила различать термины индивидуальность и личность. Важнейшим признаком личностного бытия христианская мысль считает не «инаковость» и «отличие», и даже не «ипостасное своеобразие», а способность свободно сознательно и самосознательно управлять течением своей жизни.
Прежде, чем пойти дальше, отметим и еще одну черту, которая сближает теософские тексты и христианское богословие.
И там и тем есть убеждение в том, что Божество непознаваемо, что оно бесконечно превосходит любые человеческие категории и образы. Блаватская признает требования апофатизма и считает, что именно ее система соответствует им и максимально возвышает Божество: «Когда теософы и оккультисты говорят, что Бог не есть Существо, ибо Он есть He-вещественность, они выказывают себя гораздо более благоговейными и религиозно-почтительными по отношению к Божеству, нежели те, кто называют Бога Он и, таким образом, делают Его Гигантом Мужского Начала»[335]. Как видим, Блаватская хотела бы быть «благоговейной и религиозно-почтительной по отношению к Божеству» — и это дает мне право строить эту главу исходя из того, что христиане и теософы едины в своих стремлениях избавить наши представления о божестве от слишком занижающих черт. Мы же посмотрим, как это у кого получается.
Из обоюдно признанной непостижимости Божества теософы и христиане сделали довольно разные выводы.
Главное различие я бы выразил так: там, где теософия говорит «нет», христианство (со времен Дионисия Ареопагита) говорит «сверх»: «Отрицания не пугают Ареопагита; всякое отрицание превращается у него в величайшее утверждение: Ничто есть Сверх-что; не-Добро есть Сверх-добро; Бог для него есть начало Сверх-бытийственное и даже Сверх-единое, т. е. не ограниченное единичностью»[336].
Теософия говорит о Боге безличностном как о чем-то, лишенном мысли, воли, свободы, целеполагания… Христианство говорит о Боге Сверх-Личном и Сверх-разумном. Теософия не желает приписывать Божеству человеческие ограниченности. Но в итоге делает Бога квинтессенцией человеческих немощей — суммой отрицаний и невозможностей.
Христианство полагает, что Божество сверхпозитивно: все лучшее, что человек может усмотреть в себе и в мире, Божество несет в себе, преумноженное в бесконечность и лишенное человеческих ограниченностей и противоречий.
Возражая против навешивания на Беспредельное каких-то определенных свойств, теософия тем не менее сама же делает это.
Спрашивается, если об Абсолюте нельзя сказать, что Он есть личность, то почему же о Нем можно сказать, что Он безличностен, то есть есть неличность? Если Абсолют есть Все, то отчего же Он не должен вбирать в Себя личностность, а должен ограничивать себя безлично-бессознательным быванием?
Почему теософы думают, что сказать, что «Бог — Личность» значит уничижить Его, а сказать о Боге «Абсолют» или «Все» или «Космос» — не будет унизительным? Свой антропоморфизм не пахнет? Обнаружение в Божестве «материи» или «духа» разве не есть антропоморфизм? «Бесконечно, безначально» разве не есть категории, созданные человеческой мыслью? Тогда отчего же, сначала резко заявив: «о Боге ничего сказать нельзя», теософия тем не менее вполне категорично утверждает — «Бог безличен», «Бог не мыслит»? «Представляется весьма странным, что люди, отождествляющие определение с ограничением и на этом основании отказывающиеся определить Бога как Личность, все же определяют Его безличным»[337].
О непостижимости Божества теософы вспоминают лишь когда им нужно критиковать христиан. Но едва они обращаются к своим любимым мифам — тут всякая критическая осторожность испаряется: «Признаки Божества известны: изложены лучше в Ригведе»[338].
Ну, а поскольку в индийской литературе «атман есть Брахма» (то есть дух человека опознается как Дух Божий), то Блаватская и пишет о том, что же она считает Богом: «В нашем понимании внутренний человек и есть тот единственный Бог, которого мы можем знать… Мы называем нашим Отцом Hебесным ту Божественную Сущность, которую мы осознаем внутри себя и которая не имеет ничего общего с антропоморфной концепцией… Hо, не позволяйте никому антропоморфизировать эту Сущность в нас. Hе позволяйте никакому теософу говорить, что этот Бог, Который в тайне прислушивается к или отличен от конечного человека или бесконечной Сущности ибо все есть одно»[339].
Как странно — она только что вполне конкретно охарактеризовала Бога — «внутренний человек», но выдала это за путь «апофатики». Более того, отождествив Бога и человека, она не заметила, что совершила именно грубейшую антропоморфизацию представлений о Боге…
Таких противоречий теософские тексты содержат немало. Не буду скрывать — и в христианском богословии много неясностей и противоречий. Как и в любой философской или научной системе. Но здесь уместно осознать:
1) замечает ли сама эта система наличие в себе этих «белых пятен» и собственных противоречий. Если не замечает — это значит, что она слепа даже по отношению к себе, а не только по отношению к предмету своей речи. Такая система остается на уровне пропаганды или мифа, но она не поднялась до уровня рефлексии и философии. Боюсь, что на уровне мифа осталась и теософия — именно в силу присущей ей некритической самоуверенности, самовлюбенно полагающей, будто она в силах ответить на «все запросы»[72].
2) Если противоречия в этой системе замечены и осознанны, то такую систему надо сравнить с другими — на предмет неизбежности именно этих пятен и противоречий. Быть может, окажется, что число интеллектуальных препятствий, что создала данная система, превосходит число трудностей, которые оказались неразрешимыми в альтернативной модели. И тогда вторая модель должна быть принята как более успешная. Если из двух сопоставляемых систем одна требует большего числа «жертв разумом», чем другая, то избрать надо не ее. А для того, чтобы заметить, когда именно, по каким поводам, насколько обоснованно и как часто та или иная религиозная система оставляет разум «за бортом», и надо обратиться к помощи как раз разума.
Религия есть факт человеческой жизни. Чтобы она была фактом жизни именно человеческой, а не бессознательно-животной, она должна быть и фактом человеческой мысли. А раз мысль о Боге у людей все же есть, то она должна быть именно мыслью, а не просто иероглифом. Осознав недостаточность всех наших слов и концепций, надо среди них отобрать такие, которые меньше унижали бы Божество.
Поставим такой вопрос — осознает ли само христианство проблематичность своих представлений и недостаточность терминов?
Да. По признанию своих ведущих мыслителей и апологетов, «христианство — единственная в мире религия, имеющая непостижимую догматику»[340]. Встреча с тайной не повод к тому, чтобы закрыть на нее глаза или отвернуться от нее или же отрицать ее. Противоречие надо принять как противоречие. Непостижимость — в качестве именно непостижимого. «Лучше недоумевающим молчать и веровать, нежели не верить по причине недоумения», — советовал св. Афанасий Великий[341].
Христианская мысль крайне осторожна в своих суждениях о Боге. Язык богословия — неизбежно и сознательно притчевый: как персонаж притчи лишь одной своей чертой сходствует с тем, кому притча адресована («будьте как голуби» не стоит воспринимать как призыв отращивать перья), так и в богословии — если о Боге сказано, что Он — Личность, не следует сразу на Него переносить все те черты, которые мы связываем с человеческими личностями (прежде всего — противопоставленность, разделенность и ограниченность). В Троице «нет ни единого в смысле Савеллиевом, ни трех в смысле нынешнего лукавого разделения»;[342] Лица Божества «и единичнее вовсе разделенных и множественнее совершенно единичных»[343]; в Троице «единение и различение непостижимы и неизреченны»[344]. Троичность оказывается за пределами человеческого опыта моноипостасности человека.
Профессор православного богословия в Оксфорде — епископ Константинопольского Патриархата (и этнический англичанин) Каллист (Уэр; Ware) справедливо сказал: «Бог не является личностью — точнее, тремя личностями — в том же смысле, в каком личностями являемся мы. Однако это утверждение означает не то, что Бог менее личностен, чем мы, но, наоборот, что Он бесконечно более личностен»[345].
Неизбежная противоречивость наших представлений о Боге православную мысль скорее радует: ведь Бог — это не мы, и потому было бы странно, если бы Его взгляд был бы всегда тождественен нашим представлениям. Противоречия здесь не разрушительны, а созидательны. Их наличие есть признак того, что мы прикоснулись к «антиномистической трансцрациональности бытия»[346]. Это здесь мы живем в мире «или-или». Или один или три. Или присутствие или остутствие. Но, по небезосновательной мысли С. Франка, «категориальное отношение либо-либо не имеет силы в отношении непостижимого. Непостижимое вообще лежит по ту сторону категорий тождества и инаковости и выразимо лишь в антиномистическом единстве того и другого»[347].
Перелагая такую философию в поэзию, Владимир Соловьев[348] смог так сказать о Боге:
Едино, цельно, неделимо
Полно созданья своего,
Над ним и в нем невозмутимо
Царит от века божество.
Осуществилося в нем ясно
Чего постичь не мог никто:
Несогласимое согласно,
С грядущим прошлое слито,
Совместно творчество с покоем,
С невозмутимостью любовь,
И возникают вечным строем
Ее созданья вновь и вновь.
Всегда различна от вселенной
И вечно с ней съединена,
Она для сердца несомненна,
Она для разума ясна.
Итак, «несогласимое согласно» — в частности, когда мы мыслим отношения Божественной любви и созданного ею мира: «Всегда различна от вселенной И вечно с ней съединена». Ни то, ни другое ощущение (и убеждение) нельзя потерять.
Апофатика в христианстве — это забота о том, чтобы не потерять Бога, не отнять что-то важное от Него. Пантеизм, стараясь не потерять присутствия Бога в камне и море, в итоге отбирает у Бога право на мысль, свободное творчество и Сверхкосмическое быьие. Православие считает такое ограничение Бога неуместным. Жертва тут слишком велика.
Если мы не можем понять образа Божия бытия — из этого еще не следует, что Бог не имеет права на существование. Если тебе показалось, что логически невозможно представить себе, как это Единое может сознавать многое, как Вечный ум может мыслить процессы, происходящие во времени — то лучше осознай, что этот парадокс есть лишь свидетельство о немощи твоего, относительного ума, но не делай из этого своего затруднения вывод о Разуме Бога, не лишай Бога права на мысль. Блаватская проявляет поразительный антропоморфизм, отождествляя логику человеческую и логику Божию: мол, раз нечто кажется противоречивым нам, то это будет противоречием и с точки зрения Бога. Если нечто невозможно для нас — это невозможно и для Абсолюта… Но Бог давно предостерег нас: «Мои мысли — не ваши мысли… Человекам это невозможно, Богу же всё возможно» (Ис. 55, 8; Мф. 19,26). Блаватская же не то что уравнивает человеческую логику с божественной, но еще и себя делает разумнее Бога, который не умеет ни думать, ни осознавать свои собственные действия, ни помогать кому бы то ни было…
Христианам сказано, что «Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом» (Мф. 6,32). Теософам же повелено: «Как можно полагать, что Абсолют думает, то есть имеет какое-то отношение к чему бы то ни было ограниченному, конечному и обусловленному? Это философский и логический абсурд. Даже каббала иудеев отвергает эту мысль»[349].
Это видимость логики и философии. Логично было бы мыслить о Боге иначе, более уважительно. Если мы не можем понять, как Бог может присутствовать везде и не быть ограниченным этим Своим присутствием, быть при этом Иным по отношению к миру — мы должны просто признать немощь нашего расссудка, а не заточать Творца в космическую клетку: «Божеству свойственно быть везде, все проницать и ничем не ограничиваться»[350] — «ничем», в том числе и «всем» составом космоса. Рерих считает иначе: «Царство Божие внутри нас и нигде больше»[351].
В книгах Блаватской более всего поражает отсутствие живого мистицизма. Происходит перебирание цитат из различных масонских «хандбуков», а взрыв эмоций направлен лишь на многочисленных оппонентов. Блаватская не столько любит, сколько ненавидит. Она импотентно-бесстрастна, когда речь заходит о самом дорогом в религиозном опыте — о Боге, о переживании мистического единства с Ним. Не чувствуется в ней апофатического импульса, за ее книгами не ощущается такого опыта, который ревниво отбрасывал бы привычные слова, клише — ради того, чтобы остаться один на один с Несказанным.
Поэтому о ее системе нельзя сказать как об апофатической. Это типичный скептицизм, причем довольно воинствующий. Скептик (агностик) просто отказывается познавать Бога, в то время как богослов, работающий апофатическим методом, именно работает. Агностик отворачивается от солнца и говорит, что само существование солнца недоказуемо, и уж совсем бессмысленно всматриваться в него. Богослов же заметил солнце, признал его и до некоторой степени даже был обожжен им. И вот он как бы берет разноцветные стеклышки и через них смотрит на солнце. Конечно, каждое стеклышко затемняет, ограничивает солнечное сияние. Но во-первых, вообще без стеклышек смотреть на солнце было бы просто невозможно. Во-вторых, лучше смотреть на солнце через затемняющие очки, чем вообще всю жизнь прожить в темной пещере. И, в-третьих, каждое новое стеклышко (то есть человеческое слово или формула) все-таки позволяет уловить какой-то новый оттенок Солнца Правды. И даже если оно заведомо не подходит — это тоже результат: мы узнали, что Бога нельзя представлять себе вот так…
А в итоге — что же больше ограничивает и унижает Божество: христианская догматика или пантеизм?
Для уяснения того, ограничивает или нет личностность Божественную абсолютность, поставим мысленный философский эксперимент.
Отличие пантеистического богословия от персоналистического вполне ясно определил Кант: пантеистами он называет тех, кто «принимает мировое целое единой всеобъемлющей субстанцией, не признавая за этим основанием рассудка»[352]. Бог не есть личность, а просто Энергия, подобная гравитации, пронизывающей всю Вселенную. Эта энергия не имеет ни свободы своих действий, ни их осознания, ни контроля над своими проявлениями. Во всем мире идет неосознаваемое многоликое воплощение Единой Энергии, которая проявляет себя и в добре и в зле, и в создании, и в разрушении; ее частные проявления умирают, но она всегда остается собой, никого не жалея и никого не любя. Таково пантеистическое Божество, проповедуемое, например, Джордано Бруно: «Божество не знает себя и не может быть познано»[73]; «Богу нет никакого дела до нас»[353]. Блаватская говорит о нем так: «Мы называем Абсолютное Сознание «бессознанием», ибо нам кажется, что это неизбежно должно быть так… Вечное Дыхание, не ведающее самое себя»[354]. «Эн Соф не может быть Творцом или даже Формовщиком Вселенной, — заявляет Блаватская, — также не может он быть Светом. Поэтому Эн Соф есть также тьма. Неподвижно Бесконечный и абсолютно Безграничный не может ни желать, ни думать, ни действовать»[355].
И представим личный Абсолют: в персоналистическом богословии авраамических религий Бог есть бесконечная и всесовершенная субстанция; Он вездесущ, не ограничен ни материей, ни временем, ни пространством. «Бога нет ни в облаке, ни в другом каком месте. Он вне пространства, не подлежит ограничениям времени, не объемлется свойствами вещей. Ни частичкой своего существа не содержится Он ни в чем материальном, ни обнимает оного через ограничение материи или через деление Себя. «Какой храм вы можете построить для Меня», — говорит Господь (Ис. 66, 1)[74]. Но и в образе вселенной Он не храм построил Себе, потому что Он безграничен» (Климент Александрийский. Строматы, II, 2).
Но при этом Он знает себя, владеет всеми своими проявлениями и действиями, обладает самосознанием, и каждое Его проявление в мире есть результат Его свободного решения.
Какой из этих двух образов бытия кажется более совершенным и достойным Бога?
Это следование путем онтологического аргумента: если мы мыслим Абсолют, мы должны его мыслить как совокупность всех совершенств в предельной (точнее — беспредельной) степени. Относятся ли самоосознание и самоконтроль к числу совершенств? Да. Следовательно, и при мышлении об Абсолюте необходимо допустить, что Абсолют знает Сам Себя. Входит ли в число совершенств свобода? Очевидно, что из двух состояний бытия совершеннее то, которое может действовать свободно, исходя из самого себя, сознательно и с разумным целеполаганием. Следовательно, и при мышлении Абсолюта достойнее представить, что каждое его действие происходит по его свободной воле, а не по какой-либо неосознаваемой необходимости. Понимание Единого как свободной и разумной Личности более достойно, чем утверждение безликой Субстанции.
Даже если кто-то считает, что правы атеисты и никакого «Совершенного Бытия» и нет, то он все равно должен признать, что среди философских гипотез о таком Бытии более глубокой и последовательной будет та, которая отнесет самосознание к числу совершенств, и потому в Абсолюте увидит Личность. Непонятна и необязательна пантеистическая логика, полагающая, будто при последовательном мышлении Бытия нужно лишать Его способности самостоятельно мыслить, свободно и осознанно действовать, любить и творить.
Не каждый философ обязан принимать приглашение христианства и входить в область христианской катафатики, черпающей свои утверждения из нефилософского источника: из Откровения. Но требование строгой апофатики все же является общефилософским. И поэтому, когда Блаватская утверждает, что Божество однозначно безличностно, безвольно, бессознательно, что Оно не знает себя — то в этом потоке отрицания чувствуется именно катафатический, даже катехизический напор. И эти ее утверждения остается лишь остудить предостережением Соловьева: «Божество не должно быть мыслимым безличным, безвольным, бессознательным и бесцельно действующим… Признавать Бога безличным, безвольным и т. д. невозможно потому, что это значило бы ставить его ниже человека. Не без основания считая известные предметы, как, например, мебель, камни мостовой, бревна, кучи песку безвольными, безличными и бессознательными, мы тем самым утверждаем превосходство над ними личного, сознательного и по целям действующего существа человеческого, и никакие софизмы не могут изменить этого нашего аксиоматического суждения»[356]. Пантеисты, восстающие против личностного понимания Бога, впадают в «односторонность, утверждая, что божество лишено личного бытия, что оно есть лишь безличная субстанция всего. Но если божество есть субстанция, то есть самосущее, то, содержа в себе все, оно должно различаться ото всего или утверждать свое собственное бытие, ибо в противном случае не будет содержащего, и божество, лишенное внутренней самостоятельности, станет уже не субстанцией, а только атрибутом всего. Таким образом уже в качестве субстанции божество необходимо обладает самоопределением и саморазличением, то есть личностью и сознанием… Божество больше личного бытия, свободно от него, но не потому, что оно было лишено его (это было бы плохой свободой), а потому, что обладая им, оно им не исчерпывается, а имеет и другое определение, которое делает его свободным от первого»[357].
Ту же двусмысленность отмечает в пантеизме и С. Н. Трубецкой: «Исходя из начал своей философии, Гегель не может собственно указать на действительный развивающийся субъект, отличный от процесса развития. Для Гегеля все сущее есть только процесс бессодержательной диалектики, Werden ohne Sein[75] — развитие, в котором в сущности ничто не развивается»[358]. Отрицание субъекта, отличного от процесса мировой эволюции, в общем-то есть именно атеизм (см. выше у В. Соловьева о том, что божество, «лишенное внутренней самостоятельности, станет уже не субстанцией, а только атрибутом всего»).
Пантеисты говорят, что мыслить Бога как Личность — значит делать Его слишком антропоморфным, занижать Божество. Но ведь сами пантеисты считают, что Бог един со всем бытием. А если Божество вбирает в себя все, что только есть сущего, то почему же Оно, неотличимо тождественное с любым камнем, пнем, кометой и псом, не может быть похоже на человека? Если по уверению пантеизма (все-божия) Божество едино со всем, и является единственным субъектом всех мировых свойств и всех мировых процессов — то почему бы не быть ему и носителем высших человеческих свойств: разума, целеполагания, сознания, любви и гнева? Почему при мышлении об Абсолюте надо умножать на бесконечность свойства бессознательного мира, то есть низшие свойства, а не возводить в бесконечную степень такие совершенства, как свобода, разум и любовь?
Лишение Бога права на мысль не возвышает Бога над человеком, а унижает Бога, ставя Его вровень с кучей щебня, которая тоже ничего не знает и ничего не желает. Слыша теософские суждения о том, что Бог не может ничего знать, не может думать и мыслить, я лишь могу повторить вслед за Лютером и по-лютеровски резко: «Святой Дух — не дурак»[359].
Пантеисты оскорбляются, слыша, что «Бог мыслит» — это, мол, унижает Бога, уравнивая Его с человеком. Но как же они не понимают, что, отказывая Богу в праве на мысль, они сами уравнивают Его с безмозглым камнем? Если все же преодолеть гипноз оккультизма и признать, что человек имеет свойства, возвышающие его над миром («По сравнению с человеком любое безличностное существо как бы спит: оно просто страдательно выдерживает свое существование. Только в человеческой личности мы находим пробудившееся существо, действительно владеющее собой, несмотря на свою зависимость от обстоятельств»[360]), тогда будет понятно и христианское возвещение о том, что Бог отличен от мира. Отличен, в частности, тем, что обладает все-сознанием.
Доставлю удовольствие пантеистам и попробую немного поговорить «антропоморфно». Пантеистическая пропаганда кажется убедительной потому, что выглядит почти как модная ныне «борьба за права и свободы». Не смейте, мол, налагать ограничений на Божество… Но вот вопрос: а что именно является сковывающим ограничением? Есть я и есть сделанная мною табуретка. Есть я и продуманная мною мысль и написанная мною книга. Есть я и пережитое мною чувство. И вдруг кто-то мне говорит: «Ты и есть эта табуретка. Ты есть эта мысль. Ты и эта книга — одно. Ты и это чувство тождественно-нерасторжимы». Что это значит? Это и значит, что такой зритель (тот, кто смотрит на меня со стороны) запер меня в этих случайных эпизодах и внешних проявлениях. Он как раз ограничил меня, не позволил мне быть другим по отношению к этим эпизодам моей жизни и моего творчества. И как для меня все, сделанное моими руками, неравно мне самому, нетождественно мне и не является мною — так и в отношениях Бога с Его созданиями. Свести Бога к Его созданиям и значит ограничить Его. Оставить Бога без права на мысль — и значит ограничить Его.
Таким образом, утверждение личностности Божества есть на деле апофатическое, мистико-отрицающее богословие. Это не заключение Непостижимого в человеческие формулы, а освобождение Его от них. Сказать, что Божество лишено разума, любви, свободы, целеполагания, личностности, самосознания значит предложить слишком заниженное, слишком кощунственное представление об Абсолюте. Следовательно, пантеизм отрицается христианской мыслью по тем же основаниям, по которым ею отвергаются языческие представления о богах как о существах телесных, ограниченных, не всеведущих[76] и грешных. Утверждение личности в Боге есть утверждение полноты божественного бытия.
Отрицание этой личностности означает не «расширение», но, напротив, обеднение наших представлений о Боге. В конце концов если разумное бытие мы считаем выше разумолишенного, если свободное бытие мы полагаем более достойным, чем бытие, рабствующее необходимости, то почему же то, что мы считаем Богом, то есть бытие, которое мы считаем превосходящим нас самих, мы должны мыслить лишенным этих достоинств?
Пылинка, обладающая самосознанием бесконечно достойнее громадной галактики, не сознающей себя и своего пути. «Человек — всего лишь тростинка, самая слабая в природе, но это тростинка мыслящая. Не нужно ополчаться против него всей вселенной, чтобы ее раздавить; облачка пара, капельки воды достаточно, чтобы его убить. Но пусть вселенная и раздавит его, человек все равно будет выше своего убийцы, ибо он знает, что умирает, и знает превосходство вселенной над ним. Вселенная ничего этого не знает» (Паскаль. Мысли. 200 [347]).
Если философ признает превосходство сознания над бессознательным миром — то он не может не признать вслед за Унамуно: «Но пусть кто-нибудь скажет мне, является ли то, что мы называем законом всемирного тяготения, или любой другой закон или математический принцип, самобытной и независимой реальностью, такой, как ангел, например, является ли подобный закон чем-то таким, что имеет сознание самого себя и других, одним словом, является ли он личностью?.. Но что такое объективированный разум без воли и без чувства? Для нас — все равно, что ничто; в тысячу раз ужасней, чем ничто»[361].
Если «мыслящий тростник» ценнее, чем дубовый, но безмозглый лес, чем всегда справедливые и вечно бесчувственные законы арифметики и чем безличностные принципы космогенеза — то человек, сознающий себя, оказывается неизмеримо выше и бессознательного «Божества» пантеистов. Почему же теософский холодный и бездушный абсолют подается как единственный вариант понимания всесовершенного Бога? Кто более совершенен: тот, кто спокойно и равнодушно пройдет мимо сбитого машиной человека, или тот, кто бросит все, и поможет ему? Исходя из теософского понимания совершенства как полной самодостаточности, именно равнодушный более совершенен…
Если же религия ищет в Боге Помощника и Покровителя, ищет обрести в Нем Владыку, Господа — то, значит, попытки пантеистического обезличивания божественного надо признать и антирелигиозными, и антифилософскими.
Итак, персоналистическая критика пантеизма — это отрицание отрицаний. «Нельзя запрещать!» Нельзя запрещать Богу думать! нельзя запрещать Богу быть Личностью!
Христиане согласны с позитивными утверждениями пантеизма: Божество неограниченно и мир пронизан Божеством. Разница здесь будет лишь в том, что пантеисты скажут, что Бог в Своей сущности проницает мир, а христиане — что Он проницает Своими энергиями. Это было бы не более чем спором о словах, если бы пантеистический тезис не влек некоторые весьма важные негативные последствия. Именно с этими отрицаниями пантеизма христиане не согласны. Мы не согласны с отрицанием в Боге личного разума, личной воли, а также надмирной свободы Бога.
Теперь присмотримся повнимательнее к пантеистическому тезису о том, что личность означает ограниченность.
Если бы философская мысль христианства осталась в рамках понимания личности, индивидуального бытия как одного из частных носителей общей природы, отличного и тем самым противопоставленного другим носителям той же природы (а тем более ипостасям других сущностей) — то такой ход мысли был бы естественен.
Но вновь вспомним, что язык философии, мифологии, богословия есть язык притчевый, а потому подчеркнуто конвенциональный (условный): слово имеет тот смысл, который условились ему приписать люди, говорящие на этом языке (отсюда, кстати, постоянные проблемы теософов: они пробуют прибрать к рукам термины чужих религиозных традиций, обратив их для изъяснения совершенно иных взглядов).
Вот встречаем мы суждение: «если не будете как дети…». Для одного человека «ребенок» — это символ беззащитности и несамостоятельности, для другого — неразвитости и глупости, для третьего — источник шума, беспорядка и грязи… Текст Писания непонятен вне традиции его толкования, которая подчеркивает, что ребенок притчи — это символ доверчивости и беззлобия. И во всяком случае призыв уподобиться ребенку не стоит понимать как призыв к употреблению сосок.
В притче подобие в одном отношении предполагает неподобие во всем остальном. Если некий мистик скажет, что Бог есть свет, то ведь не стоит понимать его слишком буквально, и предполагать, будто он считает, что Божественное бытие есть частный случай тех феноменов, чье поведение описывается теорией корпускулярно-волнового дуализма… И Фалес, утверждавший, что первопричиной всего была вода, вряд ли имел в виду ту жидкость, два литра которой он выпивал за день.
Так вот, когда христианская традиция говорит о Боге как о Личности, нет у нас желания тем самым сказать, будто Бог ограничен.
Личность совсем не есть «ограниченность»; личностное бытие не исчерпывается отрицательными характеристиками (противопоставление себя и другого, индивидуации и т. п.); утверждение личностности есть утверждение положительности и наполненности бытия.
Личность — средоточие духовной жизни, а не ее границы. Границы не стоит отождествлять с центром. Личность не есть ограниченность хотя бы по той причине, что ограниченность не есть личностность: ограниченных существ много. Но они именно безличностны. Ограничен ли камень? А есть ли у него личность?.. «Личность, значит, заключается не в границах бытия, не в сформированности, ограничивающей известное существо и отделяющей его от других существ, а в чем-то другом. Это нечто — есть не что иное как самообладание, — частнее, самосознание, соединенное с самоопределением и самоощущением»[362].
По справедливому замечанию С. Верховского, «Личность не есть замкнутость или обособление… личность не есть какое-то конкретное содержание бытия, но лишь его носительница, всему открытая и могущая всем обладать… Вообще никакое свойство не может быть отождествлено с личностью: оно может только принадлежать ей»[363]. Любые содержательные, конкретно-ограниченные характеристики относятся не к личности, а к тому, чем эта личность владеет. Так что даже давая Божеству позитивные определения (всеведение или всеблагость), мы не даем конкретно-ограниченной характеристики Личности Бога, но говорим о свойствах той природы, которой владеет Божественная Личность.
Как видим, даже в применении к человеку христианская мысль не понимает личность как ограниченность. Когда же речь идет о перенесении этой категории в область богословия, то тут специально оговаривается, что личностность Бога есть указание на сознательную полноту Его бытия, а не приписывание Ему ограниченности или подверженности страстям. Поскольку антропомофизм в нашей речи о Боге неизбежен, то приходится различать — в чем он терпим, а в чем — нет. «Говорят, что представлять первопричину мира обладающей личным бытием значит антропоморфизировать Бога, т. е. мыслить Его в образе тварного существа — человека. Но это возражение имело бы силу в том лишь случае, если бы мы переносили на Бога свойства личности с теми ограничениями и несовершенствами, с какими они являются в человеке»[364]. «Дурной антропорфизм был не в том, чтобы придавать Богу характер человечности, сострадательности, видеть в Нем потребность в ответной любви, а в том, чтобы придавать Ему характер бесчеловечности, жестокости, властолюбия»[365].
Дурным антропоморфизмом и антропоцентризмом было бы — не узнавать в самых прекрасных мировых образах бытия и фрагментах нашего человеческого опыта чего-то Богообразного. Пантеизм (все-божие) мечется между двумя крайностями: то он всё готов объявить Божественным и опознать в качестве «части Бога» или теофании — и придорожную кучу мусора, и страсть маньяка. То, наоборот, во внезапно пробудившемся стремлении защитить «неограниченность Абсолютного», пантеизм отказывается увидеть отражение Бога в высшем опыте человеческой жизни: в мысли, любви, свободе и творчестве. И тем самым натыкается на встречный вопрос — «Может ли быть безличным виновник мира, на вершине которого стоят разумные, личные существа?»[366].
Христианство спокойнее и благодарнее. Не обожествляя мировое зло, оно готово видеть в Боге первопричину всякого блага. Пантеисты возводят к Богу всё — в том числе и свои собственные поступки и похоти, зло и заблуждения. Христиане возводят к Богу только доброе — не желая «ограничить» Бога злом, мы видим в нем Благо. Пантеисты хотят свалить в термин «Абсолютное» все качества и свойства — без разбора. Но отчего-то они считают кощунственным — когда христиане (при всех апофатических оговорках) говорят о Боге как о Благе и Разуме.
«Если, по взгляду пантеистов, между конечным и бесконечным такое же oтношениe, какое между ручьем или частичкою воды и морем, между отдельным лучем солнца и солнцем; то на каком основании пантеисты требуют в безконечном исключать всякое свойство и качество, тогда как им владеет каждое существо конечное? Если капля или сосуд воды морской имеют известные определенные качества, то должно ли отсюда следовать, что самое море не должно иметь тех и никаких других качеств? Если отдельный луч солнечный имеет известные свойства, то следует ли отсюда, что солнце не должно иметь в себе ничего подобного?.. Вы сами представляете безконечное стоящим выше всех условий, которые наложены на бытие существ конечных, а между тем в то же время ни за что не хотите отрешиться от этих условий в представлении своем о Бесконечном? Определенные свойства и границы бытия стоят в неразрывной связи между собою в области конечных существ. Но почему? Потому что эти существа конечны и ограничены, а не потому, чтобы определение само по своей природе было одно и тоже что границы бытия, или отрицание бытия. Опыт показывает, что определение и отрицание бытия находятся между собою совершенно в обратном отношении. Почему же нельзя нам представить чистого определения без отрицания? Почему нельзя представить существа с полнотою одних определений, действительных свойств и качеств без всяких границ, без отрицания? Какое тут противоречие? Что за необходимость, представляя существо без границ бытия, исключать из представлений о Нем всякое определяющее и характеризующее Его свойство? Мы никак не можем понять этой необходимости, без противоречия здравому разуму, руководящемуся общими законами мысли и бытия, усматривающему в бытии конечном образ безконечного, и не допускающему противоречия между тем и другим. Мы не можем понять и того, каким образом, и с самой же пантеистической точки зрения на мир, должно следовать, что Бог должен быть совершенно безконечным и безусловно неопределенным существом, тогда как мир — проявление и раскрытие Его жизни, полон и богат качествами и определениями?»[367].
Дурной антропоморфизм был бы, если бы мы то, что предстоит нашим глазам и хорошо знакомо нам по нашему обыденному опыту, взяли и назвали бы Богом. Это и делают пантеисты (теософские «махатмы» так прямо и говорили «мы не знаем ничего, кроме материи»). Придание божественного статуса всему, что мы есть и что нас окружает, что видимо и ощущаемо нами — это ли путь к защите Непостижимого от кощунственных занижений?
Православие именно апофатически говорит: Бог — Иной; Он отличен от мира, не сводится к мировым и хорошо знакомым нам процессам. Бог это не механическая сумма всего существующего. Единое первичнее и «прежде» любых своих частных проявлений и творений. И именно поэтому Единое нельзя «собрать» по частям и выцедить из мировых частей. «Сверхмировое металогично. Хотя Оно стоит выше всех остальных начал, Оно не есть Всеединство; наоборот, оно четко отграничено от мира как начало, несоизмеримое с миром, обосновывающее мир, но само никем и ничем не обоснованное. Творение мира из ничего означает, что Творец творит мир как нечто новое, иное, чем Он сам. Эта инаковость вовсе не есть логическая категория, согласно которой два отличные друг от друга члена должны подходить под одно родовое понятие: как всегда, когда речь идет о Высшем начале, это есть категория иного порядка только по аналогии, называемая терминами, заимствованными из области логически определенного бытия»[368]. «По смыслу слова абсолютное (absolutum от absolvere) значит во-первых, отрешенное от чего-нибудь, освобожденное, и, во-вторых, — завершенное, законченное, полное, всецелое. В первом оно определяется как свободное от всего… Для того, чтобы быть от всего свободным, нужно иметь над всем силу и власть, то есть быть всем в положительной потенции или силой всего; с другой стороны, быть всем можно только не будучи ничем исключительно или в отдельности, то есть будучи от всего свободным или отрешенным… Абсолютное потому и свободно от всяких определений, что оно, всех их заключая, не исчерпывается, не покрывается ими, а остается самим собой. Если же оно не обладало бы бытием, было бы лишено его, то оно не могло бы быть и свободным от него»[369]
Если мы хотим продумать и обосновать апофатическое богословие — то есть усмотреть Божество в Его абсолютной непостижимости — мы должны признать Его абсолютную же инаковость по отношению к миру, то есть все же — отличить Бога и мир, а не слить их воедино[77]. А поскольку привычки и трудности нашей мысли принадлежат к «миру сему» — то и их надо уметь не навязывать Богу.
Если нам трудно понять, как Абсолютное сознание, создавшее все, может тем не менее допустить инаковость и свободу от Себя в этом «всем» или в его частях — то это трудность нашего сознания, «частного». Различение я и не-я как ограничение — это граница в которую упирается наше мышление об абсолютном, но не граница для самого Абсолютного Сознания. Не надо наши невозможности и затруднения переносить на Бога. Это как раз самый дурной антропоморфизм.
«Но личность как я, как такое или иное существо, говорят пантеисты, необходимо предполагает — не я, другие вне нее находящиеся существа, следовательно, она должна быть ограничена. — Нисколько. Эти черты личности списаны с личностей конечных и условных. Но что можно сказать об этих личностях, как конечных и условных, того, без сомнения, никакого нет основания переносить на Личность бесконечную и безусловную. Личность конечная потому необходимо предполагает вне себя другие личные или безличные существа, что она условна, что ее жизнь, ее развитие стоят в необходимой связи с окружающей ее действительностью. Личность же безусловная ни в чем стороннем не нуждается, ни от чего стороннего не зависит, имея жизнь в Себе самой, и потому она не предполагаете необходимо вне себя существ, которые бы нужны были для Ее поддержания, и вместе ограничивали бы Ее. — А мир, взывают пантеисты, который вы отличаете от Бога, и ставите вне Его? Так, мир отличен от Бога, и Бог отличает Себя от Mиpа, но мы не думаем, чтобы мир, получивши свое бытие от Бога, был ограничением Его самобытной природы и независимой ни от каких условий Его жизни. Если Бог, не вследствие какой либо необходимости, а по любви своей и благости, дал бытие мру, без всякаго умаления и ущерба своей безконечной природы, то Он мог и поставить мир в такое к Себе отношение, в котором мир не может служить для Него каким-либо ограничением, хотя это отношение должно быть тайною для человека»[370].
Итак, христианство утверждает нечто о Боге потому, что хуже будет это отрицать. Узреть в Боге Благо лучше, чем просто бросить «Бог есть ничто» и начать контактировать с духами. Мы говорим, что Бог обладает свойством мышления потому, что сказать обратное («Бог не мыслит») — значит сказать нечто гораздо более кощунственное. Мы лучше со всей осторожностью скажем, что мышление Бога непохоже на наше, скажем, что это Сверх-мышление, чем просто ограничимся грубым теософским отрицанием.
Наше мышление протекает во времени. Наше мышление есть процесс, то есть калейдоскоп перемен. Конечно, когда мы говорим о мышлении Бога, мы не можем предположить в Нем «ни тени перемены» (Иак. 1,17). Его мысль не есть поток[78] (а потому, может, и не есть мышление). Если это и процесс, то вневременной. Трудно себе такое представить? Но всё, что связано с Вечностью, с тем, что не вмещается в рамки времени и пространства, нам трудно представить.
Пантеистическая философия ведь помещает Божество выше пространства и времени, не считая, что «вне времени» означает «вне бытия». Пантеистическая философия в иных случаях соглашается, что «вне нашего познания» не означает «вне жизни». Так отчего же тогда такой тупой позитивизм она демонстрирует в вопросе о мысли Бога? Отчего тут непредставимость для нас образа мышления Абсолюта воспринимается как доказательство того, что Абсолют вообще не мыслит? Если мы согласились с тем, что бытие Бога мы не можем себе представить, то и суждение о том, что мысль Бога для нас также непостижима, не должно казаться слишком уж неожиданным выводом.
При обсуждении вопроса о Божественном разуме христианская мысль обозначила проблему, которую она не может решить. Это вопрос о том, как совместить Божественную вневременную неизменность и полноту с переменчивостью мира, которую Творец наблюдает и направляет. Если в мире произошло некое новое событие — Бог в силу абсолютности своего сознания должен его узреть. Но его прежде не было. Означает ли это, что некое новое впечатление появилось в Божием уме? Если да — то мы делаем Божию мысль зависимой от мировых перемен. Если же мы скажем, что это событие (предположим, чье-то преступление) для Бога не стало новостью, ибо Бог предвидел его до начала времен — в таком случае мы сохраняем Божию неизменность и полноту Его ведения. Но дорогой ценой: тогда возникает вопрос о свободе человека и неприятный вывод о Боге как о предвечном виновнике мирового зла…
Здесь встречаются два факта. Есть факт нашей свободы. И есть не менее очевидный для верующего сердца факт Промысла и факт абсолютности знания, которым обладает Абсолют. Ни один нельзя утратить для облегчения мыслительного бремени. Можно лишь спросить словами Боэция: «Какое божество меж истин двух войну зажгло?»[371]
В этих случаях христианин больше заботится об истине, чем о последовательности. Если есть две истины, противоречащие одна другой — он принимает их обе вместе с противоречием. Речь идет не о том, чтобы раскачиваться, точно маятник, от одной истины к другой, не о том, что одна из них какое-то время пригодна, а потом пригодной становится другая. Но о двух истинах сразу, каждая из которых имеет смысл только в том случае, если сочетается с другою.
Как об этом говорил янсенист Сен-Сиран, «вера состоит из ряда противоположностей, соединяемых благодатью»[372].
Есть вопросы, попытка ответа на которые ведет к противоречиям (антиномиям): человек творит по своему образу и подобию ответы на вопросы, которые сами выводят человека за рамки его компетенции. Привычка объяснять в таких случаях мешает благоговейно-молчащему пониманию. Нужна не редукция к проблеме, а редукция к тайне. Фома Аквинский предлагал такой выход оцепеневшему от неожиданной антиномичности разуму: «Мы должны молиться, как если бы все зависело от Бога, мы должны действовать, как если бы все зависело от нас»[373].
Христианин предпочтет остаться с проблемой — но и с Живым Богом, Который открылся пророкам. Теософ убегает в беспроблемную (как ему кажется) пустыню своих конструкций.
В общем — «Каким образом существо совершеннейшее, имеющее жизнь в себе самом, мыслит о чем-либо другом, отличном от себя — это непонятно для разума, в чем мы и сознаемся. Но потому самому мы и не утверждаем, чтобы из идеи существа совершеннейшего необходимо вытекала возможность существ несовершенных»[374]. Из того, что есть Бог — не следует с логической неизбежностью, что должны существовать и мы. И все же мы — есть. Значит, не необходимость соединила нас с нашим Творцом, а нечто иное. Но если не необходимость, то — или никем не предусмотренная случайность, или же кем-то осознанное свободное действие, чудо.
Разница пантеизма и теизма резюмируется очень просто: можем ли мы «признавать моральное существо как первооснову творения»[375] или мы полагаем, что нравственные ценности и цели наличествуют только в сознании и деятельности человека, но они отсутствуют в жизни Божества так же, как они отсутствуют в жизни мухи. Или, говоря словами П. Юркевича: «Безусловный разум есть безусловная личность, есть дух, знающий о себе и свободный, дух, к которому мы относимся не как изменения к своей причине, а как дети к отцу, относимся как свободные и нравственные личности»[376]. Мы просто «случились» в бытии или были замыслены, желанны? Появились ли мы в силу железного сцепления каких-то причин — или же чья-то свобода пожелала подарить нам бытие, которое уже было у нее и которого еще не было у нас? Короче — мы выкидыши или дети?
Пантеист скажет: никакая сознательная воля не могла быть у истоков мироздания, ибо в действиях Абсолюта не может быть целеполагающей осознанности. Ведь цель есть то, к чему надо стремиться в силу нехватки, отсутствия желаемого. Достижение цели обогащает субъекта целеполагания. Абсолют ничем нельзя обогатить, всю полноту бытия он в себе уже имеет, и потому ему незачем действовать и ни к чему целеполагание[79]. Целеполагание проявляет себя в осмысленной деятельности. А под смыслом общеупотребительно понимают пригодность некоего поступка или вещи для достижения такой цели, за которой почему-либо следует гнаться. Так чего же может так недоставать Абсолюту? Чего Божество может желать присоединить к Своей Полноте?
— Нас. Бог хочет не усвоить нас Себе, но подарить Себя нам. И Он дал нам свободу, чтобы этот Дар мы смогли принять свободно. Бог отпустил нас от Себя в надежде, что мы вернемся. Не для Себя Бог нуждается в нас, а для нас. Он создал нас во времени с целью подарить нам Свою Вечность. Пантеистическая цепочка рассуждения, отрицающая целополагание в Боге, строится на чисто корыстном понимания цели: цель деятельности есть то, что нужно непосредственному субъекту деятельности. Но ведь можно желать блага другому, можно действовать ради другого. Это и называется любовью, и если Бог есть любовь — то он может желать приращения блага не Себе (в Нем все благо дано от века), а другим. Именно понимание Бога как Любви позволяет увидеть в Нем Личность и целеполагающий Разум. И та нравственная ценность, которой не чуждо Божество — это желание блага другому.
Осознание инаковости Бога по отношению к миру предполагает не «пространственное» решение. В Боге нет никаких пространственных «вне» и «внутри». Бог «вне» мира не в том смысле, что он на сколько-то парсек дальше самого смелого фотона, дальше всех умчавшегося от «точки Большого Взрыва» и тем самым раздвинувшего границы нашей Вселенной.
Бог «вне» мира прежде всего с точки зрения познавательной: познание нами мировых процессов не есть познание Бога.
Бог «вне» мира в том смысле, что Он не опоясан космической необходимостью, не включен во внутримировые причинно-следственные связи как их необходимая часть. Да, мир необходимо нуждается в Боге, но необходимость связи Бога и мира — односторонняя: мир нуждается Боге в мире, но Бог не нуждается в мире. Иначе Он не был бы Богом, Абсолютом.
Когда христианское богословие говорит, что «Бог создал мир из ничего», это значит — не из необходимости, от не от нужды. Не было никакой внутрибожественной необходимости приступить к творению. В творении Бог осуществляет не Себя — Он дарует бытие другому. Для пантеизма «нет индивидуальности в Боге, потому что Он не есть существо, само по себе обладающее бытием и сознанием, разумом и волей, а есть неопределенная субстанция — сама по себе без качеств, сознания и воли, мыслящая, живущая и действующая только в конечных существах как своих модусах»[377]. Оттого с точки зрения пантеизма (по крайней мере немецкого и теософского) Божеству необходим процесс раскрытия Себя в мире — ибо иначе он не сможет обрести разум и познать себя. Жизнь мира есть внутренняя жизнь самого Божества — ибо никакой другой жизни у Него просто нет. Так мыслит пантеизм. Но с точки зрения христианства — «Бог не есть субстанция, вместе со своей деятельностью рассеивающаяся и теряющаяся в мире, а существо, владеющее бытием и жизнью в себе самом, независимо от мира. Он живет не жизнью мира, а своей собственной жизнью»[378].
Божий замысел о мире есть мера для осуществления другого — и это отнюдь не гегелевское самостановление Абсолюта, который охвачен страстью выйти за пределы своего неведения и не стесняется для этого в средствах[80]. Внутреннее самобытие Бога достаточно богато, чтобы не испытывать неодолимой потребности во внешнем раскрытии или внешнем собеседнике. Философская схема Фихте, в которой мир развертывается из первичного «Я» потому, что ему потребно «Ты» — логична. Но только в том случае, если Божественное бытие сводится к единственной Личности. Христианское же видение Троицы утверждает, что извечно в Божественном бытии даны все основные категории грамматики бытия: «Я», «Ты», «Он», «Мы»[81]. Христианская Триада противополагалась строгому и монотонному единобожию иудейской веры, которое получило в патристике именование «иудейской скудости». О той же богословской «скудости» можно говорить и применительно к немецкой философской классике.
Себялюбие — любовь, обращенная к самому себе —. не является истинной любовью. Любовь — это дар и взаимообмен, и поэтому для того, чтобы любовь была полной, она должна быть взаимной. Она нуждается в «Ты» так же, как и в «Я», а это значит, что любовь предполагает множественность личностей. Да, любовь нуждается в любимом. И если Бог есть любовь, то Он нуждается в том, к кому бы эта любовь была обращена. Поскольку Бог Един, то предмет своей любви Он может найти лишь за пределами Своей собственной жизни — и вот эти пределы Он на Себя налагает, чтобы создать «за-предельный» мир как объект Своей любви. Чтобы Его Единство не стало Одиночеством — Бог создает мир как предмет Своей любви… Так мыслит романтическая околобогословская публицистика.
Но христианский Бог хоть и Один, все же не Одинок в Себе[82]. Еще св. Григорий Богослов понял связь между евангельским возвещением о Боге как о Любви и догматом Троичности: если бы Божество было не Троицей, а Одним — это «показывало бы нелюбообщительность»[379]. С той поры христианская мысль постоянно возвращалась к этому сюжету. «Условием совершенства одной личности является общение с другой… нет ничего более славного, чем желать не иметь ничего, что бы ты не желал бы разделить [со мной]» (Ришар Сен-Викторский. О Троице 3,6). А поэтому если Бог есть любовь, невозможно помыслить, что Он есть только одна личность, любящая Себя Самое. Он — по крайней мере, две личности, Отец и Сын, любящие друг друга.
Для Ришара Сен-Викторского из того, что Бог есть любовь Троичность (превосходящая двоичность любящего и любимого) следует таким образом: для Любви нужен любящий и любимый. Но если один любит другого, а во взаимной любви этот другой любит первого, то… их любовь направлена в разные стороны. У них, оказывается, нет общего предмета любви. Настоящая любовь появляется тогда, когда любовь двоих направлена к третьему. Муж любит жену. А жена любит мужа… И что же в их любви общего? Но еcли появляется третий — малыш — то над его колыбелькой любовь двух наконец устремляется в одном, общем направлении, встречается и обретает третью точку, именно точку опоры… «Разделенная любовь не может существовать, кроме как среди трех личностей… О разделенной любви можно сказать, что она существует, только если третья личность любима двумя личностями, гармонично и в общении друг с другом, когда любовные чувства этих двух личностей сливаются в одно в пламени любви к третьему» (Ришар Сен-Викторский. О Троице 3,14,19). В Боге этот «третий», с которым первые два разделяют свою взаимную любовь, — Дух Святой, Которого Ришар называем condilectus, «со-возлюбленным».
Итак, «Как таковой, Бог не есть моноипостасный субъект, для которого единственность, обрекающая его на всепожирающий эгоизм, есть и ограниченность»[380]. До времени и вне времени, до мира и вне мира, вне каких бы то ни было космогонических и космогонических замыслов, в Себе Отец дарит инаковость Сыну и Духу. «Любовь есть самоотрицание существа, утверждение им другого, и между тем этим самоотрицанием осуществляется его высшее самоутверждение… Итак, когда мы говорим, что абсолютное первоначало по самому определению своему есть единство себя и своего отрицания, то мы повторяем только в более отвлеченной форме слова великого апостола: Бог есть любовь»[381].
Божественная Любовь исполняет себя вне человека и до его создания — в самом Боге. Это означает, что Божественная Любовь передается от Одних божественных Лиц к Другим «объективно» — независимо от человеческого познавательного усилия. Знает человек о том, или нет — Бог есть любовь, а не кажется любовью.
Теперь мы можем заметить еще одно вообще важнейшее отличие христианского богословия от языческих теорий: богословие здесь отделяется от космологии и от гносеологии. С точки зрения теософии Божество едино и безличностно, и лишь в человеческом познании, то есть лишь гносеологически, существуют разные грани Единого, которым человек дает разные имена и почитает их различными существованиями. Дух един — но проявляет он себя разнообразно. И поэтому множество лиц божества (или множество богов) суть лишь именования различных космологических функций Единого и безлико-безымянного Первоначала.
В христианстве же все проявления Бога в мире (то есть все Божественные действия и энергии) исходят из Единой Божественной природы и потому при всем многообразии своих проявлений указуют лишь на единство Божией Природы, из коей они берут начало. Сверхединичность, троичность Лиц, управляющих этой Природой, познается лишь через Их прямое откровение — Библию, но не чрез мистические ощущения людей. Различие Лиц между собой не имеет отношения к космогонии и к человеческой гносеологии. Не ради творения мира Отец рождает Сына. Отношения Личностей в Боге не функциональны, бытие личностей не редуцированы к их функциям.
Если в языческой мысли умножение личностей (точнее — ликов) Божества происходит ad extra, то есть вовне, то христианская мысль самостановление Троицы осмысляет как процесс, обращенный ad intra, внутрь самого Божества.
Умножение Бога ad intra (внутри) и ad extra (вовне) не совпадают, хотя оба реальны. Например, такие энергии и имена как мудрость, жизнь, любовь, простота — это разные энергии, но они едины для всех Лиц. Напротив, Отец есть имя лишь одной ипостаси, но в этом имени проявляются все многообразные энергии Бога[382]. То есть произнося имя «Божественная мудрость» — мы имеем в виду не одну из трех Ипостасей Троицы, но говорим обо всей Троице. Когда же мы произносим «Бог Отец» — то это упоминание Первой Ипостаси (то же самое будет и при речи о других Лицах) предполагает памятование о Том, Кто является субъектом всех божественных признаков и энергийных проявлений: и мудрости и любви, и освящения, и творения… Это означает, что глядя из мира, из космоса — нельзя заметить, что за Единой Божественной Природой, из коей и истекают все энергии, проявляющие Бога в мире, стоят Три Лица. Троичность Божества есть не плод «наблюдений» за миром или даже за мистическим опытом, а откровение Бога, наложенное на человеческую мысль.
Для язычества Божество само по себе безгранично, но Его энергии, то есть ограниченные проявления неограниченного Начала в ограниченном мире, как бы лицетворят Его, позволяют человеку воспринимать Божество как личность. С точки зрения христианства, Божественные энергии, через которые Бог присутствует в мире, безличностны. И то, что Бог есть личность, открывает не Его энергия, а Его прямое и личное Откровение, не Его «зрак», а Его «глас», то есть Его волевое решение прямо и непосредственно явить Себя.
Поэтому попытки теософов сблизить вишнуитскую триаду (Тримурти) и христианскую Троицу некорректны. Тримурти — идея гораздо более поздняя, нежели христианское учение о Троице[83]. Она встречается лишь в позднейших Пуранах и в теогонической поэме Гориванши, т. е. в XIII–XV вв. Скорее всего это не философская идея и синкретизм: о Вишну на севере рассказывали те же легенды, что и о Шиве на юге. Учение о Тримурти в конце концов есть учение о божественной мистификации, ибо «здесь речь идет о трех функциональных масках Анонима, но никоим образом не о единстве Трех Лиц. В самом деле, три персонификации индуистского Абсолюта суть три его космологические функции, взаимодополняющие друг друга не интерсубъективно, но вполне «объективно» — как начала созидания, стабильности и разрушения»[383].
На самом деле тринитарное богословие не копирует языческое богословие, но противостоит языческим попыткам видеть в Ипостасях лишь исторические маски. Различие проходит по ответу на вопрос о Лице Бога. Лик Бога — это то и только то, что обращено к людям (и, значит это лишь отражение Божества в наших глазах), или же это то, как Бог Сам видит Себя, в Своей сокровенной внутренней жизни. «Говорит ли эта действительность лишь нечто о человеке, о его различных способах относиться к Богу, или же она обнаруживает что-то в том, что есть Бог в Самом Себе?»[384].
Раньше мы говорили о том, что тайна богословия в антропологии, но теперь как раз время выйти из этого и задаться вопросом: не хочет ли и не может ли Бог открыть о Себе самом нечто такое, что человек в себе найти не может? Касается ли откровение о Трех лишь нас, или же оно действительно о Боге? Хоть и верно, что мы познаем Бога лишь в зеркале человеческого мышления, христианская вера держалась того, что мы в этом зеркале познаем тем не менее именно Его.
Язычеству же близко савеллианство, а отнюдь не православие.
Некорректна и попытка А. Безант выдать язычество за христианство: «Этот Единый, Верховный Дух Божества проявляет себя трояко, составляет Троицу, по христианской терминологии. Теософ исповедует ту же истину под другими именованиями»[385]. В том-то и дело, что теософская доктрина — не «та же истина», что и христианская. Для христианства личность Божества самобытна, для теософия — обусловленна. Личность для теософии есть совокупность сочетаний, некоторая частная комбинация безличностных энергий и элементов. Не «проявления» в мире составляют христианскую Троицу. Бог Троичен помимо Своих проявлений в космосе.
Это означает, что внутри Божества Его саморазвертывания в Троицу — да, не могло не быть. Но к дарованию способности быть чему-то вне Себя Бог ничем не понуждался. «Для Бога созидать есть второе, а первое — рождать» — говорил св. Афанасий Александрийский[386]. Разная любовь у Ипостасей друг ко другу и у Бога к миру — поэтому мира могло бы и не быть, но Сына не могло не быть.
Творение мира Богом не необходимо. Тогда что же это — случайный каприз? Но это лишь кажущаяся дилемма — мол, Бог или создал мир по необходимости или случайно, по капризу. На самом деле и то и другое есть нечто слепо-несвободное, безотчетное. Необходимости противостоит не каприз, а свободный и сознательный, ничем не вынужденный дар.
У истоков космоса стоит не скрупулезно высчитывающая нужда, а бескорыстно — щедрая… игра. В библейской книге «Притчей Соломоновых» творение мира связано с образами художественной игры и радости: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны… Когда Он уготовлял небеса, я была там, тогда я была пред Ним художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время и веселясь на земном кругу Его, и радость моя была вместе с сынами человеческими» (Притч. 8, 22–31).
Климент Александрийский предложил такое толкование известной библейской истории: «Исаак означает смех. Любопытный царь увидел его играющим со своей женой и помощницей, Ревеккой (Быт. 26, 7). Царь, — его звали Авимелех, — мне думается, означает небесную мудрость, снисходящую на таинственную игру детей. Ревекка по истолкованию значит «терпение». Вот поистине разумная игра детей: смех поддерживается терпением! И царь смотрит на эту игру как дух чад Христовых, проводящих жизнь в терпении, радуется. Подобным образом Гераклит представляет и своего Зевса занимающимся играми. Ибо для совершенного мудреца что приличнее как не играть и при терпении и добром образе жизни оставаться радостным, своей жизнью как бы торжество праздничное справляя вместо с Богом (и подобно Ему)?»[387]
Эти слова напоминают о той параллели библейской космогонии с языческими мифами, которую теософы (обычно любящие набеги в область «сравнительного религиоведения»), не заметили. Общим у Библии с некоторыми из мифов оказывается использование образа сакральной игры.
«Манвантары, создания и разрушения [мира], бесчисленны: Высочайшее Существо (Пармаштин), как бы играя, создает их каждый раз» (Законы Ману, 1,80). Танцующий Шива в своем танце также управляет судьбами космоса… В «Переландре» Клайва Льюиса создание мира — это «Великий Танец».
Почему христианство обратилось к теме миротворящей Божественной игры? — Чтобы еще раз подчеркнуть дистанцию между Творцем и Его творением. Никакая ниточка «необходимости» или «логики» не перекинута через эту пропасть. Митрополит Антоний Сурожский замечательно резюмировал православное видение отношений мира и Бога: «мы Богу не нужны. Мы — желанны»[388].
Действительно, мир не нужен Богу. «Он создал все сущее не для Своей пользы, потому что не нуждается ни в чем»[389]. «Бог создал человека не из-за того, что ему было нужен какой-либо слуга, но потому, что Он благ. Он создал человека, способного участвовать в Его собственной благости, чтобы сообщить ему Свою собственную вечность» (св. Иларий Пиктавийский. Трактат о псаламх 2,15).
Если мы поставим вопрос — «зачем Бог создал мир» — придется ответить: низачем. «Зачем» — вопрос для Абсолюта бесмысленный: над Абсолютом ничего не может быть, все Его цели в Нем, эти цели неотделимы от Него, а значит, неотличимы, неименуемы, неназываемы. Все богатство вселенной ничего не прибавляет к Плироме. Никакого выигрыша и прибавления Бог не получает, становясь Творцом[84].
У финского философа Л. Хейзинги игра — это отличительный признак человека, Homo ludens, как способность к символической, непрагматической, избыточной деятельности. Так и в традиции библейской мысли подчеркивается, что мир для Бога избыточен. То, что мир сотворен «из ничего» означает, что он сотворен из свободы, то есть даже не из той «любви», что нуждается для своего выхода в любимом, и даже не из потребностей «самопознания» (и это уже повод для расхождения с Гегелем)[85].
Означает ли это, что нам вообще не дано расслышать ответа на извечный вопрос философии — «почему существует нечто, а не ничто»? Нет. Это означает только, что в нашем существовании мы должны увидеть чистый дар Творца. Бог творит мир не для умножения Своей Славы, а для того, чтобы приобщить к Ней иных. По слову Тертуллиана, «Бог создал мир не для Себя, а для людей» (Против Маркиона. 1,13). Творец просто хочет подарить Себя. Это абсолютный дар, такой дар любви, которая ничего не ждет для себя, это такое действие, которое абсолютно не провоцируемо чем бы то ни было… Но оно есть. И в этом смысле можно говорить о «божественной игре» как о бескорыстной и в этом смысле непрагматичной деятельности. Вот и получаются те слова, что сказал преп. Максим Исповедник: «Бог привел в бытие твари не как нуждающийся в чем-либо, но Он сделал это, чтобы они вкушали соразмерное причастие Ему, а Сам бы Он веселился о делах Своих, видя их радующимися и всегда ненасытно насыщающимися Ненасытимым». То сочинение преп. Максима, где говорится об этих отношениях Бога и творения, называется — «О любви» (3,47)…
Но вот теперь, пояснив, какой смысл стоит за библейским образом творящей игры и каким он мог бы быть в аналогичных образах иных религий (вспомним танец Шивы, создающий миры), попробуем заметить и различие.
Во-первых, танец Шивы несет не только жизнь, но и смерть. Во-вторых, раз это танец и игра, бессмысленно вопрошать о том, каково назначение в них человека. Именно так раскрывает значение гераклитовского понимания космоса А. Ф. Лосев. Для Гераклита космос есть дитя. Но прежде чем умилиться сходством с евангельским «будьте как дети», стоит заметить, что для Гераклита здесь важен не символ чистоты, а символ безответственности… «Кто виноват? Откуда космос и его красота? Откуда смерть и гармоническая воля к самоутверждению? Почему душа вдруг исходит с огненного Неба в огненную Землю, и почему она вдруг преодолевает земные тлены и — опять среди звезд, среди вечного и умного света? Почему в бесконечной игре падений и восхождений небесного огня — сущность космоса? Ответа нет. «Луку имя жизнь, а дело его — смерть» (Гераклит фрагмент В, 48). В этой играющей равнодушной гармонии — сущность античного космоса… невинная и гениальная, простодушно-милая и до крайней жестокости утонченная игра Абсолюта с самим собой… безгорестная и безрадостная игра, когда вопрошаемая бездна молчит и сама не знает, что ей надо»[390].
Итак, Гераклитово сравнение космоса с играющимся ребенком вполне малоутешительно: также капризно и жестоко, без сострадания Бог может разрушить мир (и разрушает) как ребенок рушит свои песчаные замки[86]. По выводу английского проф. К. М. Робертсона, несмотря на то, что греческие боги «воспринимаются в человеческой форме, их божественность отличается от человечности в одном страшноватом аспекте. Для этих вневременных, бессмертных существ обычные люди — словно мухи для резвящихся детей, и эта холодность заметна даже в их изваяниях вплоть до конца V столетия»[391]. Более утешительно воззрение Платона, который полагает, что боги при игре с людьми все же хоть какие-то законы соблюдают: «Так как душа соединяется то с одним телом, то с другим и испытывает всевозможные перемены, то правителю этому подобно игроку в шашки не остается ничего другого, как перемещать характер, ставший лучшим, на лучшее место, а ставший худшим на худшее, размещая их согласно тому, что им подобает» (Законы 903d). Но в конце концов — «Человек это какая-то выдуманная игрушка бога» (Законы. 803с). У Плотина тоже: люди — «живые игрушки» (Плотин. Эннеады. 3,2,15,32).
И так — не только в языческой Греции. Человек не видит себя, личности и свободы — следовательно, не может познать истоков падения, а значит приходит к идее игры. У игры нет мотивов, следует просто знать ее правила…
И вот — разница библейской «игры» и языческой: в Библии Творец, играя, смотрит на человека и ему дарит созидаемый мир. Во внебиблейских сказаниях играющий создатель слишком поглощен собой и не замечает реальности своих игровых порождений, не осознает реальности их боли и настоящести их жизни…[87]
Библия даже не задается вопросом — почему Бог решил творить. В Библии нет никакой теософии, никакой спекуляции о Боге вне творящего откровения.
Ефрем Сирин сначала просто констатирует свободу творческого повеления: «Причина стольких красот не вынужденна; иначе они окажутся делом кого-либо другого, а не Бога; потому что необходимость исключает произвол». Далее преп. Ефрем приходит к непосредственной связи этой свободы с проблемой совечности твари Творцу: Бог «имел же собственную волю, не подлежащую необходимости, и не сотворил совечных себе тварей… Ибо действование Его было не по необходимости; иначе твари были бы совечны Ему»[392].
И снова мы видим, что именно если мы всерьез желаем познать Бога в Его абсолютности, отрешенности, мы должны принять не пантеистическую, а креационистскую картину мира. Бог объемлет мир, но не объемлется им. Исследуя мир, его дробные части текучие процессы, можно догадаться о наличии Бога но нельзя познать самого Бога. Бог — другой, чем мир. А, значит и мир — «другой» для Бога.
Откуда «другой» рядом с Беспредельным и всевмещающим Абсолютом? — от свободного решения Самого Бога. Бог пожелал, чтобы было иное, чем Он, бытие и для этого умалил Свое присутствие в этой сфере бытия, предоставив ей свободу. Ведь Бог всемогущ? — Ну, так Он и сотворил величайшее чудо: дал возможность в Себе существовать иному, причем наличие и даже бунтарство этого иного не дробит Его собственного Единства… Не переставая быть «всюду Сущим и единым», Он благословил существовать другим волям, другим бытиям. Само существование мира, причем мира настолько свободного, что в нем не обнажено постоянное вездеприсутствие Бога, есть проявление Божией любви.
Вот размышление об этом дореволюционного богослова (и новомученика) прот. Александра Туберовского: «Если бы абсолютное благо полностью не удовлетворялось в Боге, не покрывалось любовью Тройческих Лиц и требовало, поэтому, все новых и новых объектов, то освобождение божественной благости в творческом акте не было бы «жертвой», а только необходимостью или потребностью, что одинаково противоречило бы вседовольности, или полноте Высочайшего Блага. Но так как полнота блага осуществляется именно в пределах Существа Божия, то блаженство это столь, напротив, велико, так полно удовлетворяется любовью Божеских Лиц, что разделить его с тварью, поставить вне Себя объект новой любви значило отречься от самодовольства исключительно внутренней жизни во имя блага свободно творимых вне себя существ, значило совершить свободный акт «самопожертвования». Сотворение мира, следовательно, было первою «жертвой» со стороны Бога, — не Себе, конечно, что было бы безсмысленно, а во благо твари. Отречение от самодовольства любви в Троице — такова цена миро-бытия вообще! Конкретно мысль о божественной жертве в самом акте создания мира высказывается, в Свящ. Писании в форме «предопределения» к закланию Сына Божия от сложения мира (1 Петр. 1, 19–20; Откр. 13, 8; Ин. 17,5). Такое стремление Бога — любви к самопожертвованию во благо мира, осуществленное полностью лишь в акте крестной смерти Христа, становится нам понятным и при анализе творения мира, как «предварительнаго» динамическаго ряда жертвенных актов Божественной любви. «Бог ограничил Себя», сотворив мир, не в том смысле, что чрез это Он лишился какой-либо части Своих совершенств: это противоречило бы приобретенному нами понятию о Боге, как высочайшей, неисчерпаемой силе… Самоограничение, самоотречение, самопожертвование Бога не означает «умаления», «потери» и т. п. статически-количественных перемен. В Боге совершилась, при Его неизменяемости по существу, перемена динамическаго характера: высочайшая сила противопоставила себе, как единственный дотоле реальности, мир, — отличное от Себя, тем не менее, реально существующее, относительно самостоятельное, автономное начало. Бог отрекся от солипсизма абсолютнаго бытия и ввел, так сказать, соучастника в Ему одному принадлежащую по природе область «существующего». Далее, Бог продолжает действовать в мире, «промышляет» о нем, сохраняет его, управляет им и т. д., но все эти действия Божественной благости должны теперь уже сообразоваться с теми законами, которые благоволил Бог усвоить миру при его создании. Это самоограничение, это подчинение Бога мировым законам выступит особенно рельефно в акте «воплощения»»[393].
Наконец, поскольку мы вновь оказались в тематике Троического богословия, поставим вопрос: не нарушает ли единства Божества представление о Его Три-ипостасности?
В контексте античной и западной философии безусловно логичен призыв теософии подняться мыслью выше мира личностей в ту изначальную вершину, где обретается безличностная божественность. Для западного (филиоквистского) богословия, как мы уже видели, личность-персона есть частное, ситуативное проявление, «отношение» некой за-личностной, надличностной субстанции. Поэтому персона есть частный способ бытия субстанции, а значит — ограниченность.
Поскольку же о Боге нельзя говорить как о чем-то ограниченном, естественно сделать вывод, что церковная догма личностного Бога суживает горизонты философского мышления об Абсолюте. Поэтому Мейстер Экхарт ставит «Божество» выше «Бога». Поэтому «Махатма отрицает и говорит против кощунственного человеческого представления Личного бога. Махатма отрицает Бога церковной догмы»[394].
Православие же предлагает различать личность и индивидуальность. Интересно, что теософия также устанавливает различение природы, личности и индивидуальности. У человека — с ее точки зрения — своей природы, собственно, нет. Все сущее в мире суть проявления одной и той же Единой Энергии, Единой Сущности. Конкретные ее проявления и называются индивидуальными существами. В этих индивидуациях есть более постоянные и менее постоянные сочетания. В тексте, принадлежащем предреволюционному лидеру теософского движения в России Е. Писаревой, читаем: «Психология Древнего Востока ясно различает бессмертную индивидуальность человека и его смертную личность. Все личное умирает вместе с человеком, но весь результат личных переживаний сохраняется в бессмертной индивидуальности и составляет ее непреходящее содержание»[395]. Е. Писарева это говорит не от себя, но от Блаватской. Основательница теософии писала даже еще более прямо: «Я верю в бессмертие божественного Духа в каждом человеке, но я не верю в бессмертие каждого человека»[396]. Этот текст стоит запомнить тем, кто полагает, что «закон кармы» обещает им лучшую жизнь в будущем. Ничего подобного: лично вам ничего не достанется. Личность будет уничтожена. Ваше «кто» исчезнет, и лишь те различные свойства, из которых сложилась ваша индивидуальность, лишь отдельные энергии — «дхармы», которые на время сложились в вашу индивидуальность, будут продолжать свой путь по вселенной.
Но главное — здесь прекрасно видна пропасть между христианской и пантеистической мыслью. Христианство полагает, что индивидуальность как конкретная совокупность моих случайных черт и поступков может быть преображена и даже стерта (точнее — восполнена). Но моя личность, мое Я останется самим собой и может обрести большую полноту жизни в Боге. Если душа человека пришла на последний Суд с таким багажом, что не может быть взят в Вечность — этот тленный багаж будет сожжен огнем Вечности. Если же то, что любил человек в своей земной жизни и то, что он скопил в своей душе, достойно Христа — оно будет преображено Христовою любовью. Но даже если человек пришел с пустыми руками и с пустой душой — сгорают его «нажитки», его «индивидуальность», но не его личность. «Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня» (1 Кор. 3, 13–15). Вот разница с теософией: она говорит, что «сам погибнет», но «дело его живет». Христианство все полагает наоборот. То, что было «моим», может быть оставлено в уже ненужном доме. Но я сам не могу раствориться в небытии. Здесь дело не в терминах, а в самой сути: чему уготовано будущее: «моему» или «мне»? Христианство не говорит: «да будут бессмертны наши дела и наши кармы». Оно говорит — «чаю воскресения мертвых».
Да, и с нашей точки зрения личность — это инаковость, это отличие. Но это отличие необязательно должно быть дробящим или противопоставляющим. Хотя личность — это «другой», но качественно не отъединенный, не противопоставленный единосущным бытиям. Поскольку же сами по себе личности не могут быть познаны или охарактеризованы через содержательно-качественное различение, инаковость личностей стоит по ту сторону любых качественных конкретных наполнений. Поэтому мыслимо бытие такого множества личностей, которое не дробит и не умаляет единства бытия.
Если каждая из этих личностей равно обладает всей полнотой Абсолюта, если нет ничего, в чем одна из Личностей была бы отлична от другой — то философия монизма оказывается не в противоречии с возвещением Личностного Бога, точнее — Бога, единого в Своем Существе и Троичного в Своих Лицах.
Так заслуживает ли христианское богословие той ругани «христианского антропоморфизма», что наполняет «Письма Махатм»? Задолго до Емельяна Ярославского Махатмы рисовали карикатуры на христианское понимание Бога, «который сидит, развалившись, откинувшись на спинку на ложе из накалившихся метеоров и ковыряет в зубах вилами из молний»[397].
В ипостасности видит христианская мысль «образ Божий» в человеке. Эта ипостасность, «самостоянье» есть то, что до некоторой степени уподобляет человека Богу. Благодаря богообразной ипостасности и человек может свободно и осознанно контролировать действия своей природы. В этом — утверждаемое христианством сходство Бога и человека, а отнюдь не «ковыряние вилами в зубах». И для того, чтобы не мыслить Бога в категориях «ковыряния в зубах», совсем не обязательно становиться на позиции пантеизма.
В «Тайной Доктрине» Блаватской есть специальная главка под названием «Пантеизм и монотеизм». Вот ее центральный тезис: «Пантеизм проявляет себя в необъятной шири звездного неба, в дыхании морей и океанов, в трепете жизни малейшей былинки. Философия отвергает единого, конечного и несовершенного Бога во Вселенной, антропоморфическое Божество монотеистов, в представлении его последователей. В силу своего имени фило-тео-софия отвергает забавную идею, что Беспредельное, Абсолютное Божество должно или, скорее, может иметь какое-либо прямое или косвенное отношение к конечным, иллюзорным эволюциям Материи, и потому она не может представить Вселенную вне этого Божества или же отсутствие этого Божества в малейшей частице одушевленной или неодушевленной субстанции»[398].
Вся техника конструирования «фило-тео-софии» здесь налицо. Монотеизм не утверждает, а) будто Бог существует во Вселенной (ибо для монотеизма Бог как раз трансцендентен); б) будто Бог несовершенен (для монотеизма Бог есть именно актуальное Совершенное Бытие) в) будто Бог конечен (для монотеизма Бог именно Бесконечен). Напротив, именно для теософии Божество несовершенно (ибо оно развивается и само становится и рождается в ходе мировой эволюции). Именно с точки зрения теософов Божество существует во вселенной и только в ней. Итак, христианское богословие здесь переврано и ему приписаны мысли, которые бытуют в самой теософии. Теософия критикует христианство за то, чего в христианстве нет, но что есть именно в ее собственном учении.
Никак нельзя заметить логики и в следующей фразе из приведенной цитаты. С одной стороны, сочтено недостойным для Абсолютного бытия «иметь какое-либо прямое или косвенное отношение к конечным, иллюзорным эволюциям Материи». Но тут же уверяется, что Абсолют теософов не то что «имеет какое-либо отношение» к миру материи, но прямо весь и сполна растворен в этой материи. Если уж исходить из посылки о том, что для Божества недостойно прикасаться к миру людей, то логично прийти к выводу о радикальной трансцендентности Бога, который есть абсолютно вне человеческого опыта и человеческой мысли и даже Сам в Своих мыслях не думает о людях и нашем мире, пребывая абсолютно чуждым нашей вселенной. Но из этой посылки никак нельзя придти к выводу о том, что этот «брезгливый» Дух пропитал собою каждую частицу мироздания, каждую кучу пыли и каждую человеческую душу.
Наконец, в состоянии противоречия находятся первая и последняя фразы этого словопостроения Блаватской. Первая утверждает благоговение перед мирозданием и природой. Последняя же фраза утверждает, что все вышеперечисленные конкретные феномены природы не более чем иллюзия.
Чтобы убедиться, что за столетие, прошедшее после трудов Блаватской, теософы не обрели более глубоких познаний в области истории религии и философии, приведу пассаж о пантеизме, принадлежащий перу основного на сегодняшний день «догматиста» русских теософов: «Пантеизм это учение не об антропоморфном Боге, имеющем форму человеческого тела и характер, подобный человеку, который может и гневаться, и радоваться, и казнить, и миловать и т. д. Пантеизм учит не обособлению Бога от Вселенной, не отделению его от Материи, а именно единству Его с каждой частицей Вселенной. А такое Всеединство уже вообще не может быть воспринято как Существо, тем более, существо, похожее на человека. Но христианская церковь (в отличие от иудаизма и мусульманства) не хочет знать иного Бога, как только того, человекоподобного, которого рисуют в храмах. А разве в самой Библии Моисей не сказал народу, что «Бог есть Огонь» а не человекоподобное существо? «Никто не видел Бога» говорится в Библии. Но тогда почему же Его уподобляют человеку?»[399].
На последний вопрос г-жи Дмитриевой ответ простой — он находится в том самом библейском стихе, который она процитировала лишь наполовину: «Бога же не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1,18). Бог, Который по Своей природе действительно «есть Огонь», есть Дух, непостижимое Начало и т. п., во Христе стал человеком. И потому мы получили право (именно получили: появилась возможность, которой прежде не было и быть не могло!) изображать Неизображаемого в том облике, который Он Сам принял. Иудаизм и ислам не признают Боговоплощения; они считают Бога абсолютно чуждым миру и материи (в отличие от теософии Дмитриевой), они полагают, что Бог не переступил грани между Своей Непостижимой Духовностью и миром человеческой материальности, и потому не имеют икон[88].
Итак, христианская мысль имеет право говорить о Боге как о Личности, не имея в виду при этом индивидуалистическую ограниченность Божественного Бытия. Когда христианство говорит о Боге как о Личности, оно не считает, что тем самым налагает какие-то ограничения на бесконечность абсолютного Бытия. Христианство не осталось при античном понимании личности, но выработало свое понимание значения слова ипостась. Если это знать, то христианское богословие не покажется «кощунственным».
Глава 6. «ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ» ПАНТЕИЗМА И ХРИСТИАНСТВА
Христианское мышление о Боге и мире не ущербно по сравнению с пантеистической онтологией, как и с любой другой. Напротив, оно содержит в себе те положительные стороны, которые есть в иных моделях — в том числе и в пантеизме.
«Все другие онтологические доктрины представляют из себя лишь отдельные моменты в последовательном развитии онтологического мышления, и потому ни одна из них всецело не отрицается теизмом, а, напротив, все они включаются им как неполные выражения одной и той же действительной истины бытия, — пишет православный мыслитель В. Несмелов. — Если материалистический монизм все объясняет из принципа механической необходимости, то теизм не отрицает этого объяснения, а только утверждает, что в нем высказывается неполная правда; потому что кроме механических движений материи в мире существует и свободная деятельность человеческого духа. Равным образом, если идеалистический монизм, опираясь на двойственное содержание мировой действительности, при несомненной, однако, связи ее в единое целое, видит в ней откровение безусловной сущности, все производящей из себя и снова все возвращающей в себя, то теизм не отрицает и этого объяснения мира, а только утверждает опять, что в этом объяснении высказывается далеко не полная правда о мире; потому что хотя мир и действительно является откровением Безусловной Сущности, однако он все-таки не может быть разрешен нашею мыслью ни в последовательный процесс ее саморазвития, ни в сложный ряд ее деятельных состояний. И если, наконец, дуализм, опираясь на самостоятельность мирового бытия, создает из него второе безусловное, то теизм не отрицает и дуализма; он снова лишь повторяет свое прежнее утверждение, что здесь не высказывается полная правда о бытии, потому что мир действительно имеет самостоятельное существование, но его самостоятельность все-таки несомненно условна. Таким образом, для теизма все онтологические доктрины являются отчасти истинными, а ни одна из них не является безусловно ложной»[400].
Весь опыт апофатико-философского мышления об абсолютном бытии воспринят и развит христианской мыслью.
Во-первых, христианское богословие, равно как и церковная мистика, достаточно углублены, чтобы пережить и возвестить непостижимость Бога. Е. Рерих из всего Оригена всегда цитирует лишь один и тот же отрывок: «Итак, Бога нельзя считать каким-либо телом или пребывающим в теле, но Он есть простая Духовная Природа, не допускающая в себе никакой сложности. Он есть ум и в то же время Источник, от которого получает начало всякая разумная природа и ум. Бога, который служит началом всего, не должно считать сложным, иначе окажется, что элементы, из которых слагается все то, что называется сложным, существовали раньше самого начала». Е. Рерих комментирует: «Вот истинно философское мышление. Близкое и, я сказала бы, тождественное всем древним философиям! Истинно, если бы наши отцы церкви последовали примеру западного христианства и принялись бы за изучение трудов Великого Оригена, этого истинного Светоча Христианства, много света пролилось бы на символы и таинства христианства, и догмы церковные отпали бы, как оковы и скопы железные»[401].
Я согласен с Е. Рерих в том, что эта мысль Оригена есть пример «истинно философского мышления». Но ведь это рассуждение Оригена принималось всеми Отцами Церкви и аналогичные мысли входят в состав любого учебника по богословию[89]. Традиционно-церковное, христианское восприятие Бога и Его отношений с человеком прекрасно передано в оде Гавриила Державина «Бог»:
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: Бог!..
Себя Собою составляя,
Собою из Себя сияя,
Ты свет, откуда свет истек…
А я перед Тобой — ничто.
Ничто! Но Ты во мне сияешь
Величеством Твоих доброт;
Во мне Себя изображаешь,
Как Солнце в малой капле вод…
Ты есть — и я уж не ничто!
Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна Божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь, — я раб, — я червь, — я бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? — безвестен,
А сам собой я быть не мог.
Твое созданье я, Создатель!..
Есть ли в этой оде хоть что-то нецерковное? Но вот точно также совершенно церковно апофатическое богословие Оригена. Рерих же продемонстрировала достаточно типичный прием теософской анти-христианской полемики: берется какой-нибудь философский отрывок из христианского писателя и говорится: вот если бы христиане думали так! Вопреки теософскому мифу, не только еретики умели думать и не только за пределами церкви существует философия. И она всегда помнит о непостижимости Божества.
Вторая черта, которая сближает христианство и пантеизм — это тезис о том, что бытие развертывается из Единого источника.
Третье наше сходство в том, что христианство, как и пантеизм, умеет пользоваться эманационной моделью.
Собственно, есть две религиозно-философские модели генезиса бытия: Абсолют эманирует из своего Источника и в результате этой эманации, понимаемой как без-вольный, естественный процесс, возникает многообразие бытия; или же Абсолют свободно, через Свою волю творит мир, который является просто другим, а не «инобытием Абсолюта». Христианство принимает обе эти модели. Первую оно использует для объяснения тайны Троицы, вторую — для объяснения генезиса мироздания, тварного мира. Христианская мысль понимает логику пантеизма, логику эманационистских построений и использует ее в триадологии. Дух как ипостась изводится Отцом в бытие природно, безвольно, но Дух как благодать посылается во вне-троичный мир волевым, свободным решением Тройческого Совета. Сын, Логос рождаем Отцом не так, как Богом сотворен мир: первое действие происходит не из воли, а из природы Отца, второе — из воли, а не из природы. Не случайно слово «рождение» в христианском лексиконе имеет своим антонимом слово «творение»: «рожденна, не сотворенна…».
Граница, пролегающая между внутренним самостановлением Троицы и творением небожественного мира определяется именно с помощью категории воли: то бытие, которое обязано своим существованием волевому акту Бога — тварно. То бытие, которое осуществлено без волевого решения — божественно и вечно. Божественная природа вся изливается в Сына, потому что это действие природы, и в нем нет воли, и потому нет ничего, что могло бы умалить всецело истекающее стремление природы: Абсолютное бытие истекает в Абсолют же, но не в частный, относительный мир. Поэтому в первом действии вся природа Отца перетекает в Сына[90].
В отличие от пантеистических моделей эманации христианская модель полагает, что эманация не умаляет Источник бытия; эманация не частично, но всецело передает Первобытие, ибо Абсолют неделим и потому в порядке естественного, без-вольного действия Абсолюту невозможно эманационно передать лишь частицу, кусочек Себя[91]. Поэтому у Отца нет ничего, что не было бы передано Сыну.
Напротив, мир отделен от Бога актом Божественной воли, которая определяет, какую меру участия в даре Бытия получит мироздание в целом и отдельные его части. Божественная природа не может присутствовать в Сыне меньше или больше, чем в Духе или в Отце. Но от воли Бога зависит, какова будет интенсивность Его энергийного присутствия в том или ином человеке, предмете, уровне бытия.
Так что признавая допустимость эманационистского мышления в сфере собственно теологии, христианство отказывается применять его в качестве принципа космологического. Все бытие во всем его многообразии нельзя объяснить с помощью лишь одного, безвольно-эманационного принципа.
Для грамотного профессионала надо уметь сменять инструментарий своей работы. Так столяр знает, что этот материал он возьмет таким сверлом, а этот — другим. Так же и философ должен уметь использовать и логику эманации и логику креационизма. Сын не сотворен. Но мир не истек из Божества. При разговоре о Троице мы не можем использовать слово воля. А при творении Бог свободно контролирует истечение своих энергий. Эманационная модель хороша на своем месте, но когда ее желают сделать единственным ключиком к тайне мироздания — христианство возражает против такого упрощения.
Четвертый повод заметить близость христианства и пантеизма обретается в том, что христианство, как и пантеизм, признает, что у мира есть идеальная подоснова его существования, что мир материи погружен в мир эйдосов, идеальных форм и соотношений.
Поиск идеальной основы мира действительно способен приводить к пантеизму. Мир идей, форм, чисел оформляет собою материю, но сам не есть материя. Отсюда — естественный вывод о пронизанности мира разумом. Христианство также знает эйдосную, незримо-разумную сторону мироздания. В православии есть учение о «семенных логосах», всеянных в тварь (при этом они ясно отличаемы от Сына как Божественного Логоса). Есть в православной традиции и (редкие, не-доктринальные) упоминания о феномене, именуемом «мировая душа». Это умно-световая основа мироздания[92]. По предположению свт. Феофана Затворника, «душа мира, тоже невещественная, душевного свойства. Бог, создав сию душу невещественную, вложил в нее идеи всех тварей, и она инстинктивно, как говорится, выделывает их по мановению и возбуждению Божию»[402]. «Душа мира» (по мысли свт. Феофана, она «создана вместе со словами да будет свет!»[403]) оказывается тем живым началом, которое помогает материальному творению расслышать повеление Божие и ответствовать ему во встречном творческом усилии — производя жизнь. Свт. Григорий Нисский также подчеркивает световидность этих тварных логосов (изречений), обращая внимания на все тот же библейский стих: «Сказал Бог: да будет свет». По суждению Нисского Святителя, это изречение о свете следует относить «к вложенному в тварь слову»[404]. Бог «вложил в естество светоносное слово»[405].
Однако это — не пантеизм. Пантеизм возникает, если начать говорить, что Миродержащий Разум весь дан в своей жизни в мировых стихиях, весь сведен к ней. Кроме того, нет достаточной нужды видеть в мирообъемлющем разумном начале (или в разумно-идеальной стороне мироздания) Самого Бога. Бог мог вне Себя создать тот мир идеально-числовых форм, что облекает собою материю. Познание гармонии мира в таком случае есть не познание Самого Творца, но познание о премудрости Творца. Тогда идеальная «Реальность», с которой знаком философ-пантеист, признается и христианином, но последний над нею прозревает еще и Личного Бога.
В-пятых, наконец, христианский теизм согласен и с тем пантеистическим тезисом, согласно которому любое частное бытие может быть лишь в силу причастия Бытию с большой буквы. Поскольку камень, стул, человек есть, они суть только потому, что причастны чему-то, что объемлет собою всю вселенную. Предельная категория философской мысли — Бытие. И она объемлет собою все сущее. Но это размышление можно найти в любой серьезной христианской книге по философии. Вопрос в другом: можно ли всецело растворить Бытие в частных существованиях? Из того, что Божество содержит в себе мир, не следует, что Бог не существует и не мыслит Сам в Себе, вне материального мира.
Христианство знает и ощущает, что мир пронизан Божеством. Более того, в христианстве ощущение присутствия Бога в мире логично связано именно с догматом о творении мира из небытия — тем христианским догматом, который так не нравится теософам. Именно потому, что Бог трансцендентен — Он пронизывает собою мир. Ведь поскольку Бог трансцендентен — это значит, что у мира нет в самом себе сил к существованию и причин к бытию — а значит все, что есть, есть только по причастию Первобытию, значит, Трансцендентный Творец должен пронизывать Собою мир (не отождествляясь с ним, однако), чтобы поддерживать бытие Космоса. «Все сотворенное находилось бы в жалком состоянии, если бы не было причастно Божества. Недостойно Бога такое понятие о Нем, будто Он предоставляет твари быть обнаженной и как бы лишенной Его самого», — говорил св. Василий Великий[406].
Итак, несмотря на то, что Бог не есть мир и мир не есть Бог, Бог есть в мире, и мир есть в Боге. Бог ни в коем случае не должен восприниматься как «часть» реальности, существующая где-то «рядом» с конечным миром. Он Един во множественном, бесконечен в конечном, трансцендентен в имманентном. Здесь не может быть иного языка, кроме языка парадоксов, «совпадения противоположностей». Бог не должен потеряться в мире и мир не должен быть затерян в Боге — хоть они и взаимоприсутствуют. Бог составляет тайну мира. И все же не мир объемлет Бога, но Бог поддерживает существование мира. «Ложь пантеизма заключается не в том, что он признает божественную силу, действующую в творении Божием и составляющую его положительную основу, а лишь в том, что эта сила Божия в мире приравнивается самому Богу, Коего она есть действие и энергия. Бог есть личное существо, мир — безличен. Бог имеет в Себе собственную, сверхмирную жизнь, которая лишь открывается в мире, но им вовсе не исчерпывается»[407].
Бог присутствует в мире, но это присутствие не сущностное, не необходимое. В разной мере и разным образом Бог присутствует в разных частях мироздания. Он просто поддерживает бытие одних вещей и сугубо освящает другие. В одних вещах Он и Его присутствие сокрыты. В других же Он делает Себя узнаваемым (по крайней мере желает, чтобы люди так к ним — «святыням» и «святынькам» — относились. Он ведет по жизни одних людей и подает особые дары Духа Святого тем людям, из которых Он созидает Свою Церковь. И именно она, а не космос оказывается Телом Господним. Античное ощущение космоса как Тела Божества (вспомним хотя бы «Сон Сципиона») христианство перенесло со звезд и камней на мир людей и, соответственно, человеческой свободы. Поэтому и стало возможным хомяковское определение Церкви как сообщества разумных творений, свободно приемлющих Божию благодать. Мера погружения в Божество, мера соучастия в Его Жизни разная для разных существ и даже разная для одного и того же человека в разные минуты его жизни. Богопричастие обретается и утрачивается. Пантеистическая же картина слишком статична. По ней уж «если выпало в Империи родиться» — то ты уже и бог…
В-шестых, пантеизм и христианство сближает понимание человеческой души как не только субъекта, переживающего мистические переживания, но и как возможного их источника. Йогическое «тат твам аси» адекватно реальному опыту любого созерцательного подвижничества. Подвижник обнаруживает в себе в какой-то момент «светящуюся точку».
Православная аскетика знает об этом внутреннем свете души. «Если кто желает узреть состояние ума, пусть он отрешится от всяких (греховных) мыслей и тогда увидит себя схожим с сапфиром и сияющим небесным светом», — пишет, например, авва Евагрий[93].
Однако православие отличает нетварный Свет Божества от духовного, сокровенного, но все же тварного свечения ума[408]. Языческая мистика этот свет считает конечной инстанцией, тогда как православие — лишь промежуточной.
Свет, что таится в душе человека, способен быть Богоприимным, но сам не есть Свет Бога: согласно Евагрию, «требуется содействие Бога, вдыхающего в человека сродный Свет. Бесстрастное состояние ума есть умопостигаемая вершина, (сияние которой) подобно небесному цвету. Во время молитвы ее озаряет Свет Святой Троицы»[409]. Человеческий ум (дух, свет) — это то, что устремляет человека к Богу, то, через что человек может войти в Богобщение. Но это не сам Бог. Так надо различать окно, через которое свет попадает в комнату, от самого источника света, который находится все же не в оконном стекле.
«Когда Бог сотворил человека, то Он всеял в него нечто Божественное, как бы некоторый помысл, имеющий в себе подобно искре и свет и теплоту; помысл, который просвещает ум и показывает ему, что доброе и что злое: сие называется совестию и она есть естественный закон», — пишет авва Дорофей[410]. Но «естественный закон» лишь указывает на вышеестественное, а не заменяет его. Совесть напоминает о Боге, но сама не есть Бог.
Нет, в язычестве нет Истинного Бога. Человек теряется сам в себе, в своей душе.
Но это значит, что душа человека столь огромна, что в ней можно потяряться. Достоевский как-то бросил: «Здесь диавол с Богом борются и поле битвы — сердца людей». Человек тут оказывается пустышкой, просто полем битвы, по которому топчутся враждующие стороны. От него как будто ничего не зависит, да и не понятно — зачем ради пустого поля такое сражение. Вероятно, у Достоевского это просто неудачная фраза. О безмерности и богатстве человеческой души у него сказано весьма много.
Но если эти его слова взять как формулу церковного учения о человеке, то она станет кличем антропологического минимализма, которая все поступки и события в жизни человека сводит или к «искушению» или к «благодати», оставляя человеку роль пассивного реципиента.
Бердяев говорил, что атеизмом современный мир расплачивается за недостаточный интерес средневековья к человеку. А не платим ли мы нашим бессилием перед язычеством сегодня за то, что отказывались видеть в нехристианской мистике ее положительное содержание — антропологическое, впрочем, а не теологическое. Человек ведь действительно бездна, и эту бездну можно принять за Бога. Мы мало ценили Богообразные потенции человека — в итоге приходится все объяснять ссылками на «дьяволов водевиль», которые никого не убеждают.
Можно ли бороться с атеизмом проповедью смирения? Как оказалось, нет. Понадобилась плеяда новых богословов, которые пояснили, что все высшие ценности атеистического гуманизма — достоинство человека и его свободы, его творческое призвание и личностная неповторимость — не чужды христианству, и даже наоборот, они могут быть логично обоснованы лишь в христианской мысли, а не в атеистической. И только тогда в философской области атеизм был преодолен. И смысл христианского смирения стал вновь понятен тем, чье сердце было готово его понять, но разум — под влиянием антихристианских книжек — этому противился…
Сегодня богословию брошен новый вызов — языческий. «Язычество есть религия больного человечества и больной природы. Но в то же время это не призрак и не обман, но религиозная действительность», — писал Сергей Булгаков[411]. За язычеством стоит определенный опыт. Отрицать его наличность нельзя. Ему лишь можно дать иную интерпретацию.
Первая реакция со стороны богословия естественна: это все — от лукавого. Что есть — то есть. Но не думаю, что весь огромный мир язычества, охватывающий континенты и тысячелетия, может быть вмещен в эту формулу.
Памятуя опыт преодоления атеизма, можно сказать: бороться с язычеством можно лишь вглядываясь в величие и неисчерпаемость человеческой природы: сие море великое и пространное, тамо корабли преплавают и змий, его же создал еси игратися ему. Бездна души действительно такова, что ее можно принять за Бога. Мы понимаем источник этой пантеистической иллюзии, но из-за этого не перестаем считать ее иллюзией.
В-седьмых, христианство приближается к пантеизму в своих эсхатологических чаяниях. «Будет Бог во всем» (1 Кор. 15, 28), — этим обетованием живет христианская надежда. Здесь, однако, три отличия от пантеизма: 1) то, что христианство видит как цель мирового развития, пантеизм принимает как уже наличествующую данность. Мир един с Богом, да. Но это не данность, а заданность. Пантеизм в православии не онтологичен и статичен, а историчен: он — будет. Пантеизм переживается в христианстве не как естественная небходимость, а скорее как чудо.
2) это грядущее единство с Богом не сливает с Богом, а соединяет: многоличностный мир сохранится и за гранью истории. По слову Халкидонского догмата даже во Христе — то есть в максимальном обожении — человеческая природа будет неслиянно соприсущна с природой Божественной «неразлучно», то есть и по завершении всей истрии космоса.
3) это «пантеистическое» соединение мыслится как итог диалога свободных воль, а не как безвольный физический процесс. Не по своим трудам тварь обожится, но по воле Бога Божия благодать войдет в творение. С другой стороны, этот «христианский энтетизм» имеет и ту оговорку и условие, что «Бог будет все» «лишь в «сынах царствия», все во всех, чья воля сознательно и всецело отождествилась с волей Божией. Это и есть бытие в Боге, христианский энтетизм»[412].
Пока же история не завершилась, мы замечаем различие между Богом и Его творением, а потому — «Мы почитаем Бога, но не небо и землю, из коих состоит мир, и не душу или души, разлитые по всем живым существам, а Бога, создавшего небо и землю и все, что в них находится, сотворившего всякую душу» (Августин. О Граде Божием 7,29).
Столь любимые теософами слова Христа («Я сказал вам — вы боги») как раз говорят о Божием взгляде на человеке, о Его замысле о нас, о том, какими Он хотел бы нас видеть. Но не о том, что мы сами должны считать себя богами в своем нынешнем состоянии.
В-восьмых, и христианству знакомо ощущение сакральности природы. В пантеизме есть своя поэзия, хотя и находящаяся в глубинном противоречии с пантеистической философией. Пантеистическое восприятие природы не как случайного конгломерата мертвых частиц, а как стихии, пронизанной Высшей жизнью, согревает сердце. Но эта поэзия пантеизма сохраняется в христианском восприятии природы. В православии есть живое переживание природы, ощущение литургической гармонии мироздания. Мир никак не есть зло. Он не есть и Бог — но в нем можно ощутить Божие дыхание, потому что (один из парадоксов христианства) Христос послал в мир Того, кто «везде Сый и вся исполняяй» (везде существует и все наполняет). Стоит только однажды постоять летом у раскрытых дверей деревенского храма во время службы, чтобы ощутить, как созвучна храмовая молитва русской природе, и заметить — сколько же хорошего «миролюбия» в православии. Любой христианин готов повторить тютчевский упрек позитивистам:
Не то, что мните вы, природа —
Не слепок, не бездушный лик.
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…
Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат,
И жизни нет в морских волнах.
Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили,
И ночь в звездах нема была!
Присутствие Бога в мире (панэнтеизм[94]) переживается в христианстве как чудо, а не как естественная необходимость: «В каждом древе распятый Господь, В каждом колосе тело Христово, И молитвы пречистое слово Исцеляет болящую плоть» (А. Ахматова).
Да, мир поистине прекрасен. Он может быть источником религиозных переживаний, но не предметом религиозного поклонения. Странствуя по миру, человек рискует «в великолепии видимого потерять из виду Бога»[413].
Поэтому, переживая поэтику пантеизма, христиане не приемлют его метафизики. Для христианина природа не замыкает в себе Бога, но указывает на Него. Вот блаженный Августин, ища Христа, проходит в мире школу богословия: «А что же такое этот Бог? Я спросил землю, и она сказала: «это не я»; и все, живущее на ней, исповедало то же. Я спросил море, бездны и пресмыкающихся, живущих там, и они ответили: «мы не бог твой: ищи над нами». Я спросил у веющих ветров, и все воздушное пространство с обитателями своими заговорило: «ошибается Анаксимен: я не бог». Я спрашивал небо, солнце, луну и звезды: «мы не бог, которого ты ищешь» — говорили они. И я сказал всему, что обступает двери плоти моей: «скажите мне о Боге моем — вы ведь не бог, — скажите мне что-нибудь о Нем». И они вскричали громким голосом: «Творец наш, вот Кто Он». Мое созерцание было моим вопросом: их ответом — их красота» (Исповедь. X, 6).
Вновь повторю: расхождение христианства с пантеизмом начинается там, где пантеизм начинает отрицать в Боге над-мирное бытие и личностное бытие, там, где он начинает отрицать реальность мира, реальность той самой природы, которую пантеизм воспевает в своей поэзии, и там, где он редуцирует человека к сумме безличностных энергий.
Глава 7. ХРИСТИАНСКАЯ КРИТИКА ПАНТЕИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ИЛИ «СУЩЕСТВУЕТ ЛИ МИР?»
Е. Рерих пишет о христианстве: «среди этих догм наиболее поражающая есть обособление Бога от Вселенной. Весь восточный Пантеизм особенно ненавистен нашим церковникам»[414]. За вычетом интонации — Е. Рерих права. Действительно, пантеизм не неизвестен «нашим церковникам», и, действительно, христианская мысль последовательно и ясно отвергает его. Верно и то, что именно вопрос о пантеизме есть важнейший философский вопрос, разделяющий христиан и теософов.
Но поскольку вопрос этот философский, то и осмысляется он с помощью философских аргументов. Спор христиан с теософами — это не богословский спор. Богословский спор — это обсуждение расхождений между православием и протестантизмом, это сопоставление интерпретаций тех или иных мест Писания, равно принимаемого обеими сторонами… Но различие между христианством и пантеизмом есть различие более глубокое, касающееся самых основ мировоззрения, и потому дискуссия между этими системами становится именно философской дискуссией, и строится она не на апелляции к тем или иным сакральным текстам, а на материалах философского дискурса. В философии, как и в науке, более совершенной считается не та теория, которая смогла построить внутренне непротиворечивую модель, но та, которая вдобавок к этому смогла дать объяснение большему числу фактов.
Бытие Бога не является неоспоримым философским фактом, но бытие мира и существование человека относятся к числу таких фактов. Еще одним философским фактом, который должна учесть универсальная теория, является признание свободы человека. Есть мир, есть человек, есть свобода — вот три аксиоматических утверждения, которые должна учитывать любая философия.
Религиозная философия к этому набору аксиом присоединяет четвертую: есть Высшее Бытие.
И сразу становится вопрос о ее совместимости с первыми тремя. Оказывается, что при определенном способе мышления об этом Высшем Начале четвертая аксиома начинает вести себя агрессивно по отношению к первым трем. Это именно случай пантеизма.
Один из фундаментальнейших философских вопросов — вопрос о соотношении абсолютного и относительного бытия. Начиная от элеатов, этот вопрос вновь и вновь ставился в философской мысли, и причем с акцентом, вполне необычным для современного миропонимания. Мы привыкли к тому, что надо доказывать, что кроме нашего мира есть еще и Бог, что Бог не есть просто фикция нашего сознания. А для пантеистического мышления сомнительно как раз существование мира. Перед лицом пантеизма надо доказать, что я не есть фикция Брахманического мышления. И в полемике с пантеизмом надо ставить вопрос: как доказать, что мир существует?
«Спрашивается опять-таки, откуда изменчивый и преходящий генезис явлений? — пишет В. Соловьев. — В этом основной существенный вопрос метафизики. Если для обыкновенного взгляда волнующаяся поверхность феноменального мира есть нечто несомненное, само собою разумеющееся, а тихое царство вечных идей является чем-то неясным и проблематичным, то для философски мыслящего ума, напротив, область трансцендентных идей совершенно ясна и несомненна, — как прозрачная для мысли и вся проникнутая умственным светом, — бессмысленная же толкотня физических явлений, несомненная фактически, но немая для разума, является с первого раза как то, что не должно быть, как темная загадка, требующая разрешения. В этом смысле феноменальный мир является как некоторое отпадение от мира идеального, и вопрос о причинах и о смысле этого отпадения есть, повторяю, основной вопрос метафизики»[415].
Рерихи дают вполне ясное решение: «невозможно сказать, что наша Земля, или Проявленный Мир, является противоположением Абсолюта. Иначе придется предположить, что имеется нечто вне Абсолюта, что есть нелепость»[95]. Ничего не существует вне Абсолюта — и, значит, в подлинном смысле в мире нет ничего иного, кроме Абсолюта: «Одна и та же Жизнь, одно Я пребывает во всех формах Вселенной; это общее Я, желающее проявиться, и есть скрытый источник всех эволюционных процессов» (Е. Блаватская)[416]. Всюду — лишь проявления Одной, Единой Жизни и иных субъектов мировых действий по сути нет. Есть иллюзия мира, но нет самого мира.
В Упанишадах весь мир есть сложная система зеркал, где в общем-то отражается одно и то же начало, Божество всюду видит лишь себя, а человек всюду (в том числе и в себе должен видеть Божество). В Каушитаки Упанишаде сначала луна спрашивает человека, желающего родиться в мир: «Кто ты?» — (спрашивает луна). «Я есмь ты», — (отвечает он, и она) отпускает его» (1,1). Брахману он должен ответить: «Ты — Атман каждого существа. Что есть ты — то и «я». Все, что существует, это ты» (1,6). «Один самосущий, в любом существе настоящий, Представляясь одним или многим, видится, как в воде месяц. Горшок обернут пространством, в горшке содержимом; Как исчезает горшок — не пространство, так и облакоподобный живущий. Как горшки, распадаются видимости снова и снова, то, что распалось, о том и не знает, и вечно знает. Покрыто маревом слов, словно мраком, не движется в лотосе. И (когда) мрак пропадает — одно лишь единое прозревает» (Амритабинду Упанишада, 11–15)
И горе тому, кто не сможет так стилизовать свое зрение: «От смерти к смерти идет тот, кто видит что-либо подобное различию» (Брихадараньяка Упанишада. 4,4,19).
«Несовершенный, тварный мир предстает глазам индийца средних веков всегда в виде мучительно-суетливого, нескончаемого круга перерождений — сансары. Шанкара и его школа (адвайта) решают этот вопрос простой аннигиляцией мира как нереальной, незначимой сущности; реален, т. е. поистине существует, один только вечный Абсолют, Брахман, а все, что мы воспринимаем в виде пространственно-временного существования, т. е. мира, есть майя — космическая иллюзия, мираж, марево, которое следует распознать в качестве такового и решительно отбросить. В адвайтистских компендиумах обычно приводится ряд примеров (я бы сказал, учебно-тренировочных образов), долженствующих показать принцип действия майи. При определенных условиях освещения, к примеру, человек может принять пластинку перламутра за серебро или, скажем, в сумерках испугаться веревки, лежащей поперек тропы, подумав, что это змея. Однако более внимательный осмотр убеждает, что «и серебра, ни змеи перед нами нет; точно так же, обретая должный взгляд на вещи, человек убеждается, что мира, собственно, нет: есть один Брахман, являющийся в разнообразных формах. Он, их субстрат, реален, сами же формы — нет. На свете вообще нет ничего, кроме Единого; всякая множественность мнима. Поэтому такая система взглядов называется а-двайта-вада, т. е. учение о не-двойственности всего сущего»[417].
Один субъект живет жизнью мира, и то не сознавая этого, ибо космическую историю он проживает и переживает во сне: «Бессмертный, движется Он по своему желанию, золотой пуруша, одинокий лебедь. Передвигаясь во сне, создает себе Бог много обликов, развлекаясь с женщинами, пируя, находясь перед лицом опасности. Каждый видит его увеселения, но никто не видит его самого» (Брихадараньяка Упанишада 4,3,14). В пантеизме жизнь человека — это жизнь тени в мире чужих снов…. В подобного рода «крайних теориях» мир рассматривается «только как место, где безусловное упражняет и усовершает свои силы и где мы напрасно искали бы конечных существ с определенной долей самобытности и индивидуальности»[418]. Божество пантеистов не может уделить самостоятельного бытия никому и ничему.
Мыслитель, чье творчество было во многом созвучно индийским интуициям — Э. фон Гартман, — так резюмировал суть восточного пантеизма: «То, что я собственно вижу, есть Брама. Если бы у меня было истинное познание, то я знал бы, что ничего другого, кроме Брамы, я не вижу: следовательно, зависит всецело от моей субъективной недостаточности, от моего относительного неведения, если я Браму вижу не как Браму. Но я вижу его не только как Браму, но вижу его, как отца, жену, ребенка, животное, растение, камень и т. д. Это свидетельствует о том, что во мне владычествует не только неведение, но и смешение, — положительное заблуждение. Когда я, возвращаясь домой, вижу на своей дороге предмет, которого не могу узнать, то это просто неведение. Но когда я пугаюсь предмета, положим, считая веревку за змею, тогда это — положительное заблуждение, возникающее вследствие смешения. Подобным же образом, из неведения и смешения ткется около нашего духовного глаза и покрывало Майи. И сила Майи так велика, что для непосредственного созерцания смешение продолжает существовать даже после того, как мышление возвысилось над лежащим в его основе неведением. Когда человек несведущий смотрит на обманчивую игру фокусника, то он принимает за действительность производимый им, его фокусами, обман. Человек же образованный присутствует на представлении фокусника спокойно и с улыбкой, потому что понимает, что это не больше, чем обман зрения. Так и брамин смотрит на мир как на обманчивое явление, лишенное реальности, хотя и не может противостоять этой чувственной иллюзии. И все же чрез это он достигает по меньшей мере того, что духом своим остается спокоен пред иллюзорными явлениями этого призрачного мира»[419].
Брахманизм был справедливо охарактеризовал Гартманом как «акосмизм»[420] (и с тех пор этот термин нередко применяется в истории философии для характеристики ряда пантеистических течений, ибо пантеизм неизбежно включает в себя вывод мироотрицающего нигилизма).
Уже вполне традиционно историками философии выделяются два вида пантеизма: а-космический и а-теистический пантеизм. «В пантеистических системах или бытие Божие теряется в конечном существовании и мир становится на место Бога, или, наоборот, существа природы поглощаются бытием Божиим и Бог становится на место мира. Отсюда в истории сменяются два основных вида пантеизма: натуралистический и идеалистический, или атеистический космизм и акосмический пантеизм»[96].
Позднее Л. М. Лопатин, напомнив, что пантеизм может иметь две формы («или мир провозгласить призраком и уничтожить его в Боге, или Бога заставить исчезнуть в мире до такой степени, чтобы от Него осталось только имя; в первом случае получается акосмизм, во втором атеизм»), пояснил, что «ни того, ни другого миросозерцания уже нельзя назвать пантеизмом. Акосмизм признает Бога, но совершенно отрицает мир; следовательно, в нем ничего не остается, что могло бы соответствовать слову пан — в термине пантеизм; его с гораздо большим правом можно назвать исключительным монотеизмом. Атеизм совсем отвергает Бога; стало быть, в нем вообще нет места никакому теизму. Итак, пантеизм в строгом и буквальном смысле переходит в свое отрицание»[421].
Этот вывод о том, что монистическое утверждение Единого ведет в логическому отрицанию «инобытия», достаточно очевиден, и потому, приступив к анализу исторических философских систем, в которых заметна склонность к пантеизму, Лопатин показывает, что строгого пантеизма не проводится даже в них. Каприз логического абсурда не могла позволить себе более строгая и требовательная мысль древности и классики.
Есть еще две разновидности пантеизма — объективный и субъективный. Они различаются по вопросу о том, чьей иллюзией является космос: Божества или человека.
Индийский пантеизм исходит из того, что человеческая мысль и существование иллюзорны, и субъектом этой иллюзии является Божество. Между бытием и человеческой мыслью — пропасть, и потому путь к освобождению от иллюзий есть путь демонтажа сознания. Германский пантеизм Фихте и Гегеля, напротив, исходит из тождественности человеческой мысли и бытия (причем, как ни странно, это тождество мыслится как вывод из кантовской критики самоуверенности человеческой мысли). Начало вроде бы одинаково критическое и там и там. Человеческая мысль не познает мир и смутно видит Божество — говорили скептики и индийские и европейские. Но последние были слишком философы и только философы — они согласились жить в нарисованной ими же клетке: раз сказано нельзя, значит нельзя и наша мысль и есть последний рубеж бытия. Индийцы же относились к философии более утилитарным образом. Кроме философии в их распоряжении еще была ритуальная и йогическая практика. Поэтому лишив доверия человеческие очевидности, они свели бытие не к своей, человеческой немощной мысли, а к божественной.
Теософия время от времени становится то «пантеизмом атеистическим»[97], то «пантеизмом» акосмическим, то пантеизмом субъективным, то объективным.
Когда нужно напасть на христианское понимание Бога — теософия склоняется к атеистическому монизму. Если же нужно приучить человека к мысли о том, что оккультных феноменов бояться не надо и что никаких злых духов нет и быть не может, но есть лишь одна и единая духовная энергия, теософия становится монизмом уже вполне акосмическим: есть только духовное Единое и ничего более, и какого бы духа ты ни встретил — в любом случае он будет Богом.
В истории философии пантеистический атеизм и пантеистический акосмизм существовали раздельно. Но поскольку теософия не имеет никакого философского вкуса и созидает свои построения по законам отнюдь не логики и не философии, а по принципам боевой рекламы — она спокойно сочетает в себе взаимоисключающие концепции. И это не признак терпимости или диалектичности. Это просто признак философского бескультурья. Философия неинтересна для оккультистов; им важно просто загипнотизировать побольше умов. Обрывки философских идей попадают в теософских книгах в совершенно нефилософскую среду и даже лишаются права на перекличку между собой, права на взаимное общение и коррекцию.
В теософии неясна именно исходная посылка космогенеза: космос и человек — это материя, которой еще предстоит доразвиться до единства с Божеством, или же это Божество, отчего-то забывшее само себя и впавшее в материальность и дробность? Эволюция или инволюция — причина человеческого бытия?
В теософии присутствуют сразу две космогонические концепции. Согласно одной из них мир есть постепенная деградация Абсолюта. Согласно другой, мир есть постепенное возрастание Абсолюта. Пантеистическое божество или ниспадает в мир или пробует вытащить себя из мира.
Знакомство с пантеистическими теориями, приписывающими Абсолюту безвольную эманацию в мир или космогонический сон, или ниспадение в мировой поток порождает у христиан вопрос — «Если Божество обладает абсолютным бытием, то по какой необходимости оно перейдет из состояния совершенного в несовершенное, из бесконечного — в конечное? По каким законам несовершенство должно составлять внутреннюю природу совершенного?.. Почему Высшее начало развивается постепенно, а не вдруг вполне открывается? Почему оно является то камнем, то светом, то животным, то человеком? Почему необходимо неопределенному, абстрактному и безжизненному бытию или существу переходить в другую противоположную форму? Если это бытие или существо совершенное и владеет всей полнотой бытия, то что за необходимость заставляет его перейти к несовершенству? Если же оно несовершенное, то какая необходимость может заставить его выйти из состояния несовершенства и сделаться совершенным? Что совершенное по своей природе, может ли необходимо по той же самой природе сделаться несовершенным? И наоборот, что несовершенно по своей природе, может ли необходимо само по себе сделаться совершенным?.. Если Бог есть существо совершеннейшее, владеющее всей полнотой бытия, то какая необходимость ему развиваться в конечных формах бытия? Может ли конечность составлять природу бесконечного, несовершенство — природу совершенного? Если же Бог в самом начале не есть существо совершеннейшее, а имеющее сделаться совершеннейшим только в конце своего развития, то спрашивается, что это за Бог, сразу не владеющий полнотой бытия, а только ищущий ее в своем развитии? И как он с течением времени может приобресть то, что не имел в начале?»[422]
Теософии некогда отвечать на эти вопросы… Ее задача — пропагандировать свой миф, а не подставлять его под логический анализ.
Когда теософия склоняется к эволюционистской схеме, она оказывается прямо противоположна гностицизму, с которым она любит подчеркивать свое родство. Разница древнего гностицизма и нового — именно в направлении вектора движения космической эволюции. У гностиков древности путь космогонии ведет от Абсолюта к миру; в современной теософии Абсолют рождается снизу. «Для гностика мир есть или химическое смешение бесконечного с небытием, или патологическое отложение бесконечного (аффекты Софии)»[98]. Мир развивается от Божественной Полноты к материи. Космогонический процесс — это процесс вольной или невольной деградации Плиромы. В древнем гностицизме путь развертывания Космоса — это путь ниспадения, путь некоего, пожалуй, даже нежелательного извержения Плиромы за свои собственные пределы. В гностицизме космический процесс истекает сверху вниз, это путь инволюции. Гностики (валентиниане) хотели представить постепенную материализацию самого божественного начала.
Библия допускала грех ангелов (делая акцент, впрочем, на грехе и ответственности людей). Гностики стали говорить о вине божества. Но если у гностиков ошибка божества его самого ничему не учит и ему не нужна, и в конце концов все без всякого приращения и изменения должно вернуться на круги своя[99], то теософская теория развивающегося Абсолюта является новоевропейским вариантом гностицизма: от старого гностицизма она взяла представление о Божестве как о становящемся и страдающем, от немецкого идеализма — мысль о том, что этот опыт становления Бога в его космическом инобытии обогощает самопознание самого Божества.
Если в старом гностицизме акцент был на трагедии ниспадения Божества, то в теософии (что особенно видно в родственной ей «философии русского космизма») скорее наоборот: она постулирует постепенную дивинизацию мира. Мир постепенно просветляется и обожается. И здесь стоит отметить проницательность Бердяева, писавшего о зависимости теософии от модного в ту пору дарвинизма. Космическая эволюция, начавшись из бездн бессознательной материи, должна взойти до божественного уровня. В теософии идет постепенная дивинизация мира при том, что высшей ступени нет и не было; идет возгонка вселенной к божественной ступени, которой вообще-то нет. «Ни философия наша, ни мы сами не верим в Бога, менее всего в того, местоимение которого требует прописной буквы. Мы отрицаем Бога как философы и как буддисты»[423].
Не с Максимума начинается космогенез, но с точки минимума. Некий безумный «дух», неумелый и неумный, выливает себя в разные частные формы бытия, чтобы познать себя же. Если при этом та или иная форма окажется «неудачной» и как бы греховной, то это сугубо внутреннее дело «волшебника-недоучки». «До тех пор, пока Он не образовал Себя в Своей Форме, все те, которых Он хотел оформить, не были оформлены, и все миры были уничтожены», — с полным своим согласием цитирует Блаватская каббалистический трактат[424].
Это «Вечное Дыхание, не ведающее самого себя»[425], на своих ошибках и наших страданиях учится воплощаться все совершеннее и совершеннее, ибо «лишь кристаллизуясь в материю или вливаясь в нее, дух раскрывает свой потенциал и накопляет разум через соприкасания с миром форм»[426].
Но если так — то никакого Абсолюта (о белоснежности риз которого, незапятнанных антропоморфизмом, так пеклись теософы, якобы с апофатических позиций критикуя христианство) на самом деле вовсе нет. Не Абсолют, исполненный знания, мудрости, любви и света, стоит у истоков мироздания и ведет всемирный процесс.
У Блаватской космический процесс в целом именуется «металлизацией». Некоторые из космических частиц проходят очередные стадии этой «металлизации» в человеке, но начали они этот путь задолго до появления людей. Согласно Блаватской, то, что составляет сейчас человека, уже было камнем, растением, животным. И может стать Богом. Предметом поклонения теософов является не «Божество» (это был бы уже классический пантеизм), а бессознательная материя, которая постепенно должна разогреться до божественного уровня.
Если гностики (валентиниане) хотели представить постепенную материализацию самого божественного начала, то теософы, противореча своим древним «учителям», полагают, что, напротив, материальное начало первично по отношению к духовному, что путь «космической эволюции» — это путь постепенного пробуждения и преображения материи, путь, идущий снизу вверх[100].
Здесь теософия примыкает к очень редкому типу философских построений, о которых Лопатин писал: «Без сомнения, существуют системы, признающие бессознательный разум за основу мира и даже очень настаивающие на этом понятии. Но не менее достоверно и то, что разве десятая доля воззрений, именуемых пантеистическими, содержат такое учение. Его не знала древность; и в новое время оно стало развиваться в сравнительно позднюю эпоху. Идея бессознательной духовности есть всецело немецкое изобретение…»[427].
Действительно, послегегелевская немецкая философская литература в течение всего XIX в. игралась с мифом о «саморазвитии Божества». Например: «Ульрици, сойдя тут совершенно с почвы теизма, пытается спасти ускользнувшую от него теистическую точку зрения, но совсем неудачно: он поясняет, что утверждаемое им единение мирового и Божественного ни в коем случае не есть пантеистическое тождество, в котором мировое само по себе и первоначально оказывается Божественной природы. Мировое, напротив, не само по себе, не первоначально и непосредственно Божественно, а оно только становится божественным; и Божественное в мире потому не дано в чистом виде, не является непосредственно, как таковое, а лишь как цель, как идея и идеал мирового, как конечная причина мирового развития… Таким объяснением, конечно, теизм не восстанавливается, а скорее усиливается пантеизм, потому что Бог оказывается теперь прямо поставленным в условия относительного мирового развития и, пока совершается течение последнего, находится в потенциальном состоянии»[428]. Пожалуй, надо только уточнить, что изобретение такой доктрины есть не чисто немецкая заслуга. Задолго до немецкого пантеизма каббалистическая традиция говорила о том, что Богу не все удалось в творении и что Он упражнялся, создавая прежде нашего иные миры[429].
Каким бы путем ни шла пантеистическая мысль — она все же растворяет многообразие жизни в некоей единой субстанции. Но пантеистический вывод о том, что видимый нами мир есть лишь проявление безликого Абсолюта, сомнителен прежде всего фактически: мы все-таки видим, что мир совсем не абсолютен и далеко не совершенен, что он многообразен и сложен. Но не только требования жизни; кроме того, и требования философской логики совсем не требуют понуждать себя к согласию с пантеистической гипотезой.
Наложение Абсолюта и мира друг на друга и их совмещение не необходимы. Пантеист считает грехом (точнее — ошибкой, иллюзией) замечать в мире что бы то ни было, кроме Абсолюта. Но монотеист может принять мир как вне-Божественную реальность. Бог в том смысле вне мира, что он вообще вне категорий «вне» и «внутри»; Он не объемлется пространством. Так что совершенно необязательно мыслить отношения Абсолютного и относительного как отношения пространственные. Мир «вне» Бога не в пространственном смысле, а в волевом: Бог пожелал, чтобы Его жизнь была не единственной в бытии.
В творении Бог как бы опустошает от Самого Себя некую область бытия (и та становится небытием) — и в этом небытии Он творит новую жизнь, но уже не Свою, а нашу. Творение есть первая из жертв Бога[101]: митрополит Сергий (Страгородский) призывал «вместе с Церковью понимать уничижение Бога при творении (кенозис) в том смысле, что Всемогущий нисходит до самоограничения, полагая рядом со своею Творческой волей свободу самоопределения тварных духов»[430].
Христианство говорит, что хотя все бытие истекает из абсолютно Единого Источника, все же оно стало разнообразным[102]. И это разнообразие произошло оттого, что оно не просто «истекло», а было замыслено и создано.
Если в пантеизме и платонизме «мир развивается исходя из Бога без онтологического разрыва»[431], то Библия как раз подчеркивает момент разрыва, дарующего инаковость. Там, где пантеизм видит физический и безвольный процесс, Библия видит поступок (с тем выводом отсюда, что раз расстояние между Богом и нами определяется не непреклонными физическими законами, а личностно-волевым решением, то поэтому Бог может, минуя механизмы эманаций, Сам придти к нам)[103].
Христианин, встречаясь с гипотезой безвольной эманации мира из Божества, спрашивает — почему причина Божия движения предполагается в какой-то безотчетной, слепой физической необходимости, заставляющей божественное существо развиваться для восполнения и поддержания своей жизни, а не в свободных и сознательно-нравственных началах Божественной жизни?[432]
Творение не физическое перетекание первовещества из одного состояния в другое и не пременение Бога в мир, потому что нет никакого общего элемента в двух последовательных состояниях: нет ничего общего между Богом, ничто и мировым бытием. Ничто не изменяется в мир. И Бог не прелагается в мир. Мир творится Богом. Нет такого, что было бы уже в довременном бытии, и чьи элементы вошли бы в наш способ Бытия. Между Богом и миром находится ничто[104].
Когда христианин провозглашает творение мира из «ничего», он не имеет в виду, что «ничто» есть некое «пространство», некая область, которая как бы извне облегает Абсолют. Догмат о творении мира из ничего означает просто, что у времени и пространства, у мира и человека нет иной причины к бытию, кроме Бога. А главное — христианский догмат о творении мира признает право на существование за миром, позволяя ему быть чем-то иным, чем Бог (на такое признание пантеизм как раз не решается). «Творение мира из ничего означает, что Творец творит мир как нечто новое, иное, чем Он сам»[433]. Творение означает, что отныне не все сущее есть Бог.
Но это не-божественное бытие было замыслено Богом именно в таковом своем качестве не-божественного, тварного: «Видимую тварь из небытия в бытие привел Он в каком-то великом разнообразии и со множеством разностей», — поясняет преп. Макарий Египетский (Беседа 4). И потому не-божественность не означает греховность. Оттого христианин имеет право любоваться миром, имеет право его ценить. Ведь даже Сам Творец «увидел, что вот, все хорошо весьма».
Бог в Своей любви захотел, чтобы мир был сложным и разным; — значит, сложность и самобытность мира не есть угроза, не есть обман, но есть религиозная ценность. Христианство знает мир, знает отличие Творца от мира и знает безмерность этого отличия.
Христианство утверждает онтологический плюрализм; оно знает как сверхпознаваемую Бесконечность Творца, так и реальное многообразие и реальную внебожественность мира.
Глагол бара, которым в первом библейском стихе обозначается творческое действие Бога, имеет и значение «отрезал»[105]. Кроме того, наречие бар означает «вне»: Бог создает мир вне себя. «Первичное значение *br’ прорубать, открыть проход, извергнуть, проделать отверстие; быть свободным, выходить»[434].
Фонетический близнец этого семитского корня в санскрите имеет ровно противоположное значение. «Традиционная индийская этимология возводит само слово Брахман к глагольному корню brh со значением увеличиваться в размерах, разбухать, распространяться во все стороны, то такое обозначение выглядит как нельзя более уместным»[435]. Бхартрихари, один из предшественников системы Шанкары, в V–VI веках по Р.Хр. определял Брахман термином sphota-sabda — распухающее или вспыхивающее речение. В его учении Брахман «развертывается» в мир. Здесь как раз мало сознательного творчества: космогония предстает как распухание, а не отрезание, не отделение и распространение.
Для христианства же мир есть — потому что желанен[106], а не потому, что «так получилось». Абсолют Библии не есть ни целостность мироздания, ни элемент мира, ни некая тайная и бессознательная сила которая через мир тянется к самоосознанию.
Другой важный оттенок «творения», итогом которого является мир: через использование этого образа человек обретает свободу. В языческих теориях эманации мир как бы сам собою выделяется от недр божества, но никогда не отделяется вполне. Бог не контролирует процессы, начавшиеся в нем. И если по теории эманации Бог, забывшись или заигравшись, бессилен остановить свою миросозидающую поллюцию, то тем более несвободен будет человек в возникшем таким образом едином потоке вторичного бытия. Мир органики, мир безвольных, ибо необходимых порождений не может подарить человеку независимость и самостоянье. Противостоящий естественному рождению образ творения постулирует выделение человека из природы. Значит, тайна происхождения человека выразима через сопоставление не с биологическим порождением, а с художественным творчеством.
Бог оказывается не единственным субъектом мировых процессов и истории — не потому, что эти процессы как-то ограничили или потеснили Его, а потому что Он пожелал этой инаковости.
Пантеизм же, отождествляя Божество и мир, делает именно Бога единственным персонажем всего всемирного романа. Даже с точки зрения Оригена в круговращении миров, в восхождениях и ниспадениях участвуют только тварные души. Бог Оригена не вовлечен в мировой процесс круговращений. Он остается строго трансцендентен. По Оригену, именно тварный, небожественный мир трагически странствует из эона в эон, но это странствие мира не имеет никакого отношения к «внутренней биографии» Божества. А для гностиков и теософов Божество радикальным образом, едва ли не всецело вовлечено в мировой процесс; перевоплощается и множится именно Единая Энергия.
Согласно пантеизму все, что проявляет себя в мире, подчиняется законам мировых циклов и движений. По христианскому же воззрению Бог может свободно проявлять Себя в мире и оставаться Самим Собой, не умаляться, не пленяться миром. Для гностиков и теософов любое желание, возникающее в Божестве, раскалывает Его и изводит из «плиромы» в «кеному» (пустоту) или в мир кармической несвободы; Божество оказывается пленником своих желаний. В христианском же восприятии действие Бога в мире и даже Боговоплощение абсолютно свободны. Когда христианство говорит о воплощении Божества — оно не имеет в виду сложение Им с Себя божественности и принятие в Себя всех несовершенств материи. Бог смог войти в мир, не растворившись в мире, не перестав быть Богом, не обеспамятев, не обезумев. Бог есть абсолютное Единство в Себе, и это абсолютное Единство нельзя разрушить никакими привходящими, икономическими, «относительными» моментами.
Так кто более достойно мыслит о Боге — пантеизм, который полагает, что Божество бессознательно и необходимо излилось в относительный мир, или же христианство, которое полагает, что Бог сознательно и свободно создал мир природы?
Вновь повторю наши вопросы пантеизму: почему Бог должен Сам меняться, входя в изменчивый мир? Как относительное может умалить Абсолютное? Что это за Абсолют, который насилуется относительным? Что это за Трансценденция, которая не может защитить Себя от искажающего влияния небытия или относительного бытия? И зачем же Божеству надо было пленять Себя несовершенными формами? Что понудило Дух стать иным, если его главное стремление — быть Единым? И как вообще возможно инобытие по отношению к Абсолюту? Что понудило Абсолют выступить из своих пределов и вступить в состояние инобытия?
Это вопрос, на который в пантеизме нет ответа[107]
Да, да, христианство тоже не знает никакой «технологии», способной объяснить переход от Бога к миру. Но если пантеизм покрывает таинственный переход от Абсолюта к миру словом ошибка, то христианство здесь помещает любовь. Пантеизм говорит: сон. Христианство: свободное решение. Пантеизм вопрошает о дерзости, приведшей к «первой инаковости» (Плотин. Эннеады. V. I. I); христианство — о конечном замысле.
Итак, христианству не приходится в жертву своей догматике приносить многообразие мира. Пантеистическая философия без этой жертвы обойтись не может.
В предыдущей главе мы видели, что философско-методологическим «минусом» христианства может быть сочтено то, что христианская мысль не может объяснить образ мысли Бога (которого «никто никогда не видел»). Теперь мы заметили, что пантеистическая философия не может объяснить образа существования мира, который всегда у нас перед глазами. Какой из этих недостатков более извинителен?
И не забудем еще, что христиане сами честно рассказали о недостаточности своих объяснительных возможностей при встрече с той проблемной ситуацией, к которой подвело их следование их теории. Теософы же что предпочитают позу «всезнаек». Для них нет тайн. Но зато у них есть «секреты».
Не забудем также, что христиане честно говорят о своих убеждениях как о религиозной вере, в то время как теософы стилизуют себя под «светских ученых». И вот эти «светские ученые» предпочли закрыть глаза на «свет» (в смысле мир), в котором они живут — ради удовольствия попенять христианам за то, что те, мол, слишком недостойно мыслят о Боге… Декларируя верность разуму, теософы прежде всего этим разумом пожертвовали — объявив все накопленные им впечатления и знания о мире «иллюзией».
Глава 8. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК?
Утверждать, что мир сей не сотворен, значит совершать убийство
Климент Александрийский. Строматы 6,16
Из пантеистического монизма, из утверждения единственно сущего Единого следуют и вполне определенные выводы относительно человека.
Согласно космогонической модели оккультизма, все мироздание наполнено лишь некоей Единой Энергией, безличной и даже не знающей и не рефлектирующей себя. Частные же сознания — это не более чем случайные всплески на ее поверхности.
По большому счету ничего, кроме этой безначально волнующейся Единой Энергии, в мире нет. «Вы спрашиваете, что есть психическая энергия. Могла бы ответить одним словом — ВСЕ. Психическая энергия есть всеначальная энергия, есть та энергия, которая лежит в основании проявления мира. Психическая энергия есть Фохат», — пишет Е. Рерих[436]. В свою очередь, «Фохат есть космическое электричество»[437]. Это электричество, протекая через голову человека, воспринимается им как его мысли: «Фохат, или космическое электричество — основа всех электрофорных явлений, среди них мысль будет высшим качеством энергии»[438]. В понимании теософов «Фохат» — это «тибетский термин для обозначения предвечного света (дайвипракрити), непрестанно действующая и созидающая сила. Фохат является всемирной движущей жизненной силой, одновременно движителем и движимым. Всекосмический источник — форма энергии, преобразующейся по нисходящей от психической до электромагнитной и тепловой энергии. Это, можно сказать, связующее между Духом и Материей… Индивидуальный Джив-Атма (жизненный принцип) человека — то, что в физиологии называется животной душой возвращается после смерти к своему источнику — Фохату»[439].
Но если так, то человека просто не существует: он есть всего лишь место проявления Абсолютного Духа. Человек оказывается местом временного сбора семи различных радиаций («семь тел», «семь принципов» теософии), которые, в свою очередь оказываются лишь разнофункциональными проявлениями единого Первоначала. Вот стоите вы на перекрестке и до вас одновременно с разных сторон долетели звуки: справа — шум тормозов проходящей машины, спереди — рычание грузовика, сзади — обрывок разговор незнакомых прохожих, сверху — шум пьяного скандала из соседней многоэтажки, снизу — жалобная песнь попрошайки-цыганенка, слева — восточный мотив из шашлычной… Все эти шумы наложились в эту секунду один на другой и потом разлетились. Так вот их наложение друг на друга — это и есть вы, согласно буддизму и теософии. Вы не источник звука, а просто мест их пересечения. И вы не будете существовать после того, как эти наложившиеся звуки полетят дальше (они найдут на что наложиться и без вас).
Это ощущение не возвышает человека; напротив, его принятие приводит к неизбежному выводу: если я есть частица Божества, то Оно-то есть, а вот меня нет[108]… Для теософии личность есть всего лишь узор, сплетенный мировыми энергиями в данную минуту. «Вы сами есть совпадение частиц материи», — отнюдь не бранится, а именно торжественно возвещает «Живая Этика» (Община, 156). Некоторый пучок этих энергий, попавших некогда в сцепление между собой, и есть «личность», или «монада». «Человек должен осознать себя как ансамбль макро- и микро-космических отношений», — пишет проповедник оккультизма[440], давая тем самым понять, что теософская антропология вырастает из той традиции, в которой родились филиоквистская теология и марксизм.
«Человек есть комплекс сочетаний», — пишет Е. Рерих[441]. Но сочетаний — чего? Той самой Единой Энергии, безличной и даже не знающей, не рефлектирующей саму себя. Случайными сцеплениями разных ее всплесков и является весь мир — в том числе и внутренний мир человека.
Теософы (как и буддизм) не отвечают на вопрос о причине возникновения этого изначального волнения в мире. Иногда они говорят об эгоизме и ошибке, недолжных влечениях, вызвавших бурю мироздания и нарушивших покой Пралайи. Но в тени остается вопрос — чье это было влечение, чей это был эгоизм.
Самый трудный вопрос для пантеизма — это вопрос о переходе от Абсолютного к относительному бытию, от Единого Божества — к многообразному миру. Пантеизм настаивает на том, что реально существует лишь Единое, Божество, а вся дробность мира — это лишь иллюзия. Мир — это иллюзорный покров майи, скрывающий то обстоятельство, что все в мире есть Единое, есть Божество.
Но вот первый из вопросов, который взламывает «логичность» этой монистической схемы: Чья это иллюзия?
Если это иллюзия моя — то ведь для того, чтобы впасть в иллюзию, породить ее, я уже должен быть. Мое собственное бытие как личности порождено иллюзией или порождает ее? Если это моя ошибка, если множественность лишь снится мне, но не Богу — тогда откуда взялся я? Откуда в мире другой субъект, нежели Первоединое Божество? Если Божество не ошибается и не впадает в иллюзию, то откуда же взялся я, ошибающийся? Если я часть Божества, значит, Божество ошибается во мне и вместе со мною. Если я не часть Божества, тогда, значит бытие стало плюралистичным и разнообразным еще прежде моей ошибки (или ошибки любого иного существа). Чтобы иллюзия возникла в ограниченном сознании, это сознание уже должно быть ограниченно. И отчего же оно стало таким, отчего оно отвалилось от Абсолюта?
Если же я сам есть плод чье-то другой иллюзии — то возникает вопрос о ее причине. Если в иллюзию впал Бог — то как Ему это удалось? Если полагать, что Бог и мир соединены не волей Творца, желающего возникновения творения, то приходится лишить Бога статуса абсолютности: Он способен забывать даже самого Себя, впадать в маразм, в результате которого возникает дробность, материальность и я сам…
Существует ли теософ? Вот Вы, лично Вы, уважаемый читатель и оппонент — Вы считаете себя существующим? Или Вы просто снитесь кому-то? Считаете ли Вы свою жизнь своей или же лишь жизнью Мирового Божества? То есть — считаете ли Вы себя всецело Божественным? Являются ли все Ваши мысли мыслями Божества, поступки — поступками Божества, ошибки — ошибками Божества? Если нет, если Вы признаете, что Ваша жизнь и мысль и чувства не во всем тождественны с жизнью Божественной, то значит Вы признали свою конечность, ограниченность (хотя бы в некоторых отношениях). Так эта Ваша конечность реальна или иллюзорна? Если реальна — то откуда же тогда взялось это различие? Откуда Вы взялись? Если иллюзорна — то в чьем воспрятии эта иллюзия плавает? И если наше бытие, наш мир не есть иллюзия Абсолюта (тут я с Вами согласен) — то какова же причина нашего бытия? Или мы породили себя своей собственной иллюзией?
Если изначально было безсмыслящее и бездействующее Абсолютное бытие, то откуда в Нем появилась дробность, плодом которой Вы и являетесь? Почему Бог сходит с ума?
Если мир возник в результате того, что Божество впало в невежество Самого Себя и отдалось Майе — то, значит, Майя более могущественна, чем Бог. Почему Бог не уберег Себя от ошибки? И если избежать фатальной ошибки не оказалось под силу Богу, то на что может надеяться человек? Бог не думающий, ошибающийся, впадающий в неведение Самого Себя — это уже не Бог. Это не то Абсолютное Бытие, совокупность всех Совершенств, которое на языке философии именуется Богом. Это — мифологический персонаж, подобный «божественным» развратникам с греческого Олимпа.
Невежество может покрыть Бога не более, чем облако — покрыть солнце. Облако не может даже приблизиться к солнцу, не превратившись в пар.
Вся видимая логичность пантеистической доктрины рушится, как только ставишь ей вопрос: кто именно является субъектом той ошибки, которая породила нашу иллюзорную вселенную. Кто — ошибся? Чье восприятие иллюзорно и конечно: Божества или человека? Откуда появилось бытие иное, чем Абсолют? И если наше бытие, наш мире не есть иллюзия Абсолюта — то какова же причина нашего бытия? Или мы породили себя своей собственной иллюзией? Но это уже — сказки барона М…, самого себя вытащившего из болота небытия усилием собственного сна.
Эти вопросы ставили еще индийские философы. Вот диалог между сторонником онтологического плюрализма (то есть философии, признающей реальное существование разнообразной вселенной), и адвайтистом (полагающим, что все в мире есть иллюзия, порожденная в Абсолюте): «Адвайтист: Различие между Высшим Атманом и индивидуальными связано с Незнанием, имеющей безначальные дифференциации. Ньяя-вайшешик: Но кому, собственно, принадлежит само это Незнание? Если Брахману, то он уже не может быть чистой «мыслительностью» (как вы утверждаете)[109], а если индивидуальному Атману, то будет порочный круг: его множественность — результат Незнания, а Незнание — результат его множественности… Более того, если бы существовал только один Атман, то при освобождении одного освободились бы и все, а мир прекратился бы (ибо он существует только до тех пор пока действует Незнание), что абсурдно»[442].
Так отчего же возникла множественность? Что понудило изначальное Божество (с точки зрения теософии бездеятельное, неразумное и безвольное) выйти из состояния бессмысленной самотождественности?
Если это не было собственное желание Божества, но оно навязано Ему извне — значит, это никакое не Первоначало, никакое не Единое. Рядом с Ним было другое начало, более могущественное и деятельное, чем Бог, которое смогло навязать Божеству свою волю. Но это уже дуализм, и тогда от того монизма, который декларируется пантеизмом в качестве своей собственной основы, не остается и следа.
Если же ошибается Сам Бог — то он уже не Бог, а божок…
И это называется «возвышенная философия»?
Ах да, пантеист еще может сказать, что космическая иллюзия — не ошибка Божества, а Его игра… Божество просто играет со своими снами. «Я, использующее чувства и органы действия, есть не кто иной, Как Верховный Господь, который ограничил Себя ради Своего собственного развлечения или удовольствия»[443]. «Мы все здесь в вечном времени и пространстве. Мы просто исполняем лила-расу, божественный танец. Мы танцуем, танцуем, и танцуем, танец за танцем, в одном теле, в другом теле»[444]. «Это все на самом деле в шутку… Если вы бедны — забавляйтесь этим. Если вы богаты — забавляйтесь тем, что вы богаты. Если приближается опасность — это также довольно забавно. Если приходит счастье, то тогда еще забавнее. Мир — просто площадка для игр, и мы здесь хорошо забавляемся, играем. Только когда вы забываете, что это все игра, приходят страдания и муки. Но как только вы отказываетесь от мысли, что все это всерьез, и осознаете, что это лишь сцена, на которой мы играем, тотчас же страдание для вас прекращается»[445].
Последние слова сказаны Вивекенандой в Калькутте… И если он прав — тогда окажется, что мать Тереза приехала поиграться в этот самый нищий и страдающий город мира… Поистине, оккультизм — порождение «всесмехливого ада»[110].
Христианин не согласится с тем, что все в мире есть воплощение Божества, и что крыса и пивная бутылка — это «аватары». Христианин не уровняет свободное и жертвенное воплощение Слова во Христе с неизбежной воплощенностью Брахмана в любом предмете мира.
Христианин не согласится в Голгофском Кресте видеть игру, которую Абсолют спросонок затеял Сам с Собою… Нет, не играясь, не «понарошку» «алчет Господь и жаждет душ наших, словно усталый странник, пока не успокоится и не сотворит обитель в душах наших. Всегда стучит Он, желая войти к нам»[446].
Нам легко не соглашаться с «игровым» видением страданий Бога и человека. Самые основы нашего мировоззрения не требуют принятия тех выводов, которые все же довольно логичны внутри самого пантеизма. А вот как теософы смогут уйти от тех тупиков, в которые их направляют рельсы пантеизма?
Но оккультисты готовы на любые абсурды — лишь бы не отказать себе в удовольствии считать себя богами. Они готовы отождествлять себя с чем угодно, добровольно уничтожать свою душу и свою личность — лишь бы хоть немного потешиться иллюзией «я — Бог!».
В пантеизме нет сущностной, природной разницы между Абсолютом и человеческой душой. Личность не более чем пузырек, в котором находится та же вода, что и в окружающем ее океане. Пузырек лопнул — воды смешались. Правда, при этом не ставится вопрос о том, а правда ли личность всего лишь пузырек. Теософская пралайя — это место, где просто разбиваются все пузырьки, все бутылочки. Когда затем этот «абсолют» снова «сойдет с ума» и забудет, что он есть такое, в нем закипят новые пузырьки с тем же «абсолютным» содержимым. Но при чем тут человеческое я?
На каком основании душа уподоблена пузырьку воздуха или воды?. Что общего у воды в банке и у души? У воды нет сознания, чувств, свободы, а у души есть.
Если все многообразные грани мира суть различные проявления одной и той же Сущности, если частные индивидуальные разумы — не более чем рябь, вскипающая на поверхности бездонного Океана Вселенского Духа, то свобода человека испаряется как пар. Дух Вселенной мыслит во мне — но не я. Вселенский Разум определяет мои действия является их подлинным субъектом и совершителем — но не я.
Если мое сознание есть «проявление» Мировой Энергии — не может быть и речи о моей свободе. Ибо феномен не может быть свободен от той сущности, проявлением которой он является. Магнитное поле не свободно от магнита, который проявляет себя через постановку этого поля. Я свободен не более, чем пузырек, вскипевший на дне чайника и пролагающий путь наверх. Так какая ж мне разница, игрушкой каких энергий я являюсь — физических или метафизических!
Может быть, я сам есть этот ограничитель для Вселенской Духовной Энергии? Оккультизм полагает именно так. Человеческая ограниченная индивидуальность в силу своей невежественности дробит и гасит Единый Поток Духа. Однако — что же это за Абсолют, который может так легко ограничить такая малость, как человеческое невежество?! Откуда у человека такая возможность останавливать течение Вселенской Мощи? Как человек, являющийся не более чем проявлением, феноменом этой Энергии, может ее саму же удержать и остановить?
Кроме того, если мое сознание действует столь фатально и разрушительно, если оно ограничивает Абсолют — то религиозно необходимо стереть его. Во имя Космоса человеческая мысль должна потухнуть. Или Космос дышит в тебе и через тебя — и тогда нет никакого твоего дыхания и никакой твоей мысли. Или ты предпочитаешь думать, делать, чувствовать, действовать сам — но тогда ты становишься врагом Вселенной, врагом Абсолюта. Перед лицом этой дилеммы оккультная мысль, равно как и буддистская и индуистская, не колеблясь, жертвуют человеком.
Для погашения ряби, мути, волнения индивидуального сознания на поверхности Великого Брахмана «требуется интенсивное самоотрицание». Это самоотрицание, погашение индивидуального сознания достигается медитациями, смысл которых английский исследователь и проведник буддизма Э. Конзе уподобляет анти-ювелирной работе: «Так гаснет блеск бриллианта, когда стесывают его грани»[447]. Александра Давид-Ноэль, начавшая свой путь с обычной оккультной теософии, но затем все же научившаяся понимать собственный язык буддистской мысли, пишет, что именно «здесь мы вплотную подошли к сущности тибетского мистицизма, величайший принцип которого гласит: не надо ничего «создавать», надо «уничтожать созданное». Созерцатели среди лам сравнивают духовный тренинг с процессом очищения или прополки»[448].
Но совсем не для этого (не для погашения сознания) и не таким путем (путем погашения сознания) ищет встречи с Богом христианин. «Бог нам нужен для того, чтобы сохранить сознание; не для того, чтобы сохранить сознание, а для того, чтобы пережить его; не для того, чтобы знать, как и почему оно существует, но чтобы почувствовать, для чего оно существует… Бог, которого мы жаждем, Бог, который должен спасти нашу душу от небытия, гарант нашего бессмертия, должен быть Богом, обладающим свободной волей… Желать соединиться с Богом это не значит желать потеряться раствориться в Нем; ибо потеряться и раствориться это значит уничтожиться, погрузившись в нирвану, в этот сон без сновидений»[449]
Идти же путем пантеизма — значит ради слияния с безликим божеством стирать свое лицо…
Пантеизм неприемлем для христианской философии не потому, что он высоко думает о человеке («вы — боги»), а потому, что на деле он радикально отрицает существование человека.
Пришел некий человек к выводу, что он и есть Бог. Но ведь даже мир пантеизма все же очень остро чувствует ненормальность смерти и вообще положения человека. Так чем ее объяснить, и где найти источник загрязненности? Не может же человек совсем не чувствовать, что с ним что-то не так.
Христианин сказал бы: вина в моей воле, в моем духе, в моем грехе. И если бы оккультист сказал: источник греха во мне и в моей воле, это означало бы, что он покаялся. Но именно этого великого христианского вопля — mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa — нет во всем многотомьи «Живой Этики». Рерихам незнакомы слова «покаяние» и «грех»…
Но если источник ненормальности не в моих действиях — значит, он в самом факте моего бытия. Причину своей невсецелой «божественности», преграду между Абсолютом и собой оккультист обретает… в себе же. Виновна оказывается сама сложность моей природы. Все грехи и все зло — оттого, что моя душа живет в этом гнусном теле и оттого, что она втиснута в рамки этого «я». Эта преграда — от косной телесно-душевной субстанции собственной индивидуальности. Человек тяготится собой. Ибо в себе он нашел нечто лучшее, что единосущно ему, но в то же время не есть он весь. Моя природа хороша и божественна. Зло — оттого, что что-то не дает ей развиться вполне. Это что-то — моя личность, моя индивидуальность. Итак, из формулы «я есть Бог» следует: «моего я не должно существовать». Именно пантеизм ведет к нигиляции себя. «Зло зародилось с первым проблеском сознания», — утверждает Е. Рерих[450]. Понятно, что при таком видении причин зла логично стремиться к полному потушению личного сознания.
Поскольку для христианства личность не есть та или иная неверно реализованная энергия, та или иная неудачно сгруппировавшаяся «сумма элементов», «сочетаний» или «отношений», то и борьба с грехом не превращается в борьбу с личностью и в борьбу с жизнью. В христианстве считается, что зло происходит из неверного движения воли по направлению к неистинному благу или из недостатка воли и желания, когда человек движется к истинному добру. Значит, надо не уничтожать желания человека, а воспитывать их, ослаблять страстные устремления и обращать энергию человека (в том числе и энергию эроса) на служение Благу. Как еще во втором веке заметил христианский апологет Минуций Феликс, «если бы Бог хотел евнухов, Он мог бы создать их Сам»[451]. Ориген особо обращает внимание на слова апостола «хотеть и действовать — от Бога» (см. Флп. 2, 13), поясняя, что речь идет не о всяком действии и всяком желании, а о способности к этому. Способность желать — это дар Бога. Надо лишь правильно им пользоваться.
В буддизме же, который теософия намерена объединить с христианством, воля, устремленность к какому бы то ни было бытию, порождаемая невежеством, есть стрела, которая поразила человека, и ее надо вытащить. Не тот или иной недолжный вид воления или похоти, нет — саму волю, сами желания как таковые. А потому, как пишет Г. Померанц, «у буддизма нет цели, к которой можно приблизиться волевым усилием. Понимание нирваны как цели профанирует буддизм»[452].
Для буддиста путь жажды и любви, предлагаемый Евангелием, есть ущербный путь. Для христианина путь погашения всех желаний, предлагаемый Буддой, предстает как путь омертвения, а не оживления человека. Поэтому понятна реакция христианина на буддистское «бесстрастие». Едва ли не впервые эта реакция была выражена в статье Владимира Соловьева под характерным названием «О буддийском настроении в поэзии»: «Безусловное отсутствие всяких признаков любви к кому бы то ни было — странный способ готовиться к вступлению в чертог всех любящего Бога»[453]. Впрочем, это не упрек буддистам. Буддисты и не собираются вступать в «чертог Бога». Но тем, кто пытается синтезировать Евангелие с Буддой, стоит задуматься над этими словами Соловьева. Если брать ту цель, что ставит Евангелие, то можно ли ее достичь с помощью тех практик, что предлагает буддизм?
Слова Блаватской «Одна и та же Жизнь, одно Я пребывает во всех формах Вселенной; это общее Я, желающее проявиться, и есть скрытый источник всех эволюционных процессов»[454], еретичны не только с христианской точки зрения[111], но и с точки зрения просто гуманизма. Если «источником всех процессов» является «общее Я», то на долю конкретных человеческих личностей ничего не остается. Они оказываются не субъектами исторического процесса, не субъектами жизненного творчества, но всего лишь объектами — материалом, в котором «общее Я» бессознательно и бесцельно разыгрывает само себя.
По справедливому выводу Н. Бердяева, «пантеизм есть не столько ересь о Боге, сколько ересь о человеке, умаление роли человеческой свободы и человеческого творчества»[455]. А как еще расценить теософский гимн стиранию человека? — «Когда человек (эфирный, внутренний) достигает момента, когда он достигает состояния абсолютного блаженства, человек, как существо, объективно уничтожается, но духовная сущность с ее субъективной жизнью будет жить вечно… Не должны ли мы вместе с буддистскими мудрецами понять, что существует бесконечное количество индивидуальных человеческих духов, которые все вместе являются проявлениями единого. Как каждая капля выводы вместе со всеми остальными каплями образует океан, так и каждый человеческий дух — это искра единого всеобъемлющего света. Этот божественный дух одушевляет и цветок, и кусочек скалы, и льва, и человека…. Доктрина о постепенном вливании человеческой души в субстанцию первичного духа, одно время была всеобщей, но эта доктрина никогда не предполагала уничтожения высшего духовного ЭГО — а только растворение внешних форм человека после его земной жизни»[456]. Из этого рассуждения видно, что человек — это только внешние формы, налагаемые на нечеловеческую, божественную субстанцию. И эта субстанция в конце концов спасает себя от человека, изводит себя из него.
Так, стараясь представить себя богами, пантеисты отказывают себе просто в существовании, превращая себя в чужой сон и в эпизод чужой жизни.
Поэтому христианину при разговоре с теософами приходится решать еще странную задачу: доказывать своему оппоненту, что он существует.
Мороку абсолютного монизма в христианстве была противопоставлена формула «мыслю, следовательно, существую». Сначала ее произнес бл. Августин: «Если обманываюсь то поэтому уже существую»[112]. Затем был Декарт: «Я колеблюсь; что же из этого следует? Ведь я убедил себя в том, что на свете ничего нет — ни неба, ни земли, ни мыслей, ни тел; итак, меня самого также не существует? Однако, коль скоро я себя в чем-то убедил, значит, я все же существовал? Но существует также некий неведомый мне обманщник, чрезвычайно могущественный и хитрый, который всегда намеренно вводит меня в заблуждение. А раз он меня обманывает, значит, я существую; ну и пусть обманывает меня, сколько умеет, он все равно не отнимет у меня бытие, пока я буду считать, что я — нечто… Я есмь, я существую — это очевидно. Но сколько долго я существую? Столько, сколько я мыслю»[457].
Итак, даже из козней буддистского демона иллюзий Мары следует реальность искушаемого им человека. Я искушаюсь — значит, я существую.
В XIX веке Владимир Соловьев напомнил, что «Мышление предполагает мыслящего»[458], а через несколько лет немецкий поэт Рильке взорвался криком: «Я больше сна во сне. Не мину!»[113].
Я могу при достаточной логичности думать, что весь внешний мир — лишь мой сон. Но я не могу думать, что я сам — лишь чей-то сон. Я сам мыслю, сомневаюсь, ищу — и значит, при всей возможной ошибочности моих поисков, несомненен сам факт, что для того, чтобы ошибаться, должен существовать кто-то, кто ошибается — то есть я сам. Как заметил В. Несмелов, «себя-то самих мы уж никаким усилием мысли не можем разрешить в состояние постороннего для нас сознания»[459]. Философским фактом является то, что я думаю об Абсолюте; я имею идею о Нем в своем сознании. Мысль же о том, что Абсолют думает меня, и что моя мысль есть нечто вторичное по отношению к Абсолюту — это уже всего лишь философская модель, а не философский факт. Любая гипотеза должна считаться с фактом, а не просто отстраняться от него. Я существую — и, значит, в мире есть нечто, что не есть Абсолют. Значит — нас как минимум двое… Мартин Бубер в полемике с буддизмом писал, что в человеке есть «чувство себя, которое невозможно включить в мир»[460].
Как видим, различие между пантеизмом и монотеизмом самым непосредственным образом сказывается на понимании человека.
Является ли личность основой божественного бытия или ее проявлением, эпифанией? Что есть Бог — «основа» или персона, нечто налагаемое извне? Если признать первое, то есть первичность личности по отношению к природе, — логично принять и Троицу, и весь христианский персонализм.
Если избрать вторую позицию, неизбежно прийти к политеизму: ведь безликая природа может надеть на себя любую маску и проявлять себя во множестве же эпифаний. Одной из них является человек.
Если в личности видеть лишь «индивидуальность», лишь ограниченную совокупность природных свойств, лишь частное проявление всеобщей Субстанции — тогда придется признать, что имеет место спектакль, и вся человеческая жизнь со всей наполняющей ее борьбой добра и зла — не более чем всегалактическая постановка борьбы Единого с самим собой.
Для пантеизма весь мир, весь космос божественно-материален. Из этой первостихии выходят, в нее возвращаются. Если прав Фалес, и действительно — «все есть вода», то без бесконечной и бессмысленной трансформации, без переливаний из одного пустого в иное порожнее не обойтись. Тогда логична и реинкарнация. И остается только мечтать о дне, когда закончатся в мировом океане шатания всех всплесков энергии, и единая и самотождественная первосубстанция растворит в себе все, порожденное безумием индивидуальных обособлений.
Но христианство и говорит, что мы выходим из этого первичного онтологического бульона, выходим навстречу той Единой Личности, которая вне Себя создала нас и к Которой мы должны прийти с определенным лицом, а не в составе того же бульона. Чтобы такой Исход был возможен, Творец изначала создал человека отличным от мира и от Бога, изначала наделил его личностью, то есть внутри человека создал такую ипостасную опору, исходя из которой человек сможет, работая во времени, стяжать Вечное наследие.
Бытие человека может быть религиозно оправданным, лишь если согласиться с Библией и поверить, что Бог действительно создал мир и человека такими, что они не есть Бог, а быть иным, чем Бог, не значит противиться воле Божией. Если Бог есть личность — то мир имеет право на разнообразие. Если я как христианин знаю Бога как любящего меня, то не воспринимаю себя как преграду в этой любви, как помеху, и, следовательно, не должен «аннигилировать», уничтожать себя. И потому отсечение греха и стремления к нему не есть отсечение себя.
В противоположность этому пантеистический монизм требует не только отказа от моего непосредственного опыта самобытия; он требует признать, что мне вообще не с кем встретиться в этом мире. Их, других, тоже нет — как нет по большому счету и меня. Монизм Будды «доходит до отказа от способности говорить «Ты». Его любовь, означающая: «все, что возникло, безраздельно заключено в груди», — не знает простого противостояния одного существа другому»[461].
Все, к чему стремится человек, здесь оказывается в одном горизонте с ним. Если бы вне человека было некое Высшее Духовное начало, можно было бы ожидать вести от Него, встречи с Ним и помощи от Него (как это делают христиане). В оккультизме же идти просто некуда. В бытии нет ничего, что превосходило бы космос и человека. И значит — неоткуда ждать веяния НОВОГО Завета, веяния благодати. Пантеисту неоткуда ожидать Вести.
Отсюда — преувеличенная роль философии в пантеистических системах. Никакого трансцендентного вмешательства не ожидается и не требуется. Значит, надежда на спасение может корениться лишь в самом человеке. Человек должен заняться «самоспасением» — иначе ему неоткуда ждать помощи: ведь Бога не существует. Все зло в моей личности и в моей телесности. Из тела человек неизбежно выйдет однажды сам, и это не требует никаких особых усилий. Но если он будет непросвещен, если человек, не готовивший себя к духовной жизни, начнет печалиться о потерянном теле — он тем самым вновь вернет свою душу в мир тел и косной материи. Лекарство от сожаления о материальном — философия. Отсюда — спасение через философию, «просвещение», ожидание Учителя, а не Спасителя. Преодоление смерти — это внутренняя проблема нашего маленького мира: перейду я с этой планеты на другую, перееду жить на «Елисейские поля» и т. п. Здесь все логично. И все от начала до конца радикально отлично от христианства.
В христианстве человеческую личность надо ввести в Вечность. Человеческое тело достойно воскресения. Грех рождается неведением, но укрепляется волей, сознательно желающей зла — и потому именно через переориентацию воли содеявается человеческое преображение. И преображение это происходит не только собственными силами, но в синергии с Божественной благодатью. И конечная цель состоит не в том, чтобы переехать на более комфортный этаж этого мира. Надо как раз выйти из мира. Мир погибнет — надо успеть найти другой дом, вне него. И здесь без помощи извне не обойтись.
Человек же Библии услышал: «Аз есмь». И это означало, что и он тоже — есть. Человек Евангелия услышал «Бог так возлюбил мир…» — и это означало, что мир драгоценен в глазах Бога, видим Богом, а значит — тоже есть. С точки зрения философской эти центральные слова Нового Завета — манифест антипантеизма. Теософы уверяют, что Христос (древний «Посвященный») был, как и они — пантеистом. Но как же возможна тогда любовь Бога к миру? Тут уж — или Бог на Голгофе любит Сам Себя (но почему же — так, до смерти?!); или мир не есть Бог, и ради этой, внешней реальности, Сын Божий идет на смерть. Евангелие утверждает, что расстояние между Богом и миром есть, и оно столь велико, что лишь Боговоплощение и Крест могут его заполнить. Если мир и Бог — одно и то же, то откуда же новозаветное именование Христа «посредником»? «Но посредник при одном не бывает, а Бог один» (Гал. 3, 20). Если Бог один и есть посредники (в Ветхом Завете это ангелы (Гал. 3, 19), а в Новом — Христос (1 Тим. 2, 5)), значит мир не есть Бог, и мир настолько отличен от Бога, что необходим посредник между Единым Богом и миром. Именно потому, что мир не есть Бог, Бог любит его и дарует Посредника — такого Посредника, который не заслонял бы Собою Творца, но соединял бы с Ним.
Именно откровение о Боге как о Личности помогло осознать реальность человека и реальность мира. Христианство имеет право мыслить о Боге как о Личности хотя бы для того, чтобы отстоять подлинное существование мира и человека.
Теософский пантеизм оказался не в состоянии объяснить бытие мира и человека. Откуда взялся мир — непонятно, и даже думать об этом не смей. Все есть иллюзия, а вот чья иллюзия — не скажем… Просто прими, что мирское волнение существует извечно, и события, происшедшие мириады веков назад, определяют кармы нынешних людей. Космические события происходят не потому, что мироздание чего-то желает, а просто — «так получилось». Это все само по себе довольно логично. Магнит притягивает. Электричество «течет». Непонятно только, зачем теософы именуют все эти физические безвольные и безликие процессы евангельским словом «любовь» («Что есть Божественная любовь как не принцип притяжения и сродства, электрическая мощь сродства и симпатии»[114]). По христианскому представлению, наш язык достаточно богат, чтобы различать личностную любовь и инстинктивное влечение — «любовь, лишенная ипостасного, личного начала, может быть только бессознательным, бессловесным движением — инстинктом»[462]; «по христианскому воззрению любовь должна быть сознательной, т. е. принадлежать Ипостаси, а не без-ипостасному существу или природе. Иначе это будет уже инстинкт, неуправляемое разумом «бессловесное» движение, совершенно немыслимое в Абсолютном Духе»[463].
А вот язык пантеизма слишком беден; он все многообразие покрывает одним словом: «Ты еси То» (Брихадараньяка-упанишада, I3,9; Чхандогья-упанишада, 6,8,7), «Этот Атман есть Брахман» (Брихадараньяка-упанишада, 2,5,19)… «А человек плывет и растекается в этом океане вселенской жизни: и сам он, и все в нем и вне его есть Божество, и ничего нет вне Божества и кроме него. Однако что же это? нет даже и нас, как нет Бога. Все гаснет, тонет, опускается на дно океана, — гладь, тишина и молчание; ни свет, ни тьма, вечное ничто, нирвана бессознательного. Ища познать Бога в мире, мы потеряли себя самих, нас засосали зыбучие пески этой безликости»[464].
Но если объяснение пожелаешь дать не «Тому», а вот этому, если пожелаешь не редуцировать всю многокрасочность и сложность бытия к скудному и бескачественному «То» — то с пантеизмом придется расстаться.
Это плохая философия — если ради «логичности» своей догмы она должна сметать и отрицать все, что встречается ей на пути: и Бога, и мир и личность человека.
Она только одним может утешать человека, точнее утешительной она может казаться одному типу людей: тем, кто устал от жизни и от самих себя. Кого-то из них буддизм утешает своим обещанием больше не жить. Кого-то теософия — оовим обещанием бездеятельно-божественного бездумного покоя. «Черный квадрат» Малевича и есть их общий идеал. Симпатизировавший теософии Малевич об этом поведал так: «Человек равен вселенной, в нем помещается все, что в ней… Все явное в природе мощью своего совершенства говорит ему, что вселенная как совершенство — Бог… Признав во вселенной совершенство — человек признал Бога и тем самым признал то в природе, что она не мыслит, мыслит только он, ибо Бог как абсолют совершенства природы не может больше мыслить. Таким признанием человек выделил себя в мыслящее существо и вывел себя из совершенства Божескаго и опять стремится через путь своих совершенных предметов воплотиться в совершенство абсолютного несмыслящего действия… Благо Религии заключается в достижении небесного царства, в которое человек войдет, освобожденный от всех недугов и воссядет в покое. Фабрика думает достигнуть через труд освобождения от труда, следовательно, покоя. Оба стремятся к покою или к Богу как немыслящему состоянию»[465].
Философия как любовь к мысли вряд ли должна стремиться к этому состоянию.
Глава 9. ПАНТЕИЗМ И ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ
Понял теперь я: наша свобода
только оттуда бьющий свет…
Николай Гумилев.
Исходя из пантеистического тезиса о растворенности человека в «первоединстве», философски невозможно обосновать феномен человеческой свободы. Если я — всего лишь «проявление» мировой субстанции, я не могу быть свободен от того, чьим проявлением я являюсь. Отсюда — вполне логичный вывод: «В сущности говоря, ничего, кроме кармы, не существует. Все Бытие есть лишь нескончаемая цепь причин и следствий»[466].
Но для христианской мысли свобода человека есть исходный факт, и поэтому христианская философия строится так: есть факт свободы человека. Спрашивается: каким должно быть мироздание, чтобы допустить человеческую свободу? На первых шагах этого размышления последуем за Кантом. Свое знаменитое «нравственное доказательство бытия Бога» Кант начинает с общеизвестной посылки: ничто не происходит в мире без причины. «Если бы мы могли исследовать до конца все явления воли человека, мы не нашли бы ни одного человеческого поступка, который нельзя было бы предсказать с достоверностью и познать как необходимый на основании предшествующих ему условий»[467]. Или: «Возьми какой-нибудь произвольный поступок, например, злостную ложь, посредством которой какой-нибудь человек внес известное замешательство в общество; сначала мы исследуем ее мотивы, затем разберем, насколько она может быть вменена человеку вместе с её последствиями. Для решения первой задачи мы прослеживаем его эмпирический характер вплоть до источников, которые мы ищем в дурном воспитании, плохом обществе, отчасти даже в злобности его природы, нечувствительной ко стыду, и отчасти в легкомысленности и опрометчивости, не упуская, впрочем, из виду также и случайных побудительных причин. Во всем этом исследовании мы действуем точно так же, как и при изучении того или иного ряда причин, определяющих данное явление природы». Принцип детерминизма (то есть причинно-следственных отношений) — это самый общий закон мироздания; ему подчиняется и человек, но в том-то и дело, что — не всегда. Бывают случаи, когда человек действует свободно, ничем автоматически не понуждаемый. Речь не идет о нашей полной независимости. Вопрос в том, всё ли определяется этими зависимостями, исчерпывается ли человек этими зависимостями — или хотя бы на одну сотую и он убегает от них. Как часто он пользуется своей свободой — это уже другой вопрос. Мы по шею стоим в зависимости от нынешнего мира — это есть. Но есть и свобода.
Если же мы скажем, что у каждого человеческого поступка есть свои причины, то награждать за подвиги надо не людей, а эти самые «причины», и их же надо сажать в тюрьму вместо преступников. «Но хотя мы и полагаем, что поступок определялся этими причинами, тем не менее мы упрекаем виновника, и притом не за дурную природу его, не за влияющие на него обстоятельства и даже не за прежний образ его жизни; действительно, мы допускаем, что можно совершенно не касаться того, какими свойствами обладал человек и рассматривать исследуемый поступок — как совершенно не обусловленный предыдущим состоянием, как будто бы этот человек начал им некоторый ряд совершенно самопроизвольно»[468]. Там, где нет свободы — там нет ответственности и не может быть ни права, ни нравственности. Кант говорит, что отрицать свободу человека — значит отрицать всю мораль.
А с другой стороны, если даже в действиях других людей я и могу усматривать причины, по которым они поступают в каждой ситуации именно так, то как только я присмотрюсь к себе самому, то должен будут признать, что по большому счету я-то действую свободно. Как бы ни влияли на меня окружающие обстоятельства или мое прошлое, особенности моего характера или наследственность — я знаю, что в момент выбора у меня есть секундочка, когда я могу стать выше самого себя… Есть секундочка, когда, как выражается Кант, история всей вселенной как бы начинается с меня: ни в прошлом, ни вокруг меня нет ничего, на что я смел бы сослаться в оправдание той подлости, на пороге которой я стою…
Кантовский императив задает совершенно определенную онтологию, в которой весь внешний мир рассматривается как абсолютно проницаемый для нравственного деяния, как не имеющий собственной аксиологической плотности, которая могла бы привести к неустранимым отклонениям моего поведения. У этого мира нет собственного напряжения, способного внести возмущение в поле нравственного поступка. Такой мир полностью прозрачен для оценивающего человека: деятель, взвешивая последствия выбранного поступка, способен как бы сквозь мир видеть самые отдаленные его последствия. Эта аксиологическая бессубстанциальность мира означает, что в каждом решении человек выбирает весь мир.
Каждое человеческое действие может описываться двояко: как результат некоего причинного ряда и как его начало. Оно может рассматриваться как суммирование наличности, как ее равнодействующая — или как прорыв за ее пределы, творение нового. Возможно такое действие, которое становится причиной последующих событий, но само оно свободно, беспричинно. Возможно причинение через свободу[115].
«Каждый злой поступок, если ищут его происхождения в разуме, надо рассматривать так, как если бы человек дошел до него непосредственно из состояния невинности. В самом деле, каково бы ни было его прежнее поведение и каковы бы ни были воздействовавшие на него естественные причины, а также заключались ли они в нем или были вне него, все же поступок его свободен и не определен ни одной из причин; следовательно, о нем можно и должно судить как о первоначальном проявлении его произвола. Нет таких причин в мире, которые могли бы заставить его перестать быть существом, действующим свободно»[469].
Итак, в рамках практического разума, то есть в морали, мы не можем описывать поведение человека исключительно в категориях детерминизма. Как не осуждают луну за то, что ее не видно днем, так нельзя винить и того, чья человечность не проявилась в некий день, самый важный для него и его ближних. Как не награждают Волгу за то, что она впадает в Каспийское море, так же нелогично награждать соответствующей медалью хорошо воспитанного и генетически благополучного молодого человека за отвагу при пожаре.
Нравственная область свободы — область должного, природа и мир явлений — область наличного. «Невозможно, чтобы в природе нечто должно было существовать иначе, чем оно действительно существует, более того, если иметь в виду только естественный ход событий, то долженствование не имеет никакого смысла. Мы не можем даже спрашивать, что должно происходить в природе, точно так же как нельзя спрашивать, какими свойствами должен обладать круг; мы можем лишь спрашивать, что происходит в природе или какими свойствами обладает круг»[470]. Если человек есть исключительно часть «природы», то и человеческое поведение нельзя описывать в категориях «долга». Что бы ни натворил человек — реакция может быть только одна: «так получилось» и иначе быть просто не могло.
К сожалению, эти позитивистские описания прочно укоренились в сознании общества, дерзающего назвать себя «постхристианским». Девушка ушла в публичный дом — и, конечно, мы понимаем, почему: крушение коммунистической идеологии, духовный вакуум, влияние улицы, плохое воспитание, недостаток культуры. Девушка ушла в монастырь. Нам и здесь все ясно: крушение коммунистической идеологии, духовный вакуум, недостаток культуры, плохое воспитание, влияние улицы.
Но то, что в человеческом обществе есть нравственная оценка наших действий, означает, что наша совесть видит в нас самих некоторое акосмическое явление. В моей сегодняшней ситуации выбора я вижу некую брешь, пробитую в железном сцеплении причин и следствий: я могу выбрать другое будущее и вести его генеалогию из другого прошлого. Есть несколько рядов причин, каждый из которых «желает», чтобы мое настоящее определялось им. Есть ряд побудительных мотивов, ряд причин, которые сейчас могут произвести через меня грех. А есть такие причинные цепи, такие событийные связи в моем прошлом, которые могут разрешиться благим действием. Но от моего личностного произволения зависит — какому из этих рядов я позволю осуществить свою актуализацию в эту минуту.
Если в мире явлений свободы нет, а в человеке она есть, значит, мир явлений еще нельзя назвать подлинным миром, это — еще не весь мир. «Так как сплошная связь явлений в контексте природы есть непреложный закон, то это неизбежно опрокидывало бы всякую свободу, если бы мы упорно настаивали на реальности явлений»[471]. Или, как уточняет Владимир Соловьев эту кантовскую мысль — «если бы только нужно было признавать исключительную реальность явлений»[472]. Значит, феномен свободы есть проявление иного бытия в нашем обычном порядке бытия, в мире феноменов, связанных друг с другом причинно-следственными отношениями. Бытие не исчерпывается миром явлений, не исчерпывается кругом явлений, взаимно повязанных друг с другом по принципу детерминизма.
Так Кант выходит к фундаментальной идее всякой серьезной метафизики — к утверждению иерархии, наличия разных по своей значимости и основательности уровней бытия. Есть объекты онтологического минимума, есть точка омертвения свободы, а есть вершины онтологической напряженности. Человеческая свобода — реальность, философски более значимая, чем мир явлений. Но основной закон иерархии гласит, что низшее не может породить высшее. Свобода не может быть понуждена к бытию миром детерминизма. Если свобода есть способность исходит из самого себя, то у свободы не может быть причины, и мир не мог породить свободу. Если причина необходимым образом произвела свободу, то слово свобода к результату не приложимо. Свобода не понуждается к бытию миром детерминизма, свобода получается из небытия. Она может возникнуть только «из ничего» — таков один из смыслов христианского креационизма. Но мир свободы и мир детерминизма все же находятся в единстве, в связи. Если эта связь идет не от мира детерминизма к миру свободы — значит, мир свободы послужил причиной для возникновения мира детерминизма. Это значит, что мир причин может быть только порождением мира свободы. «В начале была Свобода». А потому — «среди благодеяний укажем на избавление от необходимости, на неподчинение господству природы, на возможность свободно располагать собой по своему усмотрению» (Св. Григорий Нисский. Об устроении человека, 16).
Ощущение человеческой свободы столь свойственно христианству, что даже митрополит Антоний (Храповицкий), строя не вполне православную богословскую систему, в которой есть определенные реверансы в сторону пантеизма, резко определяет: «Бог, оставаясь субъектом всех физических явлений, предоставил самостоятельное бытие субъектам явлений нравственных»[473]. Поскольку христиане мыслят человека как надкосмический феномен, они могут себе позволить даже такую формулу. Оккультисты же, для которых человек не более чем «микрокосм», конечно, не могут, отрицая свободу и самобытность за миром в целом, признавать свободными и самобытными мелкие частицы несвободного макрокосма.
Значит, лишь признание онтологической иерархичности мира дает основание для свободы. Содержа в себе причинность, человек должен содержать в себе и еще нечто. Итак, человек не есть часть природы[474], у человека есть дистанция к миру вещей. Мир, откуда происходит человек — мир свободы, мир, существующий вне предикатов физического мира — времени и пространства. И это мир нравственно окрашенный, ибо его значимость и существование мы воспринимаем именно в опыте нравственного выбора[475]. И потому — говорит Кант, — «морально необходимо признавать бытие Божие»[476].
В рассуждении Канта нет абсолютной доказательности и логической принудительности. В конце концов, человек может считать себя всего лишь обычной частью мира, предметом, всецело растворенным в потоке явлений. Человек может так воспитать и стилизовать свою мысль, что детерминизм мирового процесса он будет считать безъизъятным, и даже в себе самом он не будет замечать исключения из тотальности причинно-следственных цепей. Человек может убедить себя, что свобода не более чем «осознанная необходимость». Человек может считать, что абсолютно круглых предметов в мире нет, и потому все геометрические теоремы о кругах и окружностях ложны. Но связь круга с его свойствами не прекратится даже в том случае, если действительно исчезнут все круглые предметы. Ведь геометрия имеет дело с понятиями (понятия о круге, о прямой, о точке и т. п.) и с логической связью между понятиями, а «логическая связь между понятиями не прекращается, даже если нигде нет объектов, соответствующих этим понятиям»[477]. Даже если нет ни свободы человека, ни Бога, а «свобода» и «Бог» суть лишь понятия, возникшие в человеческом сознании, все равно, как показал ход рассуждения Канта, между этими двумя понятиями есть неразрывная логическая связь. Нельзя признать одно из этих положений («свободу»), не приняв вывода из нее: Бога. Приняв свободу, человек не только логически, но и морально будет понужден к принятию Бога. Ведь одним из моральных долженствований человека является долг мыслить честно, логично, последовательно, долг принимать даже те выводы из своих открыто декларированных посылок, которые самому мыслителю кажутся нежелательными. Так вот — если философ декларировал свою убежденность в том, что человек есть существо свободное, то он морально обязан пройти путем Канта и ввести в систему своей мысли тезис о бытии личностного Бога. Или, говоря словами самого Канта о кантовском доказательстве бытия Бога: «Этот моральный аргумент вовсе не имеет в виду дать объективно значимое доказательство бытия Бога или доказать сомневающемуся, что Бог есть; он только доказывает, что если сомневающийся хочет в моральном отношении последовательно мыслить, то он должен признание этого положения принять в число максим своего практического разума»[478]. Кантовский аргумент действенен лишь при одном совершенно неформальном и внефилософском условии: если человек хочет мыслить…
Итак, свобода человека может быть обоснована лишь в случае, если у него есть надмирное, надматериальное происхождение. Только имея точку опоры в горнем, можно быть свободным от всецелой тирании снизу. Если есть только поток феноменов, то у меня нет свободы. Но что стоит за миром феноменов, связанных одной цепью? Стоят ли за ним вещи-в-себе (во множественном числе) или только одна Вещь? Если за миром феноменов есть только одна Субстанция, то я не свободен также. Ибо та моя глубина, которая не растворяется в потоке феноменов, на самом деле неотделима, неотчуждаема от более глубокого уровня бытия. И если поверхностный уровень бытия (мир природных феноменов) отнимает у меня часть моей свободы, то в глубине бытия Единая Субстанция отнимает у меня уже всего меня (ибо превращает меня в частный случай проявления Мирового Принципа, Мировой Души).
Для последовательного опрадания свободы необходимо исповедовать мировоззрение: а) иерархическое и б) плюралистическое (не-монистическое). Первое условие объясняет независимость человека от мира явлений, второе же условие должно избавить его от растворения в мира ноуменов.
Мир духовный свободы, на который указует наша, умаленная свобода, должен быть представляем множественным. Не одна-единственная субстанция проявляет себя в игре мировых феноменов и своей единственной свободой причиняет все мировые процессы, но за разными действиями стоят разные субъекты: нас, людей, нас, духовно-свободных разумов, много. Но поскольку не мы сами создали себя и свои свободы, то следует признать и некое духовно-свободное начало, стоящее над нами. Так свободны ли мы от Него?
То, что выше нас, избавляет нас от рабствования тому, что ниже нас. Но что может защитить человека сверху? Может быть, духовный мир прикрывает нас от мира материального лишь затем, чтобы ни с кем не делить власть над нами? Так царь может взять под свою защиту и опеку «человека», принадлежащего боярину: но приобретенная свобода от прихотей боярина никак не означает независимости от капризов царя.
То, что я могу свободно действовать и мыслить, означает, что через меня в физическом мире проявляется некая духовная, надматериальная стихия. Но не есть ли мое сознание всего лишь ее проявление? — Вот вопрос, к которому довольно быстро приходила любая пробудившаяся религиозно-философская мысль. Не есть ли человеческое сознание лишь частное проявление Всемирного Разума?
Если на этот вопрос дается положительный ответ — тогда создается та или иная разновидность пантеистической философии. Всё есть Божество: все многообразные грани мира суть различные проявления одной и той же Сущности. Частные индивидуальные разумы — не более чем рябь, вскипающая на поверхности бездонного океана Вселенского Духа. Но стоит согласиться с этим тезисом — и тотчас свобода человека исчезает как пар. Дух Вселенной мыслит во мне — но не я; Вселенский Разум определяет мои действия и является их подлинным субъектом и совершителем — но не я.
Если мое сознание есть «проявление» Мировой Энергии — не может быть и речи о моей свободе. Ибо феномен не может быть свободен от той сущности, проявлением которой он является. Магнитное поле не свободно от магнита, который проявляет себя через образование этого поля. В пантеистической вселенной я свободен не более, чем пузырек, вскипевший на дне чайника и пролагающий путь наверх. Так какая же мне разница, игрушкой каких энергий я являюсь — физических или метафизических!
И все же — я свободен. Так каким же должен быть Бог, чтобы дать мне свободу не только от мира, но и от Самого Себя?
Может ли магнит дать свободу магнитному полю? — Нет. Может ли Энергия не оказывать на встретившийся предмет такое действие, которое она по своей природе должна оказать? — Нет. Чтобы Энергия не реализовывала себя автоматически и со всей своей мощью — у нее должен быть регулятор. И то, что регулирует излучение и действие энергии, не может быть самой энергией. Итак, если духовные энергии не исчерпывают собою мое бытие, если они не растворяют мою свободу в себе — значит, их что-то ограничивает.
Я ограничить Божество не могу. Но если то, что ниже Первопричины не может ограничивать истечение Ее Энергии, значит, Она ограничена чем-то, что не ниже, но выше Нее.
И этот ход мысли многократно встречался в различных оккультных доктринах. Над духами, проявляющими себя в нашем мире, есть более высокие Иерархи, которые контролируют проявления более низких духовных эманаций. В свою очередь, над этими космическими надсмотрщиками надо мыслить надзирателей более высокого ранга — и так в дурной бесконечности.
И вопрос все равно остается открытым: если Вселенская Энергия едина, то что же контролирует все ее проявления, что контролирует Божественную Энергию как таковую, в ее целостности? Кто и как может контролировать и ограничивать действие Абсолюта?
В средневековой философии[116] этот вопрос ставился вопрос: как Бесконечная причина может породить конечные следствия. Множественность и самостоятельность мира понуждают признать, что Божественное творчество все же ограничено, «порционно». Если Бог бесконечен, может ли быть конечным созданный Им мир или даже любая из частей его? Но мир очевидно состоит из множества именно конечных вещей, мир многолик — значит, каждая его грань создана конечной и определенной творческой энергией. Бесконечная творческая мощь Божества излилась в тварный мир, — если говорить языком современной физики — конечными порциями (квантами). Но как может бесконечная энергия реализовываться в ограниченных формах? При условии, что вся энергия находится в актуализированном состоянии (а Бог — это именно актуальная бесконечность), и если нет никаких внешних препятствий (а философская мысль не может допустить, чтобы нечто препятствовало деятельности Абсолюта — ибо иначе Он не Абсолют) — приходится признать, что Творящая Бесконечность должна развернуть Себя в бесконечный мир, исчерпать Себя в этом акте эманации и отождествить Себя с ним.
Соответственно, в так мыслимом мире не могло бы быть ничего, что было бы хоть немного отлично от Абсолюта. Не то, что «всюду есть частица Бога», — нет, пришлось бы говорить более радикально: всё в мельчайшей своей частице и в каждом своем действии есть Бог. Как утверждал Джордано Бруно, Божественная сила всецело излилась в мир, и потому вселенная бесконечна, ибо Бог не мог бы создать ограниченный мир[479]. И мы погружаемся в мир радикального пантеистического нигилизма: в мире нет ничего, кроме Брахмы. Все расценивается как проявление Абсолюта, не имеющее никакой самостоятельности.
Собственно, это и есть путь теософской мысли, которая «отказывается приписать «создание», и в особенности, образование — нечто законченное — Бесконечному Принципу. ЭТО не может создавать»[480]. Отсюда делается вывод: раз «Парабраман, будучи абсолютной Причиной, пассивен»[481] — значит, Он ничего и не «причинил». Это Причина, у которой нет следствий. И если нам кажется, что что-то не есть ЭТО, — значит, наше зрение просто дефектно. Оно считает существующим то, чего на самом деле нет и быть не может. Философски эта идея обладает достаточной гипнотической силой, и способна по крайней мере некоторых людей привести к выводу о том, что ничего, собственно, и не существует — в том числе и их самих. Идея пантеизма носит радикально нигилистический характер — она отрицает все, кроме «Парабрамана». Все расценивается как проявление Абсолюта, не имеющее никакой самостоятельности.
С точки зрения философской это все равно не решение проблемы. Даже пантеизм различает относительное и Абсолютное бытие. Но он оказывается абсолютно бессилен пояснить, откуда же взялось само это различение. Если Абсолют не может быть причиной относительного, то откуда же оно взялось? Кто и как может ограничить действие Абсолюта? — Только Он сам.
Бесконечная энергия может излучаться частями, лишь если в источник энергии встроен механизм, контролирующий утечку энергии. Значит, в Боге необходимо различать источник божественной творческой энергии и некую «контролирующую инстанцию». И это различие надо провести строго в рамках теологического монизма, не утверждая «двух богов» или «иерархии абсолютов». Но любая сложность, допускаемая в Боге, уничтожает саму идею Бога как абсолютно единого и потому простого бытия. Это разделение внесет сложность в Божество и тем самым превратит Его в некий сложный, а, значит, разрушимый конструкт. То, что сложно, может распасться на компоненты, а, значит, не вечно — это пояснила еще древнегреческая диалектика… Любая сложность, допускаемая в Боге, уничтожает саму идею Бога как абсолютно единого и потому простого бытия. Как же утвердить сложность Бога, не утверждая при этом Его многосоставности?
Это можно сделать только через различение природы и ипостаси. Природа Божества абсолютно проста и едина, в ней нет никаких оттенков, различий, прибавлений или структур. «Чтойность», качественность Божественной природы проста, неизменна, самотождественна. Но бытие Бога полнее Божественной природы. Есть надприродная Личность, которая не имеет никаких собственных свойств, которая не есть что-то иное, нежели природа. Личность — это кто, тот субъект, который владеет природой, вбирает ее в себя.
Божественная сущность проста, бесконечна, духовна, неделима, вечна. Она является источником многообразных и частных божественных энергий, проявляющих Бога в мире.
Энергии же Божии могут быть ограниченными и целенаправленными потому, что действиями Божественной природы управляет Божественная Личность. Но природа Бога отлична от Личности Бога — и по Личному, сознательному, свободному решению Личности Божественная природа проявляет себя тем или иным образом через конкретное и ограниченное «действование»-энергию. Именно Личность есть регулятор природных энергий, от ее решения зависит — как и где подействует Божественная природа. И эта Божественная Личность, по своей свободной любви желая создать многообразный и сложный мир, умеряет проявление бесконечной Божественности своей природы так, что мир не испепеляется бездной Божественного света. «Он создал все сущее не для Своей пользы, потому что не нуждается ни в чем — напротив, создал все по человеколюбию и благости Своей, то и творит по частям…»[482].
Этот образ божественной любви в христианской мысли определяется термином «кеносис» — самоумаление, самоистощание Божества. Это смирение Бога перед тварью. Это забота Бога о мире, в своем пределе завершившаяся Голгофой. В своем кеносисе Творец дает возможность одному из творений существовать вполне самостоятельно и независимо от Него. Бог относится к миру не как сущность к явлению, но как Творец к творению. Вселенная — не явление Творца, но явление мудрости и любви Творца. У Бога есть Своя сущность, и эта сущность не есть мир; у этой сущности есть свои проявления в мире, но они тогда называются не «энергиями космоса», а «нетварными энергиями Творца».
Бог творит мир, а не превращается в мир. То, что Бог есть Личность, защищает свободу твари, свободу человека и позволяет человеку также быть личностью, то есть свободным источником своих поступков.
Именно утверждение реальности мироздания понуждает признать Творца — Личностью. Ведь если «абсолют является только предельным чисто отрицательным понятием… абсолютное само не имеет никакого положительного содержания, то и самоограничение его является пустым неопределенным выражением»[483]. Если Бог есть бессодержательное Ничто, то как же мы можем понять Его кенозис? Бог должен был взять дистанцию от мира, чтобы мир мог быть. Мир есть, и, значит, религиозному человеку, пытающемуся свою веру в духовное начало осмыслить философски, приходится признать, что Бог есть Личность, способная отстоять от мира, то есть умалять Себя. Кенозис Бога налицо (ибо факт неощущения Бога в мире налицо в опыте многих и многих людей)[117] — и потому приходится шагнуть за пределы чистой апофатики и вслед за ап. Иоанном сказать: Бог есть любовь. Он позволил миру быть другим, чем Он.
Божественная Личность по Своему свободному решению умаляет, умеряет излияние энергий бесконечной Божественной Природы вовне, чтобы дать место бытию иному, чем сам Бог. Бог творит мир иной, нежели Бог — и это действие Его смирения. Бесконечный Бог умаляет Себя, свободно освобождает от Своего всецелого присутствия некую толику бытия — и там возникает ничто. В этом ничто Бог творит мир людей. Отныне, по слову Владимира Лосского, Бог становится нищим, который стучит в двери нашей души, но никогда не решается взломать их, чтобы без нашего согласия войти внутрь наших сердец[484]. Это смирение Бога перед тварью (Златоуст как-то сказал, что Бог становится слугой нашего спасения). Это забота Бога о мире, в своем пределе завершившаяся Голгофой, когда «Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертные, как мы» (Б. Пастернак).
Так Он защищает человеческую свободу. Но если наша свобода есть факт, значит, она защищена. Если мы свободны от мира — значит, есть Божество. Если мы свободны от Божества — значит, есть Бог. Мы свободны — значит, Бог есть Личность. Мы свободны — значит, в мире действует не безликий «Парабраман», не «космическое электричество» или «космический магнит», не автоматическая Карма, но Личный Бог.
Что еще мы можем узнать о Нем? Самое главное мы уже знаем: Он не просто проявляет Себя в нас и не просто создал нас вне Себя. Он дал нам свободу — и это именно свободный дар. Такой дар мы можем назвать проявлением любви. Мы свободны — значит, мы любимы.
Если же Бог безличен, то есть не свободен, не волен в своих действиях, то в мире вообще ничего не происходит. Если есть Бог как Вечная и Духовная Основа бытия, как глубинная Причина мироздания (пантеизм это признает), и при этом Бог не свободно, а необходимо проявляет Себя в мире, то мир неколебимо статичен и всякое движение в нем есть не более, чем иллюзия. Чтобы уяснить это, возьмем нынешнюю ситуацию. Она необходимо приведена в бытие прежним состоянием вещей, послужившим причиной для возникновения сегодняшнего момента. Связь между причиной и следствием — связь необходимая. Это означает, что всегда, когда есть причина, наступает и следствие. Но если нынешнее состояние существовало не всегда, а произошло, значит и прежнее состояние, бывшее причиной появления его в бытии, также существовало не всегда. Иначе вечной причине соответствовало бы и вечное следствие, то есть нынешнее мгновение должно было бы считаться вечным, всевременным. Если ж это очевидно не так, то, значит, и причина нынешнего состояния также некогда возникла. Применим это рассуждение к ней самой и к причине ее собственного возникновения — и получится, что и состояние, послужившее причиной нынешнего положения вещей, также невечно, также некогда возникло, и также возникло от временной причины, нуждающейся для своего объяснения в другой и опять же временно-ограниченной ситуации. Причинно-следственный ряд бесконечен и состоит из чередования дискретных моментов, каждый из которых, едва только придя в бытие, порождает следующий…
Но, подождите: ведь у истока всех вещей мы предположили Вечное Бытие. Это Причина, которая есть и была всегда. Поскольку в этой причине мы (так велит пантеизм) видим лишь необходимость, но не предполагаем свободы и воли, значит, она от века же производит свои следствия. Значит, следствие совечно этой Причине. Но если мировой поток причин и следствий течет неизмеримо долго (совечно Божественной Причине) — значит, он уже давно протек по всему своему руслу и реализовал все возможные в нем последствия. Значит, все уже давно сбылось[118]. Самые отдаленные последствия Вечной Первопричины уже сбылись, и, значит, нельзя представить, что сегодняшний мир только что настал — он уж был, точнее он был всегда. И тут одно из двух: или в мире без конца происходит «вечное возвращение» и повторение одних и тех же событий без малейших перемен в их подробностях (ибо все подробности связаны друг с другом необходимым способом). Или в мире вообще ничего не происходит. Все вокруг — иллюзия, и мы сами — тоже. Причина есть. А следствий на самом деле у нее и не было. И Ахилл никогда не догонит черепаху…
Проснуться от этой иллюзии можно только, если предположить, что Причина, хоть и вечна, но проявляет Себя не природно-необходимым, а свободным способом. В Первопричине надо предположить нечто, что делает появление следствия ненеобходимым, что отстраняет первобытие от необходимого выявления его в качестве причины для следствия. Это предполагает контроль над своими проявлениями. Это значит предположить существование свободно-разумного бытия, которое своей свободой кладет начало последующей причинно-следственной цепочке, но само не нуждается в каких бы то ни было объяснениях своей деятельности. Это — Бог.
Тогда в мире могут происходить события, в мире может рождаться новизна, в мире могут быть свободные люди. Если наша свобода свободна производить новые действия — значит, Бог есть Личность.
Оберегая свободу человека, мы должны неизбежно прийти к персоналистическому монизму христианского типа — иначе человек будет растворен в мире безличностности. Метафизическая реальность, причастие которой дарует нам независимость от мира физического, чтобы даровать нам независимость и от себя, должна быть сама свободно-любящей, то есть ограничивающей свое могущество и свое присутствие перед человеком. Кенозис Бога есть основа человеческой свободы. Но к кенозису способна не субстанция, а личность.
Итак, для того, чтобы, с одной стороны, признавать бесконечную мощь Абсолюта, а с другой — осознавать, что эта мощь проявляется в нашем мире весьма ограниченно, оставляя место нашей свободе, и с третьей стороны, признавать, что это ограничение Божественного действия в нашем мире не навязано Божеству некими внешними по отношению к Нему инстанциями, но есть свободное Его решение об ограниченном способе Его проявления в мире людей, — для этого надо мыслить Бога как Личность. Тут, как рассуждает А. Ф. Лосев, «нужна максимальная честность и непредвзятость мысли, чтобы констатировать всю жизненную реальность того, что люди называют судьбой. Можно сказать так: понятие судьбы перестает играть доминирующую роль только в мировоззрении абсолютного теизма. Тут перед нами жесточайшая и беспощаднейшая, свирепейшая дилемма: или есть в бытии абсолютная целостность, включая все пространства и все времена, включая всю осознанность этого бытия и все его сознательное направление — и тогда существует Божество как Абсолютная Личность, и тогда, в конечном счете, нет никакой судьбы, а есть только, самое большее, временное человеческое неведение, или не существует никакой абсолютно-личностной гарантии в бытии, тогда человек ничего не знает о реальном протекании бытия не в силу своей временной ограниченности, но в силу того, что вообще ничего нельзя узнать о бытии в том смысле, что там и узнавать-то нечего, то есть тогда — фатализм и судьба»[485].
Третье условие человеческой свободы — это свобода от внутреннего мира самого человека, от мира психической причинности, которую он носит в себе самом. Или, лучше сказать, чтобы быть свободным, человек не должен быть сводим к этой причинности, как и ко внешней. «Утешать себя понятием разумной свободы — это все равно что допустить внутреннюю детерминированность вместо внешней и сказать, как это отметил Иоэль, что «парализованный свободнее, чем тот, кто находится в оковах»» — рассуждает Н. О. Лосский[486].
Если я тотально зависим от внутренних моих стремлений, то это то же рабство, но у хороших господ. Кант говорил в таких случаях о «духовном автомате»[487]. В этой связи Кант считает необходимым говорить о двоякой свободе: «Под свободой в космологическом смысле я разумею способность самопроизвольно начинать состояние… Свобода в практическом смысле есть независимость воли от принуждения импульсами чувственности»[488]. Аскетика — это борьба за свободу. «Если я не властвую над своими проявлениями, я есмь эти необходимые проявления, я стал автоматом… Но — я могу нового хотения, то есть творить себя»[489].
Предлагаемое христианством различение природы и личности помогает обосновать эту независимость человека от внутреннего детерминизма. Человек существует как личностная инаковость по отношению к природе — и потому личность через свое произволение может сублимировать природные стремления. «Сублимирует в конце концов свобода и только свобода. Она витает над всем материалом эмоций, влечений, аффектов, направляя и изменяя непроизвольно-бессознательные удачные и неудачные сублимации. Свобода ответственна за все содержания сознания и подсознания»[490]. О. Павел Флоренский в этой связи ставил вопрос о воспитанных и невоспитанных сновидениях[491]… Здесь сохраняет свое значение аристотелевское понимание «формы» и «материи». Материал низшей онтологической ступени со всеми его законами используется в созидании более высокого. Дом сохраняет в себе кирпичи со всеми их физико-химическими свойствами, но кирпичи не содержат в себе дома, не предопределяют всецело его архитектуры. Вот почему дом есть высшая новая ступень бытия, созданная из низшей материи. Так человеческая свобода вбирает в себя законы мира и психологии, языка и общества, не растворяясь в них.
Откуда зло? Теософский ответ сводится к тому, что все зло происходит от невежества (точнее — от того, что не все еще прочитали и усвоили «Тайную Доктрину» Блаватской). Но это явно недостаточный ответ — «явление зла не объясняется ограниченностью существ, как думали некоторые мыслители. Ограниченное существо, составляющее часть известного порядка, может, оставаясь на своем месте, следовать общему, управляющему этим порядком закону. Его ограниченность не ведет к тому, что оно непременно должно выступать из общего строя; скорее наоборот. Животным, несмотря на их ограниченность, мы не предписываем нравственно злых поступков. Что бы они ни делали, они всегда исполняют вложенный в них закон. Нравственное же зло есть извращение порядка. Это не отрицательное только начало, состоящее в недостаточном понимании закона. Нравственное зло есть явление положительное: оно заключается в противодействии ясно сознаваемому закону. Откуда же подобное извращение установленного Богом порядка?.. Откуда у свободного существа могло взяться побуждение действовать наперекор своей собственной природе?»[492].
В самом деле, даже самое ясное сознание правды может не удержать от греха. Природа же человеческого духа (созданного по образу Божию или, согласно теософам, вообще являющегося частицей Божества) не может стремиться ко злу. Проще всего свалить все на плоть: мол, душа стремится ввысь, а тело тянется пакостить. Но хоть сколько-нибудь внимательное наблюдение за собой быстро откроет, что греховное влечение чаще поднимается отнюдь не из тела, а из глубин души: не тело же ввергает нас в состояния гордости или отчаяния; не строение же нашего организма приводит к состоянию одержания ненавистью!..
Значит, в человеке есть некоторая автономность от нашей собственной душевно-телесной природы. Тем условием человеческого бытия, которое не есть человеческая природа, в христианской философии как раз и считается личность и личностная воля. Зло возникает только потому, что разумное бытие не тождественно себе самому, не растворяется в своей природе. Именно в зазоре между личностью и природой возможен распад.
Человеческая природа сама по себе сложна и иерархична: в ней есть плоть (со своими специфическими потребностями, волениями и действиями), есть душа (с огромным многообразием разных потребностей и влечений) и есть дух, жаждущий Высшей Радости и Истины. Над всем этим «оркестром» помещается «дирижер» — личность с присущим ей «личностным произволением»[119]. Жизнь человека напоминает заседание парламента. Есть множество фракций, каждая из которых предлагает реализовать именно ее проект. Нередко в один и тот же момент в президиум поступает несколько запросов: фракция головы предлагает что-то почитать, фракция сердца робко намекает, что читать-то ты и так читаешь, а вот молиться совсем позабыл… Фракция желудка напоминает, что вообще-то пора поесть. Что предлагает фракция «радикально-либеральных демократов», лучше в печати не упоминать… Каждый из этих импульсов сам по себе законен (каждая фракция в парламенте присутствует на законных основаниях). В принципе и проект каждой из них совсем не плох (в природе человека нет зла). От личностного произволения зависит, какой из этих энергий дать выход, в какой мере, каким образом, когда и при каких условиях.
Грех — это реализация природно-благого желания не вовремя и некстати, недолжным образом. Это — ошибка личного произволения, неправильно ощутившего некое добро там, где его в данный момент не было. Желание поесть непостыдно и благо. Но если я достану бутерброд аккурат во время пения Херувимской песни и стану его жевать прямо перед Царскими Вратами — это будет все-таки грехом (в диапазоне от невоспитанности до кощунства — в зависимости от намерений и степени осведомленности жующего). Да и само это физиологическое желание можно удовлетворить многими способами: можно пойти и заработать на хлеб. Можно попросить хлеб у ближних. Можно его вырвать у соседа. Не желудок подсказывает образ удовлетворения его потребности, личность находит способ реализации некой природной энергии в соответствии с тем, что она посчитала подходящим. Если личность неверно ориентируется в координатах добра и зла — она найдет дурные способы реализации добрых энергий. Но в том, что человек крадет хлеб ближнего, виноват не его желудок, а его личная воля…
Моя душа стремится к духовному знанию, но от моего личностного решения зависит — к какому источнику она припадет для удовлетворения своей жажды. Будет ли она пить из лужи магизма или же обратится к чистой воде Евангелия?
Личность не может создать новое желание, но она может усилить, расчистить дорогу для еле слышного голоска той фракции, которая желает обновления жизни. Личность может установить иерархию влечений и сказать, что проекты фракции, жаждущей развлечений, будут финансироваться по «остаточному принципу», после того, как требования долга и совести будут хотя бы в главном исполнены. По сравнению, предложенному А. И. Введенским, личностная «воля должна поступать вроде того, как поступает искусный правитель с сильно ограниченной властью, который может производить лишь самое легкое давление на управляемых им людей; но этим путем он так комбинирует их собственные личные стремления, что его подданные, стремясь к достижению собственных интересов, независящих от его воли, уже одним этим осуществляют и намеченные им цели»[493].
Поскольку сама личность бескачественна, надприродна, то в своей политике, устанавливающей ценностную иерархию запросов «подданных» и «фракций», она по большей части следует аппарату советников (например, подсказкам фракций «разум» или «совесть»). А вот их советы могут оказаться недостаточно добротны. Они подсказывают личности, где в данной ситуации добро, а где зло (или — меньшее добро). Если человек смог правильно распознать нравственный смысл предлагаемой ему ситуации — о нем можно сказать, что он познал ее провиденциальный смысл, то есть познал волю Творца. Воля Творца о твари и в твари в патристике называется «семенными логосами» (тот самый «пламень вещей», о котором писал преп. Исаак Сирин, выражение которого Рерихи приспособили для обозначения своей «агни йоги»).
Но если человек не вполне распознал этот смысл, если он наделил некую вещь, некоторого человека или некоторое событие смыслом, который не придавал ему Творец — то он подменил «семенной логос» «логосом измышленным» (придуманный смысл реальности преп. Максим Исповедник называет logos phantastikos). Эта подмена может произойти как в результате недостаточно глубокого проникновения человека «в то сокровенное горнило, где первообразы кипят» (А. К. Толстой в поэме о преп. Иоанне Дамаскине), так и в результате сознательного искушения со стороны духов зла. Фантастический, примышленный логос тогда играет по отношению к произволению ту же роль, что и топор, подложенный Негоро под компас в романе Жюль Верна «Пятнадцатилетний капитан». Он отклоняет стремление к добру на несколько делений, и корабль приплывает совсем не туда, куда стремилась природная воля человека. Поэтому «вся брань монаха состоит в том, чтобы отделять страсти от мыслей. Иначе ему невозможно бесстрастно взирать на вещи», — поясняет преп. Максим[494].
Это значит, что нужно смотреть на вещи, не стремясь к их обладанию. Постигать логосы вещей, не вовлекая эти вещи вслед за собой в круговерть смерти, в суету движения, не ведущего к Богу. «Страсть есть неразумная любовь либо слепая ненависть к ним»[495], то есть не по назначению употребленные влечения эроса и танатоса. «Мир имеет много нищих духом, но не так, как должно; много плачущих — но об утрате имущества или о потере детей; много кротких, но в отношении к нечистым страстям; много алчущих и жаждущих, — но алчущих похитить чуждое; много милостивых, но к телу; много чистых сердцем, но из-за тщеславия; много миротворцев, подчиняющих душу плоти; много изгнанных, но за свое беспутство; много поносимых, но за бесстыдные грехи»[496].
Итак, зло рождается от уклонения движения в сторону. «Некоторые говорят, что зло отсутствовало бы в сущих, если бы не было некоторой силы, влекущей нас к нему. Но эта сила есть не иное что, как небрежение естественными энергиями ума»[497]. Напротив, «ум называется мудростью, когда он всецело блюдет свои непреложные стремления к Богу»[498]. Зло есть реальная сила, которая действует в бытии, но рождается она не из злой природы, а из благой, но только реализуемой вполсилы, недостаточно напряженно и последовательно. Зло не есть просто отсутствие добра; зло реально потому, что использует реальные энергии человека, которые созданы, чтобы служить добру, но переориентированы для служения фантазмам. Фантазмы ирреальны, но энергии, приводимые ими в действие, реальны. Большевистская утопия — фантазм, разрушенная Россия и миллионы перерубленных судеб — реальность… Откуда взялись первые фантазмы? Ответ «Капитанской дочки», Достоевского, Библии известен: «бесы». Первый фантазм, первый грех подсказан, нашептан человеку извне. Откуда бесы? Вот здесь у христианства нет «знаний», нет «гнозиса» (ибо где ж найти человека-специалиста по ангельской психологии?!). Но есть ощущение. Это ощущение однажды было так выражено митр. Антонием Сурожским: ангельский мир, как и мир человеческий, есть мир личностей. Личность — это возможность строить свою жизнь из самого себя. Личностное бытие — это бытие, имеющее центр и основу своего бытия в себе. И поэтому для любой личности при ее встрече с Богом встает вопрос: или любить Бога больше, чем себя, или любить себя больше, чем Бога… Некто по имени Люцифер сделал второй выбор[120]. Но именно потому, что и человек есть личность, для него тоже возможен выбор судьбы. Путь человека не предопределяется его природой, а избирается личным решением.
В тех философиях, где нет различения личности и природы, тайна зла оказывается неразрешенной. Китайский мудрец Сюнь-Цзы полемизирует, например, в III в. до Р. Х. со своим коллегой Мюнь-Цзы, полагавшим, что природа человека добра: «Я утверждаю, что это неправильно. С древности до наших дней добро — это соответствие поступков и высказываний истинному дао. Если предположить, что природа человека действительно изначально соответствовала истинному дао, что человек всегда следовал установленным правилам, то зачем еще существовали совершенномудрые правители и какое они имели значение? Какое значение они могли иметь, если природа человека независимо от них соответствовала истинному дао и, следовательно, установленным правилам?»[499]. Именно неразличение природы и личности неизбежно приводит к таким апориям. В этом отрывке замечательно непонимание того, что человек может действовать не просто как экземпляр рода, действия человека здесь однозначно определяются его природой и даже перед лицом самого себя человек не свободен…
Если же человек тождествен своей природе, то он неотличим от животного: как животное целиком растворено в своем восприятии мира и его реакция всецело обусловлена, так и у человека нет зазора между ним, его актуальным поведением и внешним миром. Эрос и танатос действительно оказываются теми мировыми инстинктами, на скрещивании которых находится живой мир — в том числе и человек. В современной философской антропологии, однако, подчеркивается, что специфически человеческая черта — это «способность быть объективным», то есть возможность относиться к другой реальности не под действием личных аффектов. Человек может просто любоваться, просто радоваться и даже — умалять себя ради другого. «В человеке всего более божественно то, что он может благотворить», — говорил свт. Григорий Богослов[500].
Поскольку же наша «природа» уже испытала искажение и обрела инерцию греха — то надо уметь противостать некоторым ее привычкам: «Если же ты ищешь покоя, то для чего устремляешь руки против врага? Для чего же, если ты не воздерживаешь пожеланий, если не обуздываешь насилия природы?»[501].
Наконец, — в качестве четвертого условия свободы — человек должен быть защищен от мира идеальных ценностей. Он не должен быть лишь местом проявления высших «реалий», местом приложения внечеловеческих стихий: языка, архетипов, нравственных иедалов, платоновских идей и т. п.
Стоит вспомнить рассуждения Б. Вышеславцева на тему взиамоотношения человека с миром ценностей. Антиномию свободы Вышеславцев видит в том, что «Полное подчинение должному есть недолжное, неподчинение должному есть нечто недолжное. Ценности требуют безусловного господства в жизни носителя ценностей, и вместе с тем они же требуют, чтобы это их господство не было безусловным. Ценности притязают на полную детерминацию той самой личности, которая имеет ценность лишь как не детерминированная ими вполне. В религиозной флормулировке это противоречие можно выражить так: Бог хочет, чтобы человек был Его рабом — Бог не хочет, чтобы человек был Его рабом. Две суверенные инстанции сталкиваются здесь: суверенитет ценностей, суверенитет принципа — с одной стороны, и суверенитет я, суверенитет свободной личности — с другой»[502].
В конце концов антиномия снимается тем, что положительная свобода содержит в себе два начала: автономию лица и автономию принципа, между которыми отншение восполнения. «И это потому, что ценности не могут сами по себе ничего определять, они выражают лишь идеальный принцип, и требуется реальная воля, которая захочет взять их осуществление. С другой стороны, реальная воля, свобода выбора, произвол — не может ничего идеально обусловить и определить, не может сделать зло добром и наоборот. Свободная воля, чтобы выбирать, решать, ориентироваться, должна иметь перед собой порядок ценностей, который ей дан, и в котором она ничего изменить не может»[503].
Воля человека лишь открывает, а не изобретает ценности, которые уже есть в мире. Человек может избрать путь, но не создать сам путь. Без созерцания идеальных реалий воля будет слепой и бессмысленной, следовательно, несвободной. Бессмыслен и идеал, если его некому реализовывать.
Личность боится нравственного закона, ибо не видит и не верит, что в «царстве целей» она будет сохранена как самоцель, ей кажется, что она будет обращена в средство. Это опасение естественно в случае, если мир ценностей сам имперсонален. «Но если Смысл есть Человеколюбец, если высшая ценность по природе своей персональна и даже в Себе Самой находит место для Трех — то это значит, что человек замечен Вечностью, различим с ее высот («В доме Отца Моего обителей много»)»[504].
Без признания Божественной любящей Личности, охраняющей свободу человека, созданного Ею по Своему образу, нельзя объяснить свободу человека и его нравственную ответственность.
Конечно, человек может сказать: что ж, я смирюсь с тем, что я автомат, я готов жить в таком мире, раз так оно есть. Но Лев Шестов однажды применил к философии знаменитые слова Вольтера о литературе: «Всякая литература имеет право на существование, кроме скучной». Может ли скука быть последней истиной человеческого мира? Или — хотите ли вы жить в таком мире? Где вы узнаете предмет своих желаний: в христианской картине мира или в жестком детерминизме и безличии материализма и пантеизма? Да, это не логика и не математика, это — выбор системы ценностей. Чужое субъективное состояние от моей логики не зависит. Но во всяком случае тем, кто уверяет, что «в наше время чудес не бывает», с помощью кантовского рассуждения вполне уместно напомнить, что «наиболее значительными событиями, происходящими в области невидимого, являются не хлопанье ангельских крыльев, но бесчисленные случаи, когда человек прибегает в своих рассуждениях к таким сверхчувственным реальностям, как причина, цель, и свобода воли»[505].
Человек не конфигурируется с физическим миром. Если он сам есть порождение мира материи, борьбы за существования и естественного отбора — откуда тогда в нем чувство нравственного протеста против смерти, крови и боли? «Откуда, этот разлад между человеческой душой и всем миром, в состав которого ведь входит и она сама? Это есть великий факт человеческого бытия. Столь ничтожный и мелкий факт, как неспособность двуногого животного, именуемого человеком, спокойно устроиться на земле, есть — для взора, обращенного внутрь и вглубь — свидетельство нашей принадлежности к совсем иному бытию»[506].
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?
Вот два главных вопроса этики: «Если существует Бог, то откуда зло? И откуда добро, если Бога нет?»[507].
Здесь нельзя не вспомнить, что Бердяев однажды именно через необозримое могущество зла в мире доказал наличие Бога: раз зло столь всемогуще и всевластно, но все же существуют островки сопротивленя, — значит, у них есть внемировая поддержка, помощь извне. Аналогичное суждение однажды высказал и Мераб Мамардашвили: по его парадоксальной формуле кризис православия есть свидетельство его антропологической правоты. Ведь если правы марксисты и человек определяется общественными отношениями, то идеология, которая в течение тысячи лет поддерживалась государством и действительно разделялась народом — не могла бы рухнуть. А, значит, человек не сводим к воспитуемости и христианство право в своем утверждении бездонной многомерности человека…
Теософы же, отказавшись от признания личности в Боге, отвергли онтологическое значение личности в человеке и в итоге не смогли пояснить, как у человека может быть дистанция по отношению к миру, космическому, социальному и психологическому детерминизму и к себе самому. Тем самым пантеисты создали систему, в которой могут быть красивые слова о свободе и творчестве, но в которой ни та, ни другое не могут быть философски обоснованны[121].
«Философия творчества» необходимо должна быть персоналистической. Это значит, что она не может быть пантеистической.
Глава 10. СВОБОДА ОТ КАРМЫ
Философия, претендующая быть «философией свободы», должна обосновать пять независимостей человека: независимость от физического мира; независимость от Бога, от мира надчеловеческих ценностей; независимость от внутреннего мира человека и, наконец, независимость от прошлого. Если настоящее есть всего лишь производная, взятая от прошлого, то для свободы не остается места.
Для того, чтобы не быть под властью временного детерминизма, во мне должно быть нечто надвременное. Все давление моего прошлого на меня должно быть не абсолютным, не всеопределяющим. Моя свобода предполагает некоторый зазор между моим прошлым и моим настоящим. И этот зазор по-настоящему может быть закрыт только с моего согласия. Из своей ситуации, трансцендентной по отношению к прошлому, я хотя бы до некоторой степени могу решать — каким «причинам» из моего прошлого опыта я разрешу породить следствия в моем настоящем, а каким — нет. В человеке должно быть что-то над-временное.
Поток моей психической жизни (сознательной и бессознательной) протекает во времени. Но христианская антропология постулирует наличие под этим потоком несложной и самотождественной ипостаси человека — той личностной глубины, которая не смывается рекой времени, не растворяется в потоке перемен. Рябь поверхностных перемен не уничтожает субъектной самотождественности; калейдоскоп «перцепций» не повреждает «трансцендентального единства апперцепции».
Но с точки зрения теософии мир полностью погружен в поток становления; время есть чередование причин и следствий. В этом кармическом колесе нет трещин. По утверждению одной современной проповедницы кармического мировоззрения, «что происходит с нами сейчас, не зависит от нас, что же касается нашего будущего, то оно исключительно в наших руках»[508]. Но в том-то и дело, что только сейчас, только в моем настоящем я могу создать свое будущее. Будущее творится не в будущем, а в настоящем. А если все, что окружает меня в настоящем, и все, что наполняет меня, мои мысли и мои желания «не зависят от нас», то тогда не я творю мое будущее, а прошлое создает свою вечность. Я лишь посредник между во-о-он той причиной и во-о-он тем следствием. Не я действую, но через меня действует прошлое…
Так откуда же в человеке, который есть не более чем сочетание прежних событий, может взяться та независимость от былого, которая позволила бы ему самому сотворить свое не-кармическое будущее? Что во мне или в мире может сделать меня столь независимым от моего прошлого, чтобы не оно, а я сам смог создать и избрать свое будущее? Как может творить человек, если «карма творит свое» (Беспредельность, 463)?
Судьба в языческих верованиях — это Фатум, Рок, Карма… Это некая слепо-автоматическая сила, которая своей внешней властью подчиняет ход человеческой жизни. У этой силы нет цели, к которой она вела бы человека. Она просто использует людей для плетения всеобщей паутины причин и следствий; эту силу более интересует соблюдение интересов Космоса, Целого, нежели благо именно этого человека… Если есть судьба, если «карма творит свое» — то мы марионетки. Тогда «напрасно после этого и доискиваться мне, что за странное животное я представляю — я, жребий коего необходимость, который от судьбы наделен желаниями, однакоже возбуждаемыми какой-то чуждой мне силой» (Климент Александрийский. Строматы, II, 3).
Этика человеческой свободы может быть обоснована только антропологически. Чтобы обосновать способность человека самому, а не под тиранией прошлого, из коего исходят все его части, создавать свое будущее, должно признать, что в человеке есть личность. Есть та надвременная и надмирная целостность его сознания, которая обладает способностью к свободному самоопределению. Но раз теософия видит в человеке лишь «комплекс сочетаний» — то она и не может заметить того, что делает меня свободным от кармического прошлого и от универсума.
Человек оказывается чем-то случайным — и именно потому, что все его действия неизбежно-необходимы. По глубокой мысли Канта, случайное бытие — то, что имеет причину. Ибо если условие моего бытия коренится не во мне, но в предшествовавшей мне причине, в независящей от меня причине — то мое бытие не самодостаточно, не необходимо и, значит, случайно. Естественно, что в потоке кармы нет подлинности. Цепь причин, поток причин и следствий, к которому кармическая философия сводит мироздание, есть лишение бытия реальности. Если в мире безраздельно царит карма, если ее власть не умеряется свободно-личностными и независимыми от кармы действиями людей и Бога, то мир действительно есть некая огромная случайность, неподлинность, майя. В нем нет ничего самосущего.
Когда Е. Рерих не занимается морализаторством, она высказывает ясное понимание сути проповедуемой ею системы. «Не легко человеку принять истину о его зависимости. Ведь ту цепь существований не прервать, не выделить себя, не приостановить течение. Как один поток Вселенная!» (Беспредельность, 193). «Предопределение есть следствие заложенной причины»[510]. Закон кармы можно назвать «слепым в силу его неизменности, непоколебимости, когда он действует космически непреложно. Закон кармы становится разумным в действиях человека с пробужденным разумом»[511]. Ученик Е. Рерих А. Клизовский описывает это еще прямее: признав, что «закон Кармы, или закон причин и следствий, есть то, что в обычном понимании значится как судьба или рок», он утешает тем, что карму можно изучить и увидеть в ней «порядок, к которому можно приспособиться»[512]. В самом деле, если человек изучил распорядок лагеря и научился жить строго по режиму — вот он уже и свободен, ибо «осознал необходимость».
Познав закон Кармы и его непреложность, человек должен восславить свои цепи. «Когда дух поймет, как беспрерывно текут проявления жизни, тогда можно указать на беспрерывность всех цепей. Цепь мысли, цепь действия, цепь следствий, цепь стремлений, цепь жизней — одна цепь предопределяет другую!» (Беспредельность, 451). Когда Е. Рерих думает, она приходит к логичному выводу: «Нарушить цепь нельзя, но заменить железные кольца более тонким металлом можно» (Беспредельность, 48). «Даже Величайшие Духи подчинены космическим законам»[513]; «Раз вся Вселенная есть нескончаемая цепь причин и следствий, то как же мы, частички этой вселенной, можем быть изъяты из этого космического закона?»[514].
Но стоит ей заняться пропагандой, — и лозунги забывают о всякой философии: «разорвите цепи и откажитесь от кармы быть порождением» (Беспредельность, 63). В другом же месте она вновь вспоминает о том, что теософия давно уже преодолела христианский невежественный предрассудок о личности и свободе: «Творчество магнита жизни состоит из этих цепей. И дух должен содрогнуться при мысли о нарушении цепи. Если проследить, как несутся в пространстве рекорды порванных цепей, то содрогнется, истинно, дух. Достигнет тот, кто примкнул к единству эволюции» (Беспредельность, 451).
Причины и следствия от века порождают друг друга, и «в сущности говоря, ничего кроме кармы не существует. Все Бытие есть лишь нескончаемая цепь причин и следствий»[515].
И эту цепь нельзя порвать. В одном из селений Индии Блаватская разговаривала с потомком некогда очень могущественного царя, который рассказал следующее: во время одного из своих путешествий царь, как было принято, щедро одарил мудрецов, но при этом забыл принести дары одному из присутствующих и тот, смертельно оскорбленный, проклял царя. В ужасе царь бросился к его ногам и стал молить о прощении. И вот здесь произошло самое, на мой взгляд, интересное. Мудрец ответил, что уже поздно: проклятие начало действовать, и остановить его нельзя — царь потеряет трон, но жизнь ему и потомкам мудрец постарается сохранить[122].
Основатель тибетского ламаизма (всегда с безусловным пиететом упоминаемый Рерихами) Падмасамбхава учил: «Условия нашей жизни целиком зависят от нашей прошлой жизни, и ничего нельзя сделать для того, чтобы что-либо изменить!»[516].
Так что же такое — эта неумолимая карма? Карме можно дать несколько определений. Самое корректное (то есть наиболее точно выражающее смысл собственно индийской философии) звучит так: «Карма — всякое действие, мотивированное желаниями»[517]. Кармой можно назвать любое «обусловленное бытие». То, у чего есть причина для существования, кармично. Наиболее известное проявление закона кармы — влияние одной жизни человека на следующее его перевоплощение — есть лишь одна из сторон действия этого общекосмического закона. В этом контексте есть свой смысл в этимологии, производящей французское слово сhause «вещь» от латинского сausа «причина». Вещь — это причиненное.
Принцип кармы, таким образом, есть универсальный принцип. Но в этом и заключается главный недостаток кармической философии. Принцип, объясняющий все, на деле не объясняет ничего. Сослаться на «карму» все равно что сослаться на «причину», никак не уточняя, в чем же эта причина состояла. Но там, где популярное кармическое мировоззрение видит итог пути познания (торжествующе возглашая: «карма у него такая»), там обычное философское или научное мышление видит только первый шаг на пути поиска. Уже Аристотель отказался от идеи «просто причинности», предложив саму причинность разделить на несколько видов. С тех пор вся эволюция науки и философии есть именно умножение различимых причинно-следственных связей в их конкретном многообразии. И все это многообразие необуддизм пытается вновь закрыть абстрактным словечком: карма.
Это словечко становится мифом, который ничего не объясняет. Философия кармы признает, что карма пролагает свой путь через частные обстоятельства. Она признает, что непосредственно многое в нашей жизни зависит от конкретных ситуаций. Сами эти ситуации кармическая философия считает чем-то производным от кармы, но это значит, что знание кармы является принципиально бесполезным.
Во-первых, потому, что предположение о ней нарушает известный принцип Оккама: «Не следует умножать сущности без необходимости». Если характер ребенка вполне можно объяснить из обстоятельств его воспитания и наследственности (конечно, это объяснение должно быть достаточно корректным, чтобы не растворять в «обстоятельствах» и «причинах» свободу самого ребенка), то зачем же еще к известным и описуемым причинам прибавлять мифическую карму? (Этот принцип, получивший название «лезвие (или бритва) Оккама», как раз и использовался в позднее средневековье для того, чтобы защитить зарождающуюся науку от вторжения в нее оккультизма)[123].
Во-вторых, потому, что кармическая мифология уводит мысль в дурную бесконечность. Я сейчас страдаю от того, что грешил в прошлый раз. А тогда я согрешил, потому что это было предписано мне прежней жизнью, а в той жизни я не мог поступить иначе, потому что должен был исполнить еще более древний кармический долг…
В-третьих, апелляция к карме бесполезна потому, что знание о ней, даже если оно верно, не принесет пользы: оно не может служить основой для деятельности. То, что я есмь сейчас, зависит от течения кармы, от былого, а не от того, что я сам творю в эту минуту. А прошлое в принципе неизменяемо… Поэтому знание о карме — это знание о том, что не может быть изменено. Если я считаю, что обстоятельства зависят не от моей сегодняшней деятельности, а от непознаваемой Кармы и от прошлых эпох, — то ничего изменить в моей нынешней жизни я уже не в силах.
В-четвертых, в оккультной доктрине, видящей «все во всем», конкретные причины и следствия оказываются неразличимы. Все связано со всем, и все, что угодно, может быть причиной чего угодно. Пантеистическая философия «холизма», то есть восприятие мира как абсолютно единого и тотально взаимосвязанного целого, позволяет увидеть причины моих бед вовне, в других людях и в событиях, прямым участником которых я не был. Карма людей заложена еще в прототуманностях, оттуда ползет неизбежная цепь причин и следствий, которые ныне определяют наши судьбы и характеры. Из теософских доктрин можно заключить, что все события на Земле — это следствия чьих-то грехов на Сатурне или Венере, в наказание за которые более высокие духи обречены воплощаться в «низших мирах». Например, «тяжкая Карма Пятой Расы» (то есть современного человечества) была порождена атлантами[518].
Философия кармы несостоятельна по одной принципиальной причине: несостоятельна любая философия, когда она от «вечных вопросов», от рассуждений [124] пытается непосредственно перейти к объяснению бытовых деталей, к мелочам жизни, к подробностям бытия.
Как философия, идея переселения душ красива и даже логична. Но когда с помощью философии пробуют ремонтировать утюг — ломается любая философия (или утюг). Так, например, поломалась в руках Аристотеля великая философема Платона. Платон прекрасно говорил о мире идей, о том, что сущность каждой вещи превосходит ее саму, что сущность человека не вмещается в каждого отдельного человека и потому должна существовать как бы автономно от отдельных личностей — в особом, горнем «мире идей». Аристотель же начал ехидно спрашивать: существует ли только «идея человека» или есть еще идея египтянина? идея европейца? идея эллина? идея афинянина? идея философа? идея Платона? И оказалось, что в платоновском мире идей не может быть никакого вожделенного философам единства. Идей там должно быть никак не меньше, чем самих предметов на земле…
Если христианин, справедливо веруя в Промысл Божий, во Единого Бога Творца и Вседержителя, попробует с помощью этих великих истин готовить завтрак и ремонтировать железные дороги, он окажется в весьма незавидном положении. Христианская традиция вполне мудро оставила за собой право на философствование, уступив изучение деталей мира сонму вполне обычных наук.
Кармическая философия необуддистов все еще носится со своим догматом как с универсальной отмычкой ко всем ситуациям, ко всем мирам, эонам, кухням и коридорам. Яичница подгорела? — Карма такая. E = mc2? — Такая уж карма у этого Е. Начальник одобрительно похлопал по спине за вовремя представленную полугодовую работу? — По гороскопу именно это должно было случиться с Весами на этой неделе в среду с 13 до 16.
Когда наука вторгается в область философии и полагает, что своими приборами она сможет определить и даже взвесить смысл человеческого странствия, — это называется «сциентизмом». Если же философия пробует стать не просто высшим, но единственным мерилом всего — она становится тоталитарной идеологией. Если ученый, поняв принцип действия электричества в лампочке, заверяет, что с помощью «электрических токов» он сможет исчерпывающе объяснить работу человеческого сознания, — он действует по сциентистской модели. Если философ, плененный идеей «космического электричества», полагает, что его Фохат равно светит и в человеческой голове, и в электрической лампочке, — он являет пример антисциентизма, крайнего идеологизма.
Наука говорит, как ходят поезда; расписание движения поездов рассчитано на научной основе. Но из изучения вокзального расписания я никогда не узнаю, куда следует ехать мне самому. Таков предел науки. Если же я выбрал желанную для меня точку на карте и решил туда отправиться, не сверившись с расписанием, — отсюда никак не следует, что нужный мне поезд будет ждать меня на любом вокзале в любое время, едва я только туда приеду. Таков предел философии.
Не все то, что происходит в мире, нуждается для своего объяснения в непосредственной религиозной причине. Бог и воля Бога не являются непосредственной действующей причиной всего того, что происходит в мире. Есть множество ситуаций, которые могут быть интерпретированы вне собственно религиозного контекста. Например, для объяснений того, почему закипает чайник на разогретой плите, не обязательно вспоминать Промысл Божий. Есть ситуации, порождаемые непосредственно самими людьми. Есть ситуации, в которых сказываются физические законы мироздания.
Признает ли кармическая философия действие в мире каких-то иных законов, кроме своей кармы? Есть ли еще какие-то принципы в мироздании, кроме принципа воздаяния добром за добро и злом за зло? То, что вода на уровне моря закипает при 100 градусах Цельсия, — это закон кармы или нечто иное? Можно ли объяснять закипание воды при более низкой температуре в горах Тибета особой кармой этих мест или достаточно сказать, что здесь ниже атмосферное давление?
Если я забыл поменять в своем коридоре перегоревшую лампочку и в очередной вечер на что-то наткнулся и набил себе синяк, то это не значит, что у меня именно «карма такая». Из моей забывчивости никак не следует, что мне на роду было написано обогатиться синяком именно в этот вечер, даже если это была пятница тринадцатого. По законам кармы, однако, следует, что это событие, равно как и любое другое (в том числе вообще вопросы моей жизни и смерти), были определены моими прошлыми поступками в прежних существованиях.
Хорошо, предположим, в прошлой жизни, когда я был мальчишкой, я из хулиганских соображений вывернул лампочки в соседнем подъезде. Предположим, что этот грех запечатлелся на моей судьбе и породил свои последствия: то зло, которое я некогда причинил другим, должно было вернуться ко мне. Но почему же именно в 33 года я набил себе шишку? Почему не в 14 лет? Где и кем хранилась эта моя «карма» так, чтобы проявиться именно в этой ситуации? Если это «отложенная карма», то кто ее «отложил», где и как она хранилась и кто же принял решение о ее реализации именно теперь — Бог? Значит — Он выше кармы? Тогда Он есть Личность — и пантеизм на этом кончается…
Кармическая философия говорит, что дети рождаются разными, потому что по-разному прожили прежние жизни. Но ведь разными рождаются и котята. Одни рождаются в породистых «семьях», другие нежеланны хозяевам их мамы и на второй же день их топят. Какие грехи были у этих котят в прежней жизни, и каковы были заслуги котят, нашедших своего хозяина? Ладно, предположим, что карма и в кошках своих усматривает недостатки. Но вспомним реалии, знакомые нам хотя бы по евангельской притче о сеятеле. Одно семя падает на камень и не всходит; другое падает при дороге и быстро вытаптывается; третье попадает на участок, заросший сорняками, и заглушается ими; четвертое оказывается в пустынном и засушливом месте и не успевает дать плод, потому что гибнет без воды. Наконец, некое зерно упало на добрую почву и дало плод… Откуда эта разница в судьбе разных пшеничных семян? Чем семя, попавшее в тернии, провинилось в своей прошлой жизни? Какой грех прошлым летом совершило семя, брошенное на дорогу?
Меня здесь не очень интересует, что скажут собственно кармисты (их радикально монистическое мировоззрение, скорее всего, понудит их все частные законы объявить частными проявлениями Единого Всемирного закона Кармы). Я лишь хочу сказать, что христиане готовы просто исследовать мир и его законы, пользоваться этими законами, благодаря Творца за то, что в мире есть законы, и за то, что эти законы позволяют человеку жить. Но при этом мы готовы объяснять большинство событий, происходящих в мире, исходя из собственного внутримирового контекста. Мы не считаем Бога непосредственным виновником движения поршня в цилиндре двигателя внутреннего сгорания.
Христианство — не философия кармы и не исламский окказионализм, полагающий Творца непосредственной причиной всех событий, происходящих в мироздании. С точки зрения окказионализма Аллах каждое мгновение творит мир заново; ни одно из событий в мире не связано друг с другом непосредственно: любая причинно-следственная цепочка опосредуется Всевышним. «Аллах — Тот, кто вершит Сотворение, потому Он его повторяет», — приводит кораническое изречение (к сожалению, с неточной ссылкой) Мирча Элиаде[519]. Фаталистами в исламе были мутакалимы (в отличие от мутазилитов). Учение об абсолютном предопределении исповедует суннизм[520]. Аль-Газали в трактате «Воскрешение наук о вере» соотношение мира и Бога рисует таким: «Солнце, луна и звезды, дождь, облака и земля, все животные и неодушевленные предметы подчинены другой силе, подобно перу в руке писца. Нельзя верить, что подписавшийся правитель и есть создатель подписи. Истина в том, что настоящий создатель ее — Всевышний. Как сказано Им, Всемогущим, «и не ты бросил, когда бросил, но Аллах бросил»»[125]. И в этом мировоззрении родились горькие слова Омара Хайяма, слова человека, по ощущению которого Бога вокруг слишком много, так много, что для человека уже не осталось места: «Не спрашивают мяч согласия с броском. По полю носится, гонимый Игроком. Лишь Тот, Кто некогда тебя сюда забросил — Тому все ведомо, Тот знает обо всем».
В христианстве фатализм окрашивает поздние работы бл. Августина и опирающиеся на них каноны 2 Оранжского Собора в 529 г.[521]
Позднее к этим идеям испытывал тягу протестантизм. Лютер, например, писал: «если вселится в человеческую волю Бог, она хочет и шествует, как хочет Бог. Если вселится сатана, она желает и шествует, как хочет сатана, и не от ее решения зависит, к какому обитателю идти или кого из них искать, но сами эти обитатели спорят за обладание и владение ею»[522]. Жесткое предопределение признавал Кальвин[126]. Но православие никогда так не считало. Церковное неприятие идеи предопределения достаточно ясно обосновано Николаем Лосским: «Не следует смешивать всемогущества со всетворчеством»[523].
Но кроме того, что принцип кармы слишком примитивно объясняет многообразие мирового бытия, он еще и этически ущербен.
Зло увековечивается учением о карме, ибо зло, совершенное в этой жизни, обрекает и в будущей жизни быть злым. «От учения о Карме веет кошмаром неискупленного прошлого, простирающего свои нити на бесконечное будущее»[524]. Теософы любят приводить пример с камнем, брошенным в воду. Войдя в воду, камень породил волны. Эти волны кругами расходятся по воде, порождая друг друга. Камень давно покоится на дне, а волны еще бегут. Так и человеческое действие. Оно само осталось уже давно в прошлом, а его последствия сказываются еще годы и века. И нет такой силы, что могла бы остановить круги на воде или кармические последствия в жизни людей…
Карма не простит там, где может понять и простить Христос, сказавший о Своей миссии: «Дух Господень на Мне; ибо Он… послал Меня… проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу» (Лк. 4, 18). Теософы не чувствуют себя «измученными», они не чувствуют себя грешниками, они уверены в том, что смогут сами прожить эту жизнь так, чтобы потом пожить чуток получше, а там — еще немного лучше и еще[127]…
В результате получается то исповедание веры рерихианства, которое предложил Клизовский… Впрочем, прежде чем его привести, напомню высокое мнение об этом авторе и его книге Елены Рерих: «Понимаю, что книга «Основы Нового Миропонимания» кому-то пришлась не по вкусу — не совсем приятно, когда вам наступают на больные мозоли»[525]. Теперь же посмотрим, на каких мозолях топчется г-н Клизовский: «Воздаяние людям за их поступки производит не Существо, хотя бы и очень высокое, хотя бы и сам Бог, Которого можно было бы упросить, но слепой закон, не обладающий ни сердцем, ни чувствами, которого ни упросить, ни умолить нельзя. Человек не может дать ничего закону, чтобы получить от него больше, он не может его любить и не может рассчитывать на ответную любовь со стороны закона. Греческая Фемида говорила древнему греку то, чего не знает современный христианин, что воздаяние за дела производит не премудрый Господь, но слепой и вместе с тем разумный закон. Религиозно настроенный христианин может молиться своему Богу хоть с утра до вечера, может каяться в своих грехах хотя бы каждый день, может разбить себе лоб, кладя земные поклоны, но он не изменит этим своей судьбы ни на йоту, ибо судьба человека складывается его делами, за которые закон Кармы приведет соответствующие результаты, и результаты эти нисколько не будут зависеть ни от молитв, ни от поклонов, ни от покаяния»[526].
Из этого символа оккультной веры с неоспоримой очевидностью следует, что все заявления оккультистов о том, что они христиане, не более чем рекламная ложь. Для того, чтобы выдать изложенное Клизовским учение за христианство, надо крепко забыть и о молитве разбойника, и о покаянии Марии Магдалины, и о покаянии Давида. Евангельская притча о блудном сыне явно ничего не сказала Клизовскому о том, как покаяние может изменить жизнь человека.
А ведь о теософах-кармистах в Евангелии есть целых две притчи: понял бы теософов старший брат в притче о блудном сыне и работники первого часа в притче о работниках одиннадцатого часа. И те и другие возмущаются: не по карме, не по закону, не по справедливости это, Господи, что Ты прощаешь всяких там…
Христос же не был учеником Клизовского, а потому в «невежестве» Своем сравнивал Бога с любящим Отцом, а не со слепым законом. Вопрос, поставленный Клизовским — это не вопрос об обряде, об образе молитвы. Это вопрос о Боге и об отношениях Бога и человека.
И между теософским пониманием Фемиды[128] и евангельским возвещением Бога не может быть ни примирения, ни компромисса.
Библейский Ягве объявляет войну фемидам, рокам, паркам, фатумам, кармам и гадам. Общеизвестное ныне словечко гад первоначально было просто именем божества Судьбы у хананеян[527]. И именно против этого поклонения фатализму, против отречения от свободы воспылал гнев Ягве: «А вас, которые оставили Господа, забыли и святую гору Мою, приготовляете трапезу для Гада и растворяете полную чашу для Мени[129] — вас обрекаю Я мечу, потому что Я звал — и вы не отвечали, говорил — и вы не слушали» (Ис. 65, 11–12). Ягве Сам есть свобода и к этой свободе Он призывает людей. Он не подчинен никаким законам. Нарочитая вне-моральность некоторых Его повелений, столь смущающая современных читателей Ветхого Завета, есть приуготовление к вопиющей несправедливости Нового Завета. Несправедливо простить убийц, воров, насильников, фарисеев. Несправедливо Самому пострадать вместо реальных грешников. Несправедливо оскорбителям и кощунникам предлагать Свою любовь. Но: любовь выше закона. И поэтому, пока люди еще не были вполне готовы услышать эту великую весть, Божественная педагогика в предевангельские времена старается развести человеческое законничество и Божию свободу. Не меряйте Бога своими мерками — вот крик Ветхого Завета. Без книги Иова, без ее недоумения перед лицом того, сколь далеки Божии действия от банальной справедливости, не могло бы быть Евангелия…
И уже на заре Ветхого Завета мы слышим декларацию о принципиальной несправедливости и пристрастности Ягве, говорящего о Себе, что Он есть «Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исх. 20,5–6). Это не голос кармы: Ягве явно не берет на Себя функцию автоматического воздаяния за любые поступки человека. Он любит усиливать последствия добрых поступков, в то время как последствия злых дел Он гасит, неизмеримо умаляя их последствия по сравнению с последствиями добрых деяний. Смысл этой формулы Декалога отнюдь не в угрозе наказаниями и местью, а в возвещении о том, что Бог желает быть Богом любви, а не Богом возмездия. Смысл этой формулы в возвещении о том, что Творец не измеряет обилие Своих наград с незначительностью тех даров, что может принести Ему человек (см., например, евангельскую притчу о работниках одиннадцатого часа или слова Спасителя: «Не мерою дает Бог Духа» — Ин. 3,34).
Но даже эта антикармическая формулировка Десятословия затем отметается как не вполне открывающая полноту Божией любви. Спустя несколько столетий после Моисея пророку Иезекиилю Господь уже говорит: «Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: «отцы ели виноград, а у детей на зубах оскомина»? Живу Я! говорит Господь Бог, — не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот, все души — Мои: как душа отца, так и душа сына… Вы говорите «почему же сын не несет вины отца своего?». Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы Мои соблюдает и исполняет их, и он будет жив. Душа согрешающая, та умрет; сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается» (Иезек. 18,2–4 и 19–20).
У Бога Библии есть власть над временем и над грехом, Он полномочен вторгаться в причинно-следственные цепочки. Он может сделать так, что вчерашний грех может стать как бы не бывшим, не оставившим следов в сегодняшем дне. Он может прервать течение дурных последствий, отравляющее настоящее и будущее следами былых беззаконий.
В противоположность этому «гадское богословие», фаталистическое богословие оккультизма возвещает, что Бог не может и не смеет прощать. «Никто, даже Высочайший Дух не может простить содеянных прегрешений, ибо это противоречило бы закону кармы»[528]. Бог не свободен прощать, потому что Сам подчинен закону Кармы. Однако с точки зрения христианской философии существо, которое подчинено чему-то иному, чем оно само, не может считаться Абсолютом. Если над Богом властны законы — то Бог не свободен помогать человеку и не свободен принимать покаяние человека.
В своем классическом виде философия кармы не может признать ни возможность, ни действенность покаяния. Но в теософии этот запрет логичен. Ведь «нет Божества вне Вселенной»[529] — а, значит, и вне действия универсального закона кармы. Более того, Божество само постепенно развивается внутри мира. Естественно, что, развиваясь по общемировому закону кармы, оно и не может быть от него свободно. «Будем также помнить, что никакие и ничье прощение нам не поможет. Космическая справедливость не знает ни прощения, ни осуждения. Сам человек прощает и осуждает себя»[530].
Так что здесь внутренне необходимая логическая связь: или мы признаем, что Бог может прощать людей, а значит, Он свободен от кармической необходимости, что, в свою очередь, означает, что Бог не включен в мир, и, следовательно, мир сотворен Богом; или же мы считаем, что мир совечен Божеству, и последнее подчинено закону кармы и ничем не может защитить нашу свободу.
Кант из феномена человеческой свободы выводил существование Бога. Из этого же феномена можно вывести суждение о том, что мир сотворен Богом «из ничего». Человек может быть свободен от мира только в том случае, если свободен от мира Бог, ибо если Бог не свободен, но скован миром, то Он не может быть гарантом человеческой независимости от причинно-следственных цепей. Бог же может быть вполне свободен от мира и его закономерностей лишь в том случае, если мир не совечен Богу, если мир вторичен по отношению к Нему. Такая картина мира как раз и соответствует христианскому догмату о творении ex nihilo.
Свобода человека нуждается в свободе Бога. И поэтому Климент, борясь с античным пониманием фатума, настаивает и на свободе Бога: «Господь благ не независимо от своей воли, как огонь, который, и не желая того, обладает согревающей силой. В полноте свободы своей воли Он осыпает своими щедротами того, кто добровольно бросается в Его объятия» (Строматы, VII, 7). Бог свободен. И, значит, он может весь ход мировых событий повернуть так, чтобы у человека была возможность выжить даже при самой страшной и самой настойчивой его ошибке.
Так что перед нами две внутренне прочные связки: или есть свобода человека — и есть Бог, трансцендентный по отношению к нашему космосу. Или — нет Бога и нет свободы. Итак, дано: христиане фанатично, со свойственным им невежеством и средневековым мракобесием отстаивают свободу человека. Рерихи веротерпимо и современно уверяют, что свободы нет и быть не может. Задача для прессы: доказать, что «Живая Этика» более гуманистична и демократична, чем христианство…
Как возвестили сами оккультисты, с появлением теософии темное средневековье кончилось. Никаких «личностей» не обнаружено ни в космосе, ни в мире людей. А потому — «настал час указать, что Величайший Бог — это Бог непреложного Закона, Бог Справедливого воздаяния, но не произвола в Милосердии»[531]. Теософская наука точно установила, что Великие Учителя человечества, в числе которых она особенно ценит Иисуса Христа, считали безнравственной проповедь покаяния. Теософская наука с помощью безупречно выверенной оккультной методики доказала, что даже Евангелие не проповедовало ничего, кроме кармы: «Христос мог бы сказать, как и Будда: Я не учу ничему, кроме кармы»[532]. Аргумент один: «Христос, как и его предшественники Кришна и Будда учили об одной истине. Да другого и быть не могло. Ведь Они был воплощениями Одной и той же Великой Индивидуальности»[533]. «Речение Христа «ни единый волос не упадет без Воли Отца Вашего» есть утверждение великого закона Кармы, но уявленный так для более легкого восприятия народными массами»[534]. Очевидно, когда Христос молится уединенно в Гефсиманском саду: «Отче, воля не Моя, но Твоя да будет» — Он тоже именует карму Отцом лишь «для более легкого восприятия народными массами»?…
Собственно, теологическая новизна христианства и состояла как раз в том, что в Боге Евангелие увидело не только Творца, Господа, Судию, Вседержителя или Владыку, но — Отца. В христианском Откровении люди узнали о Начале всего нечто такое, чего не знала холодная языческая метафизика. Преп. Симеон Новый Богослов однажды сказал о Христе: «мой негордый Бог»[535]. Евангелие возвестило, что Любовь выше Закона. Теософы устроили революцию (букв. переворот): Божество никого не любит. Мир управляется законом и законниками.
Рерихи не вместили этой новизны христианства — и поэтому обвинили его в отсталости. Не теософия, а Евангелие обладает подлинной новизной. Кармические идеи были известны до Христа и повергали в ужас еще античный мир. Вспомним Софокла: «Ты спрашиваешь меня, к какому богу я сойду? К богу, никогда не знавшему ни снисхождения, ни милости, но постоянно облеченному в строгую справедливость» (цит.: Строматы, II, 20). Совсем иного Бога знали в «невежественно-средневековых» христианских монастырях: «Спрошен был старец одним воином: принимает ли Бог раскаяние. И старец говорит ему: скажи мне, возлюбленный, если у тебя разорвется плащ, то выбросишь ли его вон? Воин говорит ему: нет, но я зашью его и опять буду употреблять его. Старец говорит ему: если ты так щадишь свою одежду, то тем паче Бог не пощадит ли Свое творение?»[536].
Теософское утверждение автоматичности кармического закона не может признать за Богом свободы прощать. Теософам бесполезно напоминать, скажем, евангельскую сцену о женщине, обвиненной в прелюбодеянии. Они убеждены, будто «воздаяние за свои дела человек получает не от Господа, но мудрый космический закон отмечает каждый человеческий поступок»[537]. Христос не имел тем самым права простить блудницу.
Когда христианство говорит о Божием Суде, оно мыслит его не как безглазую Фемиду; оно утверждает самодержавие Бога над миром в надежде, что у монарха есть исключительная привилегия миловать там, где закон велит карать. Напоминанием именно об этой привилегии монарха В. Н. Лосский закончил статью о том, что значит Господство Бога: «Высочайшее право Царя есть милосердие»[538].
В Евангелии есть притча о теософах (Мф. 20). В разное время Хозяин призвал работников в Свой виноградник. Одни работали с утра, другие с вечера. Приглашая всех на труд, Хозяин всем обещал одинаковую плату. В итоге те, кто пришел к концу рабочего дня, получили столько же, сколько работавшие с утра. «Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию; и, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? возьми свое и пойди; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе; разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив оттого, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Возроптавшие — это точь-в-точь теософы. По мысли оккультистов, Христос как раз не властен делать, что хочет. Он не может прощать. Он не может дать немощным ту же награду, что и подвижникам. У оккультистов есть право считать, что Бог не властен дарить прощение. Но у них, вырывающих из Евангелия такие страницы, такие притчи, такие слова Христа, нет права при этом выдавать себя за христиан.
Через всю христианскую литературу проходит уверенность в том, что Бог выше справедливости. Евангелие началось с возвещения о том, что Любовь выше справедливости и закона. Преп. Исаак Сирин пишет: «Не называй Бога правосудным. Хотя Давид называет Его правосудным и справедливым, но Сын открыл нам, что Он скорее благ и благостен… Почему человек называет Бога правосудным, когда в главе о блудном сыне читает, что при одном сокрушении, которое явил сын, отец прибежал и упал на шею его и дал ему власть над всем богатством своим? Где же правосудие Божие? В том, что мы грешники, а Христос за нас умер? Где воздаяние за дела наши?» (Слово 60). А в «Древнем Патерике» описывается, как именно диавол просит Бога, чтобы Тот справедливо судил людей, по делам их — в обоснованной надежде, что в этом случае Бог должен будет отречься от всего человечества[539]… Теософы полагают, что эта просьба Сатаны была удовлетворена. Если Евангелие говорит, что Отец передал суд Христу, то теософия уверяет, что Бог (которого нет) передал суд над миром полностью на усмотрение… Сатане. «Сатана есть Судья Справедливости Бога (Кармы); он держит весы и меч», — приводит Е. Блаватская цитату из «превосходного», по ее словам, трактата «Тайна Сатаны»[540].
Выбора не избежать: либо есть Личный Бог и человек призван к познанию его воли, либо и познавать-то нечего, потому что человек нигде не встретит Собеседника, нигде не встретит тепла любви и свободы, но будет натыкаться лишь на безжалостные законы. И здесь уж поистине — «удовольствия мало, если монах и за гробом не находит никого, а только идеи. Может быть, лучше уж было бы не столь идеально жить и умирать, но было бы устроено так, чтобы там, за гробом, оказался кто-нибудь, живая личность, а не общая идея»[541].
И тогда, при отвержении Личного и Живого Бога, каяться действительно бесполезно: ведь Бога нет. Его вообще нет, а тем более такого, который мог бы прощать. «Живая этика» налагает запрет на покаяние и исповедь. Именно когда речь заходит об исповеди, Рерих говорит: «В чем заключается самый тяжкий грех церкви? Именно в том, что церковь, на протяжении веков, внедряла в сознание своей паствы чувство безответственности»[542]. «Да, именно в этом внедрении в сознание с детских лет, что у человека есть мощная заступница-церковь, которая за пролитую слезу и некоторую мзду проведет его к вратам рая, и заключается тяжкое преступление церкви. Церковь дискредитировала великое понятие Божественной Справедливости»[543]. Итак, вина Церкви — в замене закона «собаке собачья смерть» на проповедь милости и любви. Вина Церкви в том, что она проповедовала свободу и покаяние, призывала к раскаянию и исповеди и говорила, что не все предрешено, что человек хозяин своего сердца, а не «космические законы кармы и справедливости». Вместо «Кармы-Немезиды, рабыней которой является Природа»[544], Евангелие возвестило прощение. Вместо оккультной веры в то, что «Светила предопределяют весь путь» (Беспредельность, 304), Церковь возвестила свободный диалог воли Бога и воли человека.
Но христианство не просто призвало к покаянию. Оно предложило такую антропологическую модель, которая объясняет возможность покаянного акта.
Для теософии человек есть лишь комбинация некоторых закономерно сложившихся характеристик, и каждая из тех компонент, что составляют наличную психическую жизнь человека, будет действовать сама по себе, пока не приведет к следующему результату, к следующей реинкарнационной мозаике. Но там, где теософия видит комплекс «причина-следствие», там христианство видит человека. Можно изучать волны, произведенные «камнем», а можно заметить, что камень и волны — просто не одно и то же. Человек не сводится к сумме тех воздействий на мир, которые он произвел. Человек вообще не сводится к своим функциям.
Вся христианская этика строится на принципе различения человека и его поступков. Однажды к авве Дорофею пришел послушник и спросил: отче, как могу я исполнить заповедь «не суди»? Если я вижу, что брат мой солгал — должен ли я считать, что все равно он поступил право? В ответ он услышал от старца: если ты скажешь, что «мой брат солгал» — ты скажешь правду. Но если ты скажешь «мой брат лжец» — ты осудил его. Ибо это осуждение самого расположения души его, произнесение приговора о всей его жизни. И добавил: а грех осуждения по сравнению с любым иным грехом — бревно и сучок по притче Христовой[545]…
Немыслимо жить и не оценивать поступки людей. Значит, вопрос не в оценке, вопрос в суде. Проще понять, как я должен относиться к другим людям, если представить себя перед судом Господа. Мои грехи там будут очевидны и для меня, и для Судии. Чем я смогу оправдаться? Только если смогу показать: «да, Господи, это было. Но это — не весь я. И дело даже не в том, что было и что-то светлое в моих делах. Дело в том, что я прошу Тебя: то, что было «моим» — отбрось в небытие. Но, отделив мои дела от меня, сохрани меня, мою душу. Да не буду я в Твоих глазах нерасторжим с моими грехами!». Но если я рассчитываю на такой суд по отношению ко мне — я должен так же поступать с другими людьми. Святоотеческая заповедь дает образ подобного разделения: «люби грешника и ненавидь грех».
Итак, важно за «делами» заметить самого человека. Если признать, что в человеке существует личность, — это не так уж сложно. Но если по-теософски утверждать, что личности в человеке нет, а есть лишь сцепление кармических обстоятельств, то за вычетом этих «обстоятельств» от человека не остается уже ничего.
Христианская «антропология покаяния» говорит, что если я откажусь отождествлять себя с тем дурным, что было в моей жизни, — Бог готов меня принять таким, каким я стану в результате покаянного преображения, и готов не поминать того, что было в моей жизни прежде. Прежде всего покаяние и есть такое растождествление, волевое и сердечное отталкивание от того, что раньше влекло к себе. Мое прошлое больше не определяет автоматически мое будущее. Прощение — это не перемена отношения Бога к нам. Это — освобождение от греха, дистанциирование от греховного прошлого.
Много раз уже говорилось, что «покаяние» (греческое метанойя) означает «перемену ума». «Было просто стыдно грешить, — описывает покаянное пробуждение христианская писательница. — Грех окончательно перестал быть чем-то привлекательным. Он казался теперь глупым, суетным, мелким»[546]. Это именно событие во внутренней жизни человека. Не ритуал и не скороговоркой пробормотанное: «Господи, прости». Это — крик, поднимающийся из сердца: «я больше не хочу так жить, я больше не хочу Тебя терять!». Покаяние — не просто «критическая самооценка»; это движение души к потерянному было Богу.
И это движение столь значимо в себе самом, что способно мгновенно создать нового человека. «Брат спрашивал авву Пимена: я сделал великий грех и хочу каяться три года. — Много, — говорит ему Пимен. — Или хотя один год, — говорил брат. — И то много, — сказал опять старец. Бывшие у старца спросили: не довольно ли 40 дней? — И это много, — сказал старец. Если человек покается от всего сердца и более уже не будет грешить, то и в три дня примет его Бог»[547].
Именно потому, что покаяние — это путь, движение, по-двиг, в святоотеческой мысли своим антонимом оно имеет… «отчаяние». «Покаяние есть отвержение отчаяния», — определяет преп. Иоанн Лествичник[548]. Отчаяние говорит: ты не сможешь быть другим. У тебя нет будущего. Откажись от труда. Теперь тебе терять уже нечего — так поживи «как люди». Отчаяние учит видеть в Боге голую Справедливость. Если ты нарушил закон — от воздаяния не уйти. Мысль о Боге тогда становится предметом ужаса… Не страх Божий поселяется в человеке, а страх вспоминать о Боге. Поэтому и советует преп. Иоанн Лествичник: «Если мы пали, то прежде всего ополчимся против беса печали»[549]. Иногда логика этой борьбы может подсказывать неожиданные средства для духовной самозащиты от искушения отчаянием.
«Пролог» (21 мая) рассказывает о том, как необычно некий инок избавился от впадения в отчаяние: некий брат пошел набрать воды в реке и встретил женщину, стирающую одежду, и случилось ему пасть с нею. Сделав же грех и набрав воды, пошел в келию. Бесы же, приступая и воздвигая помыслы, опечаливали его, говоря: «Куда ты идешь? Нет тебе спасения! Зачем мира лишаешь себя?». Познав же брат, что они хотят совершенно его погубить, сказал помыслам: «Откуда вы пришли ко мне и опечаливаете меня, чтобы я отчаялся? Не согрешил я, — и снова сказал: — Не согрешил». Войдя же в келию свою, безмолвствовал, как и прежде. Бог же открыл одному старцу, соседу его, что такой-то брат, пав, победил. Этот старец пришел к нему и говорит: «Как ты пребываешь?». Он же говорит: «Хорошо, отче». И снова говорит ему старец: «Не было ли у тебя скорби о чем-либо в эти дни?». Говорит ему: «Ни о чем». И сказал ему старец: «Открыл мне Бог, что ты, пав, победил». Тогда брат рассказал ему все случившееся с ним. И старец сказал ему: «Воистину, брат, рассуждение твое сокрушило силу вражию».
То, о чем догадался инок в своей простоте, о том же написал М. Бахтин в своей учености: «Только сознание того, что в самом существенном меня еще нет, является организующим началом моей жизни из себя. Я не принимаю моей наличности, я безумно и несказанно верю в свое несовпадение с этой своей внутренней наличностью. Я не могу себя сосчитать всего, сказав: вот весь я, и больше меня нигде и ни в чем нет, я уже есмь сполна. Я живу в глубине себя вечной верой и надеждой на постоянную возможность внутреннего чуда нового рождения. Я не могу ценностно уложить всю свою жизнь во времени и в нем оправдать и завершить ее сполна. Временно завершенная жизнь безнадежна с точки зрения движущего ее смысла. Изнутри самой себя она безнадежна, только извне может сойти на нее милующее оправдание помимо недостигнутого смысла. Пока жизнь не оборвалась во времени, она живет изнутри себя надеждой и верой в свое несовпадение с собой, в свое смысловое предстояние себе, и в этом жизнь безумна с точки зрения своей наличности, ибо эти вера и надежда носят молитвенный характер (изнутри самой жизни только молитвенно-просительные и покаянные тона)»[550].
Стремление «не совпасть с этой своей внутренней наличностью» есть уже событие внутренней жизни. Само желание изменения уже меняет человека. Да, христиане верят в «переселение душ», в перемену душ. Только мы исповедуем, что эта перемена душ должна произойти в рамках одной земной жизни. Мы бываем разными, мы должны быть разными, иными, чем сейчас. Но — «только змеи сбрасывают кожу. Мы меняем души, не тела». Это самая христианская строчка Н. Гумилева. Покаяние есть новое рождение, оно дает новую, иную жизнь. И сложность покаяния в том, что в нем надо уметь совместить два как будто противоположных ощущения: «это мой грех», но «это не я».
Итак, если «христианство создает поистине виртуозную культуру» покаяния[551], то теософия не в состоянии дать философско-антропологическое обоснование человеческому творчеству.
В ответ на христианскую критику кармизма гранды теософии могут только отругиваться. Как это сделала, например, Е. Рерих в ответ Бердяеву: «Книжечка Бердяева у меня имеется, но чтение ее пока что отложила до более свободного времени. Приведенные Вами выдержки из нее поражают своей невежественностью и, я сказала бы, даже нарочитою клеветою. Видимо г-н Бердяев не дал себе труда прочесть «Тайн[ую] Доктр[ину]» и говорит о ней понаслышке, да еще сугубо враждебной. Если же он будет настаивать, что он ознакомился с этим трудом, то тем хуже, ибо, значит, он ничего не понял. Говоря, что для Блав[атской] «не существует ответственности и что она не понимает проблемы свободы», он именно показал, что сам он ничего не смыслит в Восточной философии и такие понятия, как Карма и Дхарма, для него пустой звук. Не в представлении Блаватской человек является марионеткой, но именно сам г-н Бердяев и подобные ему лишь марионетки своих непродуманных суждений и умственных ограничений. Вы правы, дорогой Федор Антонович, поражаясь таким суждениям! И народная мудрость давно уже отметила особенности таких образованных людей — «ум за разум зашел»[552]. Ругань есть. А аргументов — нет, однако… Потому что и в самом деле в пантеизме человек является маской марионетки.
Личности теософия в человеке не видит, а «комбинация сочетаний» не может стать чем-то иным, нежели она есть. И никто не в силах помочь этой «комбинации сочетаний» стать иной, чем она сложилась: ибо карма не слышит и не желает, а Бога, свободного от мировой и собственной кармы, просто нет. И чувство покаяния, возникающее иногда в «комбинации сочетаний», не может изменить тех следствий, что были порождены прежде происшедшими грехами. «Около понятия прощения много непонимания, — пишет Е. Рерих. — Простивший полагает, что он совершил нечто особенное, между тем, он лишь сохранил свою карму от осложнений. Прощенный думает, что все кончилось, но ведь карма остается за ним. Сам закон кармы остается поверх обоих участников»[553]. Неважно — просишь ты прощения у человека и Бога, или нет. «Карма остается за тобой».
Тут вновь приходится напомнить: мало декларировать свою убежденность в свободе человека и в достоинстве человеческой личности. Надо еще и привести все остальное свое философское хозяйство в соответствие с этими декларированными принципами. Иначе тот мир, в который приглашает зайти философ, станет подобен мартовскому льду: вроде бы бы поверхность держит человека, но через некоторое количество шагов путник рискует провалиться в ледяную бездну. Пантеизм научился привлекательно украшать свои фасады. Но внутренние помещения этого философского здания уготованы совсем не для человеческого обитания. Как справедливо подметил Н. Боголюбов, «Пантеист стремится стать выше христианства, он обнимает будто бы своим учением то, что есть истинного в религиозном сознании христианства, но не останавливается на этом сознании, не удовлетворяется им, а стремится к большему совершенству, уничтожая присущие будто бы такому сознанию грубость и невежество. С восторгом, полным вдохновения, рисует он в противовес образу истиннного христианина образ мудреца, свободно подчиняющего себе низменные страсти и самовольно предающегося року и судьбе. Словом, пантеист не игнорирует христианства, не отрицает грубо бытия Божия, не отрицает и религиозной жизни, напротив, повидимому, придает ей высокое значение. Прочтите вдохновенные речи Бруно; возьмите рассуждения об аффектах, рабстве и истинной свободе такого сухого мыслителя как Спиноза, обратитесь, наконец, к пламенным воззваниям Фихте к народу, — и вы увидите, какая восторженная религиозность царит в этих сердцах, какой внутренний пыл, какое горячее стремление почитать Бога волнует их! Но было бы поспешно увлекаться этими мимолетными движениями сердца; еще несколько страниц или даже строчек, — и вы почувствуете, как эта восторженность разрешается холодным поцелуем, лобзанием Иуды; рядом с этими быстро несущимися струями жизни — безличный Бог, мертвая, неподвижная «субстанция», рядом с пламенной молитвой и сердечным умилением «естественный, неумолимый закон»[554].
Во внутренних покоя здания пантеизма человека не ждут. Единственное, что может произойти с тем, кто неосторожно заглянет в те края — это аннигиляция, растворение, распад.
Глава 11. ЭТИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ ПАНТЕИЗМА
Итак, «чистый разум» задает вопросы, на которые пантеизм не в силах дать удовлетворительный ответ. Но гипнотические чары «всеединства» поспешает прорвать и этический, «практический разум». Он отказывается обожествлять преступления и людоедство. Отождествление Бога и мира, духа и природы способно привести человека к полной нравственной дезориентации[130]; ведь природа не знает различения добра и зла. Все, что есть в жизни — есть; оно просто существует и не обременяет себя поиском смысла своего существования. И если человек ищет смысл жизни, значит, он ищет что-то по ту сторону жизни. Но «по ту сторону жизни» не значит — «в смерти»; нет, он ищет то, что выше его жизни и что своей высотой может освятить и оправдать его конкретное существование. Человек живет ради чего-то.
И если человек ищет это что-то — значит, «надмирное» уже есть, потому что поиск смысла или даже ощущение нехватки смысла есть уже нечто такое, что не укладывается в обычное течение событий. «И нам, по крайней мере, смутно мерещится, что этот, с точки зрения предметного эмпирического мира, столь ничтожный и мелкий факт, как неспособность двуногого животного, именуемого человеком, спокойно устроиться и жить на земле, и его муки от непонятной внутренней неудовлетворенности, есть — для взора, обращенного внутрь и вглубь, — свидетельство нашей принадлежности к совсем иному, более глубокому, полному разумному бытию. Пусть мы бессильные пленники этого мира, и наш бунт — бессмысленная по своему бессилию затея, но все же мы — только его пленники, а не граждане, у нас есть смутное воспоминание об иной, подлинной нашей родине, мы не завидуем тем, кто мог совсем о ней забыть»[555].
То, ради чего я как разумное существо должен жить, должно быть разумно и осмысленно, должно иметь в себе все основания своего осмысленного бытия и при этом как-то соотноситься со мной. Ибо если с точки зрения высшего смысла я сам не могу быть различим, если человек слишком ничтожен sub specie aeternitatis[131] — значит, такая философская система предлагает не-человеческий смысл жизни.
То, что я сейчас изложил — это конспект рассуждений Владимира Соловьева («Оправдание добра»), Евгения Трубецкого («Смысл жизни»), Семена Франка («Смысл жизни»). Главная их мысль: наличие в человеке нравственного измерения его жизни показывает, что мир не прост, что в бытии есть разделение на Высший (духовный, идеальный) и низший порядок бытия. Высшее начало действует, притягивает к себе низшее, но они не тождественны. Человек не равен миру (потому что стремится прочь от него в порыве к Богу), и Бог не равен миру (потому что человек, живя в мире, тяготится им), и человек не равен Богу, потому что стремится к Нему, а, значит, ощущает свою отдаленность от Него.
Другой русский мыслитель, Михаил Бахтин, так писал об открытии той же сложности, многоуровневости Бытия[132]: «Противопоставление вечной истины и нашей дурной временности имеет не теоретический смысл; это положение включает в себя некий ценностный привкус и получает эмоционально-волевой характер: вот вечная истина (и это хорошо), — и вот наша преходящая дурная временная жизнь (и это плохо). Но здесь мы имеем случай участного мышления, стремящегося преодолеть свою данность ради заданности, выдержанного в покаянном тоне… Такова концепция Платона». С. Аверинцев так комментирует эту мысль Бахтина: «Бахтин хочет сказать — с полным основанием — что учение Платона, противопоставляющее незыблемость «истинно-сущего» и зыбкость мнимо-сущего, меона, имеет целью вовсе не простую констатацию различия онтологических уровней, но ориентацию человека по отношению к этим уровням: от человека ожидается активный выбор, то есть, по-бахтински, «поступок» — он должен бежать от мнимости и устремляться к истине»[556].
Согласно Е. Рерих, «проявленная Вселенная в зримости и незримости своей являет нам лишь бесчисленные аспекты сияющей материи, от самого высокого до самого низкого»[557]. По мысли же русских христианских мыслителей, кроме «бесчисленных аспектов материи» есть еще человеческая мысль и жажда смысла, которые и приводят человека к Богу, бесконечно возвышающемуся над миром материи и детерминизма (пусть даже «кармического»).
Надо признать, что эту дву-уровневость бытия знает любая серьезная метафизика, в том числе и восточная. Но ведическая мысль предпочитает просто отрицать реальность низшего мира, давая ему лишь статус иллюзии — «майи».
Христианская мысль не склонна растворять полноту мироздания в философских концептах. Она признает, что Бог, поддерживая существование мира, тем не менее не растворяет мир в Себе, и, значит, история мира не есть история Абсолюта. Бог позволяет человеку и миру существовать в качестве самостоятельных источников своих действий: мы сами можем определить, в каком именно деле и как мы приложим те энергии, что свойственны нашей природе.
Но за Собой Бог как бы оставляет возможность не отождествлять с Собой те или иные неверные наши выборы. Так для религиозного сознания открывается возможность для осуждения греха. Если в мире существуют такие события, которые произошли по воле человека, но не Бога — значит, они могут быть религиозно отрицаемы. Мир не есть Бог — и, значит, грех может быть назван грехом, а не «инобытием Абсолюта».
Признание Бога творцом предполагает, что есть сущностная разница между Ним и миром. Если человек творит что-то — созданное им не тождественно ему самому. Книга, написанная им, не есть он сам. Если бы Бог рождал мир — мир был бы Богом. Если бы Бог изливался в мир — мир был бы Богом. Но коль скоро Бог творит мир — мир радикально отличен от Творца, и, значит, мировая грязь не чернит Его Лик. «Наша вина, то есть не-хотение или недостаточное хотение, и есть та самая немощь, в которой многие правильно видят самую суть греха… Не стремись свалить вину свою на Бога, не лукавь! Сознайся, что в неполноте Богоявления виноват ты сам и виноват тем, что недостаточно стремился к Богу, а был косен и ленив», — так пишет Л. П. Карсавин[558], не соглашаясь считать, будто зло рождается оттого, что единое божество, живущее в человеке, недостаточно осознает себя единым божеством.
Не так в системе пантеизма. В конце концов — если бы мир просто был, просто существовал, то пантеизм был бы философски логичен: все, что есть, бытийствует в меру своего причастия Истинному Бытию. Но мир не просто есть — он становится: в мире есть история, есть действие, есть движение. И есть ошибки. И вот главный вопрос: кто является субъектом этого движения, какова его причина?
В Боге движения нет — это Абсолют. А в мире есть. Отчего? «Бог не может быть только Богом геометрии и физики, Ему необходимо быть также Богом истории. Но в системе Спинозы для Бога истории так же мало места, как в системе элеатов», — писал Вл. Соловьев[559]. В системе же, в которой нет места для движения и для действия, в конце концов не может найтись и объяснения тайне происхождения зла.
Тютчевские строки — «откуда, как разлад возник, и от чего же в общем хоре душа не то поет, что море, и ропщет мыслящий тростник,» — это самый серьезный вопрос, на который бессильна ответить теософия.
Философия должна суметь объяснить не только происхождение добра и света, но и происхождение зла. Пантеизм же, по замечанию Б. Чичерина, «объясняет добро, но не объясняет зла»[560].
Даже если некая спиритуалистическая философия признает за человеком право действовать независимо от Божества и от мира, но не сможет провести грань между человеческой природой и личностью — она не может объяснить происхождение греха. Ведь «если сознание нравственного закона составляет самую сущность человека как разумного существа, то как может человек от него отклоняться? Откуда является возможность для какого бы то ни было существа действовать наперекор своей природе? Наконец, каким образом может непреложный, установленный самим Богом закон быть извращен волею подчиненных тварей?»[561]. Пантеизм оказывается фатально неспособен ответить на тот вопрос, что Владимир Соловьев задал Блаватской: «Откуда берется здесь само это человеческое сознание с его способностью разлагать божественный свет, дробить абсолютное единство?»[562]. Чтобы сопротивляться Единому, сознание человека или духа должно уже быть иным, чем Единое. Но как же оно может быть иным, если оно еще не сопротивлялось? Приходится считать, что иного как раз и нет; есть лишь Единое.
Исповедание тотальной целостности мира, запрет на различение Бога и мира неизбежно сакрализуют наличную мировую данность и то зло, что присутствует и действует в ней. Все, что есть в мире — все свято. Все — Бог. При пантеизме «не остается решительно ничего, что бы не было частью Бога. А если это так, кому не видно, какие нечестивые и кощунственные следствия вытекают отсюда? Всякий, например, попирая что-либо ногами, попирает часть Бога, при каждом убийстве животного убивает часть Бога. Не хочу говорить всего, что может приходить на мысль, но не может быть высказано по стыдливости… Кто, кроме совершенно безумного, может допустить, что части Бога бывают похотливыми, несправедливыми, нечестивыми и заслуживающими всякого осуждения?» (Августин. О Граде Божием 4,12–13).
Но если все — благо, то для зла не остается места. Различение добра и зла оказывается иллюзией неопытных сознаний. «Это только естественно. Нельзя утверждать, что Бог есть синтез всей Вселенной, как Вездесущий, Всезнающий и Бесконечный, а затем отделить Его от Зла»[563]. Пантеистическое божество в принципе неотделимо от Зла. По самой сути своей, как пишет А. Лосев, «пантеизм есть безразличное обожествление всего существующего с начала до конца, и все несовершенства бытия для него вполне естественны, равно как и вполне необходимы»[564].
Попытка говорить о Боге, трансцендентном по отношению к миру космических стихий, вызывает у оккультистов возмущение: «Обособление Бога от Проявленной Природы и порождает все ошибки, все страшные противоречия»[565]. Но растворение Бога в мире порождает проблемы как минимум не менее сложные, чем теистическое мировоззрение. Ведь если все есть Бог, то различение добра и зла должно быть преодолено при мысли об Абсолюте. Если вам кажется, что что-то нехорошо, недолжно и небожественно — это всего лишь ваша иллюзия. Вам лишь кажется, что есть грехи и зло. Расширенное же сознание постигает, что «Абсолют вмещает все вселенские проявления»[566]. Все — значит и зло.
Е. Рерих говорит о «величественном пантеизме, выше которого не может подняться человеческая мысль»[567]. Неправда — может. И слишком занижающим, слишком «антропоморфическим» оказывается не христианское, но теософское представление о «Едином».
Трансцендентность Бога, Его непознаваемость не означают, что все человеческие категории можно без разбора ссыпать в коробку с надписью «Всеединое». Напротив — апофатическое мышление требует предельно ограничить круг тех понятий, которые мы прилагаем к Первобытию. Теософы говорят, что для всего есть место в Абсолюте. Христианское мышление о Божестве говорит: никакие человеческие категории не надо помещать внутрь Божественной Тайны. Путь теософского «всеединства» требует сказать, что в Боге есть добро и зло, бытие и небытие, мужское и женское начало, свет и тьма. Христианская мысль диалектически требует признать, что в Боге нет ни того, ни другого. Бог выше различения бытия и небытия. В некотором смысле можно сказать, что само ничто тварно: небытием Бог отделяет Себя от тварного бытия[133]. Но это совсем не значит, что небытие есть в Самом Боге. Конечно, Бог выше человеческого различения добра и зла. Бог не есть добро. Но это не значит, что Он Сам зол или что зло соучаствует в Его бытии (а уже тем более что зло помогает Божеству в Его Собственном становлении). Личность Бога, свободно действующая через свои энергии, проявляемые вне Бога, действует лишь благим образом, и действует так, что открывает людям заповеди добра и любви и утверждает их в следовании этому призыву.
Но если добро и зло равнозначны в Единой Энергии, то остается только раскрыть свою душу для того, чтобы беспрепятственно проносились через нее любые «вдохновения жизни». Надо лишь вверить себя воле «космических бурь», в которых все равно ведь некому дышать, кроме Единого Духа. Поэтому еще Ф. Шлегель замечал, что «пантеизм неизбежно снимает различие добра и зла, как бы он ни противился тому на словах»[568]. Вслед за Шлегелем и Шеллинг (естественно, «поздний», уже переболевший пантеизмом) высказывал горячее пожелание, чтобы в Германии прекратилось «нечеловеческое пантеистическое безумие»[569].
Интересно, что даже у Будды есть аргумент, который может быть обращен против пантеизма: «Если Я не погибает, тогда жизнь и смерть равны, тогда все существующее равно, ибо у всех в основе — это единое, неизменное Я. И тогда дела бесполезны, бессмысленны, ибо оно (всеобъемлющее единство) не совершенствуется делами; оно самосовершенно. В таком случае — к чему самоотрешающееся поведение?»[570]. Все верно: если подлинным содержанием жизни человека является Божество, то никакого человеческого восхождения просто не может быть: «Нелепо говорить о «развитии» Монады. Монада не может ни продвигаться или развиваться ни даже подвергаться воздействию смен состояний, через которые она проходит. Ибо она не принадлежит этому миру или плану и может быть сравнена лишь с неразрушимой звездой божественного света и огня, низвергнутого на нашу Землю как доска спасения для личностей, в которых она обитает» (Блаватская)[571].
Если встать на позицию пантеизма, то в мире, собственно, ничего не происходит. Абсолют ничего не отпускает от себя, все несет в себе и, значит, все феномены равны ему и все части бытия равно совершенны. Нет такой деятельности, которая бы могла оторвать человека от этого Совершенства, равно как и нет такой, которая могла бы его приблизить к Тому, Что и так мыслится везде и равно присутствующим[134]. Человеку может казаться, что он есть, что он действует, что какие-то его действия меняют его положение в мире, но от этой иллюзии лучше избавиться через очищение сознания. И вот такой пантеизм Будде не нравится, потому что не дает оправдания человеческой деятельности и выбору.
Состояние пантеистического имморализма было знакомо и некоторым западно-христианским средневековым мистикам. После того, как они приходили к выводу о своей единосущности Божеству, им также казалось излишним жить в мире библейских заповедей. Лев Карсавин так описывает логику самообожения, разворачивающуюся после того, как человек уверяется в своей равнобожественности: «А если так, то нет никаких законов человеческой деятельности, внешней или внутренней воли, кроме воли человекобога, и нет морали, потому что всякий акт человека — акт Божества. Слившись с Богом в мировом процессе, мистик приобретает свободу, но ценой противоречия со своей же религиозностью. Он поневоле утрачивает возможность морального различения, отказываясь от категорий зла и добра, понятия греха и теодицеи. Все содержание религиозности вдруг исчезает, рассеивается как туман и остается одно всеобъемлющее Божество, пребывающее целиком в мистике, и мистик, целиком пребывающий в Божестве и мире… Но Божество-мир, Божество-человек уже не может различать между добром и злом: все, что творит Бог, божественно. Пантеистическая система разбивает божескую и человеческую мораль»[572].
Единственное, что могло умерять «всеприемлющее» сознание пантеистов в пределах добра — это непоследовательность в философских рассуждениях. Только если они соглашались применять пантеистические теории исключительно к окружающему миру, а не к самому человеку (как это было, например, у амальрикан[135]), в их проповеди и деятельности можно было найти «утверждение моральной деятельности и элементы религии Христа»[573].
Пантеизм ХIХ века в этом отношении также не был оригинален. Так, например, по выводу исследователя американской философии, пантеистическая система Эмерсона «открывает возможность (в дальнейшем неоднократно использованную) поставить духовный мир личности «по ту сторону» добра и зла»[574]. И точно также там, где появлялись ясные нравственные координаты, было налицо отступление от фундаментальных принципов пантеизма: «Творчество Кольриджа и Вордсворта отличалось значительно более четкими нравственными установками, но это было связано со значительно большей близостью их к христианскому мировоззрению, а не вытекало из основных принципов философской теории романтизма»[575].
Аналогичные последствия наступали и в Индии: «Любая из основных мировоззренческих моделей, разрабатываемых брахманистскими философами, будь то плюралистическая (вайшешика), дуалистическая (санкхья) или наиболее влиятельная монистическая (веданта), исключает то неопределимое, неразложимое и нередуцируемое единство личности, которое не может складываться из субстанциальных «атомов», соединяться из несоединимых по определению дуалистических первоначал, или быть «частицей» безличностного же Абсолюта. Элиминация в индийской философии самой личности, в которой сходятся уникальность и свобода, неизбежно ограничивает всю сферу нравственного, что, в свою очередь, с необходимостью ведет к этическому релятивизму (ср. образ ведантистского «совершенного», который по образу и подобию Брахмана устремлен к состоянию по ту сторону добра и зла). Поскольку современный философ, живущий в эпоху глобальных мировых деперсонализаций, значительно лучше, чем его предшественник эпохи «больших» философских построений (кульминирующих в абсолютном приоритете всеобщего перед уникальным в метафизических системах от Спинозы от Гегеля), осознает подозрительность любых безличностных философских идолов, мировоззренческая интенция брахманистской философии может иметь для него лишь отрицательную перспективу»[136].
Адепт, прошедший «посвящение», должен перестать отличать себя от Бога, Бога от мира, а добро от зла.
Верно и обратное: проповедь радикального имморализма использовалась в некоторых эзотерических культах как средство для пантеистического воспитания адептов. В тантрическом буддизме грань добра и зла переступается, если человек предается действию «с сознанием» — тогда и в групповой оргии он будет «чист», ибо будет мыслить себя действующим нераздельно с Единой Энергией[576].
Проводится ли такое «расширение сознания» через дела (как в тантризме) или через медитации (как в гностицизме), — его итог один. Грань добра и зла, ощущаемая нравственной интуицией человека, переступается именно потому, что она мешает ему осознать радикальное единство мира и свою собственную тождественность с ним. Переступив различение добра и зла (пусть даже в мысли), человек уже не будет замечать и иных различий в мироздании.
Напомню, что для русских философов, напротив, ощущение добра и зла было свидетельством того, что человек неотмирен. Владимир Соловьев именно из существования в человеке чувства стыда повел свое доказательство бытия Бога.
Хотя бы поэтому видеть в Рерихах продолжателей русской религиозной философии совершенно невозможно. Дело не только в различии онтологий. Именно моралистический (иногда — надрывно-моралистический) пафос русской философии и литературы отстраняется теософией.
А что мы видим в теософии? Попытка развести добро и зло, о-предел-ить их, натыкается на обвинения в манихействе — «таким религиозным деятелям, как Кураев, ближе манихейское противопоставление добра и зла»[577]. Рериховец забыл, что в манихействе добро и зло различаются не как этические категории, а как две разные мировые субстанции, совечные друг другу и равномощные. Такая путаница может привести к тому, что любая «кроха», спрашивающая, «что такое хорошо и что такое плохо», будет записана в манихеи.
Рерихами вопросы добра и зла, «нравственного идеала» и «слезинки ребенка» решались просто: «Какая формула может считаться безусловной или, как кто-то выражается, абсолютно справедливой в нашем проявленном мире, мире относительности? Даже такая, казалось бы, неоспоримая формула, как «не убий», тоже не всегда применима. Также и другая — «возлюби ближнего как самого себя» — может принести ближнему горе вместо блага»[578]. Да и вообще — зачем защищать человека от смерти? «Разве можно назвать смертью смену одной оболочки на другую?»[579]. «Высокая мысль Востока давно разрешила проблему существования зла. Единое Божественное Начало, или Абсолют, вмещающий потенциал всего сущего, следовательно, и все противоположения, несет в себе и вечный процесс раскрытия или совершенствования. Эволюция создает относительность всех понятий»[580].
Поэтому совсем не странно, что «Живая Этика» допускает полезность лжи (примеры рекомендуемой ею лжи мы видели в первом томе). При «относительности всех понятий» средства могут быть сами по себе не очень чисты. Главное — чтобы они были в нужных руках и служили нужной цели.
В том мире, который рисует теософия, есть законное место для зла. Все происходящее в мире настолько интимно связано с пантеистическим Абсолютом, что даже Сатану оккультисты не желают лишать божественного почитания. Ведь «Абсолют вмещает все вселенские проявления, Абсолют из своего абсолютного Единства при проявлении становится Абсолютом беспредельной дифференциации и ее следствий — относительности и противоположений. Так в своем космическом аспекте Сатана не есть существо, но лишь олицетворение следствий дифференциации (относительности и противоположений)»[581].
Теософия полагает, что она ушла от примитивного христианского «антропоморфизма», объявив зло одним из проявлений Абсолюта. Блаватская любит каббалистическую мудрость «Как вверху, так и внизу»[582]. Но верно и обратное: «Зохар говорит, — цитирует Блаватская главный трактат каббалистов, — что «все, что существует в Низшем Мире, находится и в Высшем. Низший и Высший действуют и воздействуют друг на друга»[583]. Но в «низшем» мире, в человеке, есть немало грязи. Есть невежество и есть ненависть. И даже более того — есть сознательная воля к ненависти, воля к разрушению, воля ко злу. Человеческий грех отнюдь не всегда исходит из банального недостатка просвещения, который можно устранить «высшим знанием». В человеке есть воля, упорствующая во грехе. Наложив этот факт на аксиому оккультизма «Как вверху, так и внизу», получаем вывод, что в «Едином Божестве» теософии и Каббалы есть нечто, упорно желающее зла человеку…
И не надо думать, что я навязываю этот вывод теософии; «живая этика» сама охотно его делает, полагая, что для зла есть вполне законное место во Всеедином. «В Абсолюте зла как такового не существует, но в мире проявленном все противоположения налицо — свет и тьма, дух и материя, добро и зло. Советую очень усвоить первоосновы восточной философии — существование Единой Абсолютной Трансцендентальной реальности, ее двойственный Аспект в обусловленной Вселенной и иллюзорность или относительность всего проявленного. Действие противоположений производит гармонию. Если бы одна остановилась, действие другой немедленно стало бы разрушительным. Итак, мир проявленный держится в равновесии силами противодействующими. Добро на низшем плане может явиться злом на высшем, и наоборот. Отсюда и относительность всех понятий в мире проявленном»[137].
Оказывается, если бы зло прекратило свое действие в мире, гармоничность Вселенной разрушилась бы. Добро не может жить без зла, а Абсолют не может не проявлять себя через зло. И даже более того: зло — не просто одно из условий существований Добра или его познания, это вообще сама основа бытия. «Древние настолько хорошо понимали это, что их философы, последователями которых являются теперь каббалисты, определяли Зло как «подоснову» Бога или Добра»[584]. Тут хотя бы честно сказано: тот Бог, которому поклоняются теософы, имеет злую подоснову. Добро даже не может возникнуть и действовать, если ему не помогает Зло. Еще интереснее текст Блаватской становится, если вспомнить, что на языке христианского богословия «подоснова» — это ипостась. Злая ипостась — это Сатана. Получается, что Бог вторичен по отношению к Сатане…
Христианин готов признать, что Добро иногда может проявить себя в некотором действии, которое человеком воспринимается как зло. Златоуст об этом говорит так: «Пророк со мною восклицает и говорит: «нет зла во граде, еже Господь не сотвори» (Ам. 3, 6)… Это же выразил и через Исайю: «Аз Бог, творяй мир и зиждяй злая» (Ис. 45, 7; церковно-славянский перевод; русский: «делаю мир и произвожу бедствия»)». Злом, по мысли Златоуста, Исайя называет бедствия[585]. «Как пенька не бывает годною для пряжи из нее тонких ниток, если не треплют ее много раз, так и боголюбивая душа, подвергаясь многим искушениям, делается чище и пригоднее к духовному деланию», — находит неожиданный образ преп. Ефрем Сирин[586].
В конце концов, бывает, что и врач должен причинить боль человеку, которому оказывает помощь. И эту боль можно терпеть только при одном условии: если есть уверенность в том, что нож находится в руке у врача, а не у садиста, если знать, что за видимым злом и ощутимой болью скрывается Добро. Христианин может терпеть боль, потому что знает: Тот, в чьей воле человеческие судьбы, Сам пошел на Крест, чтобы облегчить наши страдания.
Но мысль теософов совершенно иная: они полагают, что за Добром скрывается Зло, которое является его «подосновой». Добро — это эпифеномен, случайное проявление; Зло — это сущность. Как пишет Блаватская, «всюду теории каббалистов изображают Зло как Силу, необходимую Добру, как дающую ему жизненную силу и существование, которого оно иначе не могло бы иметь»[587].
Христос говорит, что Свою жизнь Он имеет от Отца, а не от Змея или Зла. Теософия в порядке «примирения» христианства с другими религиями (с какими? с сатанизмом, что ли?) поправляет Евангелие: Добро берет свое начало во Зле. «Тень не есть Зло, но является нужным и необходимым соотношением, дополняющим Свет или Добро. Тень является создателем его (Добра) на земле»[588]. Если Христос пришел явить волю Небесного Отца на земле, а «создателем Добра на земле» является Зло, то чью же волю исполнял Христос? Если оккультист решит быть последовательным адептом своего учения, он должен будет признать: тот Небесный Отец, волю Которого исполняет Христос, есть… Сатана.
Собственно, этот вывод теософия не забывает сделать: «Когда Церковь проклинает Сатану, она проклинает космическое отражение Бога, она предает анафеме Бога, проявленного в Материи или в объективности»[589].
Такова апология зла в теософии. Испугавшись тех трудностей, которые ставит перед человеком попытка представить себе образ мысли Божественного Разума, теософы убежали в такую чащу, где так вроде бы ценимый ими разум просто потух, отказавшись даже зло считать злом.
* * *
Итак, богословский персонализм не ставит христианскую мысль ниже пантеистической. Философские аргументы против персоналистического теизма слабы. Именно пантеизм отрицает свободу человека. Именно в пантеизме растворяются и блекнут все краски мира. Именно пантеизм переносит решительно все категории относительного мира в Абсолют и растворяет Совершенное Бытие в ущербном космосе. Именно пантеизм обожествляет зло и несовершенство.
Да, мыслить Бога как Личность можно. Но — нужно ли? Нужно ли это не только философам с их сложными моделями, не только богословам с их профессиональными вопросами, а просто человеку. Зачем человеку мыслить Бога как Личность? Богословы навязали свое воззрение обычному человеку или человеческое сердце само испытывает потребность видеть в Боге личность и потому потребовало от богословов оправдать и объяснить эту свою потребность?
Здесь я не побоюсь сказать, что христианская философия оказалась именно служанкой. Но не служанкой богословия или церковной власти, а просто служанкой простого человека. Человек, ощутивший себя как личность, а не как случайный эпизод в игре мировых стихий, принес свою боль к кафедре философа и спросил: это только моя боль? Только я несу тягость личностного, думающего и желающего бытия посреди безличностного бессознательного и потому бесстрадательного Космоса? Я со своей личностностью не есть ли лишь некий мутант, выродок, болезненный выверт на бесчувственном, гармонически самоуничтожающемся и самовозрождающемся теле Космоса? Что значат моя мысль, мои вера, любовь и надежда для всего бытия? Кошмарный сон, проклятие или благословение? Космос болеет человеческой мыслью или уповает на нее?
Человеческое мышление не есть случайность в бытии лишь в том случае, если Бытию как таковому свойственно мыслить, свойственно осознавать себя. Тогда и только тогда «человек — не механический результат Божественных энергий (пантеизм), а есть инобытие, свободно принимающее своими актами Божественные энергии»[590].
Человек может достичь своих целей, может исполнять свой долг лишь в том случае, если его долг и его цели совместимы с бытием в целом, если они не чужды ему. Если весь мир живет без цели, без долга, то цель и долг суть лишь субъективные химеры человеческого разума. И человек, стремящийся к единению с миром, к «объективности», должен вести себя «как все», то есть жить без цели, без созания, без оценок и без чувств. Именно так в порядочном галактическом сообществе ведут себя все — звезды и планеты, микробы и атомы, океаны и дезоксирибонуклеиновые кислоты, радиоволны и гравитационные поля. И человек не должен противопоставлять себя всему остальному мирозданию… Или все наоборот: если цель есть у человека, — есть цель и у всего бытия; если сознание свойственно человеку, то и весь мир идет осознанным путем, соответствуя чьему-то Замыслу. «В самом деле, — пишет Кант, — если бы мир состоял из одних только безжизненных или отчасти из живых, но лишенных разума существ, то существование такого мира не имело бы никакой ценности, так как в нем не было бы существа, которое имело бы хотя бы малейшее понятие об этой ценности. Но если бы это были и разумные существа, разум которых был бы в состоянии усматривать ценность существования вещей только в отношении природы к ним, но не был бы в состоянии придать эту ценность себе первоначально (в свободе), то в мире были бы, правда, относительные цели, но не было бы абсолютной конечной цели, так как существование подобных разумных существ все же было бы бесцельным»[591].
Чтобы избавиться от этой конечной бесцельности, «человек нуждается в морально мыслящем существе, чтобы для цели, ради которой он существует, иметь существо, которое сообразно с этой целью было бы причиной и его, и мира»[592]. Значит, высшая причина бытия действует телеологично, то есть осмысляя и предписывая цели мировой эволюции, а значит, является «высшим разумом" и «божеством»: «Мы должны будем представлять себе первосущность не только как мыслящее существо, устанавливающее законы для природы, но и как законодательствующего главу в моральном царстве целей»[593]. Это «Существо вне мира, устанавливающее моральные законы»[594], надо мыслить «способным представлять себе цели, стало быть, как разумное существо»[595]. Но «мыслить высшую причину со свойствами, которые делают ее способной всю природу подчинить цели, значит мыслить эту высшую причину как божество»[596].
Итак, (по мысли уже не Канта, а испанского философа-экзистенциалиста Мигеля де Унамуно), «религия вытекает из жизненной необходимости придать человеческую цель Вселенной, Богу, а для этого необходимо приписать Богу самосознание и сознание своей цели»[597]; «Единственный способ придать человеческую цель Вселенной — это наделить ее сознанием. Ведь там, где нет сознания, нет и цели, которая предполагает некий замысел. Не для того, чтобы понять почему, но для того, чтобы почувствовать и выдержать предельное для чего, чтобы придать смысл вселенной, нуждаемся мы в Боге»[598].
Антропоморфическое представление о Боге есть стремление придать человеческую цель и смысл вселенной. Религиозная мысль человека не столько стремится исследовать Непознаваемое, сколько дать самому человеку средства для того, чтобы пережить свое собственное бытие, полное страданий. Богословие обращено к человеку и говорит прежде всего о том, как человеку жить пред лицом Бога. И поэтому антропоморфизм в богословии вполне уместен и разумен[138]. Речь к человеку и о человеке (о смысле человеческой жизни) может вестись только на человеческом языке, на языке человеческого мышления и чувства. Человек ищет своего, человеческого, смысла — и что же осуждать, если он слышит ответ на человеческом языке и выражает его для себя на языке человека же.
И поэтому в богословии подлежат устранению не только те суждения, которые недостойно говорят о Боге, но и те, которые недостойно мыслят о человеке. Человек жаждет объяснения, осмысления своей жизни, деятельности и мысли, а пантеистически-кармическая философия ему говорит: жизнь есть всего лишь сон со сновидениями; проснуться значит войти в состояние сна без сновидений (нирвану или слияние с безличностным и безликим Единым). Евангельские слова о том, что Царствие Божие силой берется и прилагающие усилие восхищают его, способны оправдать человеческое действие и придать смысл человеческой жизни.
Пантеизм же освящает лишь сон. Евангелие благословляет бодрствующих[139], пантеизм — лишь спящих. Богословие отвергает не только теологические, но и антропологические ереси, те ереси, которые крадут у человека высший смысл его жизни.
Человек вообще может жить только в человеческом мире, только в мире, который он очеловечил с помощью своего языка, который он из аморфного хаоса нечеловеческой «объективной реальности» превратил в космос человеческих образов. Первое повеление Бога Адаму — дать имена животным и всему бытию. Имя, данное человеком нечеловеческому миру, превращает мир в то самое, чем его замыслил Творец: в мир человека. И с тех пор и поныне важнейший «труд человека заключается в супранатурализации Природы, в том, чтобы очеловечивая ее, обожить ее, сделать ее человеческой»[599]. Человеческое имя в нечеловеческом мире — это уже антропоморфизм. Но христианство как религия Слова фило-логично, и потому вообще не стесняется антропоморфизма. Нас ругают: вы мыслите антропоморфично. Мы соглашаемся: да, Евангелие — человечно…
Если цель религии понимать эскапистски, как бегство от мира (от мира иллюзий в мир бессубъектного и бездумного «сверхбытия», из мира становления в мир, где ничего и никогда не происходит, из индивидуальности в космический поток бессознательного), то борьба с антропорфизмом понятна. Если человек тяготится собой и своим миром — спасение от человечности можно найти только в последовательной и радикальной бес-человечности («нирване», «пралайе» и т. п.). Но если человек свою жизнь считает осмысленной, а смысл жизни дают разум и любовь — то эти же свойства он должен обрести у Истока бытия. И тогда вслед за Мигелем де Унамуно надо сказать: «Любовь заставляет нас персонализировать то целое, частью которого мы являемся… Любовь персонализирует все, что любит, все, чему сострадает. Мы испытываем сострадание, то есть любовь лишь к тому, что нам подобно и чем значительней это подобие, тем сильней наша любовь… Любовь персонализирует все, что любит. И когда любовь так велика, так жива, так сильна, так безгранична, что любит все сущее, тогда она персонализирует все и обнаруживает, что тотальное Всё, Вселенная это тоже Личность, наделенная Сознанием, Сознанием, которое в свою очередь страдает и любит, то есть сознает. Это Сознание Вселенной, открытое любовью, персонализирующей все, что ею любимо, и есть то, что мы называем Богом»[600].
Итак, не потребность в философской логике приводит людей к «антропорфному» представлению о Боге как о Личности, а простая человеческая потребность в любви и в смысле для своей жизни. И полемика пантеистов в христианским богословием — совсем не благородная «борьба с идолами» или с «невежеством». Это борьба с самым человеческим и человечным, что только есть в религиозной жизни — со стремлением сироты найти Отца (как уверяют «Письма Махатм», «человечество есть великая Сирота»[601]). Христианство признает за человеком право сказать Богу «Ты». Для пантеизма такое обращение к Божеству сродни обращению «многоуважаемый шкаф». Не нужно диалога любви с Богом. Нужно лишь уметь правильно потреблять Мировую Энергию. Христианство, зная, что «человек чувствует в себе потребность быть кому-то благодарным за это»[602] (Кант имеет ввиду хотя бы красоту природы), признает за человеком право на благодарственную молитву. Пантеизм человеку, восхищающемуся морским закатом, посоветует без лишних слов раскрыть побыстрее чакры и впитать еще порцию отборной праны…
Пантеизм лишил себя права молвить Богу: «Твое бо есть еже миловати и спасати нас, Боже наш». Именно: это Твое, Христе, право, а не кармы, и потому — «Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков». В том числе — и в тот век, который, не желая называться христианским, обозвал себя «веком Водолея».
Так зачем же христианские богословы настаивают, что Бог может считаться личностью? — Затем, чтобы человек мог оставаться человеком.
Глава 12. ОТ ИМИТАЦИИ ФИЛОСОФИИ — К МАГИИ
Совместимо ли христианство с теософским пантеизмом? Отложим в сторону всякую предвзятость. Просто посмотрим на православных христиан в храме. В храме, как известно, православные молятся. А теперь раскроем беседы Е. П. Блаватской со своими единоверцами.
« — В буддизме «Дхиани» — это общее название для обозначения всех Богов. Тем не менее, хотя Они и Боги, Им не поклоняются. — Вопрос: Почему, если Они — Боги? — Ответ: Потому что восточная философия отвергает идею личного и вне космического Божества. А тем, кто называет это атеизмом, я скажу следующее. Поклоняться одному такому Богу нелогично, потому что, как сказано в Библии, «Есть много Богов и Господ много». Следовательно, если вы хотите поклоняться, вам придется поклоняться либо многим Богам, каждый из которых не лучше и не менее ограничен, чем остальные (политеизм и идолопоклонничество), либо, как это сделали израильтяне, одному из Них, превратив Его в родового, или расового, Бога. Веруя в существование многих богов, вы будете считать своего Бога Высшим, или «Богом Богов», а других будете игнорировать и презирать. Но это противоречит логике, так как подобный Бог не может быть ни бесконечным, ни абсолютным. Он должен быть конечен, то есть ограничен и обусловлен Пространством и Временем. С наступлением Пралайи родовой Бог пропадает. И Брама, и все другие Девы и Боги сливаются в Абсолюте. Поэтому оккультисты им не поклоняются и не молятся — в противном случае нам нужно было бы либо поклоняться многим богам, либо молиться Абсолюту, который, будучи лишен атрибутов, не может иметь ушей, чтобы услышать нас. Даже тот, кто поклоняется многим богам, будет неизбежно несправедлив ко всем другим богам. И как бы ни старался он охватить в своей молитве всех богов, окажется, что поклоняться каждому из них в отдельности практически невозможно. И, если по незнанию он изберет какого-нибудь одного, это вовсе не значит, что он изберет самого совершенного»[603].
Заметим две странности этого рассуждения.
1) Библия используется как авторитетный источник. Всё дальнейшее рассуждение строится на цитате из Библии — и всё оно служит тому, чтобы оспорить один из важнейших именно библейских призывов: призыв к молитве. Кроме того, в итоге выясняется, что тот Бог, откровением Которого и является Библия, и встреча с Которым только и придает ей ценность, на самом деле не заслуживает даже того, чтобы молиться Ему. Так — один из миллионов богов («в одной только Индии 300 миллионов богов и богинь»[604]).
2) Упомянутый Блаватской библейский текст совсем не ставит Бога Библии в один ряд с теми, к кому адресованы языческие культы. «Мы знаем, что нет иного Бога, кроме Единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, — но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им» (1 Кор. 8, 4–6). Если бы эта фраза звучали как «знаем, что есть много богов и господ много; но у нас один Бог Отец» — это было бы манифестом обычного генотеизма («родового Бога»). Но немедленно добавляемая богословско-метафизическая нагрузка резко меняет ситуацию: «у нас один Бог Отец, из Которого все». Не просто — «у нас есть Бог, из которого происходим мы, наше племя, наша вера», но — «из Которого все» (то есть — из этого источника все получило свое бытие), а также «Которым все» (то есть и поныне все, что есть, существует по причастности к этому Истинному Бытию).
Христианство признает определенную реальность языческой религиозной практики, но в языческих мистериях оно видит игры падших ангелов. Языческие боги реальны для людей, но по сути своей в сравнении с Богом Израиля «все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил» (1 Пар. 16, 26); «все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил» (Пс. 95, 5; славянский перевод «вси бози язык бесове» в соответствии с греческим текстом Септуагинты — ).
Однако, некорректность аргументации менее важна, чем тот вывод, ради подпорки которому Блаватская изготовляет кривые палки своих доводов. Итог размышлений Блаватской в том, что Высшему Божеству и молиться бесполезно (оно не слышит наших молитв). Да и вообще Его скорее нет, нежели Оно есть: ведь теософы, с одной стороны, называют Его Непознаваемым и Непроявляющим Себя в действиях, а с другой говорят, что «мы отказываемся принять существо или бытие, о котором ничего на знаем»[605].
Всем же остальным божествам молиться опасно и рискованно — ибо обращение к одному может вызвать гнев миллионов остальных. Так что лучше вообще не молиться, а просто медитировать на самого себя. «Тихо сам с с собою я веду беседу»[140]. Надежды на Встречу и помощь нет: «человечество есть великая Сирота»[606].
Я сейчас не спорю с этими тезисами по существу. Но у меня вопрос к «рерихославным» — то есть тем, кто считает, что рериховкое учение мждет уживаться с православием: Вы лично исполняете этот совет Блаватской? Вы никому не молитесь? Если Вы не молитесь ни Христу, ни Божественной Троице, на ангелу-хранителю — значит, Вы вне христианства. А если Вы все же молитесь, то в таком случае Вы нарушаете повеление Блаватской. Но зачем же тогда Вы защищаете эту противницу всякой молитвы от критики со стороны тех, кому молитва дорога?
Понятно, что учение, которое запрещает всякую молитву, несовместимо с право-славием, с той традицией, которая в самом своем именовании определила себя как путь правильной молитвы (право-славления).
Столь радикальный практический антимолитвенный вывод теософии, конечно, вырастает из всего строя этой «тайной доктрины». И в самом ее фундаменте мы обнаруживаем принципиальное расхождение с христианством. Это — вопрос о том, Личностен ли Бог или безлик, слббовью Он относится к миру или вообще никак.
Пантеизм, хоть и возвышается над мифами, тем не менее сразу же говорит, что никакой любви в Божестве быть не может. Блаватской доподлинно известно, что «Божественная Мысль имеет настолько же мало личного интереса к ним (Высшим Планетарным Духам-Строителям) или же к их творениям, как и Солнце по отношению к подсолнуху и его семенам»[607]. Но с точки зрения христианства даже «теория Ньютона о «всемирном тяготении» является лишь потускневшим и слабым отражением христианского учения об «узах любви», связующих мир»[608]. То, что у Ньютона было просто секуляризацией, у Блаватской становится торжествующим нигилизмом. А. Ф. Лосев же с горечью подмечает в безрелигиозном мировоззрении: «Заботится ли солнце о земле? Ни из чего не видно: оно ее «притягивает прямо пропорционально массе и обратно пропорционально квадратам расстояний»»[609]. Закон гравитации просто действует, и если гравитационное поле земли притягивает некое яблоко на некую голову — это никак не означает, что земля испытывает какое-то личное, любящее чувство к данному яблоку или к данной голове. Закон гравитации действует не потому, что он решил действовать в данной ситуации, а потому, что он вообще действует всегда и везде, докуда только дотянется, и действует одинаковым образом. Так и у Закона кармы нет избранников и нет волевых актов: карма просто прядет свое. И у языческого мудреца, познавшего всю силу и безапелляционность Рока, оптимизм христиан, убежденных, что Бог есть Любовь, может вызвать лишь усмешку.
Античный критик христианства Цельс вполне рассудочно обрушивается на религию Завета: «Род христиан и иудеев подобен лягушкам, усевшимся вокруг лужи, или дождевым червям в углу болота, когда они устраивают собрания и спорят между собой о том, кто из них грешнее. Они говорят, что Бог нам все открывает и предвозвещает, что, оставив весь мир и небесное движение и оставив без внимания эту землю, Он занимается только нами, только к нам посылает Своих вестников и не перестает их посылать и домогаться, чтобы мы всегда были с Ним. (Христиане подобны) червям, которые стали бы говорить, что есть, мол, Бог, от Него мы произошли, им рождены, подобные во всем Богу, нам все подчинено — земля, вода, воздух и звезды, все существует ради нас, все поставлено на службу нам. И вот черви говорят, что теперь, ввиду того, что некоторые среди нас согрешили, придет Бог или Он пошлет Своего Сына, чтобы поразить нечестивых и чтобы мы прочно получили вечную жизнь с Ним» (Ориген. Против Цельса. IV, 23). Цельс прав: если нет Любви в Боге, если Бог не способен к личностному и любящему Бытию, то человек — не более чем плесень на окраинном болоте Вселенной.
И здесь неизбежен выбор: или принять Евангелие, которое возвещает, что Тот, через Которого все «начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1, 3), пришел на Землю и стал человеком, или человек и его планета — не более чем свалка кармического мусора. Космос живет сам по себе и даже не знает, что где-то на его окраине страдает и на что-то надеется человек. Этот мир не становится полнее, если в него приходит человек, и он не беднеет, если человек из него уходит. Дважды два всегда равняется четырем. Две галактики плюс две галактики — всегда получалось четыре. Знают об этом земляне или нет — таблице умножения до этого нет никакого дела. Красота мира не создана для человека, не заботится о человеке и потому по сути своей бесчеловечна.
Как и Цельсу, теософам более всего в христианстве непонятна тайна Божественной любви. Когда один из корреспондентов Рерих робко заметил, что Бог есть любовь, а любить может лишь субъект, а не безликий закон — наставница напомнила: «Восток запретил всякое обсуждение Неизреченного, сосредоточив всю силу познавания лишь на величественных проявлениях Тайны»[610]. В другом месте она, правда, пояснила, что «божественная любовь» есть не что иное, как силы космической гравитации: «Божественная любовь есть начало притяжения или тот же Фохат, в его качестве божественной любви, электрической мощи сродства и симпатии»[611].
Христианин же за симфонией мира ощущает именно живую любовь, любящую Личность. Не просто Закон, не просто Разум, не просто «гравитацию», но — Личную и любящую Волю. И поэтому он переживает единство Бога и мира даже еще более живо, чем пантеист. Он не просто, подобно пантеисту, переживает причастие мира Горнему Началу, но он еще знает, как Имя этого Начала, знает, Кому можно вымолвить слово благодарности за этот вечер и за будущий рассвет. Вот право, потерянное пантеистами — они не могут воскликнуть: «Слава Тебе, показавшему нам свет!».
Е. Рерих пишет, что «форма религии не имеет значения, но существенна лишь идея»[612]. Но разве вопрос о том, обладает ли Абсолют разумом, сознанием, отзывчивостью является вопросом чисто формальным, обрядовым? Разве это не вопрос о самой сути Бога? И разве в зависимости от ответа на этот вопрос не будут строиться все иные концепции — как о человеке, так и о мире?
Разве «не имеет значения» — хранить в сердце слова ап. Иоанна «Бог есть любовь», узнавать, что «нет у Него никакого другого дела, кроме одного — спасти человека» (Климент Александрийский. Увещание к язычникам. 87,3), — или же вслед за махатмами считать, что «единое и главное свойство мирового духовного принципа — бессознательного, но вечно деятельного жизнедателя — распространяться и проливать» (отчего в качестве достойного символа этого начала тот же абзац махатмовых писем предлагает фаллос)[613].
Отнюдь не все равно — верить в то, что «Мирами правит жалость, Любовью внушена Вселенной небывалость И жизни новизна» (Б. Пастернак), или утверждать, что свойствами Абсолютности являются «Абсолютное Небытие и Бессознание»[614], что про Божественную волю «нельзя сказать, что она действует с пониманием»[615] (а и верно — какое же «понимание» у фаллоса!).
О разнице между участливым Богом христиан и безразлично-бездумным «высшим» божеством гностиков еще во втором веке сказал св. Ириней Лионский: «Они нашли Бога Эпикурова, который не делает ничего ни себе, ни другим, то есть ни о чем не промышляет» (Против ересей. 3,24,2). Но прошли века — и мы снова слышим от тех, кто полагает христианство слишком старым: Божество — это «Вечное Дыхание, не ведающее самого себя»[616]; «Неподвижно Бесконечный и абсолютно Безграничный не может ни желать, ни думать, ни действовать»[617]. Теософы дерзают связывать руки Божеству, лишая Его права на действие: «О Божестве невозможно подумать как о выполняющем какие-то действия»[618]. И опять современны слова св. Афанасия Великого: «В этом отношении чудные сии люди приложились уже к манихеям. Ибо и те именуют Бога благого только по имени, и не могут указать ни видимого, ни невидимого Его дела; отрицая же истинного и действительно сущего Бога, Творца неба и земли и всего невидимого, без сомнения, слагают чистую баснь ()»[619].
Согласно этому мифу (басне), Бог оказывается совершенно пассивен, Он не совершает никаких действий. А в этом случае, конечно, вполне логично отказаться от молитв. Но еще более логично при таком допущении — отказаться от любых претензий на близость к православию. Христос учил, что «Отец Мой доныне делает» (Ин. 5,17). Христос учил молитве. Величайшие подвижники и богословы православия — святые исихасты — устами св. Григория Паламы учили о том, что Бог именно действованиями (энергиями) Своими проявляет Себя в мире… Но теософия утверждает, что Бог «не может действовать».
Это что — тоже вопрос, который «не имеет значения»?
Разве «не имеет значения» — верить, что «Мир на милости созиждется», или же чеканить: «с наступлением нынешнего века пробил час изгнания с трона «высшего Бога» каждого народа в пользу Одного Всеобщего Божества — Бога Непреложного Закона, не милосердия; Бога Справедливого Воздаяния, а не прощения»».
Разве «не имеет значения» — узнавать, что «У Бога есть одна мысль и одно желание — миловать и миловать… Господь и на страшном суде будет не то изыскивать, как бы осудить, а как бы оправдать всех. И оправдает всякого, лишь бы хоть малая возможность была»[620]. Или же твердить: «Никто, даже Высочайший Дух не может простить содеянных прегрешений, ибо это противоречило бы закону кармы»[621].
Ну какая же в Боге может быть Любовь, то есть волевое стремление ко благу любимого, если слово «воля» в применении к Божеству на языке теософов означает всего лишь «импульс притяжения или отталкивания, порожденный биполярностью элементов»[622]. В этом случае Бог не больше любит людей, чем ток, протекающий между «биполярными элементами» автомобильного аккумулятора, любит мошкару, летящую к фарам. Не случайно ведь теософы так любят именовать Божество «Космическим Электричеством» и «Космическим Магнитом». Оттого и могут допускать в свои тексты чудовищные выражения типа «соткана Вселенная рычагом Любви» (Беспредельность, 52).
Насколько важен вопрос о том, является ли Бог Личностью или же безликой субстанцией, видно из слов о. Сергия Желудкова. Приведя слова Эйнштейна — «Я верю в Бога Спинозы, проявляющегося в упорядоченности мира — но не в Бога, занимающегося судьбами и делами людей»[144] — о. Сергий сказал: «Признаюсь, я испытываю странную симпатию к нашим русским простецам-безбожникам в этом вопросе: ибо они хранят более достойные воспоминания о вере в Бога. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеет сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя». Вот в какого Бога они верили. Если же «высший Интеллект» не помнит, не любит каждого из нас, если он равнодушен к страданиям своего мира, если он не есть Бог Живый и Святый — значит, он и недостоин наименования Бога, — значит, и нет Бога. Если «Высший Интеллект» не занимается «судьбами и делами людей», если ему до нас «дела нет», то и нам нечего о нем думать: будем полагаться только на себя самих, на наше человеческое сиротское братство…»[145].
Противоположность выводов христианства и теософии по самому главному вопросу как религии, так и философии — вопросу о том, в каких отношениях находится человек и его Бог — очевидна. Тот, кто стремится к «примирению религий», должен был бы, заметив это расхождение, задуматься над тем, откуда оно проистекает, найти некий общий корень, а затем проверить логичность тех дедукций, путем которых две традиции, исходя из вроде бы общей посылки, пришли к радикально различным выводам…
Теософская борьба «за чистоту религиозной мысли» на самом деле ведет к уничтожению и саму религиозную мысль, и религиозную практику (молитву) как таковую.
В прошлых главах мы увидели путь от пантеизма к имморализму. Теперь можно показать ту теософскую логику, которая стремительно ведет от отрицания монотеизма к демонизму.
Божество выше человеческого разума — сказали для начала теософы. И с этим согласится любой философ. Следующий тезис гласил: если нечто не может быть дано в разуме, в сознании, то оно и не может быть предметом человеческой деятельности, оно не может быть целью жизни и работы человека. С этим также нельзя спорить. Отсюда теософы извлекли вывод: «Сколь бы ни возвышены были сотворенные разумом цели, они преходящи. А то, что за пределами разума, не может быть названо целью»[146]. Если Бог непостижим, то он не может присутствовать в человеческом сознании и, значит, не может быть предметом разумной человеческой деятельности, не может быть целью человеческой жизни. Следовательно, религия как связь с Богом невозможна. Буддисты правы: путь к Абсолюту немыслим.
Одно обстоятельство, правда, осталось неучтенным этой логикой: а что, если Абсолют Сам проявляет Себя? Что, если «Бог жаждет, чтобы Его жаждали»[623]? Да, человек не может своими усилиями и своей практикой обрести Бога. Но разве не может Бог выйти за пределы Своей непостижимости? Если Божество безлично — то Оно неспособно на такой поступок. И такое Божество, как логично описывает Блаватская, есть тьма, которая не может ни думать, ни делать, ни действовать, ни любить. Но Личность способна к любви, и потому Бог может ввести Себя в состав человеческого религиозного опыта.
Но если не осознать, если не прочувствовать этого евангельского возвещения, то рушится всякая основа для всякой монотеистической религии вообще.
Это и произошло в теософии. Отринув Евангелие, «Старший Махатма» утверждает: «Что касается Бога, то мы не можем рассматривать Его как вечного или бесконечного или самосущего. Нет места Ему при наличности Материи, неопровержимые свойства и качества которой вполне нам известны, другими словами, мы верим только в Материю, в Материю как видимую Природу, и Материю в ее незримости как невидимый, вездесущий Протей»[147].
Это даже забавно: сакраментальное «Бога нет» говорят не люди, но Махатмы. Являются ли эти Махатмы просто философами? — Нет: «Никогда не упускайте из виду, что махатмы Братства есть те самые семь Величайших Духов, которые пришли с высших планет на Землю в конце третьей расы для ускорения эволюции нашего человечества. Духовная сила Их, величие Их несравнимы ни с какими признанными человеческими гениями, если только Они Сами не воплощались в них»[624]. «Семеро из Махатм и есть те самые Планетарные духи каждого, которых мы поодиночке зовем Богом, ибо, истинно, Им под силу творить планетные системы»[625]. Значит, перед нами замечательный случай атеистического сверхъестественного откровения: некое сообщество духов утверждает, что они есть, а вот Бога нет.
Сказав, будто «природа — наш единственный и величайший Учитель и законодатель»[626], Е. Рерих слукавила. Ее учителя — отнюдь не природа, у которой действительно религиозный человек может поучиться многому[148]. Ее учителя — Духи Космоса и Махатмы. И их первый урок: Бога нет, но вы — боги[149].
Не обретя Бога, оккультисты обожествили то, что оказалось у них под рукой: себя самих и материю. Поэтому их «религиозный синтез» так отдает банальным атеизмом. «Атеист — один из самых славных титулов человечества, знак отличия мировых героев, мучеников, спасителей мира, — уверяет Анна Безант. — Никакая философия, никакое богословие не несли миру ничего достойного по сравнению с благой вестью атеизма. Честь же и слава этим передовым борцам прогресса, этому почетному авангарду армии свободы. Честь и слава тому, кто в своем усердии о человеке забыл Бога»[627].
С меньшим азартом, но с не менее глубокой убежденностью о том же пишут и Махатмы, учащие жизни без Бога: «Ни философия наша, ни мы сами не верим в Бога, менее всего в того, местоимение которого требует прописной буквы. Мы отрицаем Бога как философы и как буддисты»[628]. Бога как Творца, Судию, Искупителя они не знают. Напротив, попытка говорить о Боге, трансцендентном по отношению к миру космических стихий, вызывает у них возмущение: «Обособление Бога от Проявленной Природы и порождает все ошибки, все страшные противоречия»[629].
Философская мысль о том, что Абсолют не может контактировать с миром конечного и относительного, оказывается не более чем приемом вежливого выпроваживания за дверь собственно Божественного Откровения. Псевдоапофатическое богословие нужно теософам лишь для того, чтобы нейтрализовать христианскую привычку просить Бога о помощи и вразумлении. По видимости возвеличивая Божество, теософия на самом деле просто запрещает Ему действовать и помогать людям. «Что вы, — уверяют оккультисты, — разве можно себе представить, что Бесконечное и Абсолютное Бытие будет интересоваться нашими мелкими земными проблемами? Разве можно унижать абстрактность и высоту Абсолюта связью с нашим миром?».
И пока пораженный этим размышлением слушатель растерянно бредет к согласию с этим тезисом, ему предлагается альтернативный вариант религиозной жизни. Альтернативный — но вполне логичный.
Раз доказано, что Бог не может общаться с людьми, — значит, надо общаться с «небожителями» рангом пониже. Бог недостижим, Он не умаляет Себя до того, чтобы заниматься людьми, но в Космосе водятся некие духи, заинтересованные в прогрессе человечества — вот с ними и надо работать. Вот как построена эта логика у Блаватской: «Оккультисты принимают откровение, как исходящее от божественных, но все же конечных Существ, проявленных Жизней, но никогда не от Непроявленной Единой Жизни; от Сущностей, называемых — первородным человеком, Дхиани-Буддами, или Дхиан-Коганами, Риши-Праджапати у индусов, Элохимами или Сынами Божьими у евреев, Планетарными Духами всех народов, ставшими Богами для людей»[630].
Раз Божество не может унизить себя общением с миром — надо сдружиться с… А и в самом деле — с кем? Если вместо Божества надо общаться с иными духами, а последних существует множество — то с какими из них? Очевидно, что сотрудничать надо с теми, которые более всего богоподобны. Если Божество уклонялось от творения относительного, конечного мира, то, очевидно, и самые высокие и мудрые духи должны были поступать подобным же образом. И такие духи есть. «Ангелам Первичного Света было приказано «творить»; одна треть из них восстали и «отказались»; тогда как те из них, которые «подчинились», оказались неуспешными, что весьма знаменательно»[631].
Бог христиан — действительно «творец». Но Он — демиург-неудачник, Его деяния оказались неуспешными, а вот божества оккультистов не творили ни наш мир, ни человека, но именно поэтому человек должен теперь забыть своего Творца и прийти к тому, кто его не желал и не творил. Так Блаватская излагает историю бунта Люцифера…
И впредь мы неоднократно будем замечать, как мысль теософов с вызывающей вопросы регулярностью от любой философской выси соскальзывает в апологию Сатаны.
Любая оккультно-гностическая система содержит в себе долгие и путаные повествования о том, какие поколения «эонов», богов, духов, «фохатов» располагаются в надземном мире. Гностическая мысль исходит из странной иллюзии, согласно которой если между Божеством и материей расположить несколько посредствующих ступеней, на каждой из которых будет чуть меньше духа и чуть больше материальности, то удастся решить проблему перетекания Бесконечного в конечное.
Как замечает А. Карташев, «это явный абсурд и самообман, будто можно онтологически сочетать Абсолютное с относительным путем постепенного вычитания из него неких частиц абсолютности с заменой их равновеликими частицами относительности вплоть до полного перехода или превращения Абсолютного в относительное. На деле каждая ступень или каждый момент такой процедуры есть просто момент упразднения бытия одной категории другою, а не их сцепления, сочетания, объединения. Многоступенчатость таких процедур есть чистейшая логическая иллюзия. На нем построена вся импотентная фантастика гностицизма, его эономания. Никаким crescendo-diminuendo от твари к Богу и vice versa[150] не создать сплошности, непрерывности, и в любую из миллиметрических щелей проваливается, как в бездну, все построение… Опять перед нами философский самообман гностицизма, создающего иллюзию, будто бы антиномия, разжиженная на десяти водах, теряет путем ступенчатых переходов свою качественную антиномичность, иррациональность или сверхрациональность»[632]. На деле же у гностиков «мост другого берега бездны не достигал, лишь затемняя различие между тварью и Богом и заслоняя единственный Путь»[633].
Мир превращается в «матрешку». В нем много-много уровней и этажей, но зато где-то оказался забыт сам Творец. В «космическую иерархию» человек может общаться только с низшими чинами этой иерархии: «Вы знаете, как трудно видеть Фохат, какие многолетние накопления требуются для очевидности этой энергии. Но что скажет слабый дух, если он узнает, что за Фохатом находится Парафохат, который питается Панфохатом», — открывает «космические тайны» «Живая этика» (Агни Йога, 403). Новый Завет к этим матрешкам относится иначе: «Глупых же состязаний и родословий… удаляйся, ибо они бесполезны и суетны» (Тит. 3, 9). Речь идет не о спорах по поводу генеалогического древа той или иной семьи и ее претензий на аристократичность. Нет, апостол Павел полемизирует именно с гностиками и с их тягой к бесконечным космическим родословиям (по принципу «Панфохат излил Парафохат, Парафохат излил Фохат…»).
Двигаясь по этим этажам, ум человека никогда не приходит к Богу[151], душа же его оказывается слишком зависима от «посредников», от не-божественных космических обитателей. И где же гарантия, что эти духи захотят пропустить доверившуюся им душу дальше, а не просто подомнут ее под себя? У В. А. Жуковского в поэме «Дева и Асмодей» бес так уговаривает не в меру доверчивого визионера: «Забудь о Боге, мне молись — мои верней награды!». Похоже, что на ухаживания этого же духа откликнулись и «девы-теософини».
Не допуская того чуда Божественной любви, которое позволяет Богу действовать вне себя, Великому входить в малое, гностики и древние, и новые пробуют между землей и Небом утвердить чисто физическую лестницу, которая бы автоматически гарантировала некий минимум божественности даже на низших этажах бытия. В результате оказывается, что в том иерархическом уровне, который располагается чуть выше меня, есть немного большая частичка божественной «плиромы», и я, распознав ее, могу ее потребить сам, перейдя тем самым на этот высший этаж. То есть я могу потреблять Бога, не общаясь с Самим Богом. Не взывая и не стремясь к Самому Высшему, я могу попробовать оккупировать, потребить или поставить себе на службу ближайшее духовное пространство. Духовный голод может быть удовлетворен без Бога — просто за счет общения с «космическими иерархиями».
Таким образом, доктрина Блаватской и Рерихов таит в себе стратегическое противоречие между философским пантеизмом и оккультной практикой.
Казалось бы, если все во мне — нужны только медитации и не нужно никаких «контактов» и молитвенных обращений ко внешнему духовному миру. Но нет, запретив молиться по-христиански, Рерих все же рекомендует некое подобие молитв. Не ко Христу, нет (ибо она уже пояснила, что «Христос» — это всего лишь часть человеческой души). Забыв молитвы Христу, надо обратиться с молитвами же к космическим духам и Махатмам.
Проповедь самообожествления в теософии — не более чем «экзотерическая» оболочка. Уверения в том, что истинный Бог и Господь находится внутри каждого из нас — всего лишь педагогический прием. Просто сначала надо отучить христианина от его прежней религиозной практики, от молитвы Христу, а затем, после недолгого ожидания в философски-пантеистическом предбаннике, когда неофит привыкнет считать, что вся Вселенная живет в глубинах его сознания, его можно будет пригласить к новому религиозному практикуму. Ему можно будет открыть, наконец, последнюю, эзотерическую тайну теософии. Оказывается, молиться и поклоняться все же надо. Но не Христу — а «Владыке Кармы». Открыв в себе некий духовный свет, надо найти его источник все-таки вне себя.
И тогда, в новом опыте поклонения не себе, но и не Богу, в новом мистическом опыте предстояния тем духам, что не признают Творца, человек познает, что «источник высшего наслаждения» находится не в нем самом. Вот что обещает таким искателям духовных приключений Елена Рерих: «Никакой библейский Бог-Вседержитель, якобы сотворивший Землю и все звезды и Луну, чтобы светить ей, не может сравниться в Красоте и Истине с представлением Мощи и Ведения Великих Разумов, стоящий на ступенях Лестницы, Вершина которой теряется в Беспредельности»[634].
Христианская любовь к Богу высмеяна, но лишь затем, чтобы явить собственную «Песнь песней»: «Урусвати, Дочь Моя… Урусвати чует. Урусвати знает. Урусвати явит. Урусвати явлена чудо на земле зажечь», — кокетничает с Еленой Рерих ее космический наставник[635].
И первой своей обязанностью этот новоявленный духовный наставник считает оповещение человека о том, что ему больше не нужно молиться словами «Отче наш». Христос зря утешил человечество тем, что у Него есть Отец. Оккультизм принес иную весть — «человечество есть великая Сирота»[636].
Чтобы человек не слишком рано заметил, на что именно предлагается ему променять евангельскую веру в Христа-Спасителя, теософские трактаты заполняются псевдобогословским порожняком. ««Бог, боги, божественное, божественные сущности» и т. д., — подобные синонимические выражения в невообразимой и какой-то нарочито неряшливой неточности пестрят в сочинениях Штейнера, отливая разными оттенками, временами даже почти до теизма, но как правило, самого решительного пантеизма или космотеизма, даже политеизма или, что в данном случае есть одно и то же, и атеизма», — передает о. Сергий Булгаков свое впечатление от работ Штейнера[637]. То, что отец Сергий называет «неряшливой неточностью», мне представляется сознательным приемом. Пусть встречает человек знакомые слова в незнакомом контексте, пусть не замечает поначалу, как потрошатся смыслы этих привычных слов и как постепенно нагнетается в них новое содержание. Тогда он уже не удивится, обнаружив, что прежние слова больше и не нужны, потому что для их новых смыслов найдены другие слова и другие образы.
Лев Гумилев говорил, что «атеизмов не меньше, чем религий»[638], и именно как «сложную систему мистического атеизма» он определял шаманизм[639]. После только что прочитанных строк Е. Блаватской и Е. Рерих очевидно, что гумилевское определение шаманизма замечательно подходит и для теософии.
Конечно, это не означает, что теософия действительно есть вид шаманизма. Нет, — традиционный шаманизм гораздо более сложная и развитая религиозная система. Основная идея шаманизма — трехуровневость мироздания. Небесный мир, земля и мир подземья как бы слоями лежат друг на друге, их объединяет «мировая ось» или «мировое древо», которое пронизывает все эти ярусы и, если человек нашел эту ось, позволяет ему передвигаться из мира в мир. Напротив, теософия рисует радикально одномерный, плоский мир. Небеса и преисподняя пусты, нет ничего принципиально иного по отношению к нашему миру[640]. Но что роднит теософию с шаманизмом — это вовлеченность в духообщение при отсутствии интереса к Богу-Творцу. И если первая сторона этой практики заставляет дать ей имя «мистической», то вторая понуждает дополнить ее характеристику словом «атеизм».
В свою очередь, то, что роднит теософию с шаманизмом, отличает ее от «научного атеизма» и от обычного философского пантеизма. Проповедь самообожествления в ней — не более чем «экзотерическая» оболочка. Уверения в том, что истинный Бог и Господь находится внутри каждого из нас — всего лишь педагогический прием. Просто сначала надо отучить христианина обращаться за помощью к живому и реальному Христу, отучить его искать помощи у действительного Бога. Вновь вспомним дивное признание Блаватской: «Какое-то время назад я, возможно, верила в Иисуса, но не верила в Бога, а сейчас, когда я перестала верить в Иисуса, я начала верить в Бога. Я не могу поверить в Его божественность и тождественность Богу»[641]. Вот что интересно: свою собственную тождественность с Божественным началом Блаватская утверждает. А за Иисусом такую тождественность madame не признает… Но после всех пантеистических вывертов теософия приходит к практике магии и к вызыванию духов, то есть — к шаманизму.
Вот еще одно странное противоречие теософской системы. Вроде принцип кармы безличен. Нет никого, кто был бы выше закона кармы и, соответственно, не может быть никого, кто мог бы управлять вязанием кармических цепей. И все же карма не безлика. Собственно, и в греческой религии была странность, связанная с Парками: если Парки прядут нити судьбы, то кто прядет их собственную судьбу?.. В теософии же живым олицетворением кармы являются Дхиан-коганы: «эти Высокие Существа выбирают для каждой развивающейся души соответствующие условия и место рождения»[642]. Есть некий «Владыка Кармы», он же «Космический Магнит» (находящийся в созвездии Ориона). Как всегда, в теософии вслед за философски обосновываемым запретом на обращение к Богу следует эзотерический совет: там, где не сможет помочь Бог, там космические духи смогут по своему выбору помогать тебе.
* * *
Первая, религиоведческая часть нашего исследования завершилась выводом о том, что теософия — это не кабинетная филсофия, а языческая магическая практика. Мы показали, что, начавшись от спиритических сеансов, теософия естественно пошла по пути шаманизма. Теперь мы увидели, как эта эволюция проходит не на биографическом уровне грандов теософии, а в их собственных системах, как из философских аксиом следуют вполне ритуально-языческие выводы. Как ни странно, от пантеизма, возвещающего «абстрактное Божество» к поклонению идолам — дорожка прямая. Теософы по ней прошли до конца. Нам же еще предстоит посмотреть, почему христианство, несогласное с теософами в их пантеистических аксиомах, не согласно с ними и в их мистериально-языческой практике.
Примечания
1
«Так называемое обрядоверие, рабство обряду и букве, это — миф, выдумка. Предки наши держались за обряд крепко, но потому, что чувствовали его большую, неизмеримую цену. Поднят вопрос: «двоить или троить аллилуйю». Наши предки идут на Восток за справками. Какими? Только узнать: сугубить или трегубить аллилуйю? Нет, чтобы узнать «тайну божественной аллилуйи», т. е. смысл возглашения, скрытую в повторении возгласа (двукратном или трехкратном) мысль. Какое же тут обрядоверие? Обряды для наших предков — наглядная запись догматической истины. Можно бояться, что с повреждением обряда пошатнется, может повредиться одетая этой святой оболочкой истина веры», — пишет старообрядческий еп. Михаил Семенов (Цит. по: А.А. На пути к «разгадке» староообрядчества. Опыт А. В. Карташева // Церковь. М., 1992, № 2, с. 22).
(обратно)2
Впрочем, во внутрикружковой переписке Е. Рерих совсем иначе, нежели Шапошникова, характеризует Бердяева. По ее мнению, у него «ум за разум зашел» (Рерих Е. И. Письма. Т.4. 1936. М., 2002, с. 413).
(обратно)3
«Человечество в большинстве своем состоит из двуногих» Рерих Е. И. Письма в Америку. 1923–1952. Т.4. М., 1999, с. 300.
(обратно)4
О некоем человеке, от спиритизма перешедшем в православие, Махатмы говорят: «настоящий вонючий подлец». Несогласные с Е. Рерих люди — «Шайка человеческих отбросов» (Письма Елены Рерих 1932–1955. Новосибирск, 1993, с. 126). Вряд ли можно назвать деликатной и ту характеристику, которую Елена Рерих дает христианским священнослужителям: «Церковники — это ханжи и изуверы, прикрывающие свои темные делишки каждением и коленопреклонением и крестным целованием» (Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 1. Минск, 1992, с. 405). Е. Блаватская обещает: «Прежде чем я покину землю, я обещаю себе такое торжество, которое заставит Регионов и его католиков <так в тексте — Авт.> и Бейли и епископа Сарджента с его протестантскими ослами реветь так громко, как им позволят легкие» (Письма Махатм. Самара, 1993, с. 643). А если бы какой-нибудь христианский автор позволил себе написать — «Блаватская с ее теософскими ослами»?..
(обратно)5
Рерих Е. И. Письмо В. А. Дукшта-Дукшинской от 22.7.35 // Рерих Е. И., Рерих Н. К., Асеев А. М. «Оккультизм и Йога». Летопись сотрудничества. Т. 2. М., 1996, с. 291.Ср.: «Человек сам может только каяться, отпускать грехи может только другой… Во всех нормах Христа противопоставляется я и другой: абсолютная жертва для себя и милость для другого. Но я-для-себя — другой для Бога. Бог уже не определяется существенно как голос моей совести, как чистота отношения к себе самому, чистота покаянного самоотрицания всего данного во мне, Тот, в руки Которого страшно впасть и увидеть Которого значит умереть (имманентное самоосуждение), но Отец Небесный, Который надо мной и может оправдать и миловать меня там, где я изнутри себя самого не могу себя миловать и оправдать принципиально, оставаясь чистым с самим собой. Чем я должен быть для другого, тем Бог является для меня» (Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.,1979, с. 52). Лишь если Бог — иной, чем я, Он может простить. Если же вне меня Бога нет — то прощения быть не может, и остается лишь «неумолимая карма».
(обратно)6
В оригинале это слова королевы, обращенные к Гамлету — «ты повернул мои глаза…»
(обратно)7
«Руки Твои сотворили меня, то есть Слово и Дух. Премудрость Слова создала меня, разум Духа сотворил меня» (св. Иоанн Златоуст. О вере. // Творения. т.9. кн.2. Спб., 1903. С. 989.
(обратно)8
Подробнее см. Карташкин А. Хроника объявленной сенсации // Техника-Молодежи. 1993, № 2.
(обратно)9
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 1, с. 276. В другой раз, правда, Елена Ивановна продлевает существование неповрежденного христианства еще на полтора века: «После Августина церковь начала погружаться в тьму средневековья» (Листы сада М. Озарение. 2, 3, 18).
(обратно)10
Это очевидно даже не-христианину Буберу. Размышляя о персоналистичности молитвы Иисуса Отцу, Бубер пишет: «То, что ссылка на «суть одно» необоснованна, станет очевидным каждому, кто прочтет непредвзято, часть за частью, Евангелие от Иоанна. Это подлинно Евангелие чистого отношения. Все новейшие попытки истолковать по-другому эту изначальную реальность диалога — истолковать как взаимосвязь Я с самим собой или как событие, вмещающееся в самодостаточной внутренней жизни человека, тщетны: все они относятся к безнадежной истории уничтожения реальности» (Бубер М. Я и Ты // Квинтэссенция. Философский альманах. М., 1992, с. 347).
(обратно)11
«Из трех главных положений адвайты: Брахман истинен, мир ложен, джива и Брахман одно и то же — Рамамуджа согласен лишь с первым, да и то кардинально переосмысливая его («истинный» Брахман для него не «безмолвная бездна» безличного и недифференцированного мирового сознания, а живой, саморазличенный, синтезирующий личностные и безличные характеристики абсолют)» (Костюченко В. С. Классическая веданта и неоведантизм. М., 1983, с. 130). Рериховец А. Владимиров как-то предположил, что «причины травли агни йоги Рерихов во многом похожи на причины ненависти брахманизма к буддизму» (Владимиров А. В поисках православия. Современники. М., 2000, с. 89). Это верно: и там и там живая религия восстала против схоластической мертвечины. Конечно, как верный рериховец, Владимиров не в состоянии заметить какие-то иные мотивы для религиозной проповеди и полемики, кроме корыстолюбия: все ему кажется, будто я с ним доходы делю. Но это уже проблемы его кругозора… Ну, еще, пожалуй это проблема корректности его обращения с текстами. В поддержку своей параллели Владимиров ссылается на книгу Радхакришнана, который якобы объясняет противостояние жреческой религии и буддизма своекорыстием жрецов. На деле у индийского мыслителя более глубокое и уважительное представление об истории своей страны: буддизм «приспосабливался ко всем людям и ко всем эпохам. В этой примиренческой позиции была и сила и слабость махаянизма… Буддистские монахи утратили свой былой апостольский пыл. Буддистское монашество стало таким же дурным, как и всякое другое духовенство… Буддизм исчез, смешавшись с индуизмом. Буддизм умер естественной смертью. Утверждение, будто жрецы-фанатики силой вытеснили буддизм, является вымыслом. Верно, что Кумарила и Шанкара подвергли критики буддистские доктрины, но сопротивление, оказанное буддизму брахманизмом, явилось естественным сопротивлением старой организации новому развитию, которое не содержало ничего действительно нового… Причинами упадка буддизма явились постепенное поглощение и молчаливое равнодушие, а не фанатизм жрецов и методическое уничтожение» (Радхакришнан С. Индийская философия. М., 1956, т.1, сс. 518–521).
(обратно)12
«Авторы комедий и трагедий именуют персоной актера, который на разные голоса изображает людей различных положений, так что слово persona от personando (звучать, говорить)», — полагал Алан Лилльский (ум. 1202) (цит. по: Гуревич А. Я. Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2005, с. 312).
(обратно)13
Галатам 2,6: «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного: Бог не взирает на лице человека».
(обратно)14
Даже спустя столетия это значение сохранялось: «часто лицо отличают от ипостаси, называя лицом отношение каких-либо предметов друг к другу, причем и обычному словоупотреблению известно это значение слова «лицо». Ибо мы говорим, что некто принял на себя мое лицо и что некто подал иск против такого-то лица; равно мы говорим, что префект действует от лица () царя. Поэтому и приверженцы догматов Нестория с уверенностью утверждают, что лицо Христа едино, называя отношение Бога Слова к человеку Марии единым лицом, так как тот человек совершал всякое божественное домостроительство от лица Божества Бога Слова. Мы, говоря о едином лице Христа, пользуемся выражением «лицо» не так, как это казалось друзьям Нестория, в смысле обозначения простого отношения Бога к человеку. Но мы говорим, что лицо Христа едино, употребляя слово «лицо» взаимозаменяемо с «ипостасью», как о единой ипостаси человека, например Петра или Павла» (преп. Иоанн Дамаскин. О ста ересях, 83).
(обратно)15
Первым греческое атомон перевел на латынь как индивидуум Цицерон (см. Темнов Е. И. Цицерон — оратор, политик, правовед // Марк Туллий Цицерон. О государстве. О законах. О старости. О дружбе. Об обязаностеях. Речи. Письма. М… 1999, с. 38)
(обратно)16
Этот трактат Иоанна Филопона (Грамматика) сохранен преп. Иоанном Дамаскиным как образец еретической проповеди (Иоанн Дамаскин. О ста ересях, 83). Нам он сейчас интересен как свидетельство о философском лексиконе шестого столетия.
(обратно)17
Такое словоупотребление встречается даже у св. Василия Великого — «для составления ipostasin твари привнесено отвне вещество» (Против Евномия 2. // Творения. Т.1, Спб., 1911, с. 490). Также понимали некоторые византийские богословские гимны славянские переводчики: «Да Твоея славы вся исполниши, сшел еси в нижняя земли: от Тебе не скрыся состав (ипостасис) мой, иже во Адаме… (Канон Великой Субботы. Песнь 1, тропарь 3; Х век). «Биен был еси, но не разделися еси, Слове, ея же причастился еси плоти: аще бо и разорися Твой храм во время страсти, но и тако един бе состав (ипостасис) Божества и плоти Твоея. Во обоих бо един еси Сын, Слово Божие, Бог и Человек» (Там же, песнь 6 тропарь 1).
(обратно)18
Это версия Неандера. См.: Гурьев Д. Ересь антитринитариев в III веке. Казань, 1872, с. 7.
(обратно)19
«Лучше иметь недостаточное понятие о единстве, нежели со всей дерзостью предаваться нечестию» (св. Григорий Богослов. Слово 31. О богословии пятое // Творения. Троице-Сергиева Лавра, 1992, т. 2. с. 451). То есть: лучше поставить разум перед затруднением — как обосновать единство Сына и Отца, нежели нечестиво лишить Христа Божественного статуса.
(обратно)20
Причем именно избрали: «св. Василий явно избегает слова просопон. Оно для него означает форма или лицо в смысле лик, физиономия. Оно употребимо в этом случае как пасть на лицо, говорить лицом к лицу и подобное. Для богословского слуха св. Василия оно имело какой-то савеллианский привкус, смысл чего-то случайного» (архим. Киприан (Керн). Золотой век святоотеческой письменнности. М., 1995, с. 77). Если порой св. Василий готов не настаивать даже на формуле Первого Вселенского Собора («единосущный»), то в отношении к слову ипостась он неуступчив: «Уклоняющиеся от выражения три ипостаси не избегают погрешности Савеллия, который говорит, что та же ипостась преобразуется по встречающейся каждый раз нужде» (св. Василий Великий. Письмо 228 (236) к Амфилохию).
(обратно)21
«Ипостась означает личные свойства» (св. Григорий Богослов. Слово 21. Похвальное Афанасию Великому // Творения. Троице-Сергиева Лавра, 1992, т. 2. с. 326). «Особенные свойства или ипостаси» (св. Григорий Богослов. Слово 39. На святые светы явлений Господних // Творения. Троице-Сергиева Лавра, 1992, т. 2. с. 537).
(обратно)22
Новый перевод см.: Историко-философский ежегодник’95. М., 1996, с. 273.
(обратно)23
Вот совершенно поразительный пассаж из писем Е. Рерих: «Итак, не горюйте об утрате антропоморфного Бога. Вместо Одного, Недосягаемого и Непознаваемого Образа, ибо «Бога никто никогда не видел», перед Вами встает грандиозная Цепь Иерархии Сил света» (Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 1, с. 344). Этот отрывок поразителен именно полным отсутствием логики. Если Бог в представлении христиан «Недосягаем и Непознаваем» — то почему он тут же именуется «антропоморфным Богом»? Может ли быть «антропоморфным» богословие, которое первым своим тезисом утверждает — «Бога никто никогда не видел» (а это именно христианская формула из Евангелия от Иоанна (1,18))? Критический запал Елены Ивановны, ее страсть при каждом удобном случае поругать христианство сыграли с ней очередную недобрую шутку.
(обратно)24
св. Василий Великий. Письмо 38 // Историко-философский ежегодник’95. М., 1996, с. 273. Однако новейшие патрологические исследования говорят, что авторство этого текста принадлежит св. Григорию Нисскому (см. Сидоров А. И. Иоанн Грамматик Кесарийский (к характеристике византийской философии в VI в.) // Византийский временник. Том 49. М., 1988, с. 90 со ссылкой на: Нubner Л. Gregor von Nyssa als Verfasser der sog. Ep. 38 des Basilius: Zum unter schiedlichen Verstandnis der ousia bei kappadozischen Brudern // Epektatis: Melanges patristiques offerts au cardinal Jean Danielou. P., 1972. P. 463–490; Gribmont J. Notes biographiques sur S. Basile le Grand // Basil of Caesarea: Christian, Humanist, Ascetic. A Sixteen-Hundredth Anniversary Symposium. Toronto, 1981. P. 24; Fedwick P. J. A Commentarу of Gregory of Nyssa or the 38th Letter of Basil of Caesarea // Orientalia Christiana Periodica. 1978. Vol. 44. P. 31–51.
(обратно)25
«Григорий чуть попробовал мыслить, как тотчас с ужасом заметил, что божественные ипостаси превращаются под его пером в обыкновенные индивидуальности, и отступил в формулу единосущия, под прикрытием учения о слабости своего и вообще человеческого разума… Григорий, желая доказать, что христиане, несмотря на учение о трех ипостасях, имеют право говорить о своем Боге в единственном числе, утверждает, что индивидуальные случайные отличия Петра Павла и Варнавы не дают нам права говорить во множественном числе (люди, человеки): слово «человек» обозначает (ведь) общую всем людям природу, а в индивидуальные их отличия, и, следовательно, строго говоря, есть лишь один «человек». В устах строгого платоника, с точки зрения реальности универсалий или идей это разсуждение понятно, и оно спасает от троебожия самого Григория: но все же путь его очень скользок: как никак, а отношение человеческих ипостасей (отдельных людей) в сущности у него очевидно приравнивается таковому же отношению в Боге; что ответил бы Григорий, спроси его кто-нибудь так: «пусть обычное выражение философски не точно, речь не о том; ответь мне только, могу ли я, как православный, говорить, что Отец, Сын и Дух суть три Бога, в том же самом смысле, в каком я говорю, что Петр, Павел и Варнава суть три человека?»» (Мелиоранский Б. М. Из лекций по истории и вероучению Древней христианской Церкви (I–VIII в.). Спб., 1910, с. 220).
(обратно)26
«Воззрение на христианство, как на философию, высказанное еще апологетами и развитое каппадокийцами, показывает, что эти лучшие церковные люди понимали догматическую сторону церковного вероучения, как науку, при разработке которой каждый вправе пользоваться всеми находящимися в его распоряжении средствами, и сам никейский собор, внесший в свой символ метафизический термин омоусиос, торжественно подтвердил это право на пользование «естественной философией»» (Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов (в связи с философскими учениями того времени). Тринитарный вопрос (История учения о св. Троице). Сергиев Посад, 1914, с. 645).
(обратно)27
«Единое естество в трех Личностях (): разумных, совершенных, самостоятельных и раздельных по числу, но не по Божеству» — св. Григорий Богослов. Слово 33. Против ариан и о самом себе // Творения. Спб., т.1, 1889, сс.490–491.
(обратно)28
«Вообще говоря, при том состоянии философской мысли, в каком ее можно представлять в V веке, вполне ученый спор о таких отвлеченных вопросах, как единство личности и что должно под ним представлять, как единство личности относится к единству сознания и самосознания, — был невозможен. Приходится довольствоваться лишь более или менее ясными указаниями в этом направлении» (Болотов В. В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 4, М., 1994, с. 184)
(обратно)29
Русские переводчики, похоже, смягчили исходный текст. Преп. Макарий Египетский в IV веке его цитировал так: «И вся праведность ваша — как тряпки женщины в ее месячных» (преп. Макарий Египетский. Новые духовные беседы. М., 1990, с. 175).
(обратно)30
Пояснения позднейших христианских мыслителей: «По сравнению с мировым бытием Оно есть ничто в том смысле, что Оно не есть никакое ограниченное что» (Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М., 1995, С. 260). «Есть ничто отрицательное, которое меньше бытия, только отсутствие, лишение бытия, и есть ничто положительное, которое больше или выше бытия, имеет силу над бытием, есть действительная свобода от него» (Соловьев В. С. Философские начала цельного знания // Собрание сочинений. Спб. 1901, т.1. с. 323).
(обратно)31
Характерно, что все основные слова тринитарного богословия подвергались осуждениям (и единосущие и исхождение). Дело в том, что эти слова старого философского языка можно использовать в богословии только после карантина — «только путем бесконечных обиняков, входящих в их состав» (Рацингер Й. Введение в христианство. Брюссель, 1988, с. 125).
(обратно)32
Апофатическим (отрицательным) называется тот путь богословствования, на котором проводится различение между Богом и тварным миром; это речь о том, чем Бог не является, это обнаружение радикальной неполноценности наших слов при их применении к Абсолюту.
(обратно)33
Агностическая теория — теория, отказывающаяся давать ответ на вопрос о бытии Бога. Это мягкая форма атеизма. Вместо решительного «Нет и быть не может!», она отвечает смиреннее: «Не знаю».
(обратно)34
А ведь есть еще и такое устроение души, которое, ища Бога — все же боится найти Истину, ибо предчувствует, что ей придется — «послужить». «Открылся какой-то спорт «богоискательства»; самое «богоискательство» сделалось целью. Ведь о многих наших богоискателях» позволительно думать, что они в случае успеха почувствовали бы себя в высшей степени несчастными и тотчас начали бы с прежним усердием заниматься богоборчеством». Создался целый тип «религиозных праздношатаев», как назвал его Достоевский» (Илларион (Троицкий), архиепископ. Христианства нет без Церкви. Монреаль, 1966, С. 66). Это Богоискательство, боящееся своего собственного успеха, предощущает, что «религия не всегда утешение, во многих случаях она тяжелое иго», но оно еще не знает, что тот, «кто истинно уверовал, тот с этим игом уже ни за что не расстанется!» (Леонтьев К. Избранные письма. СПб., 1993, С. 588).
(обратно)35
«Бог убегает от быстроты приближающегося к Нему ума, всегда предупреждает всякую мысль, чтобы мы в желаниях своих простирались непрестанно к новой высоте» (св. Григорий Богослов. Похвала девству. // Творения. т. 2. Троице-Сергиева Лавра., 1994, с. 133. См. также т. 1. с. 440).
(обратно)36
«Как никто не вдыхал в себя всего воздуха, так ни ум не вмещал соверпшенно, ни голос не обнимал Божией сущности» (св. Григорий Богослов. Слово 30 О Богословии четвертое // Творения. Т.1.с. 440).
(обратно)37
«Молчи, скрывайся и таи и мысли и мечты свои. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь…».
(обратно)38
«Бог единично возвещается, а не включается в сочетания многих» (св. Василий Великий. Творения. Т. 4. М., 1846. С. 262). Впрочем, даже это не есть окончательное слово апофатического познания. Бог не просто единичен, но сверхъединичен: Он открывает Себя как Троицу, в Которой ни одна из Личностей не есть повторение Другой и не есть отделение от Нее.
(обратно)39
Отсюда становится виднее христианское понимание происхождения зла: природа добра. И личность добротна (это сказано несколько условно, ибо добротность есть все же качество, а «Кто» личности некоторым образом трансцендентно по отношению к любым «чтойным» качествам). Зло рождается в зазоре между ними: если личность не сможет исполнить своей миссии и овладеть полнотой природы, то в мире является не-полнота, ущербность.
(обратно)40
Первые подступы к трансцендентальному пониманию личности мы встречаем у Платона (Федон 94 сb), который выводит сверхмирность, сверхматериальность души из ее способности не быть «гармонией», функцией внешних воздействий, из способности волевым образом противостоять изменениям среды и даже управлять ими. Трансцендентным в послекантовской мысли называется то, что находится принципиально вне нашего опыта; трансцендентальным — то, что входя в состав нашего опыта, тем не менее не может быть его предметом: например, мы воспринимаем все вещи в пространстве, но пространство само по себе «трансцендентально», ибо не может быть непосредственным предметом нашего восприятия. У Канта «трансцедентальным единством апперцепции» оказывается перцепция себя в акте перцепции как воспринимающего объект перцепциии. То есть то, что в любом восприятии я ощущаю не только то, что держу в руке или вижу глазами, но и то, что ощущаю именно я, вижу именно я и это ощущение — мое.
(обратно)41
Но эта очевидность ушла из атеистической философии современности. У Камю «тошнота» одолевает Рокантена потому, что его восприятие как раз «замыкает» человека на ощущении самой непосредственной, навязчивой реальности вещей как таковых, за которой уже нет никакого второго плана. Именно нигилизм, отрицание метафизичиского пласта — смысла и целеполагания — вызывает тошноту. Есть корни, есть скамейка — но зачем они есть? И есть ли что-то, кроме них?
(обратно)42
Не нужно удивляться, что для выражения персоналистической интуиции патристической мысли я прибег к цитатам из позднейших авторов. Интуиция — она и есть интуиция. Ей могут потребоваться столетия, чтобы найти надлежащие слова. Святые отцы — даже каппадокийцы — ощутив тайну личности, не смогли дать ей единого и полного определения. С. Верховской с некоторой долей несправедливости пишет об этом: «Леонтий Византийский и св. Иоанн Дамаскин много писали о личности, но они развивали свое учение в перспективе греческой философии, которая скорее портила, чем помогала в этом вопросе» (Верховской С. Бог и человек. Учение о Боге и Богопознании в свете православия. Нью-Йорк, 1956, с. 279). Некоторая несправедливость этого суждения в том, что никакой иной философии, кроме как греческой, и невозможно было использовать древним христианским мыслителям — просто потому, что иной философии в Западном мире еще и не существовало. Тем не менее, говоря словами опять же С. Верховского, «Несмотря на недостаточную законченность отеческого учения о личности, если мы соберем все, что отцы писали об этом предмете, то в целом мы получим глубокое и правильное учение» (там же).
(обратно)43
Естественно, это не значит, что Бог ежесекундно отменяет законы созданного Им мира, а человек всегда действует свободно, неизменно избегая давления психологических законов. Чудо — редкость. Но даже редкое должно быть учтено философией, и модель, предложенная ею, должна оставлять место для подобного рода раритетов.
(обратно)44
Causa sui (лат.) букв. «причина себя»; нахождение причины в самом объекте.
(обратно)45
Правда, это все равно не определение, поскольку оно все же пытается через качества, через «акциденции» уточнить «субстанцию». Но можно дать и экстенсивное определение: личность есть та субстанция, которая оформляет вокруг себя действия разумной и свободной природы (Божественной, или ангельской, или человеческой).
(обратно)46
Еще один шаг вперед, сделанный св. Григорием по сравнению со св. Василием: у Василия ипостасные признаки все же икономичны: ипостаси различны и по своим своеобразным отношениям с миром (скажем ипостасным свойством Духа считается способность освящать). У Григория же ипостаси различаются только по Своим внутренним отношениям (рожденность-нерожденность-исхождение). Это очень важный шаг в сторону ухода от модализма и от пантеизма: это значит, что внутренняя «история» Троицы внекосмична и не имеет отношения к космологии…
(обратно)47
Деяния вселенских соборов. т.1. Казань, 1859, сс. 570–571. Цитируется: св. Григорий Богослов. Послание 3. К Кледонию против Аполлинария первое // Творения. т.2. Троице-Сергиева лавра, 1992, с.9.
(обратно)48
«Для нас немыслимо, чтобы Христос в своем сознании отличал себя как «я» от Логоса. Но [несторианин — А. К.] Феодор Мопсуестийский различает Слово и Иисуса как «спасающего» и «спасаемого»» (Болотов В. В. История древней Церкви. т.4. с. 156).
(обратно)49
С сожалением надо заметить, что в русский философский язык слово личность вошло как калька с латинского personа, а не как перевод традиционно-церковного (и церковно-славянского) ипостась.
(обратно)50
Впрочем, «На древнееврейском языке слово лицо означает также и внутри, внутреннее» (рабби Шнеур-Залман из Ляды. Ликутей Амарим (Тания). Вильнюс, 1990, с. 349, издательский комментарий).
(обратно)51
Сумма богословия. 1, вопр. 29, ст. 4 и 1, вопр. 40, ст. 2 Ипостась определяется как относительное также в следующих текстах: Summa Theol. I. quaest. 21 аrt. 2с: relatio realiter existens in Dеo est idem essentiale secundum rem, et non differit nisi secundum intelligentiae rationem, prout in relationem importatur respectus ad suum oppositium, qui non importatur in nomine essentiale. Pater ergo quod in Deo non est aliud esse relationis et essentiale, sed unum et idem». Summa Theol. I, quaest. XXVIII, art. 3: «oportet quod in Deo sit realis distinctio, non quidem secundum rem absolutam, quae est essentia, inqua est Summa unitas simplicitas, sed secundum rem relativam».
(обратно)52
Вообще судьба слова личность замечательно иллюстрирует бальмонтовские, кажется, строки: «Все ложь, что вне Его завета, и все то правда, что Христос». Любая попытка выйти за рамки христианства оборачивается немедленной паганизацией. Культура, забывшая Христа и Его Завет, выдает свою скрытую враждебность человеку и личности самим словоупотреблением термина ипостась. Журналист, говорящий у этой проблемы две ипостаси, по сути признает, что две тысячи лет христианской культуры остались за бортом его воспитания: личность он понимает как «аспект», как «проявленность», как маску и личину.
(обратно)53
«В учении о Троице мы прежде всего сталкиваемся с западною догмой Filioque. Я с удовольствием и очень отчетливо представляю себе улыбку на лице даже богословски-образованного (а таких ведь немного) читателя этого очерка. До сих пор у нас держится убеждение, что как раз Filioque является наименее важным разногласием между восточной и западной церквами. Не в нем, по общему мнению, помеха (а — в папских притязаниях): оно не характерно, не симптоматично. И разве можно, будучи в здравом уме и твердой памяти, придавать такое значение богословским тонкостям? А тут еще католические богословы уверяют (хочу думать, что optima fide), будто «и от Сына» совсем равнозначно встречающемуся у авторитетнейших восточных отцов и учителей церкви «чрез сына». По-видимому, и спорить-то не о чем. В богословских ли тонкостях религия? Она в нравственности, в том, что важно для жизни, а не в умствованиях и «мелочах». Таково общее мнение. Но «общее» и распространенное всегда подозрительно, ибо люди неразумные и необразованные всегда составляют большинство. И я обвиняю защитников приведенного сейчас понимания дела в довольно тяжелых грехах. Они легкомысленно относятся к абсолютной истине, полагая, что она может быть недейственною и неполною, и что понимание для жизни безразлично. Тогда зачем они, со своей же точки зрения непоследовательно признают другие догмы христианства? Если дело в морали, то не все ли равно: верить в триединство Бога, во многих богов или ни в какого бога не верить? Надо быть последовательным, и необходимо, говоря о религии, понимать, что в ней деятельность не отделима от познания, что в ней все до последней йоты жизненно и каждой догматической ошибке, какою бы ничтожной она ни казалась, неизбежно сопутствует моральный грех» (Карсавин Л. П. Восток, Запад и русская идея // Сочинения. М., 1993, с. 184–185).
(обратно)54
Там же, с. 137. В этом рассуждении, формально построенном безупречно, используется тем не менее некоторая недоговоренность: ведь если Сын без Отца — ничто, то и Отец без Сына тоже… Отец и Сын — именования взаимно-соотносительные, однако если для восточной традиции эти именования используются для различения ипостасей Отца и Сына, то в рассуждении Рацингера указание на соотносительность имен используется по сути для слияния ипостасей. Именем Сын указуется ипостась Сына, но Его ипостасность не исчерпывается Его происхождением — «рождением от Отца». Следовательно, соотносительные имена Отца и Сына не исчерпывают Их ипостасность.
(обратно)55
Впрочем, здесь может быть усмотрена и обратная причинность: «При внимательном анализе становится понятной связь религиозности Filioque с германским язычеством, с его натуралистически-пантеистическими тенденциями» (Карсавин Л. П. Восток, Запад и русская идея // Сочинения. М., 1993, с. 188).
(обратно)56
св. Василий Великий может, например, говорить о «Боге Слове, из Бога исшедшем» (Против Евномия 2. // Творения. Т.1, Спб., 1911, с. 489).
(обратно)57
О том что Сын и Дух не братья см. — св. Григорий Нисский. Против Евномия. 2,14 // Творения. Ч. 5. М., 1863, с. 368.
(обратно)58
По Аристотелю это невозможно. Категории 5,3b34-4а9 утверждают, что все носители одной природы равно владеют ее. И нельзя сказать, что А больше человек, чем Б. С христианской точки зрения человечность не только данность; очеловечивание — это еще и задание, которое каждый из нас выполняет с разной мерой успешности.
(обратно)59
«Но кто не был ни эллином ни иудеем, ни скупым ни расточительным, ни вообще в частности «тем» или «этим»: скажите, пожалуйста, какая кисть и какие краски могут схватить и показать зрителю «вот! вот!» — эту сумму отсутствующих недостатков? Было лицо вообще идеальное, человеческое («Се, Человек») с добротою, которая не переходила в сентиментальность, с осуждением злу, которое не переходило в желчность, со спокойствием, но ровным, не чрезмерным: ну, вот вы возьмите кисть и нарисуйте лицо «вообще иделаьное»! Ничего не выйдет, при удаче — икона… Христос не картинен в жизни, он был уже в жизни иконен» (Розанов В. В. Темный лик // Сочинения. т. 2. М., 1991, с. 429).
(обратно)60
«Общее для всех божественных Лиц — обладание всей полнотой. Общее только двух [Отца и Сына] — давать всю полноту. Общее только для Двух [Сына и Духа] — всю полноту принимать. Общее только для двух — обладать Лицом, произведенным от самого себя. Общее только для двух — происходить от кого-либо иного. Итак, поскольку общее для двух Лиц — происходить не от самих себя, но от другого, все еще остается с великим тщанием исследовать, чем в свою очередь различаются происхождение одного и происхождение другого. При найденном же различии обладания при рассуждении о взаимном сходстве, нужно для последнего назвать имя собственное» (Ришар Сен-Викторский О Троице 5,25.// Антология с. 370–371).
(обратно)61
«В filioque нарушается равнобожественность ипостасей: Отец есть природа, имеющая силу рождать и изводить; та же природа, не имеющая силы рождать, но имеющая силу изводить, есть Сын; Дух же Святой есть та же природа, но не имеющая силы ни рождать, ни изводить, и понимается как «союз любви» между Отцом и Сыном, то есть как некая функция внутри Святой Троицы» (Успенский Л. А. Богословие иконы православной Церкви. Париж, 1989, с. 398).
(обратно)62
Определение Лионского собора 1274 года, почитаемого католиками как 14-й Вселенский: «Дух исходит от Отца и Сына не как от двух начал, но как от одного начала» (Волконский А. Католичество и священное предание Востока. Париж, 1933, с. 344).
(обратно)63
«Природа Божия источается Отцом и наполняет Сына и Духа» (Лурье В. И. Взаимосвязь проблемы Filioque с учением о обожении у православных богословов после Фотия. В: Патрология, Философия, Герменевтика. Труды высшей религиозно-философской школы. Спб., 1992, вып. 1, с. 11).
(обратно)64
«Беседуя с Моисеем, Бог сказал не «Я есмь сущность», а «Я есмь сущий», не от сущности ведь Сущий, а от Сущего сущность: Сущий объял в Себе все бытие» (Триады, 3, 2, 12).
(обратно)65
«Сын и Дух возводятся к одному Виновнику» — и именно не к безличностной причине, но к Причинителю, к личности Отца, — поясняет преп. Иоанн Дамаскин (Преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. I, 8).
(обратно)66
Сомнение в непогрешимости своих предшественников, кажется, только однажды проявило себя в действиях римских пап: через четыре года после официального разрыва только что избранный папа Стефан IX, сопровождавший кардинала Гумберта в той печальной поездке 1054 года, направил в Константинополь посольство, которое «было, как кажется, выражением сознания самого папы Стефана, что кардинал Гумберт жестоко оскорбил греческую Церковь и что, во всяком случае, если на ком, то на папе, личном свидетеле горестного разрыва между двумя половинами христианского мира, лежит обязанность возобновить прерванные между ними отношения» (Катанский А. История попыток к соединению Церквей греческой и латинской в первые четыре века по их разделении. СПб., 1868, с. 44). Впрочем, пока посольство еще было на пути в Константинополь, папа Стефан скончался и послы были отозваны…
(обратно)67
см. Греческая и латинская традиции об исхождении Святого Духа // Страницы. Журнал Библейско-богословского Института св. апостола Андрея. 1996, № 1, с. 145. Соответственно, можно лишь поразиться тому мужеству и той безграмотности, с которыми русские фило-католики (формально оставаясь православными священнослужителями) отстаивают тот догмат, который перестали защищать сами католики. Прот. Иоанн Свиридов, например, решил напасть на проф. Д. Поспеловского за то, что он согласно процитировал воспроизведение оксфордским богословом, православным епископом Калистом традиционно-православного мнения: в Троице «все исходит от Отца». В результате в глазах прот. Свиридова еп. Калист, проф. Поспеловский и даже Папский совет оказались еретиками: «Поразительны и богословские рассуждения профессора, рассуждающего о филиокве. Ссылаясь на высказывания еп. Калиста Уэра, он не замечает, как сам скатывается к древней доникейской ереси монархиан, утверждая, что в Святой Троице «все исходит от Отца» (прот. Иоанн Свиридов. Рецидив «провинциального конфессионализма» // Церковно-общественный вестник № 7 (Приложение к Русской мысли от 16.1.97). Это тот случай, когла русский протоиерей оказался большим католиком, чем сам Римский Папа. Кстати, «монархиане» просто отрицали Троицу и либо утверждали, что во Христе воплотился Отец, либо вообще не считали Христа Богом (см. Андреев И. Д. Монархиане // Христианство. Энциклопедический словарь. Под ред. С. С. Аверинцева. т. 2. М., 1995, с. 146). Надеюсь, что в следующий раз, прежде чем навесить на кого-то ярлык «еретика», отец протоиерей, ратующий за плюрализм и уважение к чужим мнениям (надеюсь, что и к православным тоже) хотя бы заглянет в богословский словарь и уточнит значение того словечка, которым он хочет наградить своего оппонента.
(обратно)68
Сегодня греческий философ Христос Яннарас так продолжает тему богословского персонализма: обычно есть некая сущность (например, идея ручки), и затем по ней создается ручка как конкретная ипостась. Этот платонизм в корне отвергается Православием: в Боге первична Личность. «В христианском богословии не сущность предшествует и предопределяет собою экзистенцию. То, что создает саму возможность существования, изначальную предпосылку бытия, есть личность. Личность предшествует всему как сознание своей абсолютной свободы от какого бы то ни было предопределения, какого бы то ни было принуждения — будь то принуждение ума, способа существования или же природы. Личный Бог является для Церкви источником и причиной бытия. Бог не есть некая заданная Сущность, предшествующая Лицам. Напротив, Он прежде всего Личность, которая совершенно свободно ипостазирует Свое Бытие, Свою Природу — то есть образует Ипостаси в предвечном рождении Сына и исхождений Духа. Личность Бога-Отца предшествует и предопределяет Собою Его Сущность, но не наоборот… Божественный модус бытия есть личностная инаковость и свобода от какого бы то ни было естественного детерминизма» (Яннарас Х. Вера Церкви. М., 1992, сс. 70–71 и 143).
(обратно)69
Вспомним пушкинские сроки: «Основано от века, По воле Бога самого Самостоянье человека — Залог величия его». Во избежание недоразумений обратим внимание на строчку — «по воле Бога самого»: «самовластие» человека не извечно, его самостоянье есть дар ему от Единственно самодостаточного бытия — от Троицы.
(обратно)70
Западная философия почему-то упорно повторяла ошибки, уже отвергнутые патристической мыслью. Византийской мысли, воспитанной на апофатическом методе мышления, было несложно в период полемики с монофелитами прояснить для себя, что уравнения типа «личность есть вот это» всегда поверхностны, всегда редуцируют тайну личности к какой-то вещности. Но для Фихте (и, кстати, для воспитанного на немецкой романтике Хомякова) личность есть воля.
(обратно)71
«В Евангелии от Иоанна (Гл.1:18) читаем: «Бога не видел никто никогда». Именно эти слова дают нам основание понять, что по самой своей природе Бог не может быть видим, то есть, не может быть личностью» (Кулакова Е., Владимиров В. О нашей победе. Не позволим чернить светлые имена! // Свет Утренней Звезды, N 2, 14 января 1998 г., Новокузнецк). Личность вообще невидима. Видимо лишь то, что она как субстанция, ипостась, «несет» на себе, проявляя свою жизнь вовне. Отсюда — классическая в философии проблема чужой одушевленности: мой собеседник ведь видит не «меня». Он видит лишь частички моего трупа: верхние слои моей кожи, которые уже мертвы. Как от этого видимого он сможет заключить к невидимому — к наличию моей личности?
(обратно)72
«Лишь представление Бога как Непознаваемого Принципа может ответить всем запросам и пояснить многие недоумения» (Рерих Е. И. Письма. Т.3. 1935, М., 2001, с 70).
(обратно)73
цит. по: Боголюбов Н. Теизм и пантеизм. с. 302. Эти слова Бруно надо сопоставить с такими, например, словами ап. Павла: «Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» (1 Кор. 2, 11) и затем с категорическим заявлением Л. Дмитриевой о том, что в прошлом перевоплощении «Дж. Бруно был апостолом Павлом» (Дмитриева Л. Карма в свете «Тайной Доктрины» Е. П. Блаватской и Агни Йоги Рерихов. Беседа 22. с. 292). Кстати, перед этим апостол Павел, оказывается, успел еще перевоплотиться в Фому Кемпийского, а затем, в XIX столетии, он стал оккультным «учителем Илларионом» (Рерих Е. И. Письмо А. Асееву от 11.3.51 // Рерих Е. И., Рерих Н. К., Асеев А. М. Оккультизм и Йога». Летопись сотрудничества. Т. 1. М., 1996, с. 360).
(обратно)74
В синодальном переводе: «где же построите вы дом для Меня».
(обратно)75
Werden ohne Sein (нем.) «становление без бытия».
(обратно)76
Знаменитый греческий миф об Афине, рождающейся из головы Зевса, открывает не столько «бесстрастность», сколько неосведомленность античных богов. Афина рождается из головы Зевса оттого, что Зевс перед этим съел свою собственную супругу — богиню мудрости Метиду, уже беременную Афиной, и съел именно для того, «дабы она сообщала ему что зло и что благо» (Гесиод. Теогония, 900). Боги сами не знают различения добра и зла и должны этому учиться.
(обратно)77
«Теизм подчеркивает полную независимость и самодостаточность Бога. Пантеизм утверждает тождество Бога и вселенной. Бог представляется как универсальное присутствие, но не представляется как какая-то конкретная сущность» (Кимелев Ю. А. Философский теизм. Типология современных форм. М., 1993, с. 93).
(обратно)78
Поскольку Бог обладает полнотой знания — мы не можем сказать, что Его познающйи взор перемещается с одного предмета на другой и Бог при этом «узнает» что-то новое.
(обратно)79
По мнению пантеиста Спинозы, теистическое убеждение в том, что Бог действует целесообразно, «уничтожает совершенство Бога; ибо если Бог творит ради какой-либо цели, то он необходимо стремится к тому, чего у Него нет» (Спиноза Б. Этика. кн. 1. Прибавление к теореме 36. // Избранные произведения. т. 2. М., 1957, с. 397).
(обратно)80
«Мировой дух, — пишет Гегель, — не обращает внимания даже на то, что он употребляет многочисленные человеческие поколения для работы своего сознания себя, что он делает чудовищные затраты возникающих и гибнущих человеческих сил; он достаточно богат для такой затраты, он ведет свое дело en grand, у него достаточно народов и индивидуумов для такой траты» (Гегель Г. Ф. Лекции по истории философии. Соч. М.-Л., 1932, т.9, сс. 39–40).
(обратно)81
И вновь отметим отличие личностности Бога от личностности человеческой: «Бог как Абсолютный Субъект, как триипостасная Личность, соединяет в едином личном самосознании все модусы личного начала: я, ты, он, мы, вы; в отличие от этого единоипостасная личность (тварный дух) имеет эти модусы (кроме я) вне себя, в других личностях, и постольку ими ограничивается» (прот. Сергий Булгаков. Агнец Божий. Париж, 1933, с. 118).
(обратно)82
Это выражение Карла Барта: христианский Бог — «не одинокий Бог» (Barth K. Dogmatics in Outline. New-York, 1959, p. 42).
(обратно)83
«Именно в христианской религии, — пишет Е.И.Рерих, чем и вызывает ярость у ортодоксальных церковников, — установлено самое яркое многобожие. Понятие Бога Отца и воплощённого Сына Его, Иисуса Христа, не может считаться уже Единобожием. Не языческая ли Троица положена в основу христианской религии? Именно языческая. Сравним хотя бы древнеиндийскую брахманистскую Троицу — Тримурти (Триединый Лик или тройная форма): Брама-Вишну-Шива» (Дмитриева Л. П. Специальный выпуск газеты «Агни». Кишинев, 24 марта 1995 г.).
(обратно)84
При этом стоит, однако, заметить, что этот же вопрос становится и значимым и не просто допускающим, но требующим ответа при перемене его адресности. Если этот вопрос мы адресуем не Богу, а миру — то на него есть ответ. У Бога, созидающего мир, нет цели, которая стояла бы над Ним. У мира, созданного Богом, такая цель есть, и именно эта цель дает ему телеологический смысл. Мир создан Богом — к Нему должен идти — и, значит, путь мира не бесцелен. В этом смысле мы можем понять два основных аксиологических утверждения Библии: «Все сделал Господь ради Себя» (Притч.16,4) и что миросоздавший Логос — «Тот, для Которого все» (Евр. 2, 10). У мира есть призвание.
(обратно)85
Для cв. Василия Великого один из смыслов библейского выражения о том, что небо и землю Бог сотворил «в начале» состоит в указании на то, что лишь в незначительной степени Бог есть Творец, лишь не-существенным (для Него) образом: «в показание, что сотворенное есть самая малая часть Зиждителева могущества» (Беседы на Шестоднев // Творения. ч.1. М., 1845, с. 4).
(обратно)86
Об отличии антико-эпического значения образа ребенка от христианского см.: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977, сс. 171–177. В частности, в античном восприятии «ребенок мал, ребенок слаб, боязлив и трогателен; он не героичен и не трагичен. Его место в бытии — не деятельное, а страдательное» (с. 172). И даже когда ребенок предстает в качестве идеала, идеальность эта оказывается разной. В христианстве ребенок «идеален» потому что непамятозлобен и благодарен, умеет все принимать как подарок. Но в Брихадарьяника Упанишаде (5,3,1) ребенок предпочитается ученому брахману («пусть брахман, отрекшись от учености, станет как дитя») потому, что детскость здесь выступает символом половой неактивности (перед этим брахману рекомендуется искоренить в себе «стремление к сыновьям»).
(обратно)87
Интересная параллель библейски-серьезного отношения Бога к человеку в Коране. По воскресении обращаясь к праведникам, удивленным своим возвращением к жизни: «Разве вы думали, что Мы создали вас забавляясь и что вы к Нам не будете возвращены?» (Сура 23,117).
(обратно)88
Изложение г-жой Дмитриевой христианского богословия настолько своеобразно, что создается впечатление, что она не понаслышке знает те способы полемики, что приписывает мне: «В самом центре Церкви окопались немало лжеучителей, перенявших все методы лжи и подтасовок тоталитарного режима. Их наилучший образец представляет, к примеру, выпускник МГУ, специализировавшийся на кафедре научного атеизма, дьякон Андрей Кураев, ставший «штатным» пропагандистом от Церкви во всех средствах массовой информации, которым по нраву антирериховская компания и которые еще не додали читателям и слушателям ту порцию грязи и яда по поводу Блаватской, что так тщательно была подготовлена идеологами тоталитарного режима СССР» (Там же. Беседа 25. с. 327).
(обратно)89
Например: «Откровение учит нас, что Бог есть чистейший Дух, не соединенный ни с каким телом, и что, следовательно, природа Его — совершенно невещественная, непричастная ни малейшей сложности, простая» (Митр. Макарий (Булгаков). Православно-догматическое богословие. Т. 1. СПб., 1868, с. 95–96). Или: «Если все существующее получило начало от Творца, имеет начало во времени, ограничено в пространстве и изменяемо, то о Боге следует утверждать, что Он самобытен (не зависит ни от кого по бытию), вечен (не зависит от времени), вездесущ (не зависит от пространства), прост (несложен), неизмерим, неограничен, бесконечен, безначален, неизменен, непостижим и т. д. Перечисленные апофатические свойства не определяют сущности Бога, так как не отвечают на вопрос: что же есть Бог по существу. Эти «свойства» говорят лишь о том, что Божество превыше всевозможных ограничений и определений, но не сообщают положительного знания о Божественной Сущности» (Архим. Алипий (Кастальский-Бороздин), архим. Исайя (Белов). Догматическое богословие. Курс лекций. Троице-Сергиева Лавра, 1994, с. 78).
(обратно)90
«Единица, от начала подвигшаяся в двойственность, остановилась в троичности» (Св. Григорий Богослов. Слово 29 // Творения. Т. 1. Троице-Сергиева Лавра, 1994, с. 414).
(обратно)91
«Эта единая Причина не предшествует Своим следствиям, ибо в Троице нет ничего предшествующего и последствующего. Она не превосходит Своих следствий, ибо от Причины совершенной не могут происходить следствия менее совершенные» (Лосский В. Н. Исхождение Святого Духа в православном учении о Троице // Лосский В. Н. По образу и подобию. М., 1995, с. 82).
(обратно)92
Православная традиция различает шесть видов света: люциферический свет падшего ангельского мира; свет тварный физический; тварный внутренний свет человеческого ума; тварный свет «умной» подосновы мироздания; тварный свет ангельский и, наконец, нетварный Свет Божества. Поэтому «световая мистика», присутствующая в разных религиозных традициях, может относиться к разным реалиям. Сияние манаса, созерцаемое йогом, совсем не есть нетварный свет исихастов. «Если кто желает узреть состояние ума, пусть он отрешится от всяких (греховных) мыслей и тогда увидит себя схожим с сапфиром и сияющим небесным светом», — пишет, например, авва Евагрий (Творения аввы Евагрия. М., 1994, с. 123). Эту же мысль приводил свт. Григорий Палама, полагая, впрочем, что сочинение, из которого он ее взял, принадлежит не Евагрию, а преп. Нилу (см. Еп. Алексий. Византийские церковные мистики XIV века. Казань, 1906, с. 45). Языческая мистика этот свет считает конечной инстанцией, тогда как православие — лишь промежуточной. Об «умном свете» первого дня творения писал свт. Филарет Московский, ссылаясь на свт. Василия Великого (см. Митр. Филарет (Дроздов). Записки, руководствующие к основательному разумению книги Бытия, заключающие в себе и перевод сей книги на русское наречие. Ч. 1. М., 1867, с. 3).
(обратно)93
Творения аввы Евагрия. — М., 1994, с. 123. Эту же мысль приводил св. Григорий Палама, полагая, впрочем, что сочинение, из которого он ее взял, принадлежит не Евагрию, а преп. Нилу (см. еп. Алексий. Византийские церковные мистики XIV века. — Казань, 1906, с. 45).
(обратно)94
Термин панэнтеизм введен немецким богословом К. Краузе в 1828 г. Он означает такое понимание отношений Бога и мира, при котором все мировое бытие погружено в Бога; Бог пронизывает мир, но при этом Бытие Бога не сводится к бытию мира, поскольку Божие бытие гораздо богаче бытия космического.
(обратно)95
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 1, с. 358. О том, как философски с позиций христианства все же это «можно предположить» см. в книге С. Л. Франка «Реальность и человек» (Париж, 1952).
(обратно)96
Боголюбов Н. Теизм и пантеизм. Нижний Новгород, 1899, с. 52. Для атеистического пантеизма, обожествляющего материю, Боголюбов предлагает сохранить имя собственно пантеизма, тогда как акосмическому мировоззрению, во всем видящему лишь Бога и отрицающему реальность мира, он предлагает усвоить имя теопантизм (с. 53).
(обратно)97
Между прочим, именно так — «атеистическим пантеизмом» — называл буддизм А. С. Хомяков: «в этом призраке учения ходят какие-то призраки существ и проглядывают призраки эманаций» (Хомяков А. С. Семирамида // Сочинения. Т. 1. М., 1994, с. 222).
(обратно)98
Болотов В. В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 2. М., 1994, с. 342. Полезно выслушать и продолжение этой мысли крупнейшего историка Церкви: «Следовательно, и в том и в другом случае мир до известной степени божественной природы (и как субъект). Этой пантеистической черты нет у Оригена: мир есть только объект божественной природы. Если мир есть божественная идея, мысль Божества, то для гностика это значит, что мир есть сама (объективировавшаяся) мысль как психическое содержание; для Оригена это — мысль как ее логическое содержание».
(обратно)99
«Все по необходимости возвращается в то, из чего, по словам их, произошло, и что Бог есть раб этой необходимости, так как не может даровать смертному бессмертие и тленному нетление, но все возвращается в субстанцию, сходную с его природой, — это утверждали также и стоики… одержимые тем же неверием» (св. Ириней Лионский. Против ересей. 2,14,4).
(обратно)100
Кроме того, фундаментальное отличие гностицизма от теософии заключается в более личностном, в более трагическом мироощущении гностицизма. Гностики исходят из недолжности страдания и зла. Когда-то и однажды произошло падение духовных стихий, когда-то случился грех Плиромы, и из этого недостойного, недолжного состояния люди должны выйти. Напротив, «с точки зрения теософии падение Люцифера, воплощение Логоса и искупление — вечно космические процессы» (Странден Д. В. Теософия и ее критики, с. 54–55. Цит. по: Кудрявцев К. Д. Что такое теософия. СПб., 1914, с. 53).
(обратно)101
О творении как первой жертве Бога см. прот. Михаил Чельцов. О человеческих привнесениях в Библию // Христианская мысль. Киев, 1916, кн. 6, с. 102.
(обратно)102
«И этому чуду подивимся, как из праха создал человека, как разнообразны человеческие лица, — если всех людей собрать, не у всех один облик, но каждый имеет свой облик лица, по Божьей мудрости» (Поучение Владимира Мономаха // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. XI–XII века. Спб., 1997, с. 461).
(обратно)103
«Там, где неоплатоническая теология предполагает процесс, христианская теология предполагает поступок, обладающий всем драматизмом поступка («так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного»). Это давало человеку надежду: в мир приходит не помрачившееся в пути излучение Бога, но сам Бог во всей полноте своей божественности. Для неоплатонизма именно эта надежда была абсурдом» (Аверинцев С. С. Эволюция философской мысли // Культура Византии. IV — первая половина VII века. — М., 1984. с. 55).
(обратно)104
В лучшем учебнике богословия XIX века («Догматическое богословие» архиеп. Филарета Черниговского) есть немаловажное уточнение того места Библии (2 Мак. 7, 28), где формулируется креационистский догмат: «Выражение ex ouk onton (из не сущего) или, как вернее в александрийском списке: ouk ex onton poiesen panta o Theos (не из сущего сотворил все Бог), не совсем точно переведено в Вульгате: «ex nihilo fecit — сотворил из ничего», как будто ничто составляет какую-нибудь материю. Священный писатель выражает ту мысль, что Бог сотворил все не из чего-либо или дал бытие миру без участия какого-либо вещества» (цит. по: Лопатин Л. М. Положительные задачи философии, с. 285).
(обратно)105
«Слово завет — по древне-еврейски берит — происходит от глагола бара — резать, и в то же время, возможно, связан с ностратическим глаголом бери — брать, избирать. Таким образом, в этом слове можно проследить два основных значения: во-первых, резать, разрезать, потому что у древних народов завет заключался путем рассечения жертвенного животного и прохождения вступающих в союз между его частями. Второе значение, восходящие к ностратическому бери, может включать в себя идею избрания — Бог «берет», избирает человека, приближает к себе, заключает с ним завет» (Щедровицкий Д. Введение в Ветхий Завент. Ч.1. Книга Бытия. М., 1994, с. 49)
(обратно)106
«По арабски вещь — <say’ — нечто, вещь, дело; первоначально желание от глагола *sy’ желать, хотеть; отсюда буква <s [пишется как греческое кси ] как сокращение для нечто, в испанской транскрипции х (тогда еще читалось [<s]) — отсюда икс в европейской математике» (Дьяконов И.М. Архаичные мифы Востока и Запада. М., 1990, с. 25).
(обратно)107
Пантеизм может объяснить, как возникает иллюзия бытия в сознании человека, но как объяснить иллюзорность, ошибочность мышления самого Божества? «Как возникает Майя не в смысле субъективного призрака, живущего в человеческом сознании, но в смысле объективного, хотя и неистинного, призрачного, аспекта Брамы-Атмана, в смысле отрешения его самого от своей истиинной сверхсознательной жизни и погружения в мечтательно-сноподобную жизнь Майи?» (Введенский А. Религиозное сознание язычества. с. 454).
(обратно)108
«В понятии об эманации лежит понятие о единстве субстанции, то есть полная зависимость истекающего от своего источника… Весьма тонкая черта отделяет эманацию от творения. В одном предполагается появление нового существа с новыми силами и новым началом жизни духовной, в другом только дробление первого существа» (Хомяков А. С. Семирамида, с. 222).
(обратно)109
Создатель системы вишишта-адвайты Рамануджи (XII в.) приводит аналогичный довод. В работе «Шри-бхашья» он предлагает семь аргументов против пантеизма адвайта-веданты Шанкары, шестой из котрыйх вопросшает — Кто является носителем освобождающего знания? Если это отличный от Брахмана субъект, то незнание все еще не преодолено. Если это сам Брахман, то он оказывается внутренне расчленен на субъект знания и знание, что противоречит исходному тезису адвайты. Отметим еще седьмой аргумент: если устраняющее авидью (незнание) знание возникает, то оно все еще пребывает в сфере иллюзорного (поскольку любые возникновения и временные процессы иллюзорны), и значит требуется «устранитель» данной иллюзии — и так далее, до бесконечности; если же оно не возникает, а вечно дано, то как согласовать с этим наличие авидьи? (см. Костюченко В. С. Классическая веданта и неоведантизм. М., 1983, с. 132).
(обратно)110
«Егда же во гробе нове за всех положился еси, Избавителю всех, ад всесмехливый, видев Тя, ужасеся». Впрочем, это церковнославянское слово означает не «всегда смеющийся», а «достойный всяческого осмеяния».
(обратно)111
С точки зрения христианства ересью является радикальный монизм этой формулы, сводящей все многообразие бытия к действиям одного Субъекта. Еретичен этот тезис Блаватской и с точки зрения буддизма, в котором ересью считается признание какой бы то ни было всемировой целостности. Ну, а философский пантеизм не согласится с предположением о том, что Божество чего-то «желает» («желающее проявиться»). Нельзя не заметить, что теософия тем самым оказывается более чем странным способом «примирения религий»: возгласить тезис, по разным основаниям отвергаемый большинством религий, — вряд ли значит обрести их общую основу.
(обратно)112
«Без всяких фантазий и без всякой обманчивой игры призраков для меня в высшей степени несомненно, что я существую, что я это знаю, что я люблю. Я не боюсь никаких возражений относительно этих истин со стороны академиков, которые могли бы сказать: «А что если ты обманываешься»? Если я обманываюсь, то поэтому уже существую. Ибо кто не существует, тот не может, конечно, и обманываться: а следовательно существую, если обманываюсь. Итак, поелику я существую, если обманываюсь: то каким образом я обманываюсь в том, что существую, если я существую несомненно, как скоро обманываюсь? Поелику я должен существовать, чтобы обманываться, даже если бы и обманывался; то никакого нет сомнения, что я не обманываюсь в том, что знаю о своем существовании. Из этого следует, что я не обманываюсь и в том, что я знаю то, что я знаю. Ибо как знаю я о том, что я существую, так равно знаю и то, что я знаю. Поелику же эти две вещи я люблю, то к этим двум вещам, который я знаю, присоединяю и эту самую любовь, как третью, равную с ними по достоинству. Ибо я не обманываюсь, что я люблю, если я не обманываюсь и в том, что люблю; хотя если бы даже последнее и было ложно, во всяком случае было бы истинно то, что я люблю ложное» (О Граде Божием, 11,26). Далее Августин из этой триады (существование-знание-любовь) выводит Бытие Троицы.
(обратно)113
Рильке Р. М. Что не было меня доныне… // Рильке Р. М. Часослов Спб., 1998, с. 79. Впрочем, были у Рильке и минуты мистико-пантеистических переживаний: «Когда сновидец Ты, так я — твой сон» (Не бойся, Боже! Это я — мой крик. // Там же, с. 30); «Я чувствую — любая жизнь живется. А кто живет ее?.. Так кто же жизнь живет? Не Ты ли, Боже?» (Пусть каждый из себя на волю рвется… // Там же, с. 106). Впрочем, само это «Ты», которое он постоянно обращает к Богу, показывает, что религиозность Рильке — живая и христианская, а не пантеистическая. Кстати, по признанию самого поэта, самое яркое его религиозное переживание — это православная Пасха в Москве…
(обратно)114
Рерих Е. И. Письма. Т.3. 1935, М., 2001, с. 447. Рерихианец развивает мысли Елены Ивановны: «Любовь или Притяжение — сила, действующая изнутри всех форм сущего. Действие энергии Любви проявляется в Космосе на всех уровнях — как физическое притяжение в элементарных частицах и атомах, как половой инстинкт в животных, как буддхическая Мудрость в духовно просветленном человеке» (Шаров Д. А. Живая этика Н. К. и Е. И. Рерихов, с. 119). Из его слов, однако, следует, что Ненависть столь же природна и неотвратима, ибо в мире атомов есть не только притяжение, но и отталкивание, и у животных есть не только эрос, но и поедание друг друга. Так что если люди ненавидят друг друга — это все то же действие Космического магнита, который ведь не все притягивает к себе, но сродное способен и отталкивать.
(обратно)115
«Каузальность через свободу» (Кант И. Критика способности суждения, 87. // Кант И. Сочинения. Т. 5. М., 1966, с. 484).
(обратно)116
В том числе и индийской, где неизбежно возникал вопрос о том, полностью ли Брахман трансформировался в мир или частично.
(обратно)117
«Было дело, что просвещенный в области духовной, молодой иерей из города отец Борис укорил отца Савву за дружбу с одним атеистом. — Что тут поделаешь, — развел руками преподобный, — Господь так любит людей, что для тех, кто твердо убежден, будто Его нет, Его действительно нет. Человеческому рассудку это непостижимо, но хотя бы оцените уровень свободы» — «мелочь церковной жизни», рассказанная о. Иоанном Охлобыстиным..
(обратно)118
«Считается, что духовная монада вечна и периодически перевоплощается в материальном мире. Но если в прошлом наших душ бесконечность, то почему мы до сих пор такие несовершенные? Где наши души мурыжились целую вечность в прошлом, если им до сих пор нужно объяснять такие простые истины? Когда я задал этот вопрос руководительнице нашего рериховского общества, она, подумав, сказала: «Так ведь и с ума сойти можно». На самом деле, если оставаться на этой позиции, то просто приходишь к выводу, что весь мир и жизнь это только игра духов, надевших разные карнавальные маски. И какое-либо совершенствование становится бессмысленным» (из письма мне бывшего рериховца Евгения Благодаренко).
(обратно)119
Свт. Феофан Затворник в человеке усматривает пять уровней жизни: жизнь телесная, душевно-телесная, душевная, духовно-душевная и духовная. «Пять ярусов, но лице человека одно, это одно лице живет то тою, то другою, то третьею жизнью» (Св. Феофан Затворник. Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться. М., 1914, с. 42).
(обратно)120
«В тексте, претендующем быть философичным — и вдруг о бесах?!» — возмутятся некоторые читатели. Однако: во-первых, о бесах и об искушениях от них говорит многократно Евангелие. Во-вторых, моя задача изложить православное миропонимание, которое, конечно, всегда включало в себя знание темной духовной реальности. В-третьих, не теософам возражать против упоминания бесов: Люцифер является очень важным персонажем в их собственной мифологии. В-четвертых, именно многообразие бесовского мира, многообразие опыта зла сегодня открыто человеку просто с навязчивой очевидностью. Можно сомневаться в том, что есть Бог, но уже нельзя сомневаться в том, что есть дьявол.
(обратно)121
«Имперсонализм — естественное следствие пантеистического монизма Гегеля. Парадокс гегелевской философии в том, что при этом она, как и весь немецкий идеализм, проникнута пафосом свободы. Однако свобода тут трактуется своеобразно: свободным является только богочеловечество, но отнюдь не конечный едининичный человек. Последний — исчезающе малая пылинка в грандиозном движении мирового духа, использующего в качестве средства намерения и поступки индивида». Гайденко П. П. Искушение диалектикой: пантеистические и гностические мотивы у Гегеля и Вл. Соловьева // Вопросы философии. 1998, № 4, с. 83.
(обратно)122
Изложение эпизода из книги Блаватской «Из пещер и дебрей Индостана» приведено по книге: Лазарев С. Н. Диагностика кармы. Кн. 1. СПб., 1993, с. 7.
(обратно)123
Принцип Оккама можно приложить и к пантеизму в целом: «В известном отношении пантеизм грешит тем, что дает лишь номинальное определение; прибавляя к миру идею Бога, он прибавляет лишь слово, нечто неизвестное, ибо Бог пантеистов ведь не есть Бог положительной религии; он лишен тех определений, которые обыкновенно придаются Богу в положительной религии», — справедливо писал Э. Радлов (Радлов Э. Л. Пантеизм // Энциклопедический словарь. Т. XXII-а. Издание Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. — СПб., 1897, с. 705).
(обратно)124
peri arcwn (греч.) «о первоначалах».
(обратно)125
Цит. по: Степанянц М. Т. Философские традиции Индии, Китая и мира Ислама // История философии. Запад-Россия-Восток. Кн. 1. М., 1995, с. 413. Последние слова — цитата из Корана: «не вы их убивали, но Аллах убивал их, и не ты бросил, когда бросил [копье] но Аллах бросил» (Сура 8. Добыча, 17)
(обратно)126
В одном из видений Сведенборга представлен Кальвин, осужденный вечно писать книгу о предопределении (см. Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. Берлин, 1922, с. 32).
(обратно)127
Кстати, понимают ли обычные охотники порассуждать о «перевоплощениях», что «лучшей» реинкарнацией является не рождение в семье американского миллионера, а рождение в бедной тибетской или индийской семье, не знающей ни кондиционера, ни видео и живущей впроголодь? Готовы ли они всерьез идти путем личной аскезы? Или им просто нравится показывать друг другу, сколь «широки» их взгляды по сравнению с «невежественным и закосневшим в догмах православием», которое, вдобавок, все никак не догадается поставить в храмах скамейки для большей комфортности при «общении с Космосом»?
(обратно)128
Кстати, о Фемиде: «От теогонии Гезиода до онтологии Платона, грек не знает свободного Бога. Понятие свободы в нашем смысле неизвестно ни в религии, ни в морали» (Трубецкой С. Н. Мнимое язычество или ложное христианство? с. 160).
(обратно)129
Мени — богиня счастья ханаанской мифологии.
(обратно)130
В пантеистической картине мира «не находится места противопоставлению достойного и недостойного» (Д. фон Гильдебранд. Тейяр де Шарден: на пути к новой религии. // Д. фон Гильдебранд. Новая вавилонская башня. Избранные философские работы. Спб., 1998, с.127).
(обратно)131
Sub specie aeternitatis (лат.) «с точки зрения вечности».
(обратно)132
Конечно, христианская мысль отдает себе отчет в том, насколько условно можно включать Божество в понятие Бытия. В принципе не может быть такого понятия, которое включало бы в себя Бога и «рядом» с Ним еще что-то. «Говоря бытие есть, мы по недомыслию подчиняем саму категориальную форму ей же самой. Бог не есть часть или кусок «действительности» или предметного бытия», — пояснял С. Франк (Франк С. Л. Сочинения. М., 1990, с. 453). А до него преп. Симеон восклицал: «Воистину Ты ничто из всех (существующих), о Боже мой! Бог… действительно есть… но Он есть ничто из того, что мы вообще знаем, и ничто из того, что ангелы знают. И в этом (смысле) я говорю, Бог есть ничто… Ибо кто мог бы… произнести: «Он есть это или, для примера, то?»» (Цит. по: Архиеп Василий (Кривошеин). Преподобный Симеон Новый Богослов. Нижний Новгород, 1996, с. 203, 208–209).
(обратно)133
«Бог сам есть виновник и ничто, ибо все, как последствие, вытекает из Него, согласно причинам как бытия, так и небытия, ибо само ничто есть ограничение, ибо оно имеет бытие благодаря тому, что оно есть ничто не существующего» (преп. Максим Исповедник; цит. по: Булгаков С. Н. Свет невечерний. М., 1994, с. 163).
(обратно)134
В. Соловьев подметил в гностицизме двусмысленность процесса, в котором ничего не происходит: исход мирового становления «во всех гностических системах лишен положительного содержания: он сводится, в сущности, к тому, что все остается на своем месте, никто ничего не приобретает. Мир не спасается; спасается, то есть возвращается в область божественного, абсолютного бытия, только духовный элемент, присущий некоторым людям (пневматикам), изначала и по природе принадлежащим к высшей сфере. Он возвращается туда из мирового смешения цел и невредим, но без всякой добычи. Ничто из низшего в мире не возвышается, ничто темное не просветляется, плотское и душевное не одухотворяется… Мир не только ничего не приобретает благодаря пришествию Христа, а, напротив, теряет, лишаясь того пневматического семени, которое случайно в него попало и после Христова явления извлекается из него. С выделением высшего духовного элемента мир навеки утверждается в своей конечности и отдельности от Божества» (Соловьев В. С. Гностицизм // Собрание сочинений. Т. 9 (дополнительный). СПб., 1907, с. 99–100).
(обратно)135
Амальрикане — пантеистическая европейская секта начала XIII в., осуждена на Латеранском Соборе в 1215 г. По их учению, человек, осознавший свою божественность, не может грешить.
(обратно)136
Шохин В. К. Брахманистская философия. М., 1994, с. 299 На ту же тему о проекции пантеизма в социальную сферу: «Мысль о «сверхсознании» является, по существу, идеалом тоталитаризма: она представляет собой абсолютную антитезу идее подлинного общества, состоящего из ярких индивидуальностей» (Д. фон Гильдебранд. Тейяр де Шарден: на пути к новой религии // Д. фон Гильдебранд. Новая вавилонская башня. Избранные философские работы. Спб., 1998, с. 105). Надо заметить, что именно это — нежелание индийский философии оставить место для уникальности человеческой личности и ее свободы — и имеет в виду В. Шохин, когда говорит, что современный человек «не имеет шансов в найти в брахманистской философии источник решения экзистенциальный мировоззренченских проблем» (с. 306). Естественно, что А. Владимиров, убежденный, будто «личность», или «то, с чем так носится «классическая» психология, — есть не более чем иллюзия, та эфемерная, выдуманная на Западе конструкция «я», в которой за тысячу лет философской схоластики Запад не продвинулся ни на шаг» (с. 163) — за эту фразу набрасывается на Шохина — как это мол «индолог (!) Шохин» посмел не заценить «величайшую в мире философию и мудрость Индии» (Владимиров А. В поисках православия. Современники. М., 2000, с. 97). Опять же — естественно (для теософа, чей разум травмирован оккультными опытами), что через пару страниц Владимиров, только что превознесший индуизм над христианством, заявляяет, что обратные утверждения (имеется ввиду моя попытка объяснить превосходство христианства над индиийским пантеизмом и атеистическим буддизмом) — это «конфессиональный расизм… полурасистское взвешивание — какая религия лучше» с оргвыводом, что «пропаганда подобных взглядов попахивает нарушением международных и конституционных норм о недопустимости разжигания религиозной розни» (сс. 99-100).
(обратно)137
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 2, сс. 341–342. По сути это цитата из Блаватской. Правда, у создательницы «Сокровенного учения» (оно же — «Тайная Доктрина») была важная деталь, умолчанная в письме Рерих: перед фразой «действие противоположений производит гармонию» у Блаватской стоит «доброта перестала бы быть таковой, если бы не сменялась своей противоположностью» (Блаватская Е. П. Разоблаченная Изида. Т. 2, с. 570).
(обратно)138
«Мы можем мыслить свойства высшего существа только по аналогии. Через аналогию мы можем мыслить Его, но не можем Его познавать. Пусть свойства, которые мы приписываем упомянутому существу, содержат в себе антропоморфизм; но цель их применения заключается не в том, чтобы в соответствии с этим определить его непостижимую для нас природу, а в том, чтобы в соответствии с этим определить самих себя и нашу волю» (Кант И. Критика способности суждения, 88. // Там же, сс. 493–494.
(обратно)139
«Побудьте здесь и бодрствуйте со Мной» (Мф. 26,38).
(обратно)140
«Поэтому будет гораздо лучше, если он не будет забывать, что в каждом человеке есть Бог, или прямой Луч Абсолюта, Небесный Луч Единого, и что его «Бог» в нем самом, а не вне его» (Блаватская Е. П. Комментарии к «Тайной Доктрине». с. 69).
(обратно)141
Поскольку традиция умной внутренней монашеской молитвы не умерла, у нас есть возможность узнать от ее представителя, что именно православный молитвенник думает о теософии: Идея безличностного божества «исходит от тех, кто боится личной встречи с Богом, потому что Он непременно взыщет с каждого. А те, кто встречался с Богом внеличностно, лишь тешит свое самолюбие. К тому же приводит и медитация в дзен-буддизме, она «умиряет» душу. Но если душа ваша покойна и не рвется к Богу, то вы обманетесь, думая, что встретили Его. В этом и проявляется духовная незрелость. Но случись вашей душе возгореться, вы в конце концов порвете все путы» (иером. Серафим (Роуз). Цит. по: иеромон. Дамаскин (Христенсен). Не от мира сего. Жизнь и учение иеромонаха Серафима (Роуза) Платинского. М., 1995, с. 43).
(обратно)142
«Ибо Ты дал нам предвкусить спасительное милосердие, сказав: Мир милостию устроится — mundus per gratiam aedificabitur» — преп. Ефрем Сирин. Впрочем, старший современник преп. Ефрема Афраат Персиянин приводил те же слова, относя их к некоему «Пророку» (см. Таубе М. А. Аграфа. О незаписанных в Евангелии изречениях Иисуса Христа. Ч.2. Вероятные изречения Иисуса Христа в древней апокрифической письменности. Париж, 1949, с.12). Поскольку Мяло ценит Мережковского, привожу эту аграфу в его переводе (не вполне точном).
(обратно)143
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Синтез науки, религии и философии. Т. 3. Новосибирск, 1993, с. 59. Ср.: «Настал час указать, что Величайший Бог — это Бог непреложного Закона, Бог Справедливого воздаяния, но не произвола в Милосердии» (Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 2, с. 260.
(обратно)144
В апреле 1921 года отец теории относительности получил телеграмму от Xерберта Гольдштейна. Нью-йоркский раввин вопрошал великого ученого: «Верите ли Вы в Бога тчк оплачиваемый ответ 50 слов». Лаконичный Эйнштейн уложился в 16 слов, приведенных выше.
(обратно)145
свящ. Сергий Желудков. Почему и я — христианин. Спб., 1996, сс. 31–32. Напомню, что «по свидетельству современников, «Тайная доктрина» Е. П. Блаватской была настольной книгой Эйнштейна» (Вергун В. В. Имеет ли Россия право на светскую духовность // Мяло К. Звезда волхвов… М., 1999, с. 11). Впрочем, «Николай Константинович и Юрий в свое время возмущались известными формулами Эйнштейна» (Рерих Е. И. Письма в Америку. 1923–1952. Т.4. М., 1999, с. 68)
(обратно)146
Цитату из неназванного буддистского трактата см. Дэви-Неел А. Посвящение и посвященные в Тибете, с. 204
(обратно)147
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 1, с. 273. После этих вполне ясных заверений Махатм весьма неожиданно было читать у Л. В. Шапошниковой в ее рекламной статье о «всепримиряющем и всепобеждающем» учении Рерихов, будто «творчество роднит земного человека с Богом-творцом и указывает ему (человеку) тем самым эволюционный путь в звездных пространствах Космоса… Материя бесцеремонно потеснила дух, разорвала связи с Высшим, усомнилась в существовании космического творчества и присвоила себе функции Бога-творца» (Шапошникова Л. В. «Синтез действенного блага…» // Человек. № 1. 1994, с. 92, 97). Тут я оказываюсь перед выбором: или я должен сказать, что Вице-президент Международного центра Рерихов Л. В. Шапошникова пропагандирует учение, которого не знает, и не стесняется публично демонстрировать свою неосведомленность в самой теософии. Или же я должен публично признать, что моя критикесса слишком хорошо усвоила уроки Елены Ивановны о допустимости отклонений от правды. Неужели не знает Вице-президент теософов, что представление о Боге как Творце казалось Рерих кощунственным и несовместимым с ее радикальным монизмом? Это какая же материя «присвоила себе функции Бога-Творца»? Уж не та ли, которую в качестве единственного предмета своей веры признают Махатмы? Боюсь все же, что Шапошникова знает, что делает. То, что в иные годы она выдавала за материализм, теперь она представляет почти что христианством.
(обратно)148
«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива…» — Притч. 6, 6–8.
(обратно)149
Урок, кстати говоря, не слишком убедительный. Из того факта, что при инвентаризации всемирной массы материи не удалось «познать» Личного Бога-Творца, никак не следует, что его нет. Аргумент Махатм вполне на уровне «Гагарин в космос летал — Бога не видал». Бог, будучи Причиной мира, не может быть «частью» Своего творения и потому, конечно, Его обитель нельзя найти при космологической инвентаризации Вселенной. Если мы делаем опись школьного имущества, мы не сможем указать в ней: «стульев — триста сорок; парт — сто пятьдесят; лестничных переходов — двадцать четыре;… архитектор — 1 экз.».
(обратно)150
Crescendo «увеличивая (звук)», diminuendo «уменьшая» (итал., музыкальные термины); vice versa (лат.) «наоборот».
(обратно)151
«Теософический гнозис никогда не приходит к Богу, он до бесконечности погружен в мир, в космическую эволюцию» (Бердяев Н. А. Философия свободного духа. М., 1994, с. 183).
(обратно)152
преп. Феодор Студит. Наставления монахам, 315. // Добротолюбие. Т. 4. — Jordanville, 1965, с. 422.
(обратно)153
см. Николаев Ю. В поисках Божества. Очерки из истории гностицизма. — Киев, 1995, с. 217.
(обратно)154
Болотов В. В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 2 — М., 1994, с. 367.
(обратно)155
Сушков Б. Когда мы реабилитируем Льва Толстого? // Евангелие Толстого. Избранные религиозно-философские произведения Л. Н. Толстого. М., 1992, с. 4.
(обратно)156
В поисках созидательной верности. Интервью с О. Клеманом и Н. Лосским // Церковно-общественный вестник. № 4. Приложение к «Русской мысли» от 28.11.1996.
(обратно)157
Соловьев В. С. Е. П. Блаватская // Критико-биографический словарь русских писателей и ученых С. А. Венгерова. т. 36. СПб., 1892; Соловьев В. С. Рецензия на книгу Е. П. Блавацкой: «The key to Theosophy» // Соловьев В. С. Собрание сочинений. Второе издание. Т. 6. (Репринт: Брюссель, 1966).
(обратно)158
Шапошникова Л. Новое планетарное мышление и Россия // Мир огненный. 1996, № 3 (11), с.28.
(обратно)159
Рерих Е. И. Письма в Америку. 1923–1952. Т.4. М., 1999, с. 281.
(обратно)160
Рерих Е. И. Письма в Америку. 1948–1955. Т.3. М., 1993, с. 40.
(обратно)161
Преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М. — Ростов-на-Дону, 1992, с. 3.
(обратно)162
Лосский В. Н. К вопросу об исхождении Святого Духа // Лосский В. Н. Спор о Софии. Статьи разных лет. М., 1996, с. 147.
(обратно)163
цит. по: Гайденко П. П. Искушение диалектикой: пантеистические и гностические мотивы у Гегеля и Вл. Соловьева // Вопросы философии. 1998, № 4, с. 80.
(обратно)164
Выражение Каменской, председателя Российского Теософского общества. Цит. по: Лодыженский М. В. Мистическая трилогия. Т. 3. Темная сила. Пг., 1914, с. 183.
(обратно)165
Агни-Йога. Откровение. 1920–1941, М., 2002, с. 19.
(обратно)166
Блаватская Е. П. Теософия и практический оккультизм. М., 1993, с. 9.
(обратно)167
Письма Елены Рерих 1932–1955, с. 29.
(обратно)168
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 1, с. 362.
(обратно)169
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 2, с. 425.
(обратно)170
Письма Елены Рерих 1932–1955, с. 409
(обратно)171
Там же, с. 36.
(обратно)172
Цицерон. О государстве // Цицерон. О государстве. О законах. О старости [и другие трактаты]. М., 1999, с. 143.
(обратно)173
Лобковиц Н. Что такое «личность»? // Вопросы философии. 1998, № 4, сс. 63–64.
(обратно)174
Преп. Симеон Новый Богослов. Слово 18 // Творения. Т. 1. М., 1892, с. 169.
(обратно)175
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 2, с. 273.
(обратно)176
Преп. Макарий Египетский. Духовные беседы. М., 1880, с. 15.
(обратно)177
Льюис К. С. Из двух интервью. // Вестник РХД. № 139. — Париж, 1983.
(обратно)178
Цит. по: Прот. Георгий Флоровский. Восточные отцы IV-го века. М., 1992, с. 33.
(обратно)179
Феофан Затворник. Собрание писем. Вып. 5. — М., 1900, с. 170.
(обратно)180
св. Иоанн Златоуст. 7-я беседа на 1 Послание Корянфянам. 4. // Творения. Беседы на 1 Кор. — СПб., 1858, с. 117.
(обратно)181
Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993, с. 856.
(обратно)182
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 1, с. 366.
(обратно)183
Преп. Феодор Студит. Наставления монахам, 123 // Добротолюбие. Т. 4. Jordanville, 1965, с. 184.
(обратно)184
Рерих Н. К. Обитель света. М., 1992, с. 22.
(обратно)185
преп. Макарий Египетский. Духовные беседы. — М., 1880, сс. 11 и 409.
(обратно)186
Дмитриева Л. Карма в свете «Тайной Доктрины» Е. П. Блаватской и Агни Йоги Рерихов. Спецкурс лекций по Основам Эзотерической Философии, прочитанный в Государственном Университете Молдовы и Международном Независимом Университете в 1993-95 гг. Тематическое приложение к газете Агни Священный. Кишинев, 1996, Беседа 24. с. 317.
(обратно)187
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 2, с. 9 и Т. 1, с. 281.
(обратно)188
Рерих Е. И. Письма. Т.3. 1935, М., 2001, с. 307.
(обратно)189
Цит. по: Карсавин Л. П. Святые отцы и учители Церкви. (Раскрытие православия в их творениях). М., 1994, с. 61.
(обратно)190
св. Василий Великий. Против Евномия 2. // Творения. Т.1, Спб., 1911, с. 489.
(обратно)191
св. Григорий Богослов. Слово 31. О богословии пятое // Творения. Троице-Сергиева Лавра, 1992, т. 2. с. 450.
(обратно)192
св. Григорий Нисский. Против Евномия. 4,2 // Творения. Ч. 5. М., 1863, с. 449.
(обратно)193
св. Григорий Нисский. Против Евномия. 4,2 // Творения. Ч. 5. М., 1863, с. 448.
(обратно)194
св. Григорий Нисский. Против Евномия. 4,8 // Творения. Ч. 5. М., 1863, с. 497.
(обратно)195
Августин. О книге Бытия, буквально. 1. // Августин, епископ Иппонский. Творения. ч. 7. — Киев, 1912. с. 97.
(обратно)196
Цит. по: Прокошев П. Прискиллиан и прискиллианисты (Церковно-исторический очерк) // Православный собеседник 1900, октябрь, приложение, с. 29.
(обратно)197
Цит. по: Прокошев П. Прискиллиан и прискиллианисты (Церковно-исторический очерк) // Православный собеседник 1900, октябрь, приложение, с. 35.
(обратно)198
преп. Симеон Новый Богослов. Слово 30 // Слова. М., 1892, сс. 259–260.
(обратно)199
Блаватская Е. П. Письмо А. П. Ганненфельду, с. 91 и 89.
(обратно)200
Письма Елены Рерих 1929–1938 Т. 2, с. 97.
(обратно)201
Там же, с. 354.
(обратно)202
Джагад-гуру Сиддхасварупананда Парамахамса (Крис Батлер). Дорогой друг, ты не Бог. Люблин-Краков-Москва, 1998, с. 7.
(обратно)203
Лосев А. Ф. Дерзание духа. М., 1988, с. 162.
(обратно)204
Лобковиц Н. Что такое «личность»? // Вопросы философии. 1998, № 4, с. 56.
(обратно)205
Карсавин Л. П. Религиозно-философские сочинения. Т. 1. М., 1992, с. 25.
(обратно)206
Лосев А. Ф. Дерзание духа. М., 1988, с. 162.
(обратно)207
Сидоров А. И. Иоанн Грамматик Кесарийский (к характеристике византийской философии в VI в.) // Византийский временник. Том 49. М., 1988, с. 94.
(обратно)208
Лосев А. Ф. Дерзание духа. М., 1988, сс. 161–170.
(обратно)209
См. Pottier B. Dieu et le Christ selon Gregoire de Nysse. Bruxelles, 1994, p. 86.
(обратно)210
Лосев А. Ф. Дерзание духа. М., 1988, с. 163.
(обратно)211
св. Григорий Богослов. Слово 3 // Творения. Троице-Сергиева Лавра, 1992, т. 2. с. 36.
(обратно)212
св. Григорий Богослов. Слово 31. О богословии пятое // Творения. Троице-Сергиева Лавра, 1992, т. 2. с. 462.
(обратно)213
Блаватская Е. П. Письма. с. 205.
(обратно)214
Честертон Г. К. Тайна отца Брауна. // Избранные произведения в 4-х томах. Т. 2. — М., 1994, с. 185.
(обратно)215
Лосев А. Ф. Спор об именах в IV веке и его отношение к имяславию. 16 февраля 1923 г. [тезисы] // Лосев А. Ф. Личность и Абсолют. М., 1999, с. 260.
(обратно)216
Иерей Олег Давиденков Догматическое богословие. Курс лекций. Ч.1 и 2. М., 1997, с. 150.
(обратно)217
Цит. по: прот. Иоанн Мейендорф. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. Введение в изучение. Спб., 19997, С. 290.
(обратно)218
прот. Георгий Флоровский. Восточные Отцы V–VIII веков. Париж, 1990, сс. 123–124.
(обратно)219
Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Философия. Мифология. Культура. М., 1991, с. 104.
(обратно)220
Св. Кирилл Иерусалимский. Слова огласительные. 6,5 // Творения. М., 1855, с. 85.
(обратно)221
Сидоров А. И. Иоанн Грамматик Кесарийский (к характеристике византийской философии в VI в.) // Византийский временник. Том 49. М., 1988, сс. 90–91.
(обратно)222
Боэций. Против Евтихия и Нестория // Утешение философией и другие трактаты. М., 1990, с. 173.
(обратно)223
св. Григорий Богослов. Слово 21. Похвальное Афанасию Великому // Творения. Троице-Сергиева Лавра, 1992, т. 2. с. 326.
(обратно)224
См.: Деяния вселенских соборов. Т. 1. Казань, 1859, с. 422.
(обратно)225
Булгаков С. Н. Главы о Троичности // Булгаков С. Н. Труды о Троичности. М., 2001, с. 140.
(обратно)226
Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М., 1990, с. 171.
(обратно)227
Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М., 1990, с. 172.
(обратно)228
Цит. по: Лобковиц Н. Что такое «личность»? // Вопросы философии. 1998, № 4, с. 58.
(обратно)229
Ordinatio, I, d. 23. q. un., n. 15 // Иоанн Дунс Скотт. Избранное М., 2001, С. 463.
(обратно)230
Цит. по: Лобковиц Н. Что такое «личность»? // Вопросы философии. 1998, № 4, с. 58.
(обратно)231
Лобковиц Н. Что такое «личность»? // Вопросы философии. 1998, № 4, с. 58.
(обратно)232
св. Василий Великий. Письмо 38 // Историко-философский ежегодник’95. М., 1996, с. 273.
(обратно)233
Регельсон Л. Идеал соборности и человеческая личность // Вестник Русского Христианского Движения. № 124., Париж, 1978, с. 60.
(обратно)234
Вышеславцев Б. П. Вечное в русской философии. Нью-Йорк, 1955, с. 236.
(обратно)235
цит. по: Вышеславцев Б. П. Вечное в русской философии. Нью-Йорк, 1955, с. 237.
(обратно)236
Григорий Нисский, свят. Против Аплолиннария // св. Григорий Нисский. Творения.ч.7. М., 1868, с. 499.
(обратно)237
Григорий Нисский, свят. Против Аплолиннария // св. Григорий Нисский. Творения. ч.7. М., 1868, с. 504.
(обратно)238
Булгаков С. Н. Главы о Троичности // Булгаков С. Н. Труды о Троичности. М., 2001, сс. 134–136, 142, 144.
(обратно)239
Лосский В. Н. Богословское понятие человеческой личности // Лосский В. Н. По образу и подобию. М., 1995, с. 106.
(обратно)240
Мелиоранский Б. М. Из лекций по истории и вероучению Древней христианской Церкви (I–VIII в.). Спб., 1910, с. 210–212.
(обратно)241
архиеп. Сильвестр. Несостоятельность новейшего пантеизма в решении существеннейших для человека вопросов // Труды Киевской Духовной Академии. 1867, т.3. с. 349.
(обратно)242
Мелиоранский Б. М. Из лекций по истории и вероучению Древней христианской Церкви (I–VIII в.). Спб., 1910, с. 205 и сс. 192, 203, 226.
(обратно)243
свящ. Василий Соколов. Леонтий Византийский. Его жизнь и литературные труды: опыт церковно-исторической монографии. Сергиев Посад, 1916, с. 330.
(обратно)244
свящ. Николай Виноградов. Основания для признания Бога существом Личным // Вера и разум. Харьков, 1913, кн.1, июль, сс. 74 и 94.
(обратно)245
Сидоров А. И. Иоанн Грамматик Кесарийский (к характеристике византийской философии в VI в.) // Византийский временник. Сб. 49. М., 1988, сс. 90–91.
(обратно)246
Булгаков С. Н. Главы о Троичности // Булгаков С. Н. Труды о Троичности. М., 2001, с. 153.
(обратно)247
Ипостась и ипостасность // Булгаков С. Н. Труды о Троичности. М., 2001, с. 20.
(обратно)248
Митроп. Сергий (Страгородский) и др. Указ Московской Патриархии преосв. Митрополиту Литовскому и Виленскому Елевферию от 27.12.1935 // Символ 1998, № 39. сс. 163, 174, 175.
(обратно)249
Епископ Диоклийский Каллист (Уэр). Святая Троица — парадигма человеческой личности. Доклад на Международной богословско-философской конференции «Пресвятая Троица», Москва, 6–9 июня 2001 г.
(обратно)250
архим. Киприан (Керн). Золотой век святоотеческой письменнности. М., 1995, с. 76.
(обратно)251
Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов (в связи с философскими учениями того времени). Тринитарный вопрос (История учения о св. Троице). Сергиев Посад, 1914, с. 492.
(обратно)252
Епифанович С. Е. Комментарии // преп. Максим Исповедник. Творения т.2, М., 1993, с. 176.
(обратно)253
Иерей Олег Давиденков Догматическое богословие. Курс лекций. Ч.1 и 2. М., 1997, с. 150.
(обратно)254
Епископ Диоклийский Каллист (Уэр). Святая Троица — парадигма человеческой личности. Доклад на Международной богословско-философской конференции «Пресвятая Троица», Москва, 6–9 июня 2001 г.
(обратно)255
Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов (в связи с философскими учениями того времени). Тринитарный вопрос (История учения о св. Троице). Сергиев Посад, 1914, с. 646.
(обратно)256
св. Григорий Богослов. Слово 41. На святую пятидесятницу // Творения. Троице-Сергиева Лавра, 1992, т. 2. с. 582.
(обратно)257
Св. Григорий Богослов. Слово 28. О богословии второе // Творения. Троице-Сергиева Лавра, 1994, Т. 1. С. 397.
(обратно)258
Св. Дионисий Ареопагит. О Божественных именах. О мистическом богословии. Спб., 1994, сс. 30–31.
(обратно)259
Св. Дионисий Ареопагит. О Божественных именах. О мистическом богословии. Спб., 1994, с. 247.
(обратно)260
Рильке Р. М. Свет громыхает на Твоей вершине… // Рильке Р. М. Часослов Спб., 1998, с. 80.
(обратно)261
Преп. Максим Исповедник. Различные богословские и домостроительные главы, 9; 8; 12. // Творения. М., 1993. Ч. 1, с 258–259.
(обратно)262
св. Григорий Богослов. Слово 38. На Богоявление // Творения. Троице-Сергиева Лавра, 1992, т. 2. с. 525.
(обратно)263
Цит. по: Карсавин Л. П. Святые отцы и учители Церкви. Раскрытие Православия в их творениях. М., 1994, сс. 149 и 152.
(обратно)264
Цит. по: Флоровский Г. В. Тварь и тварность. // Православная мысль. Париж, 1928. Вып. 1. С. 203.
(обратно)265
Преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. СПб., 1894, С. 3.
(обратно)266
Св. Василий Великий. Творения. Ч. 6. С. 44.
(обратно)267
Августин. Исповедь. // Богословские труды. М., 1978. № 19. С. 162.
(обратно)268
Августин. Исповедь. С. 162.
(обратно)269
Дневник Е. Рерих. Запись от 5.7.1926. // «Я вижу как неслыханно пылает Восток». Алтайские записи Е. Рерих. // Рериховский вестник. Публикации-сообщения-исследования. вып. 4. 1991, Спб., - М., - Извара — Барнаул — Горно-Алтайск. с. 40.
(обратно)270
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 1. Минск, 1992, с. 439
(обратно)271
Иванов В., Гершензон М. Переписка из двух углов. М., 1991, С. 4.
(обратно)272
Митр. Сергий (Страгородский) и др. Указ Московской Патроиархии преосв. Митрополиту Литовскому и Виленскому Елевферию от 27.12.1935 // Символ 1998, № 39. с. 181.
(обратно)273
См. G. Florovsky. The Anthropomorphites in the Egyptian Desert. // Coll. works. vol. 4. Aspects of Church history. — Bellemonde, Mass. 1975).
(обратно)274
Преп. Ефрем Сирин. Творения. Сергиев Посад, 1912. Ч. 5. С. 270.
(обратно)275
Цит. Мамардашвили М., Метафизика А. Арто. // Литературная Грузия. 1991, N. 1, С. 190.
(обратно)276
Лосев А. Ф. Самое само. // Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. — М., 1994. сс. 363–365.
(обратно)277
Прот. Игорь Цветков. Богословское и философское понимание ипостасности // Материалы Казанской историко-богословской конференции «Современный мир и богословские науки». Март 1998 г. — Казань, 1999, с. 10.
(обратно)278
Лобковиц Н. Что такое «личность»? // Вопросы философии. 1998, № 4, с. 56–57.
(обратно)279
Лосский В. Н. Богословское понятие человеческой личности // Лосский В. Н. По образу и подобию. М., 1995, с. 112.
(обратно)280
цит. по: Франк С.Л. Реальность и человек. Париж, 1957, с. 266
(обратно)281
Цит по: Вышеславцев Б. П. Вечное в русской философии. Нью-Йорк, 1955, с. 184.
(обратно)282
Преп. Макарий Египетский. Беседы. М., 1880, с. 100.
(обратно)283
Главы о Троичности // Булгаков С. Н. Труды о Троичности. М., 2001, с. 83.
(обратно)284
Свящ. Василий Зеньковский. Судьба халкидонских определений // Православная мысль. № 9. Париж, 1953, с. 62.
(обратно)285
Лосев А. Ф. Диалектика мифа, с. 185.
(обратно)286
Главы о Троичности // Булгаков С. Н. Труды о Троичности. М., 2001, с. 56 и прот. Сергий Булгаков. Трагедия философии. // Сочинения в 2-х тт. т. 1. М., 1993, сс. 320–321.
(обратно)287
Лосский В. Н. Богословское понятие человеческой личности, 1995, с. 114.
(обратно)288
см. Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов (в связи с философскими учениями того времени). Тринитарный вопрос (История учения о св. Троице). Сергиев Посад, 1914, с. 492.
(обратно)289
Цит. по: Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов (в связи с философскими учениями того времени). Тринитарный вопрос (История учения о св. Троице). Сергиев Посад, 1914, с. 493.
(обратно)290
св. Григорий Богослов. Слово 39. На святые светы явлений Господних // Творения. Троице-Сергиева Лавра, 1992, т. 2. с. 538.
(обратно)291
св. Николай Мефонский. Обличение латинян по пунктам. цит. по: архиеп. Арсений. Николай, мефонский епископ 12 в и его сочинения./// Христианское чтение 1883, ч.1. с.11.
(обратно)292
Цит. по: Успенский Н. Анафора // Богословские труды. Сб. 13. М., 1975, с. 77.
(обратно)293
Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М., 1990, с. 172.
(обратно)294
Рацингер Й. Введение в христианство. Брюссель, 1988, с. 190.
(обратно)295
Свящ. Василий Зеньковский. Судьба халкидонских определений, с. 55.
(обратно)296
Рацингер Й. Введение в христианство, с. 172.
(обратно)297
Рацингер Й. Введение в христианство, с. 137.
(обратно)298
Булгаков С. Н. Главы о Троичности // Булгаков С. Н. Труды о Троичности. М., 2001, с. 145.
(обратно)299
Рацингер Й. Указ. соч., с. 135.
(обратно)300
Цит. по: Слободчиков В. И. Исаев Е.И. Психология человека. М., 1995, с. 343.
(обратно)301
де Любак, Анри. Католичество. Милан, 1992, с. 263.
(обратно)302
Булгаков С. Н. Главы о Троичности // Булгаков С. Н. Труды о Троичности. М., 2001, с. 131.
(обратно)303
Цит. по: Clement O. Orient-Occident. Deux passeurs. Vladimir Lossky, Paul Evdokimov. Geneve, 1985, p. 84.
(обратно)304
Николай Кузанский. О мире веры. // Вопросы философии. 1992. № 5. сс. 35–37.
(обратно)305
Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты, с. 171.
(обратно)306
Meyendorf J. Initiation a la theologie byzantine. Paris, 1975, p. 249.
(обратно)307
Цит. по: Bobrinskoy, Boris. Le Mystere de la Trinite. Cours de la theologie orthodoxe. Paris, 1986, pp. 231–232.
(обратно)308
св. Григорий Богослов. Слово 31. О богословии пятое // Творения. Троице-Сергиева Лавра, 1992, т. 2. с. 448.
(обратно)309
Булгаков С. Н. Главы о Троичности // Булгаков С. Н. Труды о Троичности. М., 2001, с. 109.
(обратно)310
Свт. Григорий Богослов. Слово 31 // Творения. Т. 1. Троице-Сергиева Лавра, 1944, с. 448.
(обратно)311
Зандер Л. А. Бог и мир. (Миросозерцание отца Сергия Булгакова). 1948, т. 1. Париж, сс. 258–259.
(обратно)312
Лосский В.Н. Догматическое богословие. // Богословские труды. М., 1972, Сб. 8, с. 125.
(обратно)313
Карсавин Л. П. Сочинения М., 1993. С. 186.
(обратно)314
Мейендорф И. У истоков спора о Filioque // Православная мысль. №.9. Париж, 1953. с. 131.
(обратно)315
Лосский В. Н. К вопросу об исхождении Святого Духа, с. 144.
(обратно)316
Clement O. La revolte de l'Esprit: Reperes pour la situation spirituelle d'aujourd'hui. Paris. 1979 p. 85.
(обратно)317
Булгаков С. Н. Главы о Троичности // Булгаков С. Н. Труды о Троичности. М., 2001, с. 116.
(обратно)318
Lossky V. The procession of Holy Spirit in the orthodox theology // Eastеrn Churcher quarterly. Suppl. «Concerning the Holy Spirit». 1948, p. 46.
(обратно)319
Булгаков С. Н. Главы о Троичности // Булгаков С. Н. Труды о Троичности. М., 2001, сс. 150, 156 и 153.
(обратно)320
св. Василий Великий. Письмо 48 (52). К монахиням. // Творения. ч.6. Сергиев Посад. 1892, сс. 130–131.
(обратно)321
Верховской С. Несколько богословских вопросов, связанных с халкидонским догматом. Православная мысль. вып. 9. Париж, 1953, с. 35.
(обратно)322
Соловьев В. Понятие о Боге // Собрание сочинений. Т. 7. СПб., 1903, с. 17.
(обратно)323
Соловьев В. Чтения о Богочеловечестве // Собрание сочинений. т. 3. СПб., 1903, с. 66.
(обратно)324
Lossky V. The procession of Holy Spirit in the orthodox theology, p. 46.
(обратно)325
Лосский В. Н. Догматическое богословие // Богословские труды. Сб. 8. М., 1972, с.125.
(обратно)326
Бриллиантов А. Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скота Эригены. Спб., 1898., С. 279.
(обратно)327
Епископ Иоанн (Зизиулас). Истина и общение // Беседа. № 10. Париж, 1991, с. 31.
(обратно)328
Честертон Г.К. Шар и крест. // Приключения'90. М., 1990. с.305.
(обратно)329
Верховской С. Несколько богословских вопросов, связанных с халкидонским догматом // Православная мысль. вып. 9. — Париж, 1953. с. 37.
(обратно)330
Лобковиц Н. Что такое «личность»? // Вопросы философии. 1998, № 4, сс. 59–60.
(обратно)331
Дорофей, преп. Душеполезные научения и послания. Троице-Сергиева Лавра, 1900, с. 80.
(обратно)332
Рерих Е. И. Основы буддизма // Рерих Е. И. Путями духа. М., 1999, с. 45.
(обратно)333
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 2, с. 76.
(обратно)334
Письма Махатм, с. 513.
(обратно)335
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т.1. с. 436.
(обратно)336
Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М., 1995, С. 261.
(обратно)337
свящ. Николай Виноградов. Основания для признания Бога существом Личным // Вера и разум. Харьков, 1913, кн.1, июль, с. 95.
(обратно)338
Агни-Йога. Откровение. 1920–1941, М., 2002, с. 10.
(обратно)339
Блаватская Е. П. Ключ к теософии. М., 1996, сс. 82–83.
(обратно)340
Несмелов В. Наука о человеке. Т.2. Метафизика жизни и христианское откровение. Казань, 1906, с. 129
(обратно)341
цит. по: Прот. Иоанн Мейендорф. Введение в святоотеческое богословие. с.127.
(обратно)342
св. Григорий Богослов. Слово 31. О богословии пятое // Творения. Троице-Сергиева Лавра, 1992, т. 2. с. 448.
(обратно)343
св. Григорий Богослов. Слово 34. К пришедшим из Египта // Творения. Троице-Сергиева Лавра, 1992, т. 2. с. 495.
(обратно)344
преп. Симеон Новый Богослов. Слово 30 // Слова. М., 1892, с. 260.
(обратно)345
Епископ Диоклийский Каллист (Уэр). Святая Троица — парадигма человеческой личности. Доклад на Международной богословско-философской конференции «Пресвятая Троица», Москва, 6–9 июня 2001 г.
(обратно)346
Франк С. Л. Непостижимое // Сочинения М., 1990, с. 330.
(обратно)347
см. Франк С. Л. Непостижимое // Сочинения М., 1990, с. 329.
(обратно)348
Соловьев В. С. Философские начала цельного знания // Собрание сочинений. Спб. 1901, т.1. с. 324.
(обратно)349
Блаватская Е. П. Ключ к теософии. М., 1996, с. 77.
(обратно)350
св. Григорий Нисский. Против Евномия. 3,5 // Творения. Ч. 5. М., 1863, с. 418.
(обратно)351
Рерих Е. И. Письма. Т.4. 1936. М., 2002, с. 403.
(обратно)352
Кант И. Критика способности суждения, 80. // Кант И. Сочинения. Т. 5. М., 1966, с. 452.
(обратно)353
Цит. по: Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2000, с. 95.
(обратно)354
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 1, с. 102.
(обратно)355
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 1, с. 438.
(обратно)356
Соловьев В. С. Понятие о Боге, с. 16.
(обратно)357
Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве, с. 66–67.
(обратно)358
Трубецкой С. Н. Мнимое язычество или ложное христианство? // Собрание сочинений кн. С. Н. Трубецкого. Т. 1. Публицистические статьи 1896–1905 гг. М., 1907, с. 151.
(обратно)359
Лютер М. К советникам всех городов земли немецкой. О том, что им надлежит учреждать и поддерживать христианские школы // Лютер М. Время молчания прошло. Избранные произведения 1520–1526 гг. Харьков, 1992, с. 165.
(обратно)360
Д. фон Гильдебранд. Тейяр де Шарден: на пути к новой религии. // Д. фон Гильдебранд. Новая вавилонская башня. Избранные философские работы. Спб., 1998, с. 104.
(обратно)361
де Угамуно М. О трагическом чувстве жизни у людей и народов. Агония христианства. М., 1997, сс. 174 и 180.
(обратно)362
архиеп. Сильвестр. Несостоятельность новейшего пантеизма в решении существеннейших для человека вопросов // Труды Киевской Духовной Академии. 1867, т.3, июнь, с. 349.
(обратно)363
Верховской С. Бог и человек. сс. 281 и 283.
(обратно)364
свящ. Николай Виноградов. Основания для признания Бога существом Личным // Вера и разум. Харьков, 1913, кн.1, июль, сс. 98–99.
(обратно)365
свящ. Сергий Желудков. Почему и я — христианин. Спб., 1996, с. 53.
(обратно)366
архиеп. Сильвестр. Несостоятельность новейшего пантеизма в решении существеннейших для человека вопросов // Труды Киевской Духовной Академии. 1867, т.3, июнь, с. 346.
(обратно)367
архиеп. Сильвестр. Несостоятельность новейшего пантеизма в решении существеннейших для человека вопросов // Труды Киевской Духовной Академии. 1867, т.3, июнь, сс. 342 и 341.
(обратно)368
Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М., 1995, С. 260.
(обратно)369
Соловьев В. С. Философские начала цельного знания // Собрание сочинений. Спб. 1901, т.1. с. 318 и 320.
(обратно)370
архиеп. Сильвестр. Несостоятельность новейшего пантеизма в решении существеннейших для человека вопросов // Труды Киевской Духовной Академии. 1867, т.3, июнь, с. 350–351.
(обратно)371
Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М., 1990, с. 279.
(обратно)372
цит. по: Рацингер Й. Введение в христианство. Брюссель, 1988, с. 126.
(обратно)373
цит. по: Франк С. Л. Реальность и человек. Париж, 1956, с. 273.
(обратно)374
архиеп. Сильвестр. Несостоятельность новейшего пантеизма в решении существеннейших для человека вопросов // Труды Киевской Духовной Академии. 1867, т.3, июль, с. 18.
(обратно)375
Кант И. Критика способности суждения, 88. // Кант И. Сочинения. т. 5. М., 1966, с. 492.
(обратно)376
Юркевич П. Д. По поводу статей богословского содержания, помещенных в «Философском лексиконе» // Философские произведения. М., 1990, с. 340.
(обратно)377
архиеп. Сильвестр. Историческое развитие новейшего пантеизма как доказательство его несостоятельности // Труды Киевской Духовной Академии. 1865, август, с. 460.
(обратно)378
архиеп. Сильвестр. Историческое развитие новейшего пантеизма как доказательство его несостоятельности // Труды Киевской Духовной Академии. 1865, август, с. 461.
(обратно)379
св. Григорий Богослов. Слово 22. О мире // Творения. Троице-Сергиева Лавра, 1992, т. 2. с. 332.
(обратно)380
Прот. Сергий Булгаков. Православие. Париж, 1964, с. 227.
(обратно)381
Соловьев В. С. Философские начала цельного знания // Собрание сочинений. Спб. 1901, т.1. с. 321.
(обратно)382
См. Meyendorf J. Initiation a la theologie byzantine. Paris, 1975, p. 248.
(обратно)383
В.К. Шохин. Троица и нехристианские триады (компаративистские скерцо) // Доклад на Международной богословско-философской конференции «Пресвятая Троица», Москва, 6–9 июня 2001 г.
(обратно)384
Рацингер Й. Введение в христианство. Брюссель, 1988, с. 118.
(обратно)385
Безант А. Противоречит ли теософия христианству? // Безант А. Христос: теософия и христианство. Минск, 1995, с. 14.
(обратно)386
цит. по: Флоровский Г. Тварь и тварность // Православная мысль. Вып. 1. Париж, 1928, с. 190.
(обратно)387
Климент Александрийский. Педагог. М., 1996, с. 43.
(обратно)388
митр. Антоний Сурожский. О некоторых категориях нашего тварного бытия. // Человек. 1993, № 4, с. 91.
(обратно)389
св. Иоанн Златоуст. Беседы на книгу бытия. // Творения. т.4. Спб., 1898. с 18.
(обратно)390
Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука. М., 1927, с. 231.
(обратно)391
Цит. по: Доддс Э. Р. Греки и иррациональное. Спб., 2000, с. 98.
(обратно)392
преп. Ефрем Сирин. Обличение себе самому и исповедь // преп. Ефрем Сирин. Творения. т. 1, М., 1993, сс. 163–164.
(обратно)393
Прот. Александр Туберовский. Воскресение Христово. Опыт мистической идеологии пасхального догмата. Спб., 1998, сс. 186–187.
(обратно)394
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 1, с. 270, 272.
(обратно)395
Е. П. Карма, или закон причин и следствий // Коррекция кармы (чистая карма) / Сост. Лазарева Н. Ф. Кн. 2. СПб., 1995, с. 77.
(обратно)396
Блаватская Е. П. Письма. М., 1994, с. 205.
(обратно)397
Письма Махатм, с. 425.
(обратно)398
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 1, с. 664.
(обратно)399
Дмитриева Л. Карма в свете «Тайной Доктрины» Е. П. Блаватской и Агни Йоги Рерихов. Беседа 22. с. 285.
(обратно)400
Несмелов В. В. Наука о человеке. Т. 2, с. 182–183.
(обратно)401
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 1, с. 275; то же на с. 337.
(обратно)402
Св. Феофан Затворник. Письма. Вып. 2. М., 1898, с. 116.
(обратно)403
Св. Феофан Затворник. Письма. Вып. 2. М., 1898, с.108.
(обратно)404
Св. Григорий Нисский. О Шестодневе // Творения. Ч. 1. М., 1861, с. 14–15.
(обратно)405
Там же, с. 16.
(обратно)406
Цит. по: Скабалланович М. О символическом богословии // Труды Киевской Духовной Академии. 1911, т. 3. с. 534.
(обратно)407
прот. Сергий Булгаков. Утешитель. Париж, 1936, сс. 232–233.
(обратно)408
См. Сидоров А. И. Комментарии. // Творения аввы Евагрия. сс. 273–274.
(обратно)409
Творения аввы Евагрия. с. 123.
(обратно)410
авва Дорофей. Душеполезные научения и послания. — Троице-Сергиева Лавра, 1900, с. 49.
(обратно)411
Булгаков С. Н. Тихие думы. — М., 1918, с. 196.
(обратно)412
Указ МП преосв. Митрополиту Литовскому и Виленскому Елевферию от 7.9.1935 // Символ 1998, № 39. с. 166.
(обратно)413
Св. Григорий Богослов. Творения. Т. 1. СПб., б. г., с. 400.
(обратно)414
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 2, с. 266.
(обратно)415
Соловьев В. С. Опыт синтетической философии // Собрание сочинений. Т. 1. СПб, 1911, с. 249.
(обратно)416
Блаватская Е. П. Перевоплощение // Переселение душ. Сборник. М., 1994, с. 412–413.
(обратно)417
Семенцов В. С. Бхагавадгита в традиции и современной научной критике. М., 1985, с. 111
(обратно)418
Юркевич П. Д. По поводу статей богословского содержания, помещенных в «Философском лексиконе» // Философские произведения. М., 1990, с. 346.
(обратно)419
цит. по: Введенский А. Религиозное сознание язычества. Опыт философской истории естественных религий. Prolegomena. Религии Индии. М., 1891, с. 453–454.
(обратно)420
Там же, с. 453.
(обратно)421
Лопатин Л. М. Положительные задачи философии. Ч. 1. Область умозрительных вопросов. М., 1911, с. 278.
(обратно)422
архиеп. Сильвестр. Историческое развитие новейшего пантеизма как доказательство его несостоятельности // Труды Казанской Духовной Академии. 1865, август, сс. 495 и 506–507.
(обратно)423
Письма Махатм, с. 215.
(обратно)424
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 2. Рига, 1937, с. 107.
(обратно)425
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 1. Рига, 1937, с. 102.
(обратно)426
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 2, с. 357.
(обратно)427
Лопатин Л. М. Положительные задачи философии, с. 283.
(обратно)428
Нечаев П. Теизм как проблема разума. Герман Ульрици. К вопросу о методологии научно-философского обоснования теизма. Сергиев Посад, 1916, с. 440–441.
(обратно)429
См. Eisenberg J., Abecassis A. A Bible ouverte. Paris, Albin-Michel, 1978, р. 8.
(обратно)430
Указ МП преосв. Митрополиту Литовскому и Виленскому Елевферию от 7.9.1935 // Символ 1998, № 39. с. 167.
(обратно)431
Лосский В. Н. Вера и богословие // Спор о Софии. Статьи разных лет. М., 1996, с. 157.
(обратно)432
См. архиеп. Сильвестр. Несостоятельность новейшего пантеизма в решении существеннейших для человека вопросов // Труды Киевской Духовной Академии. 1867, т.3, июль, с. 23.
(обратно)433
Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М., 1995, С. 260.
(обратно)434
Дьяконов И.М. Архаичные мифы Востока и Запада. М., 1990, сс. 26–27.
(обратно)435
Исаева Н.В. Шанкара и индийская философия. М., 1991, сс. 25–26.
(обратно)436
Письма Елены Рерих 1932–1955, с. 165.
(обратно)437
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 2, с. 352.
(обратно)438
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 2, с. 299.
(обратно)439
Владимиров А. В поисках православия. Современники. М., 2000, с. 164.
(обратно)440
Шаров Д. А. Живая этика Н. К. и Е. И. Рерихов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. М., 1994, с. 126.
(обратно)441
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 1, с. 419.
(обратно)442
Шридхары. Ньяя-кандали, 44. Цит. по: Шохин В. К. Средневековая философия Индии // История восточной философии. М., 1998, с. 47.
(обратно)443
Swami Muktananda. Siddha Meditations. Oakland, 1975, p. 19.
(обратно)444
Ram Dass. Be Here Now. Albuquerque. 1979, p. 81.
(обратно)445
Swami Vivekananda. Bhakti Yoga. Calcutta, 1964, pp. 114–115.
(обратно)446
преп. Макарий Египетский. Новые духовные беседы. М., 1990, с. 97.
(обратно)447
Конзе Э. Буддийская медитация: благочестивые упражнения, внимательность, транс, мудрость. — М., 1993, с. 116.
(обратно)448
Дэви-Неел А. Посвящение и посвященные в Тибете. — СПб., 1994, сс. 138–139.
(обратно)449
М. де Угамуно. О трагическом чувстве жизни у людей и народов. Агония христианства. М., 1997, сс. 157, 164, 208.
(обратно)450
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 2, с. 267.
(обратно)451
Минуций Феликс. Октавий // Богословские труды. Сб. 22. М., 1981, с. 154.
(обратно)452
Померанц Г. О причинах упадка буддизма в средневековой Индии // Антология Гнозиса. Т. 1. СПб., 1994, с. 182.
(обратно)453
Соловьев В. С. Буддийское настроение в поэзии // Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991, с. 445.
(обратно)454
Блаватская Е. П. Перевоплощение // Переселение душ. Сборник. — М., 1994, с. 412–413.
(обратно)455
Цит. по: свящ. Сергий Желудков. Почему и я — христианин. Спб., 1996, с. 202.
(обратно)456
Блаватская Е. П. Разоблоченная Изида. т.1, сс. 385–386.
(обратно)457
Декарт Р. Размышления о первой философии, 2. // Сочинения т. 2. М., 1994, сс. 21 и 23.
(обратно)458
Соловьев В. С. Философские начала цельного знания // Собрание сочинений. Спб. 1901, т.1. с. 364.
(обратно)459
Несмелов В. В. Наука о человеке. Т. 2. Казань, 1906, с. 180.
(обратно)460
Бубер М. Я и Ты, с. 353.
(обратно)461
Бубер М. Я и Ты, с. 352.
(обратно)462
Хоружий С. С. София-Космос-Материя: устои философской мысли отца Сергия Булгакова // Вопросы философии. 1991, № 12, с. 79.
(обратно)463
Указ МП преосв. Митрополиту Литовскому и Виленскому Елевферию от 7.9.1935 // Символ 1998, № 39. с. 164.
(обратно)464
Прот. Сергий Булгаков. Главы о Троичности // Булгаков С. Н. Труды о Троичности. М., 2001, с. 55.
(обратно)465
Малевич К. Бог не скинут. Искусство. Церковь, фабрика. Тезисы лекции (1922 г.). Публ.: Лисов А. Г. Трусова Е. Г. На пути к созданию «Нового завета мира» // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1998, № 1. Витебск-Москва, с. 73–74
(обратно)466
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 1, с. 414.
(обратно)467
Кант И. Критика чистого разума. // Сочинения. Т. 3. М., 1964, с. 489.
(обратно)468
Кант И. Критика чистого разума. // Сочинения. Т. 3. М., 1964, с. 492
(обратно)469
Кант И. Трактаты и письма. М.,1980, с. 112.
(обратно)470
Кант И. Критика чистого разума, с. 487–488.
(обратно)471
Кант И. Критика чистого разума, с. 481.
(обратно)472
Соловьев В. С. Эмпирическая необходимость и трансцендентальная свобода по Шопенгауэру и Канту. // Собрание сочинений. Т. 7. Спб., 1903, с. 601.
(обратно)473
Архиеп. Антоний (Храповицкий). Сочинения. Т. 3. Казань, 1909, с. 111.
(обратно)474
Кант И. Критика чистого разума, с. 480.
(обратно)475
Кант И. Критика практического разума // Собрание сочинений. Т. 4. Ч. 1. М., 1965, с. 457.
(обратно)476
Там же, с. 458.
(обратно)477
Введенский А. И. Условие позволительности веры в смысл жизни // Введенский А. И. Статьи по философии. Спб., 1996, с. 45.
(обратно)478
Кант И. Критика способности суждения, 87. // Кант И. Сочинения. Т. 5. М., 1966, с. 486.
(обратно)479
см. Боголюбов Н. Теизм и пантеизм. Нижний Новгород, 1899, с. 302.
(обратно)480
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 1, с. 41.
(обратно)481
Там же.
(обратно)482
св. Иоанн Златоуст. Беседы на книгу бытия. // Творения. т.4. Спб., 1898. с 18.
(обратно)483
Соловьев В. С. Опыт синтетической философии, с. 248.
(обратно)484
См. Лосский В. Н. Догматическое богословие, с. 157.
(обратно)485
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. М., 1979, с. 172–173.
(обратно)486
Лосский Н. О. Свобода воли. // Избранное. М., 1991, с. 509.
(обратно)487
Цит. по: Лосский Н. О. Свобода воли, с. 502.
(обратно)488
Кант И. Критика чистого разума, с. 478.
(обратно)489
Лосский Н. О. Свобода воли, с. 508, 549.
(обратно)490
Вышеславцев Б. П. Вечное в русской философии. Нью-Йорк, 1955, с. 71.
(обратно)491
Свящ. Павел Флоренский. Иконостас // У водоразделов мысли. Т. 1. Статьи по искусству. Париж, 1985, с. 193.
(обратно)492
Чичерин Б. Наука и религия. М., 1901, с. 117–118.
(обратно)493
Введенский А. И. Спор о свободе воли перед судом критической философии // Введенский А. И. Статьи по философии. Спб., 1996, с. 45.
(обратно)494
Преп. Максим Исповедник. О любви // Творения. М., 1993, с. 126.
(обратно)495
Там же.
(обратно)496
Преп. Максим Исповедник. О любви, с. 126–127.
(обратно)497
Там же, с. 118.
(обратно)498
Преп. Максим Исповедник. Мистагогия // Творения. М., 1993, с. 161–162.
(обратно)499
Антология мировой философии. Т. 1. Ч. 1. М., 1969, с. 231.
(обратно)500
Св. Григорий Богослов. Слово 17 // Творения. Т. 1. СПб., б. г., с. 259.
(обратно)501
св. Иоанн Златоуст. Восьмая беседа на на Второе послание к Тимофею, 3 (646). // Творения Спб., 1905, с. 815.
(обратно)502
Б.П. Вышеславцев. Вечное в русской философии. N-Y. 1955. с.76.
(обратно)503
Б.П. Вышеславцев. Вечное в русской философии. N-Y. 1955. с.76.
(обратно)504
Б.П. Вышеславцев. Вечное в русской философии. N-Y. 1955. с. 81.
(обратно)505
Яки С. Спаситель науки. М. 1992. с.272.
(обратно)506
Франк С. Л. Смысл жизни. Париж, 1925, сс. 88–89.
(обратно)507
Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М., 1990, с. 197.
(обратно)508
Лазарева Н. Ф. Коррекция кармы (чистая карма). Кн. 2. СПб., 1995, с. 62.
(обратно)509
см. Кант И. Критика способности суждения. с. 484.
(обратно)510
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 2, с. 46.
(обратно)511
Там же, с. 95.
(обратно)512
Клизовский А. И. Закон кармы. // Лазарева Н. Ф. Коррекция кармы (чистая карма). Кн. 2, с. 5.
(обратно)513
Рерих. Е. И. Письма. Т.3. 1935, М., 2001, с. 576.
(обратно)514
Рерих. Е. И. Письма. Т.3. 1935, М., 2001, с. 596.
(обратно)515
Рерих. Е. И. Письма. Т.3. 1935, М., 2001, с. 575.
(обратно)516
Кычанов Е. И. Савицкий Л. С. Люди и боги страны снегов. Очерк истории Тибета и его культуры. М., 1975, с. 51.
(обратно)517
Anand Nayak. Tantra ou l'eveil de l'energie. Paris, 1988, p. 119.
(обратно)518
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 2, с. 379.
(обратно)519
Элиаде М. Космос и история. М., 1987, с. 74.
(обратно)520
Изложение начал мусульманского законоведения. СПб., 1850, с. 39–40.
(обратно)521
см. Худиев С. Об уверенности в спасении. М., 2000, сс. 120–124.
(обратно)522
Цит. по: Лосский Н. О. Свобода воли, с. 505.
(обратно)523
Лосский Н. О. Свобода воли, с. 570.
(обратно)524
Бердяев Н. А. Теософия и антропософия в России // Типы религиозной мысли в России. Париж, 1989, с. 469.
(обратно)525
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 2, с. 292.
(обратно)526
Клизовский А. И. Основы миропонимания новой эпохи. Т. 1. Рига, 1990, с. 135.
(обратно)527
Мещерская Е.Н. Деяния Иуды Фомы. М., 1990 с.58
(обратно)528
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 1, с. 440.
(обратно)529
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 2, с. 357.
(обратно)530
Рерих Е. И. Письма. Т.2. 1934. М., 2000, с. 487.
(обратно)531
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 2, с. 260.
(обратно)532
Дмитриева Л. Карма в свете «Тайной Доктрины» Е. П. Блаватской и Агни Йоги Рерихов. Беседа 24. с. 319.
(обратно)533
Там же. Беседа 22. с. 292.
(обратно)534
Рерих Е. И. Письмо от 12.12.1944. Публ.: Мир огненный. 1996, № 2 (10), Рига, 1996, с. 76.
(обратно)535
Цит. по: Архиеп. Василий (Кривошеин). Преподобный Симеон Новый Богослов. Нижний Новгород, с. 268.
(обратно)536
Древний Патерик. М., 1899, с. 203.
(обратно)537
Клизовский А. И. Основы миропонимания новой эпохи, с. 133.
(обратно)538
Лосский В. Н. Господство и Царство (эсхатологический этюд) // Богословские труды. Сб. 8. М., 1972, с. 214.
(обратно)539
См.: Древний Патерик, с. 366.
(обратно)540
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 2, с. 293.
(обратно)541
Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии, с. 809.
(обратно)542
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 1, с. 279.
(обратно)543
Там же, с. 280.
(обратно)544
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 2, с. 379.
(обратно)545
Авва Дорофей. Душеполезные научения и послания. Троице-Сергиева Лавра, 1900, с. 80.
(обратно)546
Горичева Т. Взыскание погибших // Логос. № 41–44. Брюссель-Москва. 1984, с. 85.
(обратно)547
Древний Патерик, с. 170.
(обратно)548
Преп. Иоанн Лествичник. Лествица. Сергиев Посад, 1908, с. 73.
(обратно)549
Преп. Иоанн Лествичник. Лествица. Сергиев Посад, 1908, с. 83.
(обратно)550
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979, с. 112.
(обратно)551
Аверинцев С. С. Христианство // Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970, с. 449.
(обратно)552
Рерих Е. И. Письма. Т.4. 1936. М., 2002, с. 413.
(обратно)553
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 2, с. 274.
(обратно)554
Боголюбов Н. Теизм и пантеизм. Нижний Новгород, 1899, с. 29.
(обратно)555
Франк С. Л. Смысл жизни. Париж, 1925, с. 90.
(обратно)556
Бахтин М. М. Философия поступка // Философия и социология науки и техники. 1984–1985. М., 1986, с. 89, 159.
(обратно)557
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 1, с. 327.
(обратно)558
Карсавин Л. П. Saligia. Пг., 1919, сс. 36, 35.
(обратно)559
Соловьев В. Понятие о Боге, с. 22.
(обратно)560
Чичерин Б. Наука и религия, с. 117.
(обратно)561
Чичерин Б. Наука и религия, с. 117.
(обратно)562
Соловьев В. С. Рецензия на книгу Е. П. Блаватской: «The key to Theosophy» // Соловьев В. С. Собрание сочинений. 2-е изд. Т. 6 (Репринт — Брюссель, 1966), с. 290.
(обратно)563
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 1, с. 510.
(обратно)564
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн. 1. М., 1992, с. 252.
(обратно)565
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 1, с. 378.
(обратно)566
Письма Елены Рерих 1932–1955, с. 433.
(обратно)567
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 2, с. 159.
(обратно)568
Шлегель Ф. Эстетика. Критика. Философия. Т. 2. М., 1983, с. 267.
(обратно)569
Цит. по: Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. Т. 1. М., 1995, с. 295.
(обратно)570
Цит. по: Кожевников В. А. Буддизм в сравнении с христианством. Т. 2. Пг., 1916, с. 320.
(обратно)571
цит. по: Рерих Е. И. Письма. Т.3. 1935, М., 2001, с. 447.
(обратно)572
Карсавин Л. П. Основы средневековой религиозности в 12–13 веках преимущественно в Италии. Пг., 1915, с. 149, 158–159.
(обратно)573
Карсавин Л. П. Основы средневековой религиозности в 12–13 веках, с. 304.
(обратно)574
Зыкова Е. П. Восток в творчестве американских трансценденталистов // Восток-Запад. Исследования, материалы, публикации. М., 1988, с. 104.
(обратно)575
Зыкова Е. П. Восток в творчестве американских трансценденталистов // Восток-Запад. Исследования, материалы, публикации. М., 1988, с. 102.
(обратно)576
см. Anand Nayak. Tantra ou l'eveil de l'energie. — Paris, 1988, p.107.
(обратно)577
Владимиров А. В поисках православия. Современники. М., 2000, с. 173.
(обратно)578
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 2, с. 376.
(обратно)579
Там же, с. 268.
(обратно)580
Там же, с. 337–338.
(обратно)581
Письма Елены Рерих 1932–1955, с. 433.
(обратно)582
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 2, с. 630.
(обратно)583
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 2, с. 153.
(обратно)584
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 1, с. 510.
(обратно)585
Св. Иоанн Златоуст. Беседы о диаволе I // Творения. Т. 2. Кн. 1. СПб., 1896, с. 278–279.
(обратно)586
Преп. Ефрем Сирин. О борьбе с печалью // Добротолюбие. Т. 2. М., 1895, с. 413.
(обратно)587
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 1, с. 511.
(обратно)588
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 2, с. 269.
(обратно)589
Там же, с. 294.
(обратно)590
Лосев А. Ф. Об имени Божием и об умном молитве. 27 февраля 1925 г. [тезисы] // Лосев А. Ф. Личность и Абсолют. М., 1999, с. 284.
(обратно)591
Кант И. Критика способности суждения, 87. // Кант И. Сочинения. Т. 5. М., 1966, с. 485.
(обратно)592
Кант И. Критика способности суждения, 86. // Там же, с. 481.
(обратно)593
Там же, сс. 478–479.
(обратно)594
Там же, с. 481.
(обратно)595
Кант И. Критика способности суждения, 87. // Там же, с. 484
(обратно)596
Кант И. Критика способности суждения, 86. // Там же, с. 482.
(обратно)597
де Унамуно М. О трагическом чувстве жизни у людей и народов. Агония христианства. М., 1997, с. 208.
(обратно)598
Там же, с. 155.
(обратно)599
де Унамуно М. О трагическом чувстве жизни… с. 153.
(обратно)600
Там же, сс. 152, 143.
(обратно)601
Письма Махатм, с. 67.
(обратно)602
Кант И. Критика способности суждения, 86. // Там же, с. 480.
(обратно)603
Блаватская Е.П. Комментарии к «Тайной Доктрине». М., 1998, сс. 68–69.
(обратно)604
Там же, с. 70.
(обратно)605
Письма Махатм. С. 219.
(обратно)606
Письма Махатм, c. 67.
(обратно)607
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 2, с. 201.
(обратно)608
Зеньковский В. В. Основы христианской философии. М., 1992, с. 148.
(обратно)609
Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991, с. 130.
(обратно)610
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 1, с. 439.
(обратно)611
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 2, с. 12.
(обратно)612
Письмо Е. И. Рерих В. К. Рериху от 30.3.35. // Утренняя звезда. Научно-художественный иллюстрированный альманах Международного Центра Рерихов. № 2–3, 1994–1999. М., 1997, с. 287
(обратно)613
Письма Махатм. С. 150.
(обратно)614
Блаватская Е. П. Комментарии к «Тайной Доктрине». М., 1998, сс. 71.
(обратно)615
Блаватская Е. П. Комментарии к «Тайной Доктрине». М., 1998, с. 127.
(обратно)616
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 1. Рига, 1937, с. 102.
(обратно)617
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 1, с. 438.
(обратно)618
Блаватская Е. П. Комментарии к «Тайной Доктрине». М., 1998, с. 136.
(обратно)619
Св. Афанасий Великий. К епископам Египта и Ливии окружное послание против ариан // Творения. Т.2. Троице-Сергиева Лавра, 1902, с. 30.
(обратно)620
св. Феофан Затворник. Творения. Собрание писем. вып.3–4. Псково-печерский монастырь, 1994. с. 31–32 и 38.
(обратно)621
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 1, с. 440.
(обратно)622
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 2, с. 334.
(обратно)623
Св. Григорий Богослов. Творения. Т. 1. СПб., б. г., с. 561.
(обратно)624
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 1, с. 395.
(обратно)625
Шамбала — твердыня Света. — Томск, 1994, с. 229.
(обратно)626
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 2, с. 46.
(обратно)627
Besante A. The Gospel of Atheism. — London, 1882. 7,2. Русский перевод (без указания английского первоисточника) см.: Иванов В.Ф. Православный мир и масонство. Харбин. 1935, с. 67–68
(обратно)628
Письма Махатм. с. 215.
(обратно)629
Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 1, с. 378.
(обратно)630
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 1, сс. 43–44.
(обратно)631
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 2, с. 298.
(обратно)632
Карташев А. В. Вселенские соборы. М., 1994, с. 292, 294.
(обратно)633
Карсавин Л. П. Святые отцы и учители Церкви. (Раскрытие православия в их творениях). — М., 1994, с. 18.
(обратно)634
Письма Елены Рерих 1932–1955, с. 502.
(обратно)635
Е. И. Рерих. Огненный опыт. сс. 54–55.
(обратно)636
Письма Махатм, с. 67.
(обратно)637
Булгаков С. Н. Христианство и штейнерианство // Переселение душ. Сборник. М., 1994, с. 231.
(обратно)638
Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989, с. 244.
(обратно)639
Там же, с. 360.
(обратно)640
См. Якимович А. Магические игры на горизонтальной плоскости // Arbor mundi. 1994, № 2.
(обратно)641
Блаватская Е. П. Письма. с. 255.
(обратно)642
Клизовский А. И. Основы миропонимания новой эпохи. Т. 1, с. 146.
(обратно)
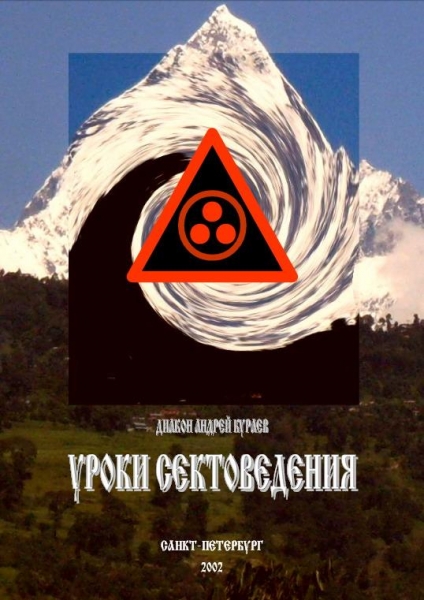


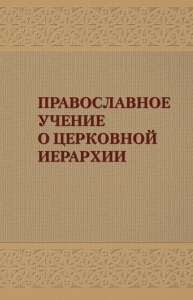

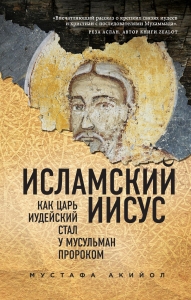

Комментарии к книге «Уроки сектоведения. Часть 2», Андрей Вячеславович Кураев
Всего 0 комментариев